Джон Кейнс Впечатления о Советской России. Должно ли государство управлять экономикой
© Кейнс Дж. (Keynes J.), правообладатели, 2015
© Перевод с английского. Э. Лаврик, 2015
© ООО «ТД Алгоритм», 2015
Предисловие
В блестящей плеяде ученых-экономистов, создавших и обогативших экономическую теорию, Дж. Кейнс занимает особое место наряду с другими ее наиболее выдающимися классиками – Адамом Смитом и Карлом Марксом. Если основатель этой науки А. Смит объяснил рыночную конкуренцию с точки зрения трудовой стоимости, то К. Марксу принадлежит заслуга раскрытия анатомии капитализма путем анализа стоимости и прибавочной стоимости. Спустя без малого сто лет Дж. Кейнс совершил новую революцию в экономической теории – доказал возможность регулируемого развития капитализма.
К сожалению, в неоклассических учебниках об этом вкладе Кейнса в лучшем случае только упоминается – без раскрытия содержания самого регулирования. Основной же упор кейнсианской трактовки капитализма перенесен на показ рыночного определения спроса. Кейнсианство трактуется не как теория занятости, производства и совокупного спроса, как это делал сам Кейнс, а как управление спросом в духе монетаристской теории обмена, спроса и предложения.
Операция по переделке наследия Кейнса при активном участии Пола Самуэльсона и с его же легкой руки получила название «неоклассического синтеза». Удаление критической направленности кейнсианства и его трактовка в духе неоклассической ортодоксии были призваны примирить одно с другим и изолировать подлинных последователей Кейнса, представив их научной общественности и остальному миру как малозначимую секту непримиримых.
В третьем издании своего учебника П. Самуэльсон писал: «В последние годы 90 % американских экономистов уже не делятся на «кейнсианцев» и «антикейнсианцев». Вместо этого они стремятся соединить все ценное из старой экономической теории и новых теорий определения дохода. Результат этого синтеза, который можно назвать неоклассической теорией, принимается в общих чертах всеми, за исключением примерно пяти процентов крайне левых и столько же крайне правых».
Авторы другого учебника «Экономикс», Баумоль и Блиндер, пошли еще дальше. Они пишут: «Отличия между кейнсианцами и монетаристами сильно преувеличены в средствах массовой информации. Если же взять основы этих экономических теорий, – утверждают они, – то едва ли есть разница между ними» (Baumol and Blinder, 1982, p. 264). Если это так и кейнсианство и монетаризм тождественны, то зачем иметь разные названия одного и того же?
Между тем это не одно и то же, и по крайней мере Самуэльсон это признает. Под «новыми теориями определения доходов» он имел в виду то, что было взято у Кейнса для переделки в духе новых потребностей свободной экспансии капитала. При этом ортодоксия также внесла в свою прежнюю теорию ряд кейнсианских поправок, в частности признала необходимость определенных функций государства в области денежной и бюджетной политики. О. Бланшар по этому поводу пишет: «В отличие от прежней неоклассической теории новый синтез не предполагал полной занятости в условиях laissez-faire, однако считалось, что при правильной денежной и бюджетной политике старые классические истины вновь станут актуальными».
Многие современные последователи Кейнса не были согласны с таким искажением его теории и называют это «ублюдочным кейнсианством» (bastard Keynesian). Так посткейнсианцы называют такое кейнсианство, из которого удалено присущее Кейнсу критическое отношение к капитализму laissez-faire и к господствовавшей тогда и поныне в западном мире неоклассической ортодоксии в виде ее крайне правого крыла – монетаризма, связанного с именами Мизеса, Хайека и Фридмена.
При этом без должного внимания остался тот факт, что в течение четверти века после Второй мировой войны кейнсианские рецепты, даже в ограниченном варианте неоклассического синтеза, оправдали себя тем, что обеспечили западным странам и Японии высокие темпы экономического роста при отсутствии или минимуме безработицы. Однако со временем даже такое кейнсианство утратило ценность для жаждущей свободы экспансии и произвола капитала. Кейнсианские рецепты годились для развития национальной экономики, но не для осуществления такой активной внешней экспансии, которая в эпоху глобализации, как будет показано далее, стала сулить транснациональным корпорациям наибольшие выгоды. В новой ситуации капитал требовал освобождения от кейнсианской узды регулирования и выхода на такой простор, где бы мог творить все, что ему угодно.
Иначе говоря, «рейганомика» и «тэтчеризм» требовались капиталу задолго до того, как глашатаи политики неограниченной свободы сами появились у руля США и Великобритании. Теоретическую почву принятия этой политики готовили путем отказа от кейнсианских положений даже в том «ублюдочном» виде, в каком их толковал неоклассический синтез.
Здесь-то стала ясна несостоятельность приведенного выше процентного подхода Самуэльсона к определению ценности научного направления. Значение имеет не процент сторонников или противников той или иной концепции, а его соответствие или несоответствие реальности современной экономики. С этой точки зрения первоначальное кейнсианство, не подвергнутое переделке и противостоящее неоклассическому синтезу, а тем более монетаризму, представляется нам более адекватным отражением современной реальности, в особенности того, что происходит в постсоветских государствах, где сложилась модель капитализма, глубоко отличная от западной.
* * *
Кейнс не оставил каких-либо определенных признаний относительно эволюции своих взглядов и того, каким путем он пришел к своим конечным выводам. Однако чтение его произведений с учетом условий и этапов его жизненного пути проливает свет на все это. С молодых лет Кейнс принадлежал к образовавшейся в самом начале ХХ века так называемой Блумбергской группе писателей, художников и ученых, занявших заметное место в интеллектуальной истории Англии. Плоть от плоти они были представителями английской аристократии, и по статусу им было положено быть выразителями ее интересов. Однако по своему интеллекту они возвышались над ней и видели много больше представителей своей среды, а потому в критическом осмыслении окружавшей действительности они усматривали основной смысл своей творческой деятельности. Они осуждали ханжество и лицемерие викторианского времени и пытались оценить нынешнее и будущее положение своей страны перед лицом реалий наступившего времени.
Этот критический дух был присущ также Кейнсу, и он сохранил его до конца своей жизни, за исключением одного сравнительно короткого периода. В отличие от других своих соклубников, Кейнс не осудил разразившуюся в свое время Первую мировую войну как империалистическую с обеих сторон, а наоборот, пошел служить в палату казначейства (министерства финансов) и возглавил отдел финансирования военных расходов. Но нет худа без добра. Пребывание на таком ключевом посту позволило Кейнсу лучше понять подноготную ведения войны, и в итоге он встал на позиции решительного осуждения насильственных способов решения проблем как несправедливых и недальновидных.
Это ясно проявилось во время Парижской мирной конференции 1919 года по итогам Первой мировой войны, когда Кейнс в роли эксперта входил в состав английской делегации. В знак несогласия с проектом послевоенного устройства, в котором победители навязывали побежденным мир с миной, чреватой новым вселенским взрывом, Кейнс покинул конференцию и свою позицию изложил во вскоре вышедшей книге «Экономические последствия Версальского договора».
Эту книгу, принесшую ее автору широкую международную известность, надо рассматривать как показатель особой проницательности Кейнса, способности видеть то, что не видят другие. В то время главы держав-победителей – Англии, Франции, Италии и США – решили воспользоваться своим положением, чтобы исключить революционную Россию из решения европейских дел, а с побежденной Германии содрать как можно больше репараций. Кейнс отчетливо указал на близорукость такой дискриминационной и алчной политики. Если мы, писал он, «сознательно будем стремиться к истощению Центральной Европы, то я предсказываю, что отмщение не заставит себя долго ждать». Вскоре так и случилось. Несправедливости Версальского мира, породившие недовольство немецкого населения, вскормили гитлеровский нацизм, принесший миру неисчислимые страдания.
В указанной книге Кейнс показал, что истоками его особого видения стали события его времени. Разразившаяся на его глазах Первая мировая война, последовавшая за ней и потрясшая всю Европу русская революция и неспособность стран-победителей понять подлинные причины, породившие войны и революции, а затем их возможные последствия повергли Кейнса в глубокое смятение. Последовавшая за ними в конце 20-х годов Великая депрессия еще больше усилила его потрясение. При рассмотрении великих произведений эпохи, в особенности в области экономической теории, фактор личной драмы автора обычно не принимается во внимание и все сводится к его таланту. Но ведь авторы тоже люди, и ничто человеческое им не чуждо, в том числе беспокойство за судьбу системы, в которой живут. Кейнс жил в эпоху потрясавших мир событий, смысл которых захватил его целиком. Его кипучая деятельность и неимоверные интеллектуальные усилия, вершиной которых стала Общая теория занятости, процента и денег, является еще одним свидетельством того, что великие идеи не возникают на пустом месте. Они оказываются под силу тому, кто воспринимает драму эпохи как личную драму. Хотя и по-разному: Маркс с намерением низвергнуть капитализм, а Кейнс – улучшить его, но оба с большей остротой и глубиной, чем другие, принимали к сердцу несправедливости общества, в котором они жили. Это особое восприятие реальности придавало им ту остроту зрения, благодаря которой они были способны видеть то, что не было видно другим.
Особая, никому другому не свойственная в западном истеблишменте способность проникновения в глубокие тайны механизма капиталистической экономики позволила Кейнсу понять и раскрыть скрытые причины ее функционирования и пробуксовки в ХХ веке. Раскрытием этого механизма и указанием на способы преодоления этой буксовки Кейнс внес выдающийся вклад в экономическую науку, который по праву признан революцией в экономической теории.
* * *
Особое значение при формировании взглядов Кейнса на современный ему капитализм сыграла послереволюционная ситуация в России, чему в западной литературе обычно не придается должного значения. Между тем потрясший весь мир гром с ясного неба, каким явилась русская революция 1917 года, предложившая реальную альтернативу капитализму, не мог не привлечь самого пристального внимания такого проницательного мыслителя, каким был Кейнс.
Конфронтация между капитализмом и социализмом составляла основное содержание ХХ века, в которой были и горячие войны, а после появления ядерного оружия она велась в форме холодной войны и противостояния двух военно-политических блоков. Кейнсу довелось увидеть первую половину противостояния капитализма и социализма, но этого было достаточно для беспокойства о судьбе тех ценностей, которых он придерживался. Из мыслителей своего ранга Кейнс был единственным, кто три раза (1925, 1928, 1936) посетил Советский Союз и на месте знакомился с практикой планового ведения хозяйства. В результате трехкратного посещения СССР Кейнс также изучил плоды русской революции и в целом пришел к отрицательному ответу на этот вопрос.
Однако еще до этих поездок в СССР и прямого соприкосновения с реальной ситуацией его отношение к России отличалось от окружавших его политиков и теоретиков никому из них не свойственной дальновидностью. В упомянутой работе о Версальском мире вместо выдвинутой западными державами политики экономической блокады России Кейнс предложил: а) взаимное погашение долгов воевавших стран друг другу, в том числе России; б) возложить на Германию обязанность по поставке России технических средств в обмен на продовольствие. Повышение производства сельскохозяйственных продуктов в России, полагал Кейнс, поможет не только ей самой, но и предотвратит голод, надвигавшийся на Европу. «Наш собственный интерес требует, – писал он, – чтобы скорее наступил день, когда германские агенты и организаторы смогут в каждой русской деревне привести в движение стимулы к экономической деятельности. Этот процесс, – указывал он, – абсолютно не зависит от формы правления в России; однако мы можем с известной достоверностью предсказать, что независимо от того, явится ли форма коммунизма, воплощаемая советским правительством, на долгое время соответствующим темпераменту русского народа, такие факты, как оживление торговли, удобств жизни и обычных стимулов к экономической деятельности, едва ли будут благоприятствовать крайним выражениям тех доктрин насилия и тирании, которые представляют результат войны и отчаяния».
По истечении стольких лет и полученных уроков истории остается только удивляться дальновидной мудрости того, что предлагал Кейнс. Неприятие подобной политики, объявление России экономической блокады и постоянные требования признания внешних долгов прежнего режима, которые разоренное мировой и Гражданской войнами Советское государство не было в состоянии выплатить, лили воду на мельницу крайних сил в России. Они подтверждали их оценку состояния России как крепости, находящейся во враждебном окружении и не имеющей иной альтернативы выживания, кроме как закручивания гаек и создания тоталитарного режима как единственно способного противостоять враждебному давлению.
Западная слепота и расовая предубежденность в отношении русских немало способствовали провалу в правящей партии Советского Союза умеренной политики, наподобие той, которую проводит сегодня китайская компартия. Патологическая ненависть Запада к коммунизму не менее, чем наша собственная монархическая традиция, способствовала победе сталинской диктатуры в нашей стране.
С помощью вышесказанного мы хотели на близком нам материале показать высокий потенциал и дальновидность кейнсианского мышления. Однако судьба распорядилась таким образом, что и ряд других обстоятельств также привлекли его внимание к тому, что происходило у нас. Так, Ленин был первым из руководителей европейских стран, кто обратил внимание на упомянутую книгу Кейнса. Несмотря на предвзятую оценку автором русской революции, Ленин в ряде выступлений, в том числе с трибуны второго съезда конгресса Коминтерна, где присутствовали левые партии основных стран мира, воздал должное объективности данного там анализа корыстного характера решений держав-победительниц о послевоенном устройстве Европы. «Никто не описал так хорошо Версальского договора, – говорил Ленин с этой трибуны, – как это сделал в своей книжке Кейнс» (Ленин. ПСС, т. 42, с. 67).
Ленин положительно отнесся к предложению Кейнса о необходимости взаимодействия между Россией и Западной Европой по линии обмена сырья и изделий промышленного производства. «Для восстановления мирового хозяйства, – утверждал Ленин, – нужно использовать русское сырье. Без этого использования нельзя обойтись, это экономически верно. Это признает чистейший буржуа, изучающий экономику и смотрящий с чисто буржуазной точки зрения, это признает Кейнс, который написал книгу «Экономические последствия мира»» (Ленин. ПСС, т. 42, с. 69). Тогда еще мало кому известный 37-летний Кейнс, надо думать, по достоинству оценил внимание человека, имя которого тогда было у всех на устах в качестве ниспровергателя политической архитектуры Европы и остального мира. Позднее Ленин предложил советским издателям отбирать и публиковать на русском языке некоторые книги. «Как образец, – добавил Ленин, – может служить книга Кейнса «Экономические последствия мира»» (Ленин. ПСС, т. 51, с. 241).
Кейнс, вступив в переписку с Лениным, предлагал ему выступить на страницах редактируемой им газеты «Нация» с изложением своих взглядов. К сожалению, по причине наступившей болезни Ленин этого не смог сделать.
* * *
Дальше же было еще большее. С российской ситуацией в начале 20-х годов Кейнса особенно сблизила его женитьба на русской красавице, балерине из Мариинского театра Лидии Лопуховой. Она выступала в составе знаменитой Дягилевской труппы, революция застала труппу на гастролях в Западной Европе, а начавшаяся вскоре Гражданская война преградила ей путь возврата на родину.
По признанию критиков, Лопухова уступала таким звездам русского балета, как Павлова или Карсавина, но тем не менее ее уровень исполнения оценивался достаточно высоко. Однако в данном случае важнее другое. Она была так хороша собой и заманчиво привлекательна, что полностью покорила Кейнса. В то время ей было 30 лет и она была женой распорядителя Дягилевской труппы, некоего Барокки. Брак и без того не ладился, а появление около нее Кейнса вовсе положило ему конец. Кейнс тоже немедленно прекратил все свои амурные похождения и все больше сходил с ума по Лидии, или Лоппи, как ласково он стал ее называть. Но истинная любовь никогда не протекает ровно. Окружавшее Кейнса чопорное общество, включая его родных, восстало против его женитьбы на русской эмигрантке. Многие из друзей Кейнса, в особенности из женской части, всячески уговаривали Мейнарда этого не делать. Но Кейнс был неумолим, отказался от запланированной поездки в Индию и решил свой выбор не упускать из рук. Вскоре брак состоялся, и, войдя в круг Кейнса, Лидия сразу очаровала всех, за исключением тех, чьи надежды этим были разбиты. Ближайший друг и последователь Кейнса Рой Харрод вспоминал, как вскоре, оказавшись в компании всеми почитаемой жены А. Маршалла, та сказала: это лучшее, что мог и сделал Мейнард. Родные Кейнса души не чаяли в Лидии, а Джон в течение всей свой жизни чувствовал себя на вершине человеческого счастья.
Как пишет Роберт Скидельски, биограф Кейнса, «если Мейнард был более чем экономист, то Лидия была больше чем балерина. За пределами Блумсбери ее умственная одаренность получила единодушное признание, хотя она у нее скорее была интуитивной, нежели образовательной. Она оценила эстетизм умственного настроя Мейнарда, подтекст его чувств и мыслей и невероятным образом была способна поддерживать с ним диалог даже по вопросам, о которых ничего не знала. Мейнард был очарован своей Волшебной принцессой, а Лидия также все больше и больше влюблялась в своего Принца необыкновенной мысли и духа».
С воцарением Лидии в доме Кейнсов туда потянулись ее русские земляки. Они были людьми искусства, а потому о России говорили в аспекте скорее культурном, нежели политическом, но все равно российская тематика стала здесь достаточно обсуждаемой. В 1925 году в составе делегации Кембриджского университета Кейнс побывал в СССР на праздновании 200-летия Академии наук в Ленинграде и Москве. Здесь он познакомился с советской жизнью. Он встречался со многими учеными и политиками и выступал в Госплане с докладом об экономическом положении Великобритании. По итогам своей первой поездки в СССР Кейнс написал «Краткий взгляд на Россию» (A Short View of Russia), где отрицательно оценил революционный метод решения экономических и социальных проблем. Впоследствии еще два раза (1928 и 1936) Кейнс побывал в СССР и внимательно присматривался к тому, что здесь происходит.
В те годы Москва была Меккой не только для левой, но и для значительной части либеральной интеллигенции. Супруги Вебб, леди Астор, Бернард Шоу, Герберт Уэллс, Бертран Рассел и многие другие интеллектуальные звезды Англии приезжали сюда и имели множество встреч и бесед с различными представителями советского общества вплоть до Сталина. Изучая советское общество, они искали ответ на вопрос: не является ли советский социализм с его экономическим планированием, социальным и культурным прогрессом новой цивилизацией, к которой движется мир? В результате трехкратного посещения СССР, как отмечалось, Кейнс также изучал плоды русской революции и, как отмечалось, в целом дал ей отрицательную оценку.
Не было того, чтобы Кейнс отрицал позитивное значение таких сторон советской жизни, как практика планирования экономики, наличие социальных гарантий гражданам, подчиненность инвестиций задаче обеспечения полной занятости и т. д. Наоборот, они вызывали у него живой интерес. Тем не менее в целом у него складывалось негативное отношение к советскому методу решения проблем ввиду высокой стоимости достигаемого прогресса. Прежде всего, его шокировал уровень жизни населения. На этот счет у него были угнетающие впечатления вначале от рассказов жены, посетившей в 1932 году своих родственников в Ленинграде, а затем от собственной поездки к ним в 1936 году. Брат и сестра Лидии жили в большой нужде и тесноте в коммунальной квартире, несмотря на их высокое положение в Мариинском театре, который в глазах Кейнса был бесценным храмом русского искусства.
Под воздействием своих ранних впечатлений, рассказов своей жены и приходивших к ним русских гостей и наверняка полагаясь на свой поднятый Лениным авторитет в глазах советских властей, Кейнс в 1934 году решил послать в газету «За индустриализацию» статью с анализом второго пятилетнего плана (1932–1937). Показав определенное знание советской ситуации, он в то же время позволил себе указать на его слабость. «Совершенно верно, – писал Кейнс, – что росту промышленного производства сильно способствуют большие жертвы, приносимые для увеличения промышленного производства, без ясного отчета в том, выгоден ли он, строго говоря, нынешнему поколению рабочих».
Похоже, что это осторожное замечание о чрезмерно высокой стоимости индустриального прогресса не встретило понимания. Ленина уже не было в живых, а находившаяся у власти сталинская камарилья, несмотря на возросшую к тому времени широкую известность Кейнса, едва ли читала и знала, кто он такой. Однако непонимание характерно не только для одной, но и для другой стороны. Со стороны Кейнса мы также видим взгляд на революцию, равно как на все, что делалось после нее, как на что-то дурное, никак не обоснованное историческими и социально-экономическими причинами. Сказалось его высокомерие по отношению к народным низам и тому, что они делают. После первого посещения России в 1925 году он писал: «Мне, выросшему в свободном воздухе, незамутненному ужасами религии, свободному от каких бы то ни было страхов, слишком многое в красной России представляется отвратительным». Ничего удивительного. С высоты благополучия английского аристократа, не соприкасавшегося со страданиями народных низов, их тяжкая борьба за создание альтернативного капитализму общества в России казалась Кейнсу настоящим сумасшествием. Проницательный в одном, он был слеп в том, что выходило за пределы его привычных представлений. Поэтому советский эксперимент по созданию альтернативы капитализму казался ему лишенный смысла. Пока не попадешь в Россию, писал он о ее людях, нельзя понять, «насколько они безумны и что о своем эксперименте они заботятся больше, чем о том, чтобы делалось дело».
Нарочитое сведение неоднозначности опыта русской революции к некоему безумию говорит не только о большой удаленности Кейнса от понимания положения русских рабочих и крестьян, но и о глубокой противоречивости суждений Кейнса. От него можно не требовать понимания положения русских рабочих и крестьян, которым судьба не оставила иного выбора, кроме антикапиталистического пути развития, но можно требовать логики в его суждениях. Если этот путь был усеян одними устрашающими примерами бессмысленных экспериментов, то как в среде Кейнса могла возникнуть упомянутая выше дискуссия на тему о том, не является ли советская система с плановым ведением хозяйства новой цивилизацией, идущей на смену западной? Кейнс отвечал на этот вопрос отрицательно, но многие другие – отнюдь не дураки – задумывались над этим вполне серьезно, его обсуждали. Почему? Кроме того, Кейнс сам неустанно настаивал на том, что нашей Меккой должен быть Вашингтон, а не Москва. Если бы Москва творила одни глупости, то она никак не могла бы обладать притягательной силой, чтобы возник такой вопрос.
Мы не знаем, изменилось ли понимание Кейнсом русской революции через 15 лет, когда он увидел, что «выросшие в свободном воздухе» правители европейских стран одни за другими сдавали свои народу на милость врагу, Англия со дня на день ожидала вторжения гитлеровских войск и красная Россия стала ее основной надеждой. Можно только предполагать, что переживший Вторую мировую войну проницательный Кейнс не мог не понять, что кроме героизма своего народа Советский Союз обладал другими немалыми достоинствами, чтобы устоять перед нашествием фашистских орд и стать спасителем европейской цивилизации от фашистской чумы.
* * *
Русская революция была воспринята Кейнсом как серьезное предупреждение. При всем своем негативном отношении к ней Кейнс с повышенным интересом отнесся к выдвинутым ею проблемам, и это не могло не обострить его внимание к более широкому кругу социальных проблем, нерешенность которых угрожала существованию капитализма.
Беспокойство о дальнейшей судьбе капитализма особенно усилилось во время Великой депрессии 1929–1933 годов. От возникшей тогда массовой безработицы при недоиспользовании производственных мощностей можно было ожидать тогда все что угодно. Идущая оттуда угроза была обобщена Кейнсом в Общей теории с такой глубиной и охватом широкого круга проблем, решение которых в совокупности получило название кейнсианской революции в экономической теории. Она произошла под влиянием двух шоков ХХ века: советской альтернативы капитализму и Великой депрессии 1929–1933 годов. В западной литературе, как уже отмечалось, о первой вообще никогда ничего не говорится, а влияние второй в неоклассической ортодоксии сводится к уточнениям теории совокупного спроса.
Если бы дело сводилось к таким уточнениям, то едва ли были бы основания говорить о революции в экономической теории. Между тем, по широкому признанию значительного числа ученых-экономистов высокого класса, такие основания имеются. Общая теория предопределила принципиально иной подход и оценку ситуации в капиталистической экономике по сравнению с тем, что было в западной экономической мысли до этого, да и сейчас.
Если задаться вопросом об исходной идее, лежащей в основе книги (и, соответственно, кейнсианской революции), от которой расходятся все ветви его суждений и рекомендаций, то она состоит в том, с чего Кейнс начинает свою заключительную главу. «Наиболее значительным пороком экономического общества, в котором мы живем, – сказано там, – является его неспособность обеспечить полную занятость, а также его произвольное и несправедливое распределение богатства и доходов». Никто из либеральных теоретиков – а Кейнс клялся, что он либерал, – так не писал ни раньше, ни позже. Они утверждают прямо противоположное: саморегулирующий механизм рынка настолько совершенен, что каждому воздает должное, одним – достойную работу и зарплату, а другим – достойное занятие и заслуженные прибыли, и тем обеспечивает высшую справедливость.
«Ничего подобного!» – говорит Кейнс и обосновывает свою позицию не только в Общей теории, но еще раньше в работе «Конец лессе фер» (The End of laissez faire). В Общей теории он писал: «Что касается меня, то я полагаю, что есть известные социальные и психологические оправдания значительного неравенства доходов и богатства, однако не для столь большого разрыва, какой имеет место в настоящее время». С тех пор как Кейнс написал эти слова, разрыв между бедными и богатыми в доходах достиг фантастической глубины, в особенности в результате политики рейганомики и тэтчеризма, когда финансовым спекуляциям был дан зеленый свет. То, что Кейнс осуждал как «продукт деятельности игорного дома», в наше время стало основной формой накопления финансовых ресурсов и усиления разрыва в богатстве и доходов, снижение которых Кейнс считал необходимым условием оздоровления капиталистического общества.
Что это действительно так, можно видеть по работе «Конец лессе фер», написанной им вскоре после первого знакомства с плановой экономикой СССР за несколько лет до Великой депрессии 1929–1933 годов. В ней он образно показал, какую опасность несет капитализму усиление имущественного неравенства и обострение на этой почве социальной напряженности. Имея в виду теорию laissez faire, Кейнс обрисовал образную картину безжалостной борьбы за существование, которая оправдывается неоклассической теорией распределения и использования ресурсов. Согласно этой теории, пишет Кейнс, «идеальное распределение производственных ресурсов, которые движутся в ложном направлении, может быть осуществлено через независимую деятельность. Это подразумевает, что не должно быть жалости или защиты для тех, кто направил свой капитал или свой труд по ложному пути. Это метод выдвижения наверх удачливых охотников за прибылью в ходе безжалостной борьбы за выживание, которая отбирает самых эффективных за счет банкротства менее эффективных. Он не принимает во внимание цену борьбы, а видит только выгоды конечного результата, которые предполагаются всегда постоянными. Если целью жизни является обрезание листьев с веток на наибольшей высоте, самый подходящий путь достижения этого – предоставить самым длинношеим жирафам уморить голодом тех, чьи шеи короче».
Если рынок предоставлен сам себе и произволу «длинношеих жирафов», то процветание одних достигается за счет гибели других. Развивая свое объяснение неизбежных последствий нерегулируемого рынка, Кейнс продолжает: «Таким образом, если только мы предоставим жирафов самим себе, то: 1) будет срезано максимальное количество листьев, потому что самые длинношеие жирафы оказываются ближайшими к деревьям, обрекая на вымирание от голода других; 2) каждый жираф набросится на те листья, которые оказываются самыми сочными среди тех, которые достижимы; 3) жирафы, вкусу которых данный лист отвечает больше всего, длиннее всех вытянут шеи, чтобы достать его. Таким путем будет проглочено большее количество более сочных листьев, а каждый отдельный лист достигнет того рта, который считает, что он заслуживает наибольшего усилия».
Таков капитализм по определению. Длинношеим жирафам должны доставаться наиболее сочные листья, а короткошеих можно топтать ногами. В таком виде его защищает и оправдывает неоклассическая ортодоксия. Кейнс в упомянутой работе, подготовившей его основную работу, какой явилась Общая теория, решительно выступил против социального дарвинизма ортодоксии.
* * *
Развивая кейнсианские идеи, посткейнсианские продолжатели этой традиции выступают против сохранения и узаконения подобного антагонизма. Они предлагают такие методы регулирования экономических и социальных отношений, чтобы если не преодолеть, то по крайней мере существенно смягчить социально-классовые антагонизмы путем достижения полной занятости населения и другими мерами регулирования. Для этого наряду с соблюдением правовых и этических норм – от чего мы в России и других постсоветских государствах еще очень далеки – необходимо также социально ориентированное вмешательство в распределение национального дохода в интересах всех слоев населения и обеспечение каждому достойной жизни и средств существования и духовного развития.
Кейнс положил начало такому подходу своим анализом мировой ситуации накануне и в период Великой депрессии 1929–1933 годов, эпицентром которой были США и Англия. Правящие классы обеих стран были немало озабочены возможными последствиями происходящего. Для предотвращения худшего лейбористское правительство Макдональда в 1929 году создало Комитет по изучению кризисной ситуации и поискам выхода из него из числа наиболее компетентных бизнесменов, финансистов, экономистов, государственных и профсоюзных деятелей (Комитет Макмиллана). К тому времени Кейнс уже был известен как недовольный существующим положением ершистый радикал, а потому считался не вполне подходящей фигурой для поиска решения на основе традиционных идей. В наших условиях такой человек не мог бы попасть в столь высокий комитет. Но Англия – страна другой культуры, где общественность всегда требует, чтобы на чашу весов была положена и альтернативная точка зрения. Поэтому первоначально Кейнс был включен в состав комитета скорее для успокоения общественного мнения, чем с большой надеждой на успех.
Однако, получив столь высокую трибуну и заинтересованную в поиске решения аудиторию, Кейнс вскоре развернулся. Его биограф пишет: «Первоначально Кейнс задавал мало вопросов… но очень скоро он стал играть решающую роль в работе комитета». В течение 1930 и 1931 годов работы Комитета он сыпал на головы своих слушателей такой каскад идей и аргументов, что полностью захватил их внимание. В отличие от нашей практики никаких регламентов для выступлений не было, а потому Кейнс иногда держал свои речи по нескольку часов в день, включая ответы на многочисленные вопросы. На одном из заседаний он говорил в течение 9 часов. Никому не было скучно слушать такого умного и сведущего оратора. Председатель комитета лорд Макмиллан позднее признавался, что, «слушая Кейнса, терял чувство времени».
В ходе работы комитета обнаружилось, что позиция Кейнса противоположна той, которую занимали Английский банк и Казначейство (Министерство финансов), которые тоже были представлены достаточно компетентными специалистами. Последние отстаивали традиционный подход решения проблем с помощью кредитно-денежного механизма и при своих нормальных рабочих отношениях с Кейнсом негативно относились ко всему тому, что им казалось посягательством с его стороны на рыночные свободы. Для Кейнса к тому времени рынок действительно перестал быть священной коровой, хотя он еще в ряде вопросов оперировал в ограниченных пределах изданной им в 1930 году книгой «Трактат о деньгах».
Первоначально дискуссия вертелась вокруг того, как банковский кредит и процентная ставка влияют на занятость и зарплату. Было ясно, что повышение учетной ставки удорожает кредит и снижает прибыль, а это в конечном счете приводит к сокращению производства и безработице. Как отрегулировать эти ставки, чтобы преодолеть кризис? В соответствии с тем, что писал Кейнс в упомянутой работе, он доказывал, что нормой инвестиции управляет процентная ставка. Отсюда необходимость снижения процентной ставки до возможного предела, чтобы заинтересовать предпринимателей в расширении производства, доказывал он. В таком случае, возражали его оппоненты, в погоне за более высокой ставкой капитал устремится за рубеж. В ответ на это Кейнс предлагал отказ от золотого стандарта и удешевление фунта стерлинга, что, по его мнению, ослабит утечку капиталов и будет способствовать выравниванию сбережений и инвестиций. Особую озабоченность Кейнс проявлял к созданию условий, чтобы сбережения превращались в инвестиции. Если этого не происходит, утверждал он, то это равносильно тому, что неиспользованная часть инвестиций «выливается на землю, и это оборачивается потерями делового мира».
Чем далее, тем более Кейнс втягивал Комитет в обсуждение детальных аспектов экономической науки и денежной политики. Но верные сложившимся стереотипам члены Комитета, в частности председатель английского банка М. Норманн (Norman) и представитель казначейства Р. Гопкинс (Hopkins), отстаивали традиционные постановки и решения. Позже Кейнс предложил Макдональду создать особый подкомитет из числа наиболее квалифицированных экономистов Англии. Так и было сделано. Была сформирована специальная экономическая комиссия под председательством Кейнса, но, опять по английской традиции, с включением в нее не только его сторонников, но и оппонентов. В таком качестве в комиссию вошли известные экономисты Х. Гендерсон (Henderson), занимавший ряд важных государственных постов, и Л. Роббинс (Robbins), тридцатидвухлетний профессор Лондонской школы экономики. Они придерживались традиционной (неоклассической) традиции и постоянно оппонировали Кейнсу, находившемуся в поиске иных способов решения проблем.
Одним из центральных и долго обсуждавшихся комиссией стал вопрос о том, как инвестиции (внутри страны и за границей) воздействуют на цены, заработную плату и безработицу. Как последователь австрийской школы, Роббинс отстаивал соблюдение принципов laissez faire, ничего страшного в кризисе не видел и считал, что со временем все само собой уладится. Кейнс, наоборот, опасался рокового развития событий, если не принимать действенные меры против безработицы. Он соглашался с оппонентами, что необоснованное повышение заработной платы способствует росту безработицы, но главное, говорил он, в том, что сокращение производства приводит к повышению доли заработной платы в стоимости продукции, а не старание рабочих урвать себе долю прибыли. Именно в ходе этих дискуссий Кейнс стал постепенно отходить от изложенной им в «Трактате о деньгах» позиций денежно-кредитного метода регулирования и все ближе подходить к признанию необходимости воздействия на производство путем государственного его стимулирования и увеличения инвестиций.
Тем временем за стенами Комитета Макмиллана мировой кризис принимал все более драматический характер. Производство все больше сокращалось в Англии, США и других странах, безработных и обездоленных становилось все больше, а забастовочные протесты принимали все более угрожающий характер. Предпринятые Кейнсом вначале в Испанию, а затем две продолжительные поездки в Соединенные Штаты с множеством встреч и бесед с деловыми людьми и коллегами-экономистами в разных городах немало способствовали прояснению вопросов, которые постоянно были предметом его повышенного внимания. Особенное впечатление на него произвело предложение ряда американских экономистов ввести практику общественных работ, способных вызвать цепную реакцию новых заказов и повышение спроса и оживить экономический оборот. С этим связано принятие Кейнсом предложенной его учеником Р. Канном идеи мультипликатора, занявшей свое место в Общей теории.
* * *
В ходе работы Комитета и поездок по США Кейнс сделал множество заметок, которые впоследствии в обдуманном виде вошли в текст его основного труда. Однако новое понимание проблем Кейнсом выступало в виде лекций, которые он читал студентам Кембриджского университета в 1931 и 1932 годах. Как вспоминал известный экономист Лори Таршис, который в то время был его слушателем, свою лекцию 10 октября 1932 года Кейнс начал со следующих слов: «Джентльмены, название этих лекций изменено. Вместо «Чистой теории денег» теперь они будут называться «Монетарная теория производства»».
Это изменение было принципиально важным. Говоря нашим языком, оно означало переход от первоначально занимаемой им в Трактате о деньгах позиции примата обмена к позиции примата производства, на которую он встал при написании Общей теории. Тем самым Кейнс отказался от неоклассической (по его терминологии «классической») теории, на чем, как говорит в начале книги, он «воспитывался и которая, как и 100 лет назад, господствует над практической и теоретической экономической мыслью правящих и академических кругов нашего поколения». Он выступил с альтернативной теорией, где были даны отличные от неоклассики решения по широкому кругу вопросов.
При этом заметим, как уже отмечалось, Кейнс не был первым, кто дал ответы на остро вставшие тогда проблемы. За несколько лет до Кейнса польский экономист Михаил Калецкий опубликовал ряд работ, в которых он дал аналогичные Кейнсу решения и рекомендации с марксистских позиций. Но более счастливая судьба Кейнса открыла его теории путь к мировому признанию, полностью сохраняющему свою силу и наши дни.
Конечно, за время, прошедшее со времени кейнсианской революции, много чего изменилось, в том числе в экономической теории. Тем не менее, несмотря на кейнсианское доказательство несостоятельности неоклассической теории, существенно развитое его последователями, ортодоксия остается господствующей в мире. Но причина этой живучести не столько в ее научных, сколько в идеологических достоинствах, соответствии постулатов ортодоксии интересам тех, кто владеет и правит миром.
Кейнс тоже принадлежал к правящему классу, но, как отмечалось, отличался от его рядовых представителей особой остротой зрения и пониманием грозящих ему угроз. Своей теорией он пытался раскрыть ему глаза на эти угрозы и побудить к более разумному образу действий. Предупредительный смысл русской революции стал ему особенно ясным во время Великой депрессии 1929–1933 годов. Оттуда идущая угроза была обобщена Кейнсом в Общей теории с такой глубиной и охватом круга проблем, что получило название кейнсианской революции. Ее основное содержание состоит в доказательстве возможности и разработке принципиальных основ механизма регулируемого развития капитализма, что отрицалось как слева, со стороны марксизма, так и справа, со стороны неоклассической ортодоксии. Однако вскоре сама история, как было отмечено выше, экспериментально подтвердила кейнсианское доказательство сравнительно высокими темпами экономического роста в первые годы после Второй мировой войны. Отказ от этих идей также, как отмечалось, имел под собой определенные основания. Они годились для регулирования развития национальной экономики, но не для осуществления активной внешней экспансии, которая в эпоху начатой глобализации стала сулить транснациональным корпорациям наибольшие выгоды. В новой ситуации капитал требовал освобождения от кейнсианской узды и полной свободы для своей экспансии.
Между тем отмеченная выше идея книги о неспособности капитализма обеспечить полную занятость и справедливое распределение богатства противоречит безграничной экспансии капитала. Чем больше концентрируются богатства в немногих руках, тем неудержимее их страсть к расширению своего господства над многими не только в данной стране, но и далеко за ее пределами. С тех пор как Кейнс подобным образом поставил вопрос, разрыв в доходах между бедными и богатыми достиг фантастической глубины, которая в конечном счете явилась основной причиной разразившегося в наши дни мирового финансово-экономического кризиса. В этом надо видеть еще одно подтверждение верности кейнсианского анализа и вывода о заложенной в «свободном рынке» тенденции к саморазрушению.
Средством противодействия такому саморазрушению, при сохранении автоматического саморегулирования, Кейнс считал внешнее, государственное регулирование экономики путем регулирования занятости, инвестиций и совокупного спроса. Исходя из уроков Первой мировой войны и Великой депрессии 1929–1933 годов, Кейнс считал такое регулирование непременным условием спасения капитализма от нависшей над ним угрозы со стороны наступавшего тогда социализма. Именно этот мотив был главным для Кейнса, когда он сел писать свой главный труд. Само собой понятно, что такая цель не могла быть достигнута как без пересмотра ряда господствовавших тогда положений макроэкономической теории, так и разработки альтернативных решений о механизме функционирования экономики.
Исходным пунктом в этом регулировании по Кейнсу выступает эффективный спрос, показывающий зависимость объема текущего производства от спроса на потребительские и инвестиционные товары. Эту зависимость выпуска (Y) от двух потоков спроса, потребительского (C) и инвестиционного (I), Кейнс обозначает формулой: Y = C + I. Она означает, что стоимость производимого продукта должна равняться сумме доходов, необходимой для ее покупки.
Свое объяснение категории эффективного спроса Кейнс начинает с общеизвестных вещей. Выпуск продукции предполагает определенные затраты со стороны предпринимателя, которые он называет «факториальными издержками производства». Выручка от продажи этой продукции в одной своей части возмещает издержки производства, а в другой приносит прибыль. «Таким образом, – заключает Кейнс эту часть своих рассуждений, – факториальные издержки и предпринимательская прибыль образуют вместе то, что мы определим как совокупный доход при данном уровне занятости».
Следует обратить внимание на данное здесь определение совокупного дохода, который на уровне всей экономики именуется «совокупным общественным продуктом – СОП», а на уровне отдельного предприятия – «выручкой от продажи продукции». Именно к этому показателю, включающему прибыль, предприниматель питает особо высокий интерес. Но этот интерес предпринимателя сталкивается с тем, что в кейнсианской концепции занимает особо важное место, – с фундаментальной неопределенностью будущего. Предприниматель знает, чего хочет, но не знает, что у него получится, ибо рынок представляет собой загадочное царство игры множества неизвестных. Но одно он, несомненно, знает – сколько какой продукции он может предложить рынку, и это известное Кейнс назвал «совокупной ценой предложения продукции». Что касается того, сколько за это он получит, то это всегда приблизительная величина, и ее Кейнс называет «выручкой, ожидаемой предпринимателем».
«Сталкиваясь с терминологическим столпотворением, – говорит Кейнс, – приятно найти хотя бы одну точку опоры». Такой точкой опоры, в частности, как раз и является понятие «эффективного спроса», занимающее центральное место в кейнсианской системе доказательств. Это тот уровень спроса и его сочетания с предложением, при котором достигается наивысший уровень выпуска (выручки) и занятости. Только в таком случае прибыль достигает максимума и оправдываются ожидания предпринимателей. Как видно, идея эффективного спроса представляет собой утонченную защиту капитализма и направлена на создание такой ситуации, при которой и овцы остались целы, и волки были сыты.
В дальнейшем формула эффективного спроса развертывается в более конкретный механизм взаимодействия ряда составляющих, которые его образуют, т. е. в такие категории, как совокупный спрос (расходы), национальный выпуск, национальный доход и другие производные от них. Кейнсианская постановка по этим вопросам была столь многообещающей, что нашла отклик у множества экономистов. Наиболее успешным из них оказался американский экономист русского происхождения, лауреат Нобелевской премии Саймон Кузнец (Кузнецов по первоначальной фамилии).
* * *
После того как мы рассмотрели исторические условия и теоретические соображения, которые привели Кейнса к выводу о необходимости регулирующего воздействия на экономику, вместо того чтобы полагаться на результаты спонтанного развития, мы можем теперь остановиться на том, какую механику для этого он предлагал.
Основу этой механики составляет взаимосвязь между инвестициями и занятостью, точнее сказать, зависимость последней от а) склонности к потреблению; б) предельной эффективности капитала (инвестиций); в) нормы процента. Хотя Кейнс называет каждый из этих факторов в отдельности, но, как мы увидим дальше, между ними существует такая тесная взаимозависимость, в которой предельная эффективность инвестиций выступает решающим звеном.
Названные факторы Кейнс рассматривает как независимые переменные, а объем занятости и национального дохода как зависимые переменные. Ту же мысль можно выразить таким образом, что определенный объем занятости и национального дохода достигается при определенном потреблении, уровне инвестиций и норме процента.
Согласно этому пониманию национальный доход создается примененным количеством труда и ничем другим. Он пишет: «Предпочтительнее рассматривать труд, включая, конечно, личные услуги предпринимателя и его помощников, как единственный фактор производства, действующий при наличии технологии, природных ресурсов, производственного оборудования и эффективного спроса». Коль скоро труд единственный фактор производства, а тем самым и создания национального продукта (дохода), то из этого само собой вытекает первостепенное значение занятости.
Однако для функционирования труда (работы занятых) требуется определенная арена использования производственного оборудования и других ресурсов, расширение которой возможно путем соответствующих инвестиций, приносящих их владельцу доход, называемый Кейнсом «предельной эффективностью капитала» (Marginal Efficiency of Capital – MEC). Этой категории, введенной Кейнсом в политическую экономию, в Общей теории он посвятил отдельную главу и в дальнейшем рассмотрел ее разные аспекты. Предельную эффективность капитала он определяет как отношение между ожидаемым доходом, приносимым дополнительной единицей вложенного капитала, и ценой его производства. «Более точно, – пишет он, – я определяю предельную эффективность капитала как величину, равную той учетной ставке, которая уравняла бы нынешнюю стоимость ряда годовых доходов, ожидаемых от использования капитального имущества в течение срока его службы, с ценой его предложения. Мы получаем, таким образом, предельную эффективность отдельных видов капитального имущества». Наибольшую из них Кейнс предлагает рассматривать как предельную эффективность капитала (MEC) в целом.
Из сказанного следует, что под МЕС следует понимать как ожидаемый доход от прямых производственных инвестиций, который превышает норму процента, иначе предприниматель мог бы ограничиться процентом по банковскому вкладу. При равенстве МЕС и нормы процента мы можем иметь один уровень производства и занятости, а при осуществлении проекта, где МЕС выше нормы процента, другой уровень производства и занятости.
Во втором случае Кейнс имеет в виду вариант предпринимательской деятельности, движимый чувством не только получения дохода, но и уверенности в общественной полезности своего дела. Этот мотив, называемый им «жизнерадостностью» (animal spirit), занимает видное место в его объяснении движущих сил капиталистической экономики. Большинство решений позитивного характера, последствия которых сказываются с течением времени, пишет он, «принимаются под влиянием одной лишь жизнерадостности – этой спонтанно возникающей решимости действовать, а не сидеть сложа руки». Эту же мысль он развивает и дальше. «Люди практические, – отмечал он, – всегда уделяют самое пристальное и заботливое внимание тому, что они называют состоянием уверенности. Однако экономисты не проанализировали как следует этот феномен, отделываясь, как правило, общими словами. В частности, остался как-то в тени тот факт, что состояние уверенности имеет отношение к экономической проблематике именно потому, что оно оказывает значительное влияние на график предельной эффективности капитала».
Мысль Кейнса о роли предпринимателя перекликается с тем, как ее рисовал Й. Шумпетер, который наряду с получением дохода от своего капитала видел еще эту роль в новаторстве и достижении прогресса. Кейнс так же смотрит на эту роль, под тем же углом зрения. Поэтому его понимание инвестиций существенно отличается от того, как оно сложилось в наше время, когда под этим понимается вложение денег в любую сферу, в том числе финансовые спекуляции с единственной целью получения дохода. Нет, как бы говорит Кейнс, я признаю под инвестициями только такие, которые создают рабочие места и привлекают труд к тому, чтобы увеличивать национальный доход и тем самым общественное богатство.
Что касается получивших в наше время широкое распространение финансово-спекулятивных операций, то они не могут служить этой цели. Еще Карл Маркс оценивал эти операции как форму функционирования фиктивного капитала, не создающего физическое богатство, а лишь перераспределяющего его между финансовыми дельцами. Много лет спустя подобным же образом оценивал ситуацию Кейнс. «Общество в целом, – писал он, – не может создать условия для будущего потребления с помощью одних лишь финансовых операций, оно может сделать это только путем расширения физического объема текущего производства». Этой цели служат инвестиции в кейнсианской концепции путем увеличения занятости.
* * *
Однако доведению занятости до такого уровня, который можно было бы назвать «полной или всеобщей занятостью», препятствует интерес капиталиста, который рассматривает это в рамках получения прибыли. Что происходит с работниками за этими пределами, его не интересует. Кейнс открыл дополнительный мотив предпринимательской деятельности – animal spirit. Но насколько он распространен? Хорошо, когда такой мотив совместим с получением прибыли, а если противоречит? Ведь рост занятости чаще всего сопровождается ростом заработной платы, что не обязательно происходит одновременно с ростом прибыли.
Поскольку заработная плата и прибыль питаются из одного источника – добавленной стоимости, то рост первой может происходить путем уменьшения второй. Из этого положения предприниматель ищет выход путем замещения труда капиталом. Чем выше заработная плата, тем выше мотив этого замещения, а отсюда и потенциал безработицы. Сегодня этот мотив действует с еще большей силой, чем во времена Кейнса. Об этом свидетельствует перенос множества производств из развитых стран в страны с более дешевой рабочей силой. Эту практику никак нельзя объяснить мотивом animal spirit. Совсем наоборот. Если рыба ищет, где вода глубже, то капиталист ищет, где прибыль выше.
Неискоренимость этого интереса исключает способность автоматического механизма саморегулирования рыночно-капиталистической экономики к достижению полной занятости. Несмотря на включенный им в эту систему амортизатор в виде animal spirit, Кейнс сознавал эту неспособность, и это подвело его к мысли о необходимости государственного воздействия на этот процесс. «Я представляю себе поэтому, – писал он, – что достаточно широкая социализация инвестиций окажется единственным средством, чтобы обеспечить приближение к полной занятости, хотя это не должно исключать всякого рода компромиссы и способы сотрудничества государства с частной инициативой».
Признавая необходимость сотрудничества государства с частной инициативой, Кейнс в то же время отрицал, что стандартный инструментарий равновесного анализа неоклассической (по Кейнсу классической) теории позволяет понять происходившие процессы. Он отрицал, что цены и заработная плата сами собой приводят рынок в равновесие и обеспечивают наиболее рациональную аллокацию ресурсов.
Несостоятельность подобных предположений Кейнс аргументировал настолько подробно, насколько позволял объем книги, где рассматривался чрезвычайно широкий круг вопросов. «Учреждение централизованного контроля, необходимого для полной занятости, – продолжал он, – потребует, конечно, значительного расширения традиционных функций правительства… Но все же остаются широкие возможности для проявления частной инициативы и ответственности. В пределах этих возможностей традиционные преимущества индивидуализма сохраняются и далее». В сочетании преимуществ индивидуализма с государственным стимулированием совокупного спроса и инвестиций состоит весь пафос книги Кейнса и совершенной им революции в экономической теории.
Между тем в учебниках экономики, где Кейнс в разной связи упоминается многократно, в лучшем случае говорится только о том, что он был сторонником интервенционистской роли государства. В рамках неоклассического синтеза суждения Кейнса об интервенционистской роли государства были заменены традиционной верой в рационализм агентов рынка, приводящих его в равновесие путем адаптации цен к заработной плате.
Судя по всему, Кейнс ожидал такую реакцию на свой пересмотр прежних верований. Поэтому в конце книги счел нужным прибавить важную оговорку. «Хотя расширение функций правительства в связи с задачей координации склонности к потреблению и побуждения инвестировать, – предупреждал он, – показалось бы публицисту XIX века или современному американскому финансисту ужасающим покушением на основы индивидуализма, я, наоборот, защищаю его как единственное практически возможное средство избежать полного разрушения существующих экономических форм и как условие успешного функционирования личной инициативы». Здесь Кейнс полностью раскрывает свои карты, почему взялся пересматривать старые положения и создавать новые: чтобы избежать разрушения капитализма и сохранить систему частного предпринимательства.
* * *
Как уже отмечалось, для кейнсианской концепции характерна разработанность инструментария, необходимого для экономического анализа. Важнейшим из них является предложенная им функция потребления и функция спроса.
В кейнсианской модели планируемое потребление отличается от фактического дохода. В этом его отличие от Сэя, у которого доход и потребление равны. Еще Маркс показал несостоятельность такого отождествления, игнорирования процесса накопления, т. е. сбережений и инвестиций. Однако Кейнс не повторил Маркса, а установил закономерную динамику в соотношениях дохода и потребления. «Психология общества такова, – пишет он, – что с ростом совокупного реального дохода увеличивается и совокупное потребление, однако не в такой же мере, а какой растет доход». Никто до Кейнса не обратил внимания на различие этих соотношений, а отсюда и на те важные последствия, которые оно имеет.
Функция потребления – это обычно традиционно принятый, а потому часто называемый планируемым уровень потребительских расходов при данном уровне доходов. Иначе говоря, это доля потребления в доходе. Кейнс назвал эту долю средней склонностью к потреблению (average propensity to consume – APC). Средняя склонность к потреблению определяется путем деления планируемого потребления на размер получаемого дохода.
Совокупный спрос определяется кейнсианством как желаемый (планируемый) уровень доходов (expenditure) при данном уровне доходов и цен. Для его объяснения разработана модель доходов и расходов, упрощенный вариант которой основан на ряде допущений. Во-первых, в модель вводится категория «планируемых показателей», чаще всего используемых Кейнсом как «ожидаемые» (expectations – Е). В современной же литературе вместо этого теперь обычно используются «планируемые», но, в отличие от советской практики, этот термин употребляется не в смысле обязательного, а именно ожидаемого.
Во-вторых, вместо четырех видов расходов в обществе: потребительских расходов, инвестиций, правительственных закупок и чистого экспорта – для простоты понимания в модели используются первые два вида расходов (потребительские расходы – C и инвестиции – I). Так что мы можем записать: E = C + I.
В-третьих, инвестиции в модели рассматриваются как вливания («инъекции» – injections), поскольку их размер оказывает существенное влияние на величину совокупного спроса и динамику экономического роста.
В-четвертых, в модель вводится понятие «изъятия», или «утечки» (withdraws-leakages), а вместо трех видов изъятия из экономики: сбережений, налогов и импорта – в модели используется лишь первый вид – сбережения.
Анализ модели доходов и расходов показывает, что совокупное предложение (выпуск) выравнивается с совокупными расходами и спросом тогда, когда инвестиции совпадают со сбережениями. Однако этот анализ показывает также две другие ситуации. Одна из них, когда планируемые расходы больше планируемого выпуска (C + I > Y), так как инвестиции выше сбережений. Так бывает тогда, когда спрос превышает предложение и фирмы оказываются перед выбором: либо отказаться от части заказов, либо расширить выпуск. В условиях рыночного регулирования экономики выбор обычно делается в пользу второго варианта.
Отсюда вывод. Превышение совокупного спроса над совокупным предложением стимулирует расширение выпуска и переход на новый уровень равновесия.
Теперь рассмотрим другую ситуацию, когда планируемые расходы ниже планируемого выпуска (C = I < Y), когда предложение превышает спрос, ввиду того что теперь, наоборот, сбережения превышают инвестиции. Так как не все сбережения превратились в инвестиции, то совокупный спрос оказался ниже совокупного предложения. Это типичная предкризисная ситуация. Что в этом случае будут делать фирмы? Поскольку часть предлагаемой продукции они реализовать не могут, то не остается ничего другого, как сокращать выпуск, а следовательно, увольнять рабочих.
Драматические картины этой ситуации наблюдал Кейнс в США и Англии во время Великой депрессии 1929–1933 годов, которые вкупе с другими историческими обстоятельствами, о которых речь шла выше, повернули его сознание в направлении необходимости приведения экономической теории в большее соответствие с экономической реальностью. Если бы он продолжал думать по-маршаллиански, что рынок обладает неограниченным потенциалом саморегулирования, то по примеру остальных своих коллег причины кризиса сводил бы к ошибкам правительств или центральных банков. Но Кейнс понял, что истоки кризиса лежат глубже, в неспособности рынка автоматическим путем достигать необходимого равновесия, а потому рынок нуждается в регулирующем воздействии. Это и заставило его взяться за создание теории, предусматривающей методы такого воздействия.
Рассуждая в таком направлении, он пришел к выводу: превышение совокупного предложения над совокупным спросом нарушает экономическое равновесие и чревато кризисным спадом и ростом безработицы, а потому необходимо стимулирование совокупного спроса.
Но как этого добиться? Конечно, если бы потребители и бизнесмены расходовали все свои доходы, то спрос был бы достаточно высоким и угрожающая ситуация могла не возникнуть. Но, как было сказано выше, перед лицом неопределенности будущего потребители и инвесторы страхуются тем, что часть наличности стараются попридержать и не пускать в дело. Бизнесмены руководствуются мотивом прибыли на капитал, и если нет достаточно надежных шансов на ее получение, то воздерживаются от инвестиций. По этим причинам часть общественного капитала остается в бездействии. Кейнс предлагает ввести эту часть капитала в действие путем государственного стимулирования инвестиций и всего совокупного спроса. Равновесие по Кейнсу достигается, когда «инъекции» бывают равны изъятиям.
* * *
Особое место в кейнсианской концепции регулирования, активного воздействия государства на экономику занимает взаимодействие мультипликатора и акселератора. Однако, прежде чем рассматривать механизм этого взаимодействия, следует прояснить их концептуальную основу, какие исторические и экономические условия вызвали их возникновение.
Сам Кейнс не уделил этому должного внимания. Как отмечалось, он подверг критике постулаты неоклассической школы, но обошел структурные изменения, которые произошли в современной ему капиталистической экономике, в силу которых прежние постулаты теории утратили свою былую значимость. Такой пересмотр так или иначе требует осуждения капитализма, на что рука его защитника – а Кейнс был именно таким – обычно не поднимается.
Поэтому объяснение того, в силу чего и как промышленный капитализм XIX века превратился в финансовый капитализм XX века, выпало на долю марксистских теоретиков, главным образом Р. Гильфердига, Р. Люксембург и В. Ленина. Еще в начале ХХ века они указали на революционный характер начатых тогда концентрации и централизации капитала в руках уменьшающегося числа владельцев на базе происходивших один за другим научных открытий. На этой основе командные позиции в экономике стали переходить от промышленных капиталистов к банковскому капиталу и финансовым магнатам. Их новая роль выражалась в том, что они стали распоряжаться колоссально возросшими инвестиционными фондами. Одно дело во времена Сэя и даже позднее маржиналистов, когда господствовал промышленный капитал. Несмотря на происходившую машинизацию, ручной труд оставался преобладающим, а капиталовооруженность труда (органическое строение капитала по Марксу) была невысокой. Годовой объем выпуска, как правило, многократно превышал размер того основного капитала, с помощью которого он производился. Например, в обувной мастерской могли быть самые простые приспособления, с помощью которых производилась продукция с годовой стоимостью, много раз превосходившей их стоимость. В структуре рынка тогда преобладали потребительские товары, и как Сэй, так и маржиналисты исходили из этой реальности. И если игнорировать процесс накопления капитала, как это делал Сэй, то его формула о совпадении спроса и предложения выглядит вполне правдоподобной.
Другое дело – во времена Кейнса, когда капиталовооруженность труда выросла многократно и соотношение между живым и овеществленным трудом резко изменилось в пользу последнего. Здесь мы уже видим противоположную ситуацию, когда размеры основного капитала многократно превышают объем той продукции, которая производится с его помощью. Несостоятельность формулы Сэя стала более очевидной в условиях гигантского роста масштабов накопления капитала с ростом наряду с рынком потребительских также инвестиционных товаров.
Сдвиг на рынке в пользу инвестиций имел далеко идущие последствия. Потребительские и инвестиционные товары вместе образуют совокупный спрос. Но две группы товаров подчиняются разным закономерностям. В то время как потребительские товары в процессе их использования покидают сферу производства, инвестиционные товары, наоборот, возвращаются в новый цикл его продолжения и расширения и чаще всего требуют больших единовременных затрат в расчете на меньшую или большую перспективу.
Наряду с рядом других это своеобразие структурного изменения экономики ХХ века отразило решение проблемы мультипликатора. Само собой понятно, что неоклассические теоретики, делающие ставку на саморегулирующие способности рынка, не нуждались в рычагах воздействия на экономику и не могли думать в направлении поиска таких рычагов. На такую мысль могли выйти те, у кого она не была скована догмой о всесилии рынка и кто искал способы воздействия на него. Кроме самого Кейнса такими были и его ученики, в числе которых был Ричард Кан. Справедливость требует сказать, что идея мультипликатора, о которой речь пойдет чуть ниже, была выдвинута и разработана не столько Кейнсом, сколько Каном в статье, опубликованной еще в 1934 году. В последующем мультипликатор и акселератор были объединены в кейнсианской теории в единый механизм взаимодействия инвестиций и обеспечения эффективного спроса.
Мультипликатор и акселератор подчинены стержневой идее кейнсианской концепции – путем эффективного спроса обеспечить экономический рост. Отсутствие должного спроса, как отмечалось выше, подрывает стимулы экономического роста и обрекает экономику на кризис и высокую безработицу. Накачивание совокупного спроса, наоборот, стимулирует рост занятости и экономики и выводит ее на более высокий уровень развития. Иными словами, увеличение планируемых расходов благоприятствует такому расширению масштаба производства, который сопровождается увеличением национального дохода как источником роста накоплений и народного благосостояния.
* * *
Здесь встает другой вопрос: что лучше: когда люди бережливы и больше сберегают из своих доходов или, наоборот, неэкономны и больше расходуют на удовлетворение своих нужд?
Обычный ответ чаще всего сводится к тому, что лучше первое, чем второе. С точки зрения отдельного индивидуума, так оно есть, и на поставленный вопрос ортодоксия так и отвечала. Она сверх меры воспевала бережливость и воздержание первопроходцев капиталистического предпринимательства, которые, мол, откладывали каждый пенс и цент, чтобы пустить его в дело. Отчасти это соответствовало правде. Действительно, среди пионеров капиталистического предпринимательства были такие. Аскетизм был святым требованием всех основных религий мира, в особенности протестантизма, и не будем отрицать, что были такие, которые жили в соответствии с его канонами. Такими были, например, пуритане, первые американские поселенцы, приехавшие из Европы и осваивавшие новый континент, ведя образ жизни, предписанный христианскими заповедями. Но были и другие, которые роскошную жизнь сочетали со зверским уничтожением местного индейского населения и безжалостной эксплуатацией рабского труда привезенных из Африки цветных людей. Никакого «воздержания» от земных благ они не показывали. Наоборот, показывали безудержную жадность и звериную ненависть ко всем, кого сделали своей жертвой.
А что сказать о сегодняшних российских нуворишах? Самое худшее, что только можно. Разбогатевшие на приватизации народного добра, они по безумию трат попавших в их руки шальных денег далеко перещеголяли всех, кто что-либо подобное практиковал до сих пор. Недаром они снискали себе во всем мире позорящую всех нас дурную славу «русской мафии». Так что картина «бережливости» капиталистических собственников более многоцветна и не столь привлекательна, чем то, как она расписана Максом Вебером в его знаменитой книге «Протестантская этика и дух капитализма», где воспеты христианские добродетели в создании капиталистического предпринимательства. Еще меньше они относятся к характеристике разжиревших на приватизации российских собственников.
Тем не менее необходимость бережливого образа жизни и предпринимательской деятельности при капитализме не лишена определенных оснований. Она обусловлена фундаментальной неопределенностью будущего при капитализме. Угроза разорения постоянно висит над головами предпринимателей, как угроза потери работы над головами наемных работников. Все живут в постоянном страхе, что кризис грянет в любое время и его удары будут беспощадными, как это было в жизни каждого не раз. Этим порождена психология экономии на всем, копить, что можно, на черный день. Эту нужду неоклассическая ортодоксия толкует как добродетель, универсальный мотив капиталистического предпринимательства. Будто богатые накопили свои состояния не эксплуатацией труда и отъемом чужой собственности, а исключительно праведным трудом, воздерживаясь от потребления, терпя нужду и страдания, и благодаря этому скопили то, чем владеют. Эта красивая сказка затемняла вопрос о подлинных источниках создания крупных состояний, каким было «огораживание земель» в Англии, когда крестьян тысячами насильно сгоняли со своих земель и лендлорды нагло захватывали земли себе. Или захват американскими колонистами земель местных индейцев, которых они безжалостно истребляли. Теперь нечто подобное нам пришлось испытать на собственной судьбе на бывших советских просторах. Прямой захват народного добра осуществлялся самым наглым и прямым образом различными методами, включая самые преступные. О бережливости и воздержании нечего и говорить. Наш опыт еще раз подтвердил то, о чем задолго до наших перемен говорил великий американский социолог и экономист Т. Веблен. Чтобы стать богатым, утверждал он, надо обладать не столько бережливостью, сколько «хищническим инстинктом» (predatory instinct) и способностью подчинять себе подобных – или особой творческой энергией и новаторством опережать других, как говорил Шумпетер. Российские богачи показали первое, но ничего из второго.
До Кейнса ортодоксия неустанно воспевала воздержание и бережливость, потому что абсолютизировала частный интерес, а общее благо сводило к сумме частных. Эта мысль стала крылатой в распространенном утверждении: то, что выгодно «Дженерал моторс», выгодно Америке. Позднее то же самое говорилось о «Голден сакс». Кейнс показал несостоятельность отождествления частного интереса с общим. То, что выгодно отдельному лицу или фирме, не обязательно выгодно обществу. Несводимость частного интереса к общему он показал на том, как негативно сказываются сбережения домохозяйств и воздержание предпринимателей от инвестиций на динамике производства и уровне занятости. Если люди будут сберегать больше, утверждал Кейнс, то тратить будут меньше, и это будет иметь негативные последствия. Ведь меньшие траты со стороны одних, например потребителей, будут означать меньшие заказы со стороны других (фирм), а это скажется на уменьшении их доходов. В таком случае фирмам не останется ничего другого, как сокращать выпуск, а следовательно, и занятость.
До Кейнса все мирились с этим как естественным результатом бережливости в духе того, что о ней говорилось выше. Но Кейнс взглянул на эту проблему со стороны того, как бережливость влияет на совокупный спрос. «Когда индивидуум сберегает, – писал Кейнс, – он действительно увеличивает свое собственное богатство. Но отсюда нельзя делать вывод, что он увеличивает и совокупное богатство, ибо возможно, что данный акт индивидуального сбережения окажет влияние на размеры сбережений других лиц, а следовательно, и на размеры богатства кого-либо другого». Кейнс исходил из того, что нет автоматического совпадения интересов индивидуума и общества, и для него было важно выяснение влияния действий индивидуума на дела в обществе, в частности на совокупный спрос. Недостаток такого спроса, как мы видели, он считал основным злом, тормозящим рост выпуска и доходов, а отсюда и занятости. Коль скоро это так, то воздержание от потребления, в результате которого возрастают бездействующие сбережения, посчитал он, является мнимой экономией, так как ограничивает возможность роста реальных доходов.
Чтобы сделать эту мысль более понятной, в своей работе «Трактат о деньгах» Кейнс приводит библейскую легенду о кувшине вдовы, из которой пил воду пророк Илья. Сколько бы ни пил из нее пророк, Господь наполнял кувшин водой и он все время оставался полным. Кейнс сравнил эту легенду с греческой, согласно которой данайцы, жившие на горе Аргос, набирали воду у ее подножия в дырявый кувшин и несли его до вершины. Но сколько они ни трудились, по пути вода успевала вытечь.
С помощью этих двух легенд Кейнс хотел показать, что дают разумные расходы. Если траты одних являются доходами других, то это увеличивает совокупный спрос, который стимулирует расширение выпуска, ведущее к увеличению выпуска, доходов и занятости. Дело тут в том, что сберегающие и инвестирующие – это разные социальные фигуры и все зависит от готовности или неготовности последних расширять производство и увеличивать рабочие места. Если у инвесторов нет такой заинтересованности, то сбережения могут создавать отрицательный эффект. В таком случае рост сбережений будет означать одно – снижение потребления, а следовательно, и заказов производителям, которым в таком случае не остается ничего другого, как снизить выпуск.
Что же получается при увеличении сбережений за счет снижения потребительских расходов? Запасы непроданных товаров фирм увеличатся, от чего уменьшатся заказы на новую продукцию. В то же время инвестиции все равно останутся на прежнем уровне или даже снизятся, поскольку в такой ситуации для них нет смысла. Следовательно, снизится совокупный спрос. Производство сократится, а вслед за этим произойдет неизбежное падение доходов домохозяйств. Таким образом, большая, чем прежде, доля сбережений будет делаться из меньшей величины доходов. В таком случае уровень сбережений в абсолютном выражении не изменится, в то время как безработица возрастет. Вот и получается, что бережливость возросла, а ситуация в экономике не улучшилась, а ухудшилась. Это и есть то, что Кейнс называет парадоксом бережливости, разработанным им для объяснения поведения экономики в условиях неполной занятости.
С помощью второй (греческой) легенды Кейнс хотел сказать нам, что есть такая недальновидная экономия, которая действует, как дыра в кувшине данайцев, и оборачивается убытками и потерями. Смысл же парадокса бережливости в обратном – в том, что надо быть не Плюшкиным, а разумным распорядителем своего дохода, расходующим его на пользу себе и другим. И тогда, говорит Кейнс, Господь будет милостив к нам, как к пророку Илье, Он будет наполнять наш кувшин водой. Иначе говоря, наши разумные траты будут способствовать росту совокупного спроса и занятости, а тем самым и росту национального дохода.
Это рассуждение верно и в другом варианте. Если в условиях кризиса домохозяйства решат сберегать меньше при данном уровне доходов, то их потребление и расходы возрастут, что приведет к росту их заказов на новую продукцию, от чего увеличится спрос. При этом уровень инвестиций может остаться прежним (ведь в период кризиса предполагаются значительные незагруженные мощности). Но так как возрос спрос, то увеличится и производство, а значит, и занятость населения. Рост занятости принесет новые доходы домохозяйствам. Теперь домохозяйства могут сберегать меньшую долю от возросшей величины доходов. При этом уровень сбережений в абсолютном выражении может остаться неизменным. Получается, что бережливость уменьшилась, а расходы возросли, но ситуация в экономике от этого только улучшилась, что требовалось доказать Кейнсу.
* * *
Выше уже говорилось, что в свое время Москва была Меккой для либеральной и социал-демократической интеллигенции Запада. Этому способствовал происшедший после революции и восстановительного периода взлет экономики. В течение 1928–1940 годов она росла такими темпами, которых мир до этого не видел. Тем более что почти десятилетие этого роста наблюдалось на фоне Великой депрессии и ее тяжких последствий в западных странах. Положительное впечатление от советского роста усиливалось тем, что оно происходило в рамках невиданной и считавшейся до этого на Западе невозможной плановой экономики.
Когда же результаты стали очевидными для всех, то во всем мире пробудился повышенный интерес к советскому опыту. В то время как одни смотрели на это с надеждой, у других он вызывал страх перед заразой коммунизма. Но мы не будем здесь касаться заразительной стороны восприятия советского опыта. Нас больше интересует западная оценка советских темпов экономического роста, тем более что в критический период перестройки их реалистичность без достаточных на то оснований стали отрицать.
Прежде всего следует отметить широкое признание в мире высоких темпов советского экономического роста до 70-х годов прошлого века. Данные советской статистики на этот счет подвергались критическому разбору, что было естественным, так как методика исчисления валового продукта и национального дохода у нас отличалась от западной. Но никто их тех, кто был авторитетом в области статистических исчислений, не поставил под сомнение сами темпы роста. Среди них раньше других следует назвать лауреата Нобелевской премии по экономике 1971 года Саймона Кузнеца (1901–1985), который указывал, что советские темпы роста были невиданными в мире. Кузнец и Бергсон, как специалисты по советской экономике, особенно выделяли 20-летний период, с 1928 по 1940 год, в течение которого СССР прошел по пути индустриализации страны срок, занявший у других от 30 до 50 лет.
Если в целях большей объективности ограничиваться оценкой известных западных специалистов, то надо указать также на Добба и Оффера. Каждый из них по-своему проанализировал советские темпы экономического роста, высказал определенные замечания и внес те или иные уточнения, но никто не подвергал сомнению их необычно высокий уровень. Правда, восхищение советскими тепами относится к периоду, пока не возникло «японское чудо» и эта страна не стала первой в мире по темпам роста. Японские темпы перепутали также прежние оценочные суждения. Высокие темпы роста оказались присущими не только социалистической, но и капиталистической стране, правда, не западного типа, что обычно замалчивалось. Как в свое время Япония оттеснила Советский Союз по темпам роста, так теперь новая группа стран, о которых речь ведется в четвертой главе, оттеснила Японию, и составляющие эту группу страны вышли на передние рубежи экономического роста, оставив других далеко позади себя.
Выходит, что каковы бы ни были причины смены вех, но в одно время передовые позиции в экономическом росте занимают одни страны, а в другое время – другие. После 70-х годов ХХ века это и случилось с Советским Союзом, со второго места в мире по объему ВВП он был отодвинут на третье и вообще стал отставать в своем развитии. В условиях охватившего общества уныния два внука тургеневского Базарова – Василий Селюнин и Григорий Ханин (Селюнин и Ханин, 1987) – выступили в журнале «Новый мир» со статьей с сенсационными утверждениями, что данные о высоких темпах советского экономического роста представляют собой дутые цифры, искажающие картину нашей реальности. Критикуя из лучших побуждений (их духовный дед из тех же побуждений поносил Россию как негодную страну) пороки советской практики учета статистических данных, они сильно перегнули палку и стали отрицать достоверность показателей советского роста.
Опираясь на собственные кустарные выкладки, они объявили о своем сенсационном открытии: утверждения советской статистики о росте национального дохода, преувеличены в 13–15 раз. «Национальный доход, рассчитанный по нашей методике, – сообщили они, – возрос с 1928 по 1985 год в 6–7 раз, а не в 90 раз, как свидетельствует официальная статистика» (Селюнин и Ханин, 1987, с. 192). Но если настолько преувеличен объем национального дохода, то, соответственно, преувеличен исчисляемый на его основе показатель производительности труда. «С 1928 по 1985 год, – писали они далее, – материалоемкость общественного продукта возросла в 1,6 раза, фондоотдача снизилась примерно на 30 процентов. Относительно скромно (в 3,6 раза) поднялась производительность труда» (там же, с. 193). Сравним это с тем, что государственная статистика показывала рост производительности труда за указанный период в 60 раз. По расчетам двух авторов, расхождения ими полученных результатов с официальными данными в темпах роста в послевоенные годы было менее значительным, но все-таки достаточно большим, чтобы поставить под сомнение сложившееся к тому времени представление об экономическом потенциале Советского Союза.
К сожалению, в тогдашней обстановке всеобщего поношения советского прошлого сенсационные «открытия» двух авторов не вызвали к себе должного внимания и их обоснованность не была подвергнута экспертной оценке. Никто не удосужился обратить внимание на то, что если бы данные двух авторов были верны, то довоенный Советский Союз оставался бы отсталой страной. Тогда он никак в ходе Второй мировой войны в производстве передовой военной техники не мог выйти на более высокий уровень, чем это смогла сделать находившаяся под контролем Гитлера континентальная Европа.
* * *
Ошибка двух авторов была вскрыта другим путем. Наступивший через три года после их выступления неожиданный распад Советского Союза вызвал у американских консерваторов сомнения в его былой прочности. Разоблачения указанных авторов как нельзя лучше оказались им на руку. Далекие от понимания подлинных причин распада СССР, но опираясь на суждения и оценки рассматриваемой статьи, они стали утверждать, что Советский Союз всего-то был бумажным тигром. Но тогда, ставили они вопрос, на каком основании Белый дом и ЦРУ требовали и расходовали многомиллиардные средства американских налогоплательщиков для борьбы с врагом, который и внимания-то не заслуживал? Поднялся скандал по поводу обоснованности американских расходов на холодную войну.
В такой ситуации, как пишут американские авторы Дэвид Котц и Фред Вейер (Kotz and Weir), находящаяся в Вашингтоне независимая организация (Heritage Foundation of Washington D.C.) по собственной инициативе создала комиссию из пяти известных экспертов во главе с авторитетным экономистом-статистиком профессором Джемсом Милларом с целью изучения всех данных о советском экономическом потенциале и выработки заключения об обоснованности оценки этого потенциала со стороны Центрального разведывательного управления США. После тщательного изучения всех имеющихся на этот счет материалов, включая советские и американские источники, комиссия пришла к выводу, что данная ЦРУ оценка советского экономического потенциала была верной. Комиссия нашла эту оценку «профессиональной, соответствующей реальности и предусмотрительной… мы не нашли никаких систематических искажений». Комиссия подтвердила, что данные ЦРУ оценки советского роста были основаны на хорошо известной и признанной методике расчетов, и отметила, что неизбежные частичные отклонения от советских данных были известны и имели соответствующие объяснения. Выходит, что Советский Союз был не бумажным, а весьма опасным тигром. Вызвавшие бурю расчеты двух советских авторов, таким образом, были признаны как основанные на ложных предпосылках и названы «незрелыми и наивными».
Мы здесь имеем еще одно подтверждение тому, что нет худа без добра. В. Селюнин и Г. Ханин пытались поставить под сомнение советские темпы экономического роста, а на самом деле спровоцировали самое авторитетное их подтверждение экспертами мирового класса. Они подтвердили реальность советских темпов экономического роста, и теперь можно считать, что под этим вопросом подведена черта. По самым строгим критериям науки истиной признается утверждение, для которого не было найдено опровержения. В данном случае так и было. Выходит, что советские данные о темпах экономического роста, в том числе его последнего двадцатилетия, следует считать окончательно установленными. Что касается двадцатилетия в рамках рыночного развития, то аналогичные экспериментальные данные говорят о спаде экономики и неспособности рынка в ее нынешнем виде к росту и модернизации.
Сказанное выше дает основание утверждать: несмотря на все пороки другого характера, советская плановая система была созидательной, а сложившаяся у нас рыночная система является разрушительной.
С. С. Дзарасов
Беглый взгляд на Советскую Россию
(из одноименной статьи Дж. Кейнса)
Что такое коммунистическая вера?
Чрезвычайно трудно судить о России с позиций здравого смысла. Но, даже будучи здравомыслящим, как составить верное впечатление о столь незнакомой, переменчивой и противоречивой стране, о которой в Англии ни у кого нет подобающих знаний и жизненного ответа? Ни одна английская газета не имеет постоянного корреспондента в России. Вполне естественно, что мы выражаем определенное доверие тому, что говорят советские власти о самих себе. Большинство новостей доходит до нас от предубежденных депутатов лейбористской партии либо от не менее предубежденных эмигрантов. Тем самым пелена тумана отделяет нас от другой части земного шара, где Союз Советских Социалистических Республик устанавливает свои порядки и законы, проводит эксперименты. Не один год Россия страдает от так называемой «пропаганды», которая, подорвав доверие к слову, в конечном счете почти разрушила средства коммуникации на всей их протяженности.
Ленинизм – странная комбинация двух вещей, которые европейцы на протяжении нескольких столетий помещают в разных уголках своей души, – религии и бизнеса. Подобный факт действует шокирующе, т. к. перед нами совершенно новый тип религии, делающей нас высокомерными, и потому что бизнес, подчиняющийся такой религии, вместо того чтобы развиваться по своим независимым законам, становится крайне неэффективным.
Подобно другим новым религиям ленинизм черпает свои силы не от большинства, а от меньшинства своих ревностных приверженцев, чьи усердие и нетерпимость делают каждого из них равным по силе сотне индифферентных. И опять же, как в религии, ведущая роль принадлежит тем, кто – в большей мере, нежели их последователи – сочетает в себе новый дух, возможно искренне, с устремленностью к благим деяниям.
Последователи – это всегда люди с четко выраженным, по крайней мере в своей массе, политическим цинизмом; люди, которые так же хорошо умеют показывать улыбки, как и скрывать неодобрение; беспринципные экспериментаторы, освобожденные своей верой от всяких обязательств перед истиной и состраданием, но считающиеся с фактами и выгодой, вовсе не чуждые лицемерию (обвинения в котором поверхностны и бесполезны, поскольку они касаются именно политиков – равно как мирских, так и церковных). Подобно другим типам новой религии ленинизм спешит избавить повседневную жизнь от ее колорита, нарядности и свободы, требуя от приверженцев единообразия и суровости. Как и иные новые религии, он несправедливо и безжалостно преследует тех, кто активно выступает против. Подобно другим новым религиям он неразборчив в средствах. Наравне с современными религиями ленинизм преисполнен миссионерским рвением и вселенскими притязаниями.
Но сказать, что ленинизм есть верование небольшого числа ведомых демагогией фанатиков, озабоченных лишь пропагандой и преследованием инакомыслящих, – значит сказать лишь то, что он действительно есть религия, а не просто партия, и что Ленин – это Магомет, а не Бисмарк. Если мы сожмемся от страха в наших капиталистических креслах, то увидим в коммунистах России всего лишь ранних христиан, ведомых Аттилой, который, прибегнув к святой инквизиции и институту иезуитской миссии, дословно реализует экономические требования Нового Завета. Но если мы предпочтем смотреть на все спокойно, то сможем ли мы тогда быть уверены, что экономические требования, столь несовместимые с природой человека, не удастся навязать ни с помощью проповедников, ни с помощью армии?
* * *
В связи с этим возникают три вопроса. Является ли новая религия хоть отчасти истинной или отвечающей духовным запросам современного человека? Способна ли она, что касается ее материального выражения, выжить и дальше? Сможет ли она с течением времени – при соответствующих смягчениях и добавлениях – вызвать симпатии у большинства людей?
Что касается ответа на первый вопрос, то те, кто в полной мере удовлетворены христианским либо эгоистическим капитализмом, вряд ли поддадутся на уловки, направленные на сокрытие ответа; им подходит любая религия или вообще никакая. Но даже многие из тех, кто живут в наше время без общения с религией, склонны поддаваться эмоциональному увлечению любой действительно новой религией, а не просто возобновлением старой, стремясь испытать ее мотивирующую силу. Тем более что эти новые вещи привносятся Россией – красивым и беззаботным младшим чадом европейского семейства. Родившись на два столетия позже, оно способно преодолеть разочарования прочих великовозрастных членов семейства еще до того, как оно потеряет свойственную юности гениальность или привычки к уюту и комфорту. Я симпатизирую тем, кто находит в Советской России нечто хорошее.
Но что можно сказать, взглянув на реальное состояние дел? Для меня, взращенного в атмосфере, не замутненной ужасами религии и страхом перед чем бы то ни было, Красная Россия наполнена многим таким, что вызывает неприятие. Комфорт и привычки предписывают нам воздерживаться от осуждений, но я не готов принять точку зрения, которая безразлична к нарушениям свободы и безопасности в повседневной жизни либо использует орудие преследований и разрушений и международных раздоров. Можно ли согласиться с политикой, которая заключается в трате миллионов на подкуп шпионов, засылаемых в каждую семью и каждую группу внутри страны, для разжигания волнений за границей? Может быть, это не самая худшая, а возможно, и более целесообразная политика по сравнению с жадными, воинственными и империалистскими устремлениями других правительств. Но в любом случае она должна быть намного лучше, чтобы изменить мои привычки. Как мне принять теорию, которую необходимо принимать как Библию – вне и выше всякой критики, – но которая похожа на устаревший учебник по экономике, не просто научно неправильный, но читаемый без всякого интереса и к современному миру неприменимый? Как я могу соглашаться с системой взглядов, которая, предпочтя водоросли рыбе, возвышает грубый пролетариат над буржуазией и интеллигенцией, которые, несмотря на свои недостатки, обеспечивают качество жизни и надежно охраняют достижения человеческой культуры? Если нам и нужна религия – сможем ли мы ее отыскать в туманном вздоре красной литературы? Образованному, скромному, интеллигентному сыну Западной Европы не очень просто найти здесь свои идеалы, не подвергшись при этом неприятной процедуре обращения в новую веру, которая непременно потребует изменения всей системы его ценностей.
И все же мы не уловим сущности новой религии, если ограничимся сказанным. Коммунист без колебаний заявит, что подобные вещи относятся не к его кредо, а к тактике Революции. Ибо он верит в две вещи: в устроение Нового Порядка на земле и в метод осуществления революции как единственно возможное для данной цели средство. Новый Порядок якобы не следует соизмерять ни с ужасами революции, ни с лишениями переходного периода. Революция должна стать самым ярким примером средства, оправдываемого целью. Поэтому солдат Революции должен убить в себе человеческую природу, стать беспринципным и жестоким, обрекая себя на жизнь вне радости и спокойствия – являя всем образец средства, а не цели.
В чем же тогда суть новой религии как предвестника Нового Порядка на земле? Наблюдая со стороны, я точно не знаю. Иногда глашатаи этой религии говорят так, как если бы такой Порядок был чисто материальным и техническим в том же самом смысле, что и порядок современного капитализма. Иными словами, коммунизму-де в конце концов просто следует быть более действенным техническим инструментом для достижения тех же материальных благ, которые присущи и капитализму; предполагается, что коммунизм освоит новые поля для больших урожаев и сможет более эффективно контролировать силы природы. В таком случае это вовсе не религия, а своеобразный блеф, облегчающий проведение изменений в обществе, для чего могут (или не могут) быть найдены адекватные экономические средства. Но я подозреваю, что фактически подобные разговоры всего лишь реакция на обвинения в экономической неэффективности, которые мы предъявляем, и что в сердцевине Русского Коммунизма таится нечто, в определенной степени касающееся всего человечества.
В каком-то смысле коммунизм просто следует некоторым уже известным религиям. Он доводит до экзальтации мещанина, делает его всемогущим. Ничего нового нет. Правда, существует еще один фактор, опять же не очень новый, но – в измененной форме и иной постановке – способный привнести нечто в подлинную религию будущего, если только таковая бывает. В ленинизме начисто отсутствует сверхъестественное начало; его эмоциональное и этическое ядро концентрируется вокруг индивидуальных и общественных установок в отношении Любви к Деньгам.
* * *
Я не считаю, что Русский Коммунизм изменяет или стремится изменить природу человека, что он делает евреев менее жадными, а русских менее экстравагантными, чем они были. Я даже не предполагаю, что он устанавливает новый идеал. Мне кажется, что он пытается создать в обществе такие условия, при которых денежные мотивы как стимулирующий фактор приобрели бы для индивида относительное значение, в то же время социальные привилегии распределялись бы как-то иначе, а поведение, считавшееся раньше нормальным и респектабельным, перестало быть таковым.
В сегодняшней Англии талантливый юноша, вступающий в жизнь и вынужденный выбирать род занятий, балансирует между выгодами гражданской службы и поиском своей удачи в среде бизнеса. И если он предпочтет второе, то о нем не будут думать хуже. Как таковое «делание денег», причем как можно в больших размерах, – занятие в социальном смысле не менее респектабельное, а может даже и более, нежели посвящение своей жизни служению Государству или Религии, Образованию, Воспитанию или Искусству. Но в будущей России, видимо, карьера «делающего деньги» человека просто невозможна как доступная в силу своей открытости для респектабельного человека сфера деятельности, как и карьера вора-взломщика либо стремление научиться подлогам и хищениям. Даже такие желаемые в нашем обществе особенности любви к деньгам, как бережливость и экономность, стремление к финансовой безопасности и независимости (своей или семейной), были бы трудны и неосуществимы там, где считается, что на это не стоит тратить времени. Каждый должен работать на общество – гласит новое кредо – и, если он действительно выполняет свой долг, общество его всегда поддержит.
Подобная система не ставит целью понижать доходы, уравнивая их, по крайней мере на нынешней стадии. Толковый и удачливый человек в Советской России имеет более высокие доходы и живет благополучнее, нежели все другие люди. Комиссар, получающий 5 фунтов стерлингов в неделю (плюс разные бесплатные услуги, автомобиль, квартира, ложа в театре и т. д.), живет достаточно хорошо, но совсем не так, как живет состоятельный человек в Лондоне. Преуспевающий профессор или служащий, получающий 6 или 7 фунтов стерлингов в неделю (минус различные налоги), вероятно, имеет реальные доходы раза в три больше, чем низкооплачиваемый рабочий, и в шесть раз больше, чем беднейшие крестьяне. Хотя некоторые крестьяне в три-четыре раза богаче многих других. Человек, потерявший работу, получает далеко не полную часть зарплаты. Но в России не в состоянии позволить себе при таких доходах что-либо отложить на стоящую вещь, причина тому – высокие цены и неэластичное прогрессирующее налогообложение; достаточно трудна и повседневная жизнь. Прогрессирующее налогообложение, способы оценки арендной платы и прочие обязанности по своему характеру таковы, что они ставят в невыгодное положение прежде всего тех, чьи доходы превышают 8 или 10 фунтов стерлингов в неделю. И, кажется, нет уже иного выхода, других возможностей заработать деньги, кроме тех, что связаны со специфическим риском, сопровождающим обычное взяточничество и хищения. Таковые в России не исчезли и не стали реже, хотя всякий, кто побуждается к этому порочной расточительностью или инстинктом жадности, подвержен серьезной опасности разоблачения и наказания, включая смертную казнь.
* * *
И все-таки на нынешнем этапе невозможно создать эффективный механизм, который был бы в состоянии запретить куплю и продажу ради прибыли. Политически подобные занятия не запрещены, но они считаются опасными и постыдными. Частные торговцы – своеобразные отверженные, санкционированные законом, сродни евреям в средние века – без привилегий и защиты; для тех, у кого преобладают склонности к торговле, создана отдушина, которую нельзя оценивать в качестве естественного и одобряемого занятия, достойного нормального человека.
Я думаю, что в результате такого рода социальных метаморфоз может измениться отношение индивида к деньгам. Вероятнее всего, подобные изменения еще серьезнее скажутся на будущих поколениях, которые вырастут, не зная ничего другого. Народ в России, если это связано только с его бедностью, весьма жаден на деньги, по крайней мере он столь же жаден, как и все остальные народы. Но умение «делать деньги» и хранить их не входит в жизненные ценности рационального индивида, приемлющего советские законы, не входит так, как это принято у нас. Но общество, где такое хотя бы отчасти справедливо, – опасное нововведение.
Теперь подобное кажется утопичным или деструктивным по отношению к подлинному благосостоянию, хотя, вероятно, не столь нереальным, если ревностно следовать религиозному духу; в последнем случае утопией была бы постановка прозаических целей. И можно ли самодовольно утверждать, как считает большинство из нас, что это-де неискренне или безнравственно?
Экономика Советской России
Мы не поймем ленинизма до тех пор, пока не увидим, что он – нетерпимая к инакомыслящим миссионерская религия и одновременно – экспериментальная экономическая техника. Отсюда следующий вопрос: является ли подобная техника столь неэффективной, что способна накликать лишь несчастья?
Экономическая система Советской России подвергалась и подвергается таким ускоренным изменениям, что получить точный и взвешенный ответ на поставленный вопрос невозможно. Без особого риска здесь применим лишь метод проб и ошибок. Трудно найти более искреннего экспериментатора, чем Ленин, во всем, что не касается основ его мировоззрения. Поначалу было много неясности в отношении того, что считать существенным, а что нет. Например, доктрина, утверждавшая, что деньги должны быть устранены, сегодня считается ошибочной; признается, что в использовании денег как инструмента распределения и учета нет ничего несовместимого с коммунизмом. Правительство склоняется к точке зрения, что сегодня разумнее сочетать политику ограниченной терпимости с периодическим прочесыванием и выдворением, во-первых, старой интеллигенции, которая по-прежнему привержена своей родине, во-вторых, частных торговцев и даже иностранных капиталистов, не пытаясь в то же время сокрушить их окончательно. Предполагая, с одной стороны, осуществлять полный контроль над системой образования и воспитания подрастающего поколения, а с другой – постепенно улучшать технику государственной торговли и повышать государственные капиталы, правительство надеется в будущем избавиться от этих «языческих» союзников. Так, почти все представители некоммунистической интеллигенции с довоенным образованием находятся сейчас на правительственной службе, часто занимая важные и ответственные посты с довольно высоким жалованьем; частная торговля вновь узаконена, хотя она непрочна и ее деятельность затруднена; иностранные капиталисты, которым предоставляются краткосрочные преимущества по сравнению с государственным импортом, могут, на мой взгляд, рассчитывать с определенной степенью уверенности, что деньги будут возвращены по приемлемому курсу. Однако неустойчивый характер подобных мероприятий не позволяет делать общие выводы относительно Советской России. Ведь почти каждый может сказать о конкретной стране и истину, и ложь одновременно – в этом причина того, что дружески, равно как и враждебно, настроенный критик с самыми добрыми намерениями излагает совершенно противоположные суждения об одних и тех же вещах.
Не меньшие трудности в оценке степени эффективности экономической системы связаны с тяжелыми материальными условиями, унаследованными от прошлых лет. Они могли бы жестоко потрясти экономику любой страны. За материальными потерями и дезорганизацией «великой войны» последовали гражданские войны, отлучение от остального мира, несколько лет плохого урожая, что отчасти явилось результатом никудышной организации, а отчасти – неблагоприятного стечения обстоятельств. Тем не менее советские экспериментаторы, думается, не без оснований утверждают, что по меньшей мере после пяти лет мира и хорошей погоды можно будет говорить о конечных результатах.
* * *
Если же попытаться делать обобщение исходя из нынешнего положения вещей, то оно сведется к следующему: даже при низком уровне эффективности система все же функционирует устойчиво. Я пришел к подобной оценке, основываясь на некоторых фактах. Сегодняшняя Россия – страна со 140-миллионным населением, шесть седьмых которого заняты в сельском хозяйстве и живут в деревнях, а одна седьмая – горожане, работающие в промышленности. Городское и промышленное население, которое, как видится стороннему наблюдателю, не обеспечивает само себя, живет, надо сказать, по более высоким стандартам, чем это позволяет производительность их труда. Избыточные расходы города покрываются за счет эксплуатации крестьянства, допустимой только потому, что горожане составляют численное меньшинство населения страны. Тем самым коммунистическое правительство способно задобрить (говоря условно) пролетариат, о котором оно проявляет особую заботу, эксплуатируя крестьянство. В то же время крестьяне, несмотря на подобную эксплуатацию, вовсе не желают менять правительство, давшее им землю. Устанавливается определенное равновесие как в экономической, так и в политической сфере, что развязывает руки советскому правительству в его попытке осуществить серьезную экономическую реорганизацию.
Официальные методы эксплуатации крестьян заключаются не столько в налогообложении, хотя налоги на землю составляют важную часть бюджетных поступлений, сколько в политике цен. Монополия над импортом и экспортом, фактический контроль над промышленной продукцией позволяют властям поддерживать цены на уровне, крайне неблагоприятном для крестьянства. У него закупают зерно по ценам, гораздо более низким по сравнению с мировыми, а продают крестьянам текстиль и другие промышленные товары по заметно более высоким ценам; разница между ними составляет фонд, из которого можно обеспечить сверхвысокие цены, равно как и покрыть общие издержки неэффективного производства и распределения. Монополия на внешнюю и внутреннюю торговлю, позволяя удерживать разрыв между уровнями цен на внешнем и внутреннем рынках, может использоваться таким образом, чтобы поддерживать паритет в обмене на иностранную валюту вопреки падению покупательной силы денег. Реальная ценность рубля внутри России, по общему признанию, намного ниже его международной стоимости, измеряемой валютным курсом.
Подобный механизм, эффективный в краткосрочной перспективе и, видимо, неизбежный в дальнейшем, порождает два фактора, гибельные своей неэффективностью. Низкие цены на сельскохозяйственную продукцию по сравнению с промышленной – серьезный ограничитель ее продуктивности, а ведь она составляет реальное богатство страны. Чрезвычайно важно для Советского правительства занять твердые финансовые позиции, оказаться в состоянии оплатить более реалистичные цены крестьянской продукции, что, конечно же, послужит стимулом повышения производительности сельского труда.
* * *
В то же время задабривание городских пролетариев, реальные доходы которых почти вдвое выше, чем у крестьян, и, как говорят, во всех отношениях достигли 80 % довоенного уровня, делает жизнь в городе куда притягательнее деревенской. Стимулы для миграции из деревни в город намного превышают возможности промышленности – с ее расстроенным оборудованием и дефицитом оборотного капитала – принять рабочее пополнение. И ничто не смогло бы остановить миграцию, если бы не трудности с жильем и ограниченные возможности трудоустройства в городах. Крестьянин, прибывающий в Москву, уведомляется уже на вокзале, что он не сможет найти ни работы, ни жилья. Однако подобные препятствия возымеют действие лишь после того, как города станут перенаселенными и безработица достигнет невиданного уровня. За два года она ужесточилась и возросла: не заняты, по моим расчетам, от 20 до 25 % всех промышленных рабочих России, т. е. 1,5 млн человек из общего числа 6 млн. Далеко не все получают от своих предприятий пособие по безработице; оно составляет около трети их обычной зарплаты и приближается к трудовым доходам беднейших слоев крестьянства. В результате постоянно растущая армия безработных ложится тяжким бременем на финансовые ресурсы государства. Все это побуждает усваивать уроки буржуазной экономики, в равной степени применимые и к коммунистическому государству, а именно: спад производства отрицательно сказывается на уровне относительных цен или на нормальном уровне относительной зарплаты, в результате чего одни профессии и сферы деятельности становятся чрезвычайно притягательными, а другие – нет. Но подобные факты учат нас еще и тому, что одни и те же неурядицы могут возникать в совершенно различных условиях и зависеть от самых разных причин. Поэтому русская проблема недействующего механизма относительных цен и относительной зарплаты отчасти присуща и нам.
Таким образом, реальные доходы русских крестьян составляют чуть более половины того, какими они должны быть. Одновременно с тем русский промышленный рабочий страдает от перенаселенности и безработицы, как никогда прежде. И все же нет сомнений в существовании определенных признаков политической и экономической стабильности. Советское государство не настолько неэффективно, чтобы не могло иметь возможности выжить. Оно прошло через более тяжелые времена по сравнению с нынешними. Оно создало организацию, охватывающую всю сферу активной экономической жизни, но и неэффективную с точки зрения нормальных стандартов, хотя способную преодолеть хаос и разруху. Оно задает стандарты жизни, но более низкие, чем наши, правда защищающие от голода и смерти, обеспечивающие даже некоторый комфорт. Можно согласиться с тем, что в последний год наблюдаются значительные изменения. Собран относительно неплохой урожай. Условия жизни явно улучшились. Кое-что из грандиозных планов нового режима начинает приобретать видимые очертания. Ленинград скоро получит энергию и свет от одной из крупнейших в мире электростанций. Создаются хорошо оборудованные сортосеменные участки, которые будут снабжать крестьян лучшими семенами гибридных сортов.
* * *
После долгих дебатов с Зиновьевым два «железнобоких» коммуниста, сопровождавших его, заявили мне с полным фанатической веры взором: «Мы предсказываем вам, – заявили они, – что через десять лет уровень жизни в России будет выше довоенного, а в остальной Европе – ниже». Если принять во внимание естественные богатства России и неэффективность старого режима, равно как и проблемы Западной Европы и нашу неспособность справиться с ними, то можем ли мы быть уверены, что эти товарищи так уж неправы?
Способность коммунизма к выживанию
Мой третий вопрос все еще остается без ответа. Сможет ли коммунизм с течением времени – при соответствующих смягчениях и изменениях – завоевать большинство людей?
Я не могу дать ответа на то, что покажет лишь время. Но я могу с уверенностью заключить, что если коммунизм достигнет определенного успеха, то произойдет это не за счет экономических усовершенствований, а за счет религии. Присущий нам критицизм ведет к двум противоположным ошибкам. Мы настолько ненавидим коммунизм, рассматривая его как религию, что преувеличиваем его экономическую неэффективность. В то же время нас в такой степени впечатляет его экономическая неэффективность, что мы недооцениваем его как религию.
Будучи экономистом, я не могу допустить, что русский коммунизм сделает какой-либо вклад, имеющий интеллектуальную или научную ценность, в решение наших собственных экономических проблем. Я не думаю, что он подразумевает или может подразумевать хоть какую-нибудь полезную экономическую процедуру, которую следует применять – если, конечно, мы ее выберем – с равным или большим успехом в обществе, несущем все признаки не то чтобы индивидуалистического капитализма XIX века, но скорее британских буржуазных идеалов. По крайней мере, оставаясь на почве теории, я не убежден в возможности любого экономического улучшения, для которого необходимым средством служила бы революция. В то же время мы можем потерять все, избрав методы насильственного изменения. В условиях промышленного Запада тактика Красной Революции ввергла бы население в крайнюю бедность и смерть.
Но в чем сила коммунизма как религии? Думается, она значительна. Возвеличивание обыкновенного человека – догма, действовавшая подкупающе на миллионы людей еще задолго до нас. Любая религия и любые узы, объединяющие единоверцев, имеют превосходство над эгоистической раздробленностью неверующих. Что касается современного капитализма, то он абсолютно нерелигиозен. Он не имеет внутреннего единства, как и сильного общественного духа; чаще всего – хотя и не всегда – это просто масса людей, имеющих собственность и алчущих ее. Подобная система, чтобы выжить, должна развиваться не умеренно, а по нарастающей. В XIX веке капитализм в некотором смысле носил идеалистический характер, по крайней мере представлял единую и самодостаточную систему. Он являл собой не просто весьма успешный бизнес, но оправдывал наши надежды на ускоренное и постоянное улучшение экономического благосостояния. Ныне за ним наблюдаются очень скромные успехи. Если нерелигиозный капитализм стремится окончательно победить религиозный коммунизм, недостаточно экономически быть более эффективным; надо быть эффективнее во много раз.
Мы склонны были верить, что современный капитализм в состоянии не только поддерживать существующий уровень жизни, но и постепенно вести нас к экономическому раю, где мы были бы относительно свободны от хозяйских забот. Сегодня мы сомневаемся в способности бизнесменов привести нас к чему-то лучшему, чем наше нынешнее состояние. Если смотреть на них как всего лишь на средство, они вполне приемлемы; но в качестве цели они не так удовлетворительны. Отсюда и сомнение: хватит ли тех материальных преимуществ, которые проистекают из того факта, что бизнес и религия разведены у нас по разным уголкам души, для уравновешивания моральных потерь. Протестантам и пуританам удавалось отделять одно от другого совершенно безболезненно, поскольку деловая активность относилась к сфере земного, а религиозная – небесного, которое существует где-нибудь в другом месте. Сторонник прогресса тоже способен на это, ибо считает первое средством установления небесного рая на земле. Но есть и третье состояние ума, при котором мы ни целиком, ни полностью не верим ни в небесный рай, существующий где-то во вселенной, ни в прогресс как надежное средство построения небесного рая конкретно здесь, на земле. Если небесное не где-то еще и не в отдаленном будущем, оно должно быть здесь и теперь либо не быть вовсе. Когда экономическому прогрессу не ставятся моральные ограничения, это означает, что ни на минуту мы не должны жертвовать моральными ценностями ради материальных благ. Иными словами, мы не можем больше разводить бизнес и религию по разным уголкам своей души. Лишь в той степени, в какой человек заблуждается по этому поводу, он готов искать нечто подобное в природе коммунизма, устремляясь от его наружного образа, описываемого нашей прессой.
* * *
По крайней мере для меня с каждым днем становится ясно, что моральные проблемы нашего времени сосредоточиваются вокруг любви к деньгам, если учесть, что в девяти случаях из каждых десяти мы непременно обращаемся к денежным мотивам, когда речь идет о наших повседневных делах; если учесть присущее всем людям стремление к индивидуальной экономической безопасности – предмету наших главных вожделений; если учесть, что деньги получили у нас всеобщее одобрение как мера подлинного успеха, что фундаментом семейного благополучия и будущего благосостояния выступает скрытый в нас инстинкт к накопительству. Моральный авторитет религий, которые вызывают все меньше и меньше интереса у большинства людей, постепенно снижается, хотя они постоянно предлагают современные трактовки церемоний и обрядов в отличие от своих предшественников, не заботившихся об этой стороне религиозной жизни. Революция с точки зрения нашего стиля мышления и отношения к деньгам вполне способна ответить на растущие ожидания современников, жаждущих идеала. Вероятно, поэтому Русский Коммунизм представляет собой первый, хотя и очень запутанный вариант великой религии.
Те, кто приезжают в Россию и стремятся без предубеждений проникнуть в ее атмосферу, я думаю, не могли не заметить двух настроений – угнетенности и приподнятости. Сэр Мартин Конвей в правдивой и искренней книге «Хранение сокровищ искусства в Советской России» так описывал свой отъезд из страны: «После длительных остановок поезд приблизился на полмили к финской границе, где паспорта, визы и багаж проверяли еще раз, уже менее дотошно. Станция представляла новое строение, весьма приятное место, одновременно простое, чистое и удобное, отличающееся вполне учтивым обслуживанием. В опрятном буфете подавалась простая, но хорошо приготовленная пища с истинным радушием.
Казалось бы, неблагодарно говорить таким образом после той доброжелательности, которую я встретил в России, но, положа руку на сердце, должен признаться: на первой станции в Финляндии я испытал такое чувство, будто освободился от тяжкого бремени, давившего на меня. Я не могу точно объяснить, в чем именно оно выражалось. Я не ощущал его сразу же по прибытии в Россию, но с каждым днем оно медленно накоплялось. Чувство свободы постепенно испарялось. Хотя каждый может испытывать присутствие какого-то давления – не на себе лично – во всем окружении. Никогда еще я не чувствовал себя в такой степени чужим в чужой стране; день за днем то, что первоначально смутно ощущалось, приобретало все более отчетливые формы, конденсируясь в гипертрофированное чувство подавленности. Я мог представить, что и в царской России кто-то способен был испытывать подобное. Американцы гордятся тем, что они называют «воздухом свободы», считая его принадлежностью своей страны. Они ощущают его, как и все те, кто проживают в англоговорящих регионах. Моральная атмосфера России составлена совсем из других компонентов.
Та часть Финляндии, через которую провозил нас поезд, по своим природным характеристикам не отличалась от приграничных стран, но мы ощутили себя так, будто получили «небольшое приятное наследство» со знаком комфорта и даже преуспеяния…»
Настроение при оказываемом на тебя давлении, пожалуй, нельзя передать лучше. Несомненно, оно отчасти результат Красной Революции. Очень много в России такого, что заставляет всякого молиться: избави, Боже, мою страну от того, чтобы своих целей она добивалась подобной ценой. Но вполне возможно, описанное настроение отчасти свидетельство присутствия в русской натуре какого-то звериного начала, а может быть, не только русской, но, скажем, и еврейской тоже, когда обе они, как сейчас, соединены в неразрывном союзе. Наконец, нельзя исключить, что в такой форме нашли свое выражение величественная старательность и особая серьезность Красной России, которые представляют лишь другую сторону Духа приподнятости. Трудно найти человека более серьезного, чем русский во время Революции, серьезного даже в минуты веселья и беззаботности – настолько серьезного, что он способен забыть о будущем, а иногда и о настоящем. Иногда эта серьезность крайне груба, бестолкова и скучна. Средний коммунист бесцветен, как и приверженец методистской церкви, независимо от своего возраста. Напряженность тутошней атмосферы такова, что в ней трудно находиться, поэтому возникает сильное желание возвратиться к фривольной легкости Лондона.
И все же приподнятость, если ею проникнуться, – большое дело. Временами ощущается, что именно здесь – несмотря на бедность, глупость и притеснения – Лаборатория Жизни. Именно здесь различные химические элементы связываются в новые комбинации, здесь же они издают неприятный запах и даже взрываются. Но кое-что в случае удачного исхода может и состояться. Более того, подобный исход всего проистекающего в России значимее того, что происходит (как нам говорят) в Соединенных Штатах Америки.
* * *
Я думаю, вполне разумно побаиваться России, уподобившись джентльмену, который пишет в «Тайме». Но, если Россия собирается быть значительной силой во внешнем мире, она не должна полагаться на деньги мистера Зиновьева; Россия никогда не будет представлять для нас серьезного интереса, если она не станет моральной силой. И сегодня, когда дело сделано и ничего не возвратить, я хочу дать России шанс – помочь ей, а не препятствовать. Ибо насколько значимым было бы для меня, даже после всего случившегося, будь я русским, вносить свой вклад в советскую, а не в царскую Россию! Конечно, я не смог бы подписаться под новыми официальными догмами с большей охотой, чем под старыми. Я испытывал бы не меньшее отвращение к деяниям новых тиранов, чем старых.
Но я чувствовал бы, что мои глаза обращены вперед, на то, что еще только может случиться, а не назад; что из грубости и глупости старой России ничего не может выйти, но что под грубостью и глупостью новой России могут таиться крупицы идеала.
1925 г.
Должно ли государство вмешиваться в экономику
(из книги Д. М. Кейнса «Общая теория занятости, процента и денег»)
Спрос и предложение
Со времен Сэя и Рикардо экономисты-классики учили: предложение само порождает спрос; при этом они подразумевали весьма важное, хотя и не слишком четко определенное положение, что вся стоимость продукции должна быть израсходована прямо или косвенно на покупку продуктов. Эта доктрина ясно выражена в «Началах политической экономии» Дж. Ст. Милля:
«То, что образует собою средства платежа за товары, – это сами товары. Средства каждого лица для оплаты продукции других состоят из тех товаров, которыми оно владеет. Все продавцы неизбежно – и само слово «продавец» это подразумевает – являются покупателями. Если бы внезапно могли удвоить производительные силы страны, то мы удвоили бы предложение товаров на каждом рынке, и тем самым мы одновременно удвоили бы и покупательную силу. Каждый в такой же мере выступил бы с удвоенным спросом, как и с удвоенным предложением, каждый был бы способен купить вдвое больше, потому что каждый мог бы предложить вдвое больше в обмен».
В конечном счете из этой же доктрины делался вывод: всякий индивидуальный акт воздержания от потребления равнозначен тому, что труд и материальные средства, высвобождаемые из сферы потребления, направляются на производство капитальных благ.
Следующий отрывок из книги Маршалла «Чистая теория национальных стоимостей» весьма точно иллюстрирует традиционный подход к этому вопросу:
«Весь доход человека расходуется на покупку услуг и товаров. При этом обычно говорят, что человек известную долю своего дохода тратит, а другую долю сберегает. Общеизвестная экономическая аксиома состоит, однако, в том, что человек покупает труд и товары на ту долю своего дохода, которую он сберегает, точно так же, как и на ту долю, про которую говорят, что он ее расходует. О человеке говорят, что он расходует, когда хочет получить немедленное удовлетворение от услуг и товаров, которые он покупает. О нем говорят, что он сберегает, когда его действия ведут к тому, что покупаемые им труд и товары обращаются на производство богатства, которое, как ожидается, послужит ему источником удовлетворения различных нужд в будущем».
Современная мысль еще глубже увязла в представлении, из которого следует, что если люди не расходуют свои деньги каким-либо одним образом, то они расходуют их иначе. Послевоенным экономистам редко, правда, удавалось последовательно выдерживать эту точку зрения. Их образ мышления пытается учитывать новые тенденции развития хозяйства, явно не совместимые с прежними теоретическими воззрениями. Однако эти экономисты не сделали достаточно далеко идущих выводов и не пересмотрели основ своей теории.
Прежде всего, следует отметить, что положения классической теории могли быть применены к тому типу экономики, в котором мы действительно живем, лишь благодаря ложной аналогии с некоторого рода безобменной экономикой Робинзона Крузо, где доход, потребляемый или сберегаемый индивидуумами, представляет собой исключительно продукцию этой деятельности. Кроме того, вывод, что издержки производства всегда покрываются выручкой от продажи, выглядит весьма правдоподобно; его трудно отличить от действительно правильного положения, согласно которому доход, получаемый в целом всеми участниками общественной производительной деятельности, всегда имеет величину, как раз равную ценности продукции.
По аналогии предполагается, что действия индивидуума, посредством которых он обогащает себя, не беря как будто бы ничего у кого-либо другого, должны обогатить также и общество в целом; получается поэтому (как в только что приведенной цитате из Маршалла), что акт индивидуального сбережения неизбежно ведет к параллельному акту инвестирования. Ведь действительно не подлежит никакому сомнению, что сумма чистых приращений богатства индивидуумов должна быть в точности равной общему чистому приращению богатства общества.
И все-таки те, кто так думает, ошибаются; они пошли на поводу у иллюзии, заставляющей принимать за одно и то же два существенно различных вида деятельности. Суть ошибки – в предположении, будто есть необходимая связь между решением воздержаться от текущего потребления и решением позаботиться о будущем потреблении. В действительности же мотивы, которые определяют последнее, не связаны непосредственно с мотивами, определяющими первое.
Постулат о равенстве цены спроса и цены предложения всей произведенной продукции следует рассматривать как «аксиому параллельных линий» классической теории. Из нее следуют и все остальные положения – социальные преимущества частной и национальной бережливости, традиционное отношение к норме процента, теории безработицы, количественная теория денег, безоговорочные преимущества laissez-faire в области внешней торговли и многое другое, что нам придется поставить под вопрос.
* * *
Идея, будто мы можем спокойно пренебречь функцией совокупного спроса, представляет принципиальную черту рикардианской теории, лежащей в основе того, чему нас учили на протяжении более чем ста лет. Мальтус, правда, страстно возражал против доктрины Рикардо о невозможности недостатка эффективного спроса, однако тщетно. Мальтус не сумел четко объяснить, как и почему эффективный спрос может быть недостаточным или избыточным. Он только ссылался на факты, правда общеизвестные, и не разработал собственной теории. Рикардо покорил Англию столь же полно, как святая инквизиция покорила Испанию. Не только его теория была принята Сити, государственными деятелями и Академическим миром, но даже самый спор прекратился. Альтернативная точка зрения совершенно исчезла, и ее просто перестали обсуждать. Великая загадка эффективного спроса, за решение которой столь рьяно взялся было Мальтус, улетучилась из экономической литературы. Вы ни разу не найдете упоминания о ней во всех сочинениях Маршалла, Эджуорта и проф. Пигу – авторов, которым классическая теория обязана своим наиболее зрелым воплощением. Она могла жить лишь украдкой, в подполье, на задворках у Карла Маркса, Сильвио Гезеля или майора Дугласа.
Полнота победы рикардианской теории – явление весьма любопытное и даже загадочное. Связано это с тем, что теория Рикардо во многих отношениях весьма подошла той среде, к которой она была обращена. Она приводила к заключениям, совершенно неожиданным для неподготовленного человека, что, как я полагаю, только увеличивало ее интеллектуальный престиж. Рикардианское учение, переложенное на язык практики, вело к суровым и часто неприятным выводам, что придавало ему оттенок добродетели. Способность служить фундаментом для обширной и логически последовательной надстройки придавала ему красоту. Властям импонировало, что это учение объясняло многие проявления социальной несправедливости и очевидной жестокости как неизбежные издержки прогресса, а попытки изменить такое положение выставляло как действия, которые могут в целом принести больше зла, чем пользы. То, что оно оправдывало в определенной мере свободную деятельность индивидуальных капиталистов, обеспечивало ему поддержку господствующей социальной силы, стоящей за власть предержащими.
Однако, хотя сама доктрина в глазах ортодоксальных экономистов не подвергалась до последнего времени ни малейшему сомнению, ее явная непригодность для целей научных прогнозов значительно подорвала с течением времени престиж ее адептов. Профессиональные экономисты после Мальтуса оставались явно равнодушными к несоответствию между их теоретическими выводами и наблюдаемыми фактами. Это противоречие не могло ускользнуть от рядового человека; неслучайно он стал относиться к экономистам с меньшим уважением, чем к представителям тех научных дисциплин, у которых теоретические выводы согласуются с данными опыта.
Корни прославленного оптимизма традиционной экономической теории, приведшего к тому, что экономисты стали выступать в роли Кандидов, которые, удалившись из мира для обработки своих садов, учат, что все к лучшему в этом лучшем из миров, лишь бы предоставить его самому себе, лежат, на мой взгляд, в недооценке значения тех препятствий для процветания, которые создаются недостаточностью эффективного спроса. В обществе, которое функционировало бы в соответствии с постулатами классической теории, действительно была бы налицо естественная тенденция к оптимальному использованию ресурсов. Весьма возможно, что классическая теория представляет собой картину того, как мы хотели бы, чтобы общество функционировало. Но предполагать, что оно и в самом деле так функционирует, – значит оставлять без внимания действительные трудности.
* * *
Тот факт, что единицы измерения, которыми обычно пользуются экономисты, неудовлетворительны, можно проиллюстрировать на примерах концепции национального дохода, запаса реального капитала и общего уровня цен.
1. Национальный доход в соответствии с определением Маршалла и проф. Пигу измеряет объем текущего производства, или реальный доход, а не ценность продукции, или денежный доход. Далее, в известном смысле он зависит от размеров чистой продукции, так сказать, от чистой прибавки к ресурсам общества, которыми оно располагает для потребления или для сохранения в качестве накапливаемого запаса капитала, – прибавки, созданной текущей хозяйственной деятельностью и воздержанием на протяжении текущего периода за вычетом потребления реального капитала, существовавшего в начале периода. На этой основе предпринимается попытка возвести здание количественного анализа. Но такое определение может встретить следующее серьезное возражение: совокупный объем производимых обществом товаров и услуг представляет собой разнородный комплекс, который, строго говоря, не может быть измерен, за исключением некоторых специальных случаев, когда, например, все элементы одного набора производимых товаров и услуг содержатся в той же пропорции в другом наборе товаров и услуг.
2. Трудности еще более возрастают, когда при исчислении чистой продукции мы пытаемся измерить чистое прибавление к капитальному оборудованию. Для этого мы должны найти основу для количественного соизмерения новых элементов оборудования, произведенных в течение данного периода, со старыми, вышедшими из строя вследствие износа. Для того чтобы исчислить чистый национальный доход, проф. Пигу вычитает такое потребление капитального оборудования, «которое с достаточным основанием можно считать «нормальным», а практический критерий нормальности – это износ настолько регулярный, чтобы его можно было предвидеть если не в деталях, то по крайней мере в целом». Но поскольку вычитаемая величина не выражается в деньгах, проф. Пигу вынужден допустить возможность изменений в капитальном оборудовании, измеряемых в натуральном выражении (хотя такие изменения в действительности не имеют места); иначе говоря, он вводит в завуалированном виде изменения в стоимости. Более того, он не может также придумать удовлетворительной формулы, с помощью которой можно было бы сопоставлять новое оборудование со старым в тех случаях, когда вследствие изменений в технике они отличаются друг от друга. Я полагаю, что понятие, которое хотел бы сформулировать проф. Пигу, имеет смысл и необходимо для экономического анализа. Но, пока не будет принята удовлетворительная система измерений, точное определение этого понятия – задача неосуществимая. Сравнение одного физического объема продукции с другим и последующее исчисление чистой продукции путем вычитания из новых видов оборудования изношенных старых видов оборудования представляет собой головоломку, о которой можно с уверенностью утверждать, что она не поддается решению.
3. Хорошо известный, но неизбежный элемент нечеткости, заведомо содержащийся в понятии общего уровня цен, делает самый этот термин совершенно неудовлетворительным с точки зрения анализа причинно-следственных связей – анализа, который должен быть точным.
Но все эти трудности недаром квалифицируются здесь как «Головоломки». Они являются «чисто теоретическими» в том смысле, что никогда не мешают деловым решениям и даже не принимаются в расчет при таких решениях. Они не имеют никакого отношения к причинной последовательности экономических явлений; последние достаточно определенны и недвусмысленны вопреки количественной неопределенности названных понятий. Естественно поэтому заключить, что понятия эти не только недостаточно точны, но и не так уж необходимы. Между тем в ходе количественного анализа нам, понятно, не следует использовать каких-либо нечетких с количественной точки зрения выражений. В самом деле, при первой же попытке становится ясно (и я надеюсь это показать), что гораздо лучше обойтись без таких выражений.
Тот факт, что два несоизмеримых между собой набора различных предметов сами по себе не могут служить объектом количественного анализа, не мешает, конечно, нам пользоваться приблизительными статистическими сопоставлениями; но мы прибегаем к ним не для точного подсчета, а для того, чтобы составить некоторые более общие суждения. В известных пределах подобные сопоставления могут иметь реальный смысл и практическое значение. И все же если речь идет о таких понятиях, как физический объем чистой продукции и общий уровень цен, то надлежащее место для их использования – это сфера исторического и статистического описания. Указанные понятия следовало бы употреблять с целью удовлетворения исторической или социальной любознательности; в таких случаях обычно прибегают к приблизительным суждениям, да здесь и не нужна та абсолютная точность, какой требует причинный анализ (независимо от того, насколько полно мы знаем действительные значения интересующих нас величин и насколько верно мы можем определить эти значения). Утверждение о том, что чистая продукция теперь больше, а уровень цен ниже, чем десять лет назад или, допустим, год назад, носит такой же характер, как и утверждение, согласно которому королева Виктория была лучшей королевой, но не более счастливой женщиной, чем королева Елизавета, – суждение, не лишенное известного смысла и интереса, но не пригодное для применения дифференциального исчисления. Наши претензии на точность будут смехотворными, если мы будем пытаться использовать такие не вполне четкие, «неколичественные» понятия в качестве основы количественного анализа.
Сбережение и инвестирование
Сталкиваясь с терминологическим столпотворением, приятно найти хотя бы одну твердую точку опоры. Нисколько я могу судить, все согласятся с тем, что сбережение представляет собой превышение дохода над потребительскими расходами. Равенство между величиной сбережений и размерами инвестиций вытекает из двустороннего характера сделок между производителем с одной стороны и потребителем или покупателем капитального имущества – с другой. Доход представляет собой превышение выручки, которую предприниматель получает за продаваемую им продукцию, над издержками использования; но ведь вся эта продукция, очевидно, должна быть продана либо потребителям, либо другим производителям, а текущие инвестиции каждого предпринимателя равны разности между ценностью оборудования, которое он купил у других предпринимателей, и его собственными издержками использования. Отсюда следует, что совокупное превышение дохода над потреблением, которое мы называем сбережениями, не может отличаться от увеличения ценности капитального имущества, которое мы называем инвестициями. Подобным образом обстоит дело и с соотношением между чистыми сбережениями и чистыми инвестициями. Ведь сбережения – это, по существу, просто остаток дохода, после того как осуществлены расходы на потребление. Решение потреблять и решение инвестировать совместно определяют величину дохода. Если мы исходим из того, что решение об инвестировании удалось претворить в жизнь, это предполагает либо сокращение потребления, либо расширение дохода. Таким образом, сам процесс инвестирования как таковой всегда означает, что остаток, или разность, который мы называем сбережением, также обнаруживает увеличение на соответствующую сумму.
Можно, конечно, представить участников экономического процесса настолько заинтересованными в их решении сберечь и, соответственно, инвестировать именно такую сумму, что это помешает установлению равновесных цен, при которых могут состояться сделки. В этом случае наши определения оказались бы неприменимыми, так как продукция не имела бы определенной рыночной ценности и цены безостановочно меняли бы свою величину в интервале от нуля до бесконечности. Опыт свидетельствует, однако, о том, что с подобной ситуацией фактически не приходится сталкиваться и что обычно обнаруживающиеся психологические реакции участников экономического процесса позволяют достичь точки равновесия, в которой готовность покупать оказывается в соответствии с готовностью продавать. Рыночная ценность продукции является в одно и то же время необходимым условием для определения величины денежного дохода и достаточным условием для того, чтобы общая сумма, которую лица, откладывающие сбережения, решили накопить, была равна общей сумме, которую инвесторы намерены использовать в качестве капиталовложений.
Наши представления обо всем этом станут более четкими, если в своих рассуждениях мы будем исходить из решений о размерах потребления (или о воздержании от потребления), а не из намерений относительно размеров сбережений. Решение вопроса о том, потреблять или не потреблять, действительно зависит от индивидуума; так же обстоит дело и с решением вопроса, инвестировать или нет. А размеры совокупного дохода и совокупного сбережения представляют собой результат действий многих индивидуумов, которые свободно решают, потреблять или нет и, соответственно, инвестировать или нет. Однако ни одна из этих величин не может принимать каких-то особых значений, которые определялись бы некими самостоятельными решениями, не связанными с решениями, касающимися размеров потребления и инвестиций.
* * *
В современной теории стоимости считается общепринятым, что на протяжении коротких промежутков времени цена предложения равна лишь предельным факториальным издержкам. Не приходится и говорить, однако, что такое суждение может оказаться правильным лишь в тех случаях, когда предельные издержки использования равны нулю или когда имеется в виду специфическое определение цены предложения – определение, не включающее предельные издержки использования. Таким образом, при рассмотрении совокупной продукции как единого целого иногда удобно исключить из рассмотрения издержки использования. Однако наш анализ просто лишится всякой связи с действительностью, если мы попытаемся применить подобный метод (как это обычно делается, хотя и специально не оговаривается) к продукции отдельной отрасли или индивидуальной фирмы, поскольку тем самым понятие «цена предложения» товара совершенно отрывается от любого употребления термина «цена» в повседневной жизни. Подобное словоупотребление может лишь породить путаницу.
По-видимому, просто предполагалось, что, когда речь заходит о «цене предложения» единицы продукции, которую та или иная индивидуальная фирма предназначает для продажи, не требуется никаких разъяснений: это понятие настолько очевидно, что не понадобится специально его анализировать. В действительности, однако, и при изучении покупок данного предпринимателя у других фирм, и при рассмотрении процессов потребления капитального оборудования, связанных с выпуском предельного продукта, неизбежно возникает целый ряд сложных вопросов, от решения которых зависит определение дохода. В самом деле, будем полагать, что из выручки от продажи дополнительной единицы продукции уже исключены предельные затраты на покупки товаров и услуг у других фирм – покупки, которые связаны с выпуском этой дополнительной единицы продукции. Даже в этом случае мы не можем определить цену предложения рассматриваемой фирмы, до тех пор пока не примем во внимание предельные дезинвестиции, обусловленные использованием принадлежащего фирме капитального оборудования для выпуска дополнительной единицы продукции. И если бы даже рассматриваемая фирма обеспечивала себя всем необходимым, то и тогда было бы неправильным полагать предельные издержки использования равными нулю; иначе говоря, нельзя было бы полностью игнорировать существование предельных дезинвестиций, связанных с тем, что капитальное оборудование фирмы используется для производства предельного продукта.
Вместе с тем, вводя в рассмотрение такие понятия, как «издержки использования» и «добавочные издержки», мы можем более четко выявить соотношение между долгосрочной ценой предложения и краткосрочной ценой предложения. Издержки производства, исчисляемые на протяжении длительного периода, разумеется, должны включать не только предполагаемые первичные издержки производства, пересчитанные в соответствии со средним сроком службы оборудования, но также и сумму денег, необходимую для того, чтобы возместить основные виды добавочных издержек. Иными словами, долгосрочные издержки производства равны предполагаемой сумме первичных издержек производства и добавочных издержек. Далее, для того, чтобы фирма могла получать нормальную прибыль, уровень долгосрочной цены предложения должен превышать исчисляемые таким образом долгосрочные издержки на сумму, определяемую текущей нормой процента по ссудам, которые выдаются примерно на те же сроки и характеризуются аналогичной степенью риска; такой доход исчисляется в процентном отношении к ценности капитального оборудования. Или, если мы предпочитаем рассматривать стандартную «чистую» норму процента, нам придется включить в состав долгосрочных издержек еще один, третий, компонент – денежную сумму, необходимую для того, чтобы компенсировать возможные непредвиденные отклонения действительной выручки от ожидаемого валового дохода; такие затраты мы могли бы назвать издержками риска. Таким образом, долгосрочная цена предложения оказывается равной сумме первичных издержек производства, добавочных издержек, издержек риска и расходов на оплату процентов; и при анализе долгосрочной цены предложения можно прибегнуть к разложению ее на указанные компоненты. С другой стороны, краткосрочная цена предложения равна предельным первичным издержкам производства. В связи с этим, покупая оборудование или изготавливая его на своих предприятиях, предприниматель должен рассчитывать на то, что он сможет покрыть свои добавочные издержки, издержки риска и расходы на оплату процентов за счет разности между предельными и средними первичными издержками производства. Из сказанного следует, что в ситуации долгосрочного равновесия излишек предельных первичных издержек производства над средней величиной тех же издержек равен сумме добавочных издержек, издержек риска и расходов на оплату процента.
Объем продукции, при котором предельные первичные издержки производства в точности равны сумме средних первичных издержек производства и добавочных издержек, в нашем анализе играет особую роль: это, так сказать, переломный пункт с точки зрения итогов, отражаемых по балансам хозяйственной деятельности фирмы. Указанный уровень характеризуется чистой прибылью, равной нулю; при дальнейшем сокращении объема производства предприниматель терпит чистый убыток.
* * *
В «Принципах экономики» Маршалла часть издержек использования включена в состав первичных издержек производства под названием «дополнительного износа оборудования и сооружений». Но Маршалл не приводит никаких соображений о том, как исчислить издержки, проводимые по этой статье, и каково их значение. Проф. Пигу в своей «Теории безработицы» прямо формулирует предположение, согласно которому предельными дезинвестициями в оборудование, связанными с выпуском предельного продукта, можно, вообще говоря, пренебречь: «Различия в размерах износа оборудования и в затратах на оплату труда непроизводственных работников, вытекающие из неодинакового объема производства, не принимаются во внимание, так как, вообще говоря, они имеют второстепенное значение». Соображение о том, что дезинвестиции в оборудование, связанные с выпуском предельного продукта, равны нулю, на самом деле чрезвычайно широко распространено в новейших экономических теориях. Однако эта проблема предстает перед нами каждый раз, когда приходится точно формулировать, что же мы подразумеваем под ценой предложения индивидуальной фирмы.
Расходование средств на сохранение бездействующего предприятия во многих случаях действительно может привести к снижению предельных издержек использования (особенно во время кризиса). Тем не менее очень низкие издержки использования, связанные с выпуском предельного продукта, характерны вовсе не для короткого отрезка времени как такового, а лишь для особых ситуаций и типов оборудования – для тех случаев, когда издержки содержания бездействующих предприятий оказываются очень высокими, и для тех случаев нарушения равновесия, когда обнаруживается очень быстрый моральный износ оборудования или громадный его излишек; эти тенденции обнаруживаются особенно отчетливо, если существование большего количества избыточного оборудования сочетается с высоким удельным весом сравнительно новых заводов.
В применении к сырью необходимость учета издержек использования очевидна; если тонна меди использована сегодня, ее нельзя использовать завтра, и ценность, которую медь имела бы для целей завтрашнего дня, явно следует учесть, ведь она образует часть предельных издержек. Однако при этом в литературе упускается из виду следующий факт: медь – это просто наиболее яркий пример; нечто подобное происходит всякий раз, когда те или иные элементы капитального имущества используются для производства. Было бы совершенно нереалистичным полагать, что сырье, при рассмотрении которого нам всегда приходится учитывать дезинвестиции, связанные с его использованием, настолько уж отличается от основного капитала, что в последнем случае можно просто пренебречь соответствующими дезинвестициями. Несоответствие между таким допущением и реальными фактами становится особенно очевидным в нормальных условиях, когда непременно происходит обновление устаревших элементов оборудования, и использование орудий производства приближает момент, когда становится необходимой их замена.
Теоретические понятия издержек использования и добавочных издержек обладают следующими преимуществами: они не только применимы к основному капиталу, но полностью сохраняют силу при анализе оборотного и ликвидного капиталов. Существенная разница между сырьем и основным капиталом состоит не в том, что при анализе первого следует употреблять понятия издержек использования и добавочных издержек, а при анализе второго эти понятия оказываются неприменимыми; в действительности различие между ними заключается в том, что доход на ликвидные формы капитала носит единовременный характер, тогда как доход на основной капитал, который состоит из предметов длительного пользования и лишь постепенно изнашивается, включает издержки использования, начисленные в течение нескольких следующих друг за другом периодов, и прибыли, полученные на протяжении этих периодов.
* * *
Насколько я знаю, никто не спорит против понимания сбережения как превышения дохода над тем, что затрачено на потребление. Понимать под этим термином что-нибудь другое, конечно, не имело бы смысла: это просто вело бы к путанице. Нет также большого расхождения во взглядах насчет того, что понимать под расходом на потребление. Таким образом, различия возникают либо в определении инвестиций, либо в определении дохода.
Начнем с инвестиций. При обычном словоупотреблении под этим понимают покупку одним лицом или корпорацией какого-либо имущества, старого или нового. Иногда этот термин ограничивают покупкой ценных бумаг на фондовой бирже. Но можно также говорить об инвестициях при покупке, например, дома или машины, а также при накоплении запасов готовой продукции или незавершенного производства. Вообще говоря, новые инвестиции в отличие от реинвестиций означают покупку капитального имущества всякого рода за счет дохода. Если мы считаем продажу этого имущества отрицательными инвестициями, иначе говоря дезинвестициями, то мое определение вполне согласуется с обычным словоупотреблением, поскольку операции с объектами прежних инвестиций (иначе говоря, перепродажа этого имущества) взаимно «погашаются». Мы должны, понятно, сделать поправку на заключение займов и погашение долгов (включая изменения в объеме кредита или размерах денежного обращения). Но, поскольку для общества в целом увеличение или уменьшение общей суммы денежных обязательств, принадлежащих кредиторам, всегда точно соответствует изменению совокупной задолженности заемщиков, эти величины также взаимно погашаются, когда мы рассматриваем общие размеры инвестиций. Таким образом, если предположить, что доход в обычном смысле слова соответствует тому, что в этой книге названо чистым доходом, то совокупные инвестиции в общеупотребительном смысле слова совпадают с моим определением чистых инвестиций, т. е. увеличения чистой ценности всех видов капитального имущества – увеличения, исключающего те изменения в ценности старого капитального имущества, которые уже были приняты во внимание при исчислении чистого дохода.
Поэтому инвестиции, определенные таким образом, включают всякий прирост ценности капитального имущества независимо от того, состоит ли последнее из основного, оборотного или ликвидного капитала. Другие определения инвестиций (если отвлечься от вопроса о различиях между инвестициями и чистыми инвестициями) отличаются главным образом тем, что не включают какую-либо (или какие-либо) из перечисленных категорий капитала.
Например, Хоутри, который придает особое значение изменениям в размерах ликвидного капитала, т. е. непреднамеренным увеличениям (или уменьшениям) запаса непроданных товаров, предложил в качестве возможного варианта определение инвестиций, которое не включает изменения этого рода. В таком случае излишек сбережений над инвестициями соответствовал бы непреднамеренному увеличению запаса непроданных товаров, т. е. увеличению ликвидного капитала. Однако Хоутри не убедил меня в том, что следует подчеркивать значение именно этого фактора. При такой постановке вопроса, как у него, ударение делается на изменениях, которые невозможно было заранее предвидеть, в отличие от тех, которые – правильно или нет – рассчитываются заранее. Хоутри считает, что ежедневные решения предпринимателей об изменении размеров их продукции по сравнению с предшествующим днем зависят от движения запасов непроданных товаров. Конечно, когда речь идет о производстве потребительских товаров, указанный фактор играет важную роль в решениях предпринимателей. Но я не вижу основания исключать влияние и других факторов на их решения; поэтому я предпочитаю подчеркивать общее изменение эффективного спроса, а не только ту часть изменений, которая отражается в увеличении или уменьшении не проданных за предшествующий период запасов. Что же касается основного капитала, то увеличение или уменьшение неиспользуемых производственных мощностей оказывает на решения о размерах производства такое же влияние, как увеличение или уменьшение нераспроданных запасов, и я не вижу, как при помощи метода, предлагаемого Хоутри, можно учесть воздействия этого по меньшей мере столь же важного фактора.
Термины «формирование капитала» и «потребление капитала», которые употреблялись представителями австрийской школы экономистов, по всей вероятности, не совпадают ни с понятиями «инвестиции» и «дезинвестиции», ни с понятиями «чистые инвестиции» и «чистые дезинвестиции», как они были определены выше. В частности, о потреблении капитала говорят в тех случаях, когда совершенно явно отсутствует уменьшение чистой ценности капитального имущества, как оно было определено выше. Мне, однако, не удалось найти ссылку на какой-либо источник, в котором значение этих терминов было бы четко объяснено. Утверждение, согласно которому, например, формирование капитала происходит там, где имеет место удлинение периода производства, не очень способствует выяснению вопроса.
* * *
Мы подходим теперь к вопросу о расхождениях между сбережением и инвестированием, которые вытекают из специфических определений дохода и, следовательно, превышения дохода над потреблением. Примером может служить использование этих терминов в моей книге «Трактат о деньгах». Определение дохода, которое я тогда давал, существенно отличается от определения, приводимого в данной работе, поскольку доходом предпринимателей я считал не те прибыли, которые они фактически получали, а их «нормальные» (с определенной точки зрения) прибыли. Поэтому, говоря о превышении сбережений над инвестициями, я подразумевал ситуацию, возникающую при таких размерах производства, когда прибыль, которую предпринимателям приносит принадлежащее им капитальное оборудование, оказывается ниже нормальной. А в тех случаях, когда речь шла об увеличившемся превышении сбережений над инвестициями, я имел в виду положение, когда фактически реализуемая сумма прибыли настолько сокращается, что предприниматели под влиянием этого уменьшают объем производства.
Теперь я полагаю, что уровень занятости (а следовательно, и размеры производства и реального дохода) устанавливается предпринимателем под влиянием стремления довести до максимума его нынешнюю и будущую прибыль (учет издержек использования при этом определяется выбором такого варианта использования оборудования, который мог бы обеспечить ему максимальный доход в течение всего срока службы этого оборудования). Уровень же занятости, при котором прибыль предпринимателя окажется максимальной, зависит от функции совокупного спроса, определяемой, в свою очередь, тем, как он расценивает перспективы выручки, складывающиеся при различных возможных соотношениях между потреблением и инвестициями. В моем «Трактате о деньгах» понятие изменении в размерах превышения инвестиций над сбережениями (как они там определены) служило для описания изменений в размерах прибыли, хотя в той книге я еще не проводил четкого различия между ожидаемой и фактической прибылью.
Я доказывал, что изменения в величине превышения инвестиций над сбережениями выступают в качестве движущей силы, определяющей переход к новому уровню производства. Таким образом, хотя приводимая в этой книге аргументация и является (как я теперь думаю) гораздо более точной и четкой, по существу, она может считаться просто развитием ранее высказывавшихся взглядов. Если изложить эту новую аргументацию на языке моего «Трактата о деньгах», то она выглядела бы следующим образом: ожидания роста превышения инвестиций над сбережениями при прежнем уровне занятости и производства породят у предпринимателей заинтересованность в повышении занятости и увеличении выпуска продукции. Смысл как моих прежних, так и теперешних рассуждений заключается в следующем: я пытался доказать, что объем занятости определяется оценками эффективного спроса со стороны предпринимателей, а предполагаемое увеличение инвестиций по отношению к сбережениям, как оно было определено в «Трактате о деньгах», служит критерием увеличения эффективного спроса. Но изложение этих проблем в моем «Трактате о деньгах» было, конечно, довольно путаным и неполным по сравнению с предлагаемым здесь дальнейшим развитием вопроса.
Д. Х. Робертсон определяет сегодняшний доход как сумму вчерашнего потребления и инвестиций, так что сегодняшние сбережения в соответствии с этими определениями равны вчерашним инвестициям плюс превышение вчерашнего потребления над сегодняшним. При таком подходе выясняется, что сбережения могут превысить инвестиции, причем размеры превышения сбережений над инвестициями будут равны разности между вчерашним доходом (в моем понимании) и сегодняшним доходом. Следовательно, когда Робертсон пишет о существовании превышения сбережений над инвестициями, он имеет в виду буквально то же самое, что и я, когда говорю, что доход падает; превышение сбережений в его системе определений совершенно тождественно уменьшению дохода в моем понимании. Если текущие предположения действительно всегда определяются достигнутыми в прошлом результатами хозяйственной деятельности, то складывающийся на сегодняшний день эффективный спрос был бы равен вчерашнему доходу. В таком случае метод Робертсона можно было бы считать альтернативным подходом (точнее было бы, вероятно, назвать его первым приближением), ведь, по существу, он пытается сформулировать то же жизненно важное с точки зрения причинно-следственного анализа разграничение, которое старался провести я, подчеркивая разницу между эффективным спросом и доходом.
* * *
Мы переходим теперь к гораздо менее ясным идеям, ассоциирующимся с таким понятием, как «вынужденные сбережения». Скрывается ли за этим термином какое-нибудь определенное содержание? В моем «Трактате о деньгах» я уже рассматривал некоторые более ранние случаи употребления этого термина; там отмечалось, в частности, что понятие «вынужденные сбережения», использовавшееся рядом авторов, в чем-то сходно с разностью между инвестициями и «сбережениями» (в прежнем определении последнего термина, дававшемся в работе «Трактат о деньгах»). Теперь, однако, я уже не уверен в том, что действительно между этими понятиями обнаруживается столь большое сходство, как я тогда полагал. Во всяком случае, теперь я уверен в том, что «вынужденное сбережение» и аналогичные термины, употреблявшиеся в самое последнее время (например, проф. Хайеком и проф. Робинсоном), не находятся в прямой связи с разностью между инвестициями и «сбережением» в том смысле, какое я придавал этим понятиям в моем «Трактате о деньгах». И хотя упоминавшиеся авторы не разъяснили точного значения, в котором они употребляли этот термин, ясно, что «вынужденное сбережение» в их понимании явление, непосредственно проистекающее из изменений в количестве денег или объеме банковского кредита и измеряемое указанными величинами.
Совершенно очевидно, что изменения размеров производства и уровня занятости должны привести к изменениям величины дохода, измеряемого в единицах заработной платы, а изменение единицы заработной платы вызовет не только перераспределение дохода между должниками и кредиторами, но и изменение общей суммы денежного дохода. Ясно, наконец, что в каждом из этих случаев станет (или по крайней мере может стать) иной и общая сумма сбережений. Иначе говоря, поскольку переход к иной массе обращающихся денег, оказывая влияние на норму процента, может вызвать изменения в совокупной величине дохода и его распределении (мы покажем это позднее), такие процессы могут косвенным образом повлечь за собой изменения в сумме сбережений. Но такие изменения соответствуют смыслу термина «вынужденные сбережения» ничуть не больше, чем любые другие изменения в общей сумме сбережений под влиянием других обстоятельств. При этом мы не в состоянии провести границу между обоими видами сбережений, до тех пор пока не установим, какую же сумму сбережений при данных условиях следует считать нормальной или «стандартной». Более того, масштабы увеличения или уменьшения общей суммы сбережений, вызываемых данным изменением массы обращающихся денег, как мы увидим далее, отнюдь не постоянны; соотношение, складывающееся между этими величинами, в высшей степени изменчиво и зависит от многих других факторов.
Таким образом, термин «вынужденное сбережение» остается лишенным смысла до тех пор, пока мы не выберем некоторую «стандартную» норму сбережения. Если мы примем (и это может быть вполне целесообразно) в качестве «нормы» размер сбережений, соответствующий устойчивому состоянию полной занятости, то наше определение будет иметь следующий вид: «вынужденное сбережение есть превышение действительных сбережений над тем, что сберегалось бы, если бы в состоянии длительного равновесия существовала полная занятость». Такую формулировку можно считать достаточно определенной; но все дело в том, что определяемые таким образом избыточные вынужденные сбережения представляют собой редкое и очень неустойчивое явление, и, напротив, вынужденный недостаток сбережений соответствует обычному положению вещей.
В интересных «Заметках о развитии доктрины вынужденного сбережения» проф. Хайека (46) показано, что именно в этом и состояло первоначальное значение термина. Понятие «вынужденное сбережение», или «вынужденная бережливость», было впервые введено Бентамом; при этом он определенно указывал, что имеет в виду последствия увеличения массы обращающихся денег (в сравнении с количеством товаров, продаваемых за деньги) в условиях, когда «все рабочие руки заняты, и заняты наиболее выгодным образом». При таких обстоятельствах, как указывал Бентам, реальный доход не может быть увеличен, и, следовательно, добавочные инвестиции, предпринимаемые в связи с переходом к новому состоянию, предполагают вынужденную бережливость «за счет национального комфорта и национальной справедливости». Все авторы, писавшие об этом в XIX веке, фактически имели в виду то же самое. Но попытки распространить это совершенно ясное понятие на ситуации, в которых не достигнут уровень полной занятости, неизбежно наталкиваются на ряд трудностей. Верно, конечно, что (вследствие убывающей доходности при увеличении числа занятых рабочих и служащих, использующих данный объем капитального оборудования) любое увеличение занятости предполагает некоторые жертвы, выражающиеся в сокращении реального дохода тех, кто уже раньше был занят. Однако попытку отнести эти потери за счет увеличения инвестиций, которым может сопровождаться увеличение занятости, вряд ли стоит считать плодотворной. Во всяком случае, мне не приходилось встречать каких-либо высказываний современных авторов, занимавшихся проблемой «вынужденного сбережения», в которых указанное понятие распространялось бы на условия, когда занятость возрастает. Они, по-видимому, обычно упускают из виду, что распространение введенного Бентамом понятия вынужденной бережливости на ситуацию, в которой не достигнут уровень полной занятости, требует по крайней мере специальных объяснений или оговорок.
* * *
Широко распространенное представление о том, будто сбережения и инвестиции, определенные в прямом соответствии со смыслом этих слов, могут различаться между собой по величине, объясняется, как я думаю, «оптической иллюзией», возникающей вследствие того, что отношения между индивидуальным вкладчиком и банком, где помещен его вклад, носят по внешней видимости односторонний характер, тогда как на самом деле такие отношения являются двусторонними. Предполагается, что вкладчик и его банк могут каким-то образом сговориться между собой о проведении операции, в результате которой сбережения в банковской системе просто исчезли бы (иначе говоря, они оказались бы вовсе утраченными с точки зрения инвестирования), или, напротив, что банковская система в состоянии создать такие возможности инвестирования, которым не соответствуют никакие сбережения. Но ведь никто не может сберечь, не приобретая при этом активов в какой-либо форме, будь то наличные деньги, долговые обязательства или капитальные блага; никто не может также приобрести имущества, которым бы он раньше не владел, если только имущество равной стоимости не окажется вновь произведенным либо же если кто-нибудь другой не расстанется с имуществом той же ценности, которым он располагал раньше. В первом случае сбережению соответствуют новые инвестиции; во втором случае кто-то другой должен сократить свои сбережения на равную сумму. Ведь в последнем случае соответствующее уменьшение богатства должно быть вызвано такими размерами потребления, которые превышают доход, а не списанием по счету капитала, отражающим изменение ценности капитальных имуществ, потому что в данном случае он вовсе не сталкивается с какими-либо потерями в ценности того имущества, которое он раньше имел. Сумма, которую он получает, в точности соответствует текущей ценности его имущества, и тем не менее владельцу имущества не удается полностью сохранить указанную сумму в форме какого-либо богатства, иными словами, отсюда следует, что его текущее потребление превысило размеры текущего дохода. Если же с каким-либо имуществом расстаются банки, значит, кто-то должен расстаться с частью своих наличных денег. Отсюда следует, что совокупное сбережение индивидуума, о котором идет речь, и всех других, вместе взятых, неизбежно должно быть равным текущим новым инвестициям.
Представления, согласно которым создание кредита банковской системой делает возможным инвестиции, которым не соответствует «никакое подлинное сбережение», возникают лишь в результате искусственного выделения одного из последствий увеличения банковского кредита и игнорирования всех остальных результатов этого процесса. Действительно, допустим, что в дополнение к уже существующим кредитам предприниматель сможет получить от банка новую ссуду и это позволит ему произвести дополнительные текущие инвестиции, для которых иначе у него не хватило бы денег; в таком случае неизбежно возрастут доходы, причем последние, как правило, увеличиваются на сумму, большую, чем величина добавочных инвестиций. В подобной ситуации (если отвлечься от случая, характеризующегося полной занятостью) будет иметь место увеличение не только денежного, но и реального дохода. В таком случае населению будет предоставлен «свободный выбор», как распределить этот прирост дохода между сбережением и расходами; и невозможно представить, чтобы предприниматель, который брал взаймы деньги с намерением увеличить инвестиции, смог в действительности расширять их более быстрым темпом, чем население увеличивает свои сбережения (если отвлечься от ситуации, когда его инвестиции лишь замещают инвестиции, которые были бы иначе сделаны другими предпринимателями).
Дополнительные сбережения, возникающие в результате таких решений, носят ничуть не менее «подлинный» характер, чем любые другие сбережения. Разумеется, никого нельзя заставить держать дополнительные средства, соответствующие новому банковскому кредиту, в форме наличных денег, если только он сам по своему усмотрению не предпочтет хранить именно деньги, а не богатство в другой форме. И все же занятость, доходы и цены не могут не измениться таким образом, чтобы в новой ситуации кто-либо не предпочел держать дополнительную сумму денег. Неожиданное увеличение инвестиций в той или иной сфере может, конечно, привести к возникновению необычных пропорций в формировании совокупных сбережений и инвестиций (хотя подобные отклонения не могли бы иметь места, если бы эти инвестиции были предусмотрены заранее). Верно также и то, что предоставление банковского кредита приводит в действие три тенденции: 1) расширяются размеры производства; 2) увеличивается ценность предельного продукта, выраженная в единицах заработной платы (этот процесс в условиях снижения доходности всегда сопровождает увеличение выпуска продукции), и 3) повышается единица заработной платы, выраженная в деньгах (обычный спутник увеличения занятости). Эти тенденции, конечно, могут повлиять на распределение реального дохода между различными группами населения. Но эти тенденции присущи росту продукции как таковому, и они проявились бы в такой же мере и в случае, если бы рассматривавшееся расширение производства было вызвано не увеличением банковского кредита, а какими-либо другими факторами. Устранить их можно только при условии, что мы исключим любые действия, способные вызвать повышение уровня занятости.
* * *
Хотя «старомодные» утверждения, согласно которым сбережение всегда влечет за собой инвестирование, нельзя признать правильно сформулированными и достаточно полными, тем не менее с формальной точки зрения они все же оказываются более правильными, чем новоиспеченные концепции, согласно которым возможны сбережения без инвестиций или инвестиции без «подлинных» сбережений.
Ошибка вытекает из правдоподобного на первый взгляд предположения, будто рост сбережений отдельного лица означает увеличение совокупных инвестиций на равную сумму. Когда индивидуум сберегает, он действительно увеличивает свое собственное богатство. Но нельзя делать отсюда вывод, что он увеличивает и совокупное богатство, ибо возможно, что данный акт индивидуального сбережения окажет влияние на размеры сбережений у других лиц, а следовательно, и на размеры богатства кого-либо другого.
Сбережения каждого индивидуума определяются его «свободным решением» воздержаться от расходования той или иной суммы независимо от того, что он или другие захотят инвестировать, и тем не менее общая величина сбережений оказывается равна общей сумме инвестиций; это объясняется тем, что сбережение, подобное расходованию, есть двусторонний акт. И хотя сумма, которую тот или иной человек сберегает, едва ли может оказать сколько-нибудь заметное влияние на его собственный доход, но воздействие его потребительских расходов на доходы других исключает возможность того, чтобы все одновременно сберегали ту или иную заранее заданную сумму денег. Всякая подобная попытка одновременного сбережения посредством сокращения потребления так повлияла бы на доходы, что она неизбежно вызвала бы к жизни противодействующие факторы. Столь же невозможно для общества в целом, разумеется, и сберечь меньше суммы текущих инвестиций, поскольку всякая попытка такого рода неизбежно привела бы к росту доходов до уровня, при котором суммы, которые отдельные лица предпочитают сберечь, увеличились бы на величину, как раз равную сумме инвестиций.
Все это весьма сходно с тем, как согласуется свобода каждого индивидуума менять, когда бы он этого ни пожелал, размеры находящейся у него на руках суммы денег с необходимостью равенства между всей суммой денег, которую составляют индивидуальные остатки, и общей суммой наличности, созданной банковской системой. В последнем случае равенство создается тем, что сумма денег, которую люди предпочитают хранить у себя, определенным образом связана с их доходами или с ценами товаров, а особенно с устанавливающимся курсом ценных бумаг, покупка которых выступает в качестве естественной альтернативы хранению наличных денег. Таким образом, доходы и цены указанных товаров неизбежно будут меняться до тех пор, пока совокупная сумма денег, которую отдельные индивидуумы предпочитают держать при установившемся новом уровне доходов и цен, не сравняется с суммой денег, созданной банковской системой. В этом и состоит основное положение денежной теории.
Оба эти положения попросту вытекают из того, что не может быть покупателя без продавца или продавца без покупателя. И хотя отдельный участник экономического процесса, у которого масштабы операций малы по отношению к рынку в целом, может спокойно пренебречь тем обстоятельством, что спрос всегда носит не односторонний, а двусторонний характер, тем не менее было бы нелепо пренебрегать этим, когда речь идет о совокупном спросе. В этом коренная разница между теорией экономического поведения совокупности людей и теорией поведения отдельного участника экономической жизни, ибо только в последнем случае мы можем полагать, что изменения спроса индивидуума не влияют на его собственный доход.
Склонность к потреблению
Мотивы к расходованию так тесно сплетаются между собой, что при попытке классифицировать их легко допустить ошибку. Тем не менее для того, чтобы сделать наш анализ более четким, целесообразно расчленить эти мотивы на две большие группы: в первую из них мы будем включать субъективные, а во вторую – объективные факторы. Субъективные факторы описывают те психологические особенности человеческого характера, а также те общественные привычки и институты, которые, хотя и не являются неизменными, все же едва ли подвержены существенным переменам в течение коротких промежутков времени (за исключением каких-либо выходящих из ряда вон обстоятельств или революционных потрясений). В историческом исследовании или при сопоставлении одной социальной системы с системой другого типа необходимо принимать во внимание характер возможного воздействия, оказываемого изменениями в субъективных факторах на склонность к потреблению. Но в последующем изложении мы будем полагать субъективные факторы заранее данными и будем исходить из того, что склонность к потреблению зависит только от изменений объективных факторов.
К числу основных объективных факторов, оказывающих влияние на склонность к потреблению, по-видимому, нужно отнести следующие.
1. Изменение единицы заработной платы. Потребление, конечно, в большей мере является (в определенном смысле) функцией реального дохода, чем функцией денежного дохода. При данном состоянии техники, вкусов и социальных условий, определяющих распределение доходов, реальный доход каждого человека будет увеличиваться или уменьшаться в соответствии с количеством единиц труда, которыми он мог бы распоряжаться, иначе говоря, в соответствии с измеренной в единицах заработной платы величиной его дохода, хотя при изменении общего объема продукции его реальный доход все же будет (в связи с убывающей доходностью) расти медленней, чем его доход, измеряемый в единицах заработной платы. В качестве первого приближения мы можем, следовательно, с достаточным основанием предположить, что в тех случаях, когда меняется единица заработной платы, расходы на потребление, соответствующие данному уровню занятости, будут, подобно ценам, изменяться в той же самой пропорции. И все же при некоторых обстоятельствах может оказаться необходимым принять во внимание и влияние на совокупное потребление, которое могут оказывать изменения в распределении данного реального дохода между предпринимателями и рантье – изменения, происходящие в результате перехода от одной единицы заработной платы к другой. Помимо этого, мы уже исключили возможное влияние, оказываемое изменением единицы заработной платы, измеряя склонность к потреблению доходом, выраженным в единицах заработной платы.
2. Изменение в разнице между доходом и чистым доходом. Выше мы показали, что размеры потребления больше зависят от чистого дохода, чем от дохода; ведь и само определение чистого дохода строится таким образом, чтобы выделить часть доходов, которую человек имеет в виду, принимая решение о расходовании той или иной суммы на потребление. В данной ситуации соотношение между обоими видами дохода может быть довольно устойчивым в том смысле, что будет существовать однозначная функция, связывающая различные уровни дохода с соответствующими величинами чистого дохода. Если, однако, дело будет обстоять иначе, то той частью изменения в доходе, которая не отражается на размерах чистого дохода, следует пренебречь, поскольку она не окажет влияния на потребление; с другой стороны, надо учитывать изменения в чистом доходе, которые не влекут за собой изменений в величине дохода. Однако, оставляя в стороне исключительные обстоятельства, я не думаю, чтобы этот фактор имел существенное практическое значение. Мы возвратимся к более полному рассмотрению воздействия, которое оказывают на потребление различия между доходом и чистым доходом, в четвертом параграфе данной главы.
3. Непредвиденные изменения в ценности капитала, не принятые в расчет при исчислении чистого дохода. Эти изменения оказывают гораздо более важное воздействие на склонность к потреблению, так как они не обнаруживают постоянного, или устойчивого, отношения к величине дохода. Потребление имущих групп может чрезвычайно сильно реагировать на непредвиденные изменения в денежной ценности их богатства. Непредвиденные изменения в ценности капитала следует отнести к числу важнейших факторов, способных вызывать изменения в склонности к потреблению в рамках коротких периодов.
* * *
4. Изменения в норме дисконта, или в пропорции обмена настоящих благ на будущее. Действие этого фактора несколько отличается от влияния, оказываемого нормой процента, так как в первом случае учитываются и будущие изменения покупательной силы денег (в той мере, в какой их удается предвидеть). Следует принять в расчет все виды риска, как, например, возможность не дожить до того момента, когда будущие блага окажутся доступными для использования, или возможность подвергнуться налоговому обложению конфискационного характера. Все же в порядке приближения мы можем отождествить действие этого фактора с влиянием нормы процента.
Влияние этого фактора на величину потребительских расходов при данном уровне дохода, однако, довольно сомнительно. В классической теории процента (48), которая основывалась на представлении о том, что норма процента служит фактором, приводящим в равновесие предложение сбережений и спрос на них, удобно было предполагать, что расходы на потребление при прочих равных условиях обнаруживают обратную зависимость от нормы процента, так что всякий рост нормы процента повлечет за собой существенное сокращение потребления. Однако уже давно было признано, что воздействие, в конечном счете оказываемое изменением нормы процента на готовность, с которой люди расходуют на текущее потребление ту или иную часть своего дохода, оказывается сложным и неопределенным: такие изменения приводят в действие противоборствующие тенденции, поскольку некоторые из субъективных стимулов к сбережению приобретают большую силу с ростом нормы процента, тогда как другие мотивы ослабевают. На протяжении длительных промежутков времени существенные изменения нормы процента, вероятно, значительно меняют общественные привычки и влияют, таким образом, на субъективную склонность к расходованию, хотя и трудно заранее предсказать, в каком направлении осуществится такое воздействие. Это удается выяснить только в свете накопленного опыта. Обычные же кратковременные колебания нормы процента вряд ли оказывают каким-либо путем сильное непосредственное влияние на величину расходов. Немногие люди решат изменить свой образ жизни по той причине, что норма процента упала с 5 до 4 %, если их совокупный доход остается таким же, как и раньше. Косвенные последствия могут оказаться более значительными, хотя не все эти факторы будут действовать в одном направлении.
Может быть, наиболее существенное влияние, оказываемое изменениями нормы процента на готовность расходовать при данной величине дохода, зависит от влияния этих изменений на повышение или снижение курса ценных бумаг и ценности других видов имущества. Если человек неожиданно сталкивается с увеличением ценности принадлежащего ему капитального имущества, то вполне естественно, что побуждения, толкающие его к текущим расходам, усиливаются, хотя доход, который приносит этот капитал, не увеличился; такие стимулы должны соответственно ослабевать, когда человек сталкивается с падением ценности принадлежащего ему капитального имущества. Но это косвенное влияние уже учтено выше (п. 3). Если оставить в стороне это обстоятельство, главный вывод, который, как мне кажется, вытекает из предшествующего опыта, состоит в следующем: применительно к короткому периоду влияние нормы процента на индивидуальное потребление при данном уровне дохода следует признать второстепенным и сравнительно небольшим (исключение, вероятно, могут составить лишь необычайно сильные изменения нормы процента). Однако в тех случаях, когда норма процента падает до очень низкого уровня, увеличение разрыва между ежегодной рентой, которую можно приобрести за данную сумму денег, и годовыми процентами на эту сумму может оказаться важным источником отрицательного сбережения (поскольку таким путем поощряется практика обеспечения старости путем покупки ренты).
К этой рубрике надо, пожалуй, отнести и встречающиеся иногда ситуации, когда на склонность к потреблению может сильно повлиять состояние полной неизвестности относительно будущего и относительно того, что оно может с собой принести.
5. Изменения в налоговой политике. Поскольку на стимулы участников экономического процесса к сбережению влияет предполагаемый доход, указанные стимулы зависят не только от нормы процента, но и от налоговой политики правительства. Подоходный налог, особенно в тех случаях, когда существуют резкие различия в ставках обложения «заработанных» и «незаработанных» доходов, налог на приносимую капиталом прибыль, налог с наследств и другие налоги играют не менее важную роль, чем норма процента. К тому же амплитуда возможных перемен в налоговой политике может быть большей (по крайней мере, если речь идет о возможности таких перемен), чем изменения в норме процента. Если налоговая политика преднамеренно используется в качестве инструмента, с помощью которого должно быть достигнуто более справедливое распределение доходов, она будет, конечно, оказывать еще более сильное влияние на увеличение склонности к потреблению.
Мы должны также учитывать влияние на совокупную склонность к потреблению фондов погашения государственной задолженности, создаваемых правительством за счет обычных налогов. Фонды погашения представляют собой своего рода «общественные сбережения», и поэтому политика создания крупных фондов погашения должна вести при прочих равных условиях к уменьшению склонности к потреблению. По этой причине поворот в политике правительства от выпуска государственных займов к образованию фондов погашения может вызвать резкое сокращение (или, наоборот, заметное расширение) эффективного спроса.
6. Изменения предполагаемого отношения между текущим и будущим уровнями дохода. Ради полноты следует отметить также и этот фактор. Но хотя его действие может существенно затронуть склонность к потреблению отдельных участников экономического процесса, для общества в целом такие изменения, по-видимому, взаимно уравновешиваются. Кроме того, этот фактор, как правило, сопряжен со слишком сильной неопределенностью перспектив и поэтому не может оказать большое влияние.
* * *
В результате всего сказанного мы приходим к следующему заключению: в данной обстановке склонность к потреблению может считаться достаточно устойчивой функцией, если исключить влияние изменений денежной единицы заработной платы. На склонность к потреблению могут оказать влияние непредвиденные изменения в ценности капитала. Серьезные изменения в норме процента и в налоговой политике также могут вызвать известные перемены в склонности к потреблению. Другие объективные факторы (хотя их не следует упускать из виду) едва ли могут в нормальных условиях оказывать существенное воздействие на готовность к расходованию денег.
Вследствие того, что при данной общей экономической конъюнктуре расходы на потребление, выраженные в единицах заработной платы, зависят в основном от объема продукции и уровня занятости, мы можем просто объединить все прочие факторы под общим наименованием «склонность к потреблению». Хотя и прочие факторы могут меняться (и об этом не следует забывать), решающей переменной, как правило, оказывается совокупный доход, выраженный в единицах заработной платы; именно от этой переменной и зависят прежде всего относящиеся к потреблению компоненты функции совокупного спроса.
Если допустить, что склонность к потреблению представляет собой довольно устойчивую функцию, так что объем совокупного потребления в основном зависит от величины совокупного дохода (при измерении обеих величин в единицах заработной платы), и если изменения в самой склонности к потреблению предположительно играют второстепенную роль, то какова же в таком случае нормальная форма функции, связывающей две указанные переменные величины?
Основной психологический закон, в существовании которого мы можем быть вполне уверены не только из априорных соображений, исходя из нашего знания человеческой природы, но и на основании детального изучения прошлого опыта, состоит в том, что люди склонны, как правило, увеличивать свое потребление с ростом дохода, но не в той же мере, в какой растет доход. Это означает, что если, допустим, Cw характеризует размеры потребления, а Yw – доход (причем и то и другое измерено в единицах заработной платы), то Cw имеет тот же знак, что и Yw, но величина Cw меньше, чем Yw, иначе говоря, значение положительно и меньше единицы.
Все сказанное в большей степени относится к случаям, когда рассматриваются короткие промежутки времени, например так называемые циклические колебания занятости, в течение которых привычки – их следует отличать от более постоянных субъективных склонностей – еще не успевают приспособиться к изменившимся объективным обстоятельствам. Дело в том, что наибольшее влияние на использование дохода оказывает стремление к подержанию привычного уровня жизни, и человек склонен сберегать именно обнаруживающуюся разность между его фактическими доходами и расходами по поддержанию обычного «жизненного стандарта». Если даже он и стремится приспособить свои расходы к изменению дохода, то все же на протяжении коротких промежутков времени этот процесс не может получить сколько-нибудь полного развития. Поэтому рост дохода на первых порах часто сопровождается увеличением сбережений в больших масштабах, а падение дохода – сокращением сбережений в больших масштабах, чем это имеет место на протяжении длительного периода.
Но независимо от изменений в уровне дохода, происходящих в течение коротких промежутков времени, очевидно также, что более высокий абсолютный уровень дохода, как правило, будет вести к увеличению разрыва между доходом и потреблением. Ведь побуждение к удовлетворению неотложных первостепенных нужд человека и его семьи обычно представляет собой более сильный мотив, чем побуждение к накоплению, и последнее только тогда начинает проявляться в полную силу, когда достигнут известный уровень благосостояния. Это ведет к тому, что с ростом реального дохода, как правило, более высоким оказывается удельный вес той части дохода, которая направляется в сбережения. Будет ли, однако, эта доля больше или меньше, мы все равно можем видеть основной психологический закон, присущий любому современному обществу, в том, что с ростом реального дохода оно не увеличит своего потребления на всю абсолютную сумму прироста и, следовательно, будет сберегаться более значительная абсолютная сумма (если только в то же самое время не произойдут резкие и необычные изменения в действии других факторов). Как мы покажем в дальнейшем, устойчивость экономической системы существенно зависит от преобладающих в хозяйственной практике форм проявления этого закона. Это означает, например, что, если занятость, а вместе с ней и совокупный доход возрастают, не все дополнительно занятые рабочие и служащие потребуются для удовлетворения нужд добавочного потребления.
С другой стороны, падение дохода, вызванное уменьшением уровня занятости, если оно заходит достаточно далеко, может привести даже к превышению потребления над доходом не только у отдельных лиц и организаций, использующих для потребления финансовые резервы, накопленные ими в лучшие времена, но и у правительства, которое может оказаться втянутым, вольно или невольно, в бюджетный дефицит или, например, ассигновать средства на помощь безработным за счет полученных взаймы денег. Таким образом, когда занятость падает до низкого уровня, совокупное потребление снизится на меньшую величину, чем та, на которую сократился реальный доход. Произойдет это как вследствие сохранения обычных привычек индивидуумов, так и вследствие воздействия, оказываемого вероятной политикой правительства. Этим объясняется и следующее обстоятельство: новое состояние равновесия обычно может установиться в пределах относительно небольшой амплитуды колебаний. В противном случае падение занятости и дохода, раз начавшись, могло бы оказаться необычайно интенсивным. Этот простой принцип ведет, как будет показано в последующем изложении, к тому же заключению, к которому мы пришли и раньше: уровень занятости может повышаться только pari passu с увеличением инвестиций. Иное положение можно наблюдать только в тех случаях, когда изменяется склонность к потреблению. Поскольку при увеличении занятости расходы потребителей растут медленней, чем повышается цена совокупного предложения, увеличение занятости окажется нерентабельным, если только образовавшийся разрыв не будет «заполнен» увеличением инвестиций.
* * *
Мы не должны недооценивать важности следующего обстоятельства: в то время как занятость представляет собой функцию от предполагаемых потребления и инвестиций, само потребление при прочих равных условиях является функцией от чистого дохода и тем самым от чистых инвестиций (поскольку чистый доход равен потреблению плюс чистые инвестиции). Чем крупнее финансовые отчисления, которые считают необходимым произвести для того, чтобы затем вывести чистый доход, тем менее благоприятным с точки зрения увеличения потребления, а потому и занятости окажется воздействие данного уровня инвестиций.
Если все финансовые отчисления (или добавочные издержки) фактически изо дня в день расходуются на поддержание уже существующих элементов капитального оборудования, то это обстоятельство вряд ли выпадет из поля зрения исследователей. Но когда финансовые отчисления превышают фактически осуществленные текущие расходы, не всегда должным образом учитывают влияние этого соотношения на занятость. Между тем сумма такого превышения не используется непосредственно для текущих инвестиций, а тем самым ее как бы не существует и для оплаты потребления. Поэтому указанная сумма должна уравновешиваться новыми инвестициями, тогда как спрос на новые инвестиции совершенно не зависит от текущего обновления старого оборудования обновления, осуществляемого за счет накопленных финансовых отчислений. В результате этого фактически осуществляемые новые инвестиции, которые обеспечивают текущий доход, соответственно уменьшаются, и требуется еще более интенсивный спрос на новые инвестиции, для того чтобы сделать возможным данный уровень занятости. Примерно те же соображения применимы и к амортизационным отчислениям, включаемым в состав издержек использования, в той мере, в какой фактически не компенсируется износ старого оборудования.
Рассмотрим, к примеру, жилой дом, который остается заселенным до тех пор, пока он не будет снесен или заброшен. Если известная сумма, списываемая с его стоимости и накапливаемая за счет ежегодной арендной платы, уплачиваемой квартиросъемщиками, не расходуется домовладельцем на ремонтные работы и вместе с тем не рассматривается им как чистый доход, предназначенный для потребления, то такие отчисления оказываются фактором, ухудшающим условия занятости в течение всего срока службы дома, до тех пор пока эти средства внезапно не расходуются в один прием, когда дом нужно отстроить заново.
В условиях стационарного функционирования экономики об этом можно было бы и не упоминать, поскольку ежегодные отчисления на амортизацию старых домов в точности «уравновешивались» бы постройкой новых домов взамен тех, которые в этом году завершили срок своей службы. Но подобные факторы могут играть важную роль при нестационарном функционировании экономической системы, особенно на протяжении периода, непосредственно следующего за «приливом» инвестирования в капитальное имущество с длительным сроком функционирования. В этих обстоятельствах весьма крупная доля новых инвестиций может быть поглощена возросшими финансовыми отчислениями – списаниями, отражающими уменьшение ценности уже существующего капитального оборудования; и хотя функционирующее в это время оборудование со временем постепенно изнашивается, далек еще тот момент, когда расходы на их ремонт и восстановление смогут как-то приблизиться к полной сумме производимых финансовых отчислений. В результате доходы не могут подняться выше некоторого довольно низкого уровня, который соответствует сравнительно небольшим масштабам совокупных чистых инвестиций.
Таким образом, накопление фондов погашения и т. п. обычно порождает тенденцию к сокращению покупательной способности потребителя задолго до того, как потребность в расходах по обновлению (для которого указанные фонды и предназначаются) вступит в действие. Иными словами, эти фонды уменьшают текущий эффективный спрос и увеличивают его только в том году, когда такое возобновление фактически имеет место. Если влияние этого фактора еще отягощается «финансовым благоразумием», побуждающим предпринимателей списывать первоначальную стоимость капитального оборудования быстрее, чем это имущество действительно изнашивается, то накапливающиеся последствия этого процесса могут оказаться очень серьезными.
* * *
Приведенные выше соображения можно считать некоторым отступлением от основной темы. Но очень важно подчеркнуть, насколько велик тот вычет, который приходится делать из дохода общества, уже владеющего крупным запасом капитала, для того чтобы определить величину чистого дохода, которым в обычных условиях общество располагает для потребления. Ведь если мы упустим это из виду, мы рискуем недооценить сильное неблагоприятное воздействие, которому склонность к потреблению может подвергаться даже в тех случаях, когда население готово потреблять очень крупную долю чистого дохода. Давно известно, что потребление представляет собой единственную цель всякой экономической деятельности. Возможности увеличения числа занятых рабочих и служащих неизбежно ограничены масштабами совокупного спроса. Совокупный спрос может быть порожден лишь текущим потреблением (либо же нынешними приготовлениями, обеспечивающими будущее потребление). Предстоящее потребление, которое мы можем заранее обеспечить на выгодных для себя условиях, нельзя бесконечно отодвигать в будущее. Общество в целом не может создать условия для будущего потребления с помощью одних лишь финансовых операций, оно может сделать это только путем расширения физического объема текущего производства. При нашей общественной и коммерческой организации финансовое обеспечение будущего отделено от его реального обеспечения, так что усилия по организации первого из этих видов обеспечения не влекут за собой с необходимостью и другого; поэтому «финансовое благоразумие» обычно будет порождать тенденцию к сокращению совокупного спроса, а тем самым будет, как свидетельствуют многие примеры, оказывать неблагоприятное воздействие на материальное положение населения. Мало того, чем в большей мере мы сумели обеспечить предстоящее потребление, тем труднее найти что-либо в будущем, о чем следовало бы позаботиться в настоящее время, и тем больше оказывается наша зависимость от текущего потребления как источника спроса. Однако чем крупнее наши доходы, тем больше, к несчастью, разница между нашими доходами и нашим потреблением.
Таким образом, до тех пор, пока не появятся какие-то новые виды хозяйственных операций, не существует, как мы увидим, другого решения задачи, кроме безработицы, которая повлечет за собой такое снижение доходов, что наше потребление будет отставать от нашего дохода не больше, чем на эквивалент предназначенной для будущего потребления продукции – продукции, которую выгодно создавать сейчас.
Можно подойти к этому вопросу и следующим образом. Потребление удовлетворяется частью предметами, произведенными в настоящее время, и частью предметами, которые были произведены раньше (иначе говоря, потребление частично удовлетворяется посредством дезинвестиций). В той мере, в какое потребление удовлетворяется последним способом, размеры текущего спроса сокращаются, поскольку соответствующая часть текущих расходов не возвращается в кругооборот и не предстает в форме компонента чистого дохода. Напротив, всякий раз, когда предмет производится в течение данного периода с целью удовлетворения будущего потребления, имеет место расширение текущего спроса. Всякие инвестиции предназначены для того, чтобы раньше или позже иметь своим результатом дезинвестиции соответствующих запасов. Таким образом, размеры новых инвестиций всегда должны быть настолько больше, чем дезинвестиции, чтобы заполнялся разрыв между чистым доходом и потреблением, причем эта проблема становится все более острой по мере увеличения капитала. Новые инвестиции могут производиться в размерах, превосходящих текущие дезинвестиции, лишь в тех случаях, когда можно рассчитывать, что расходы на потребление в будущем возрастут. Всякий раз, как только мы обеспечиваем сегодняшнее равновесие путем увеличения инвестиций, мы усугубляем трудности, связанные с обеспечением завтрашнего равновесия. Уменьшение склонности к потреблению в настоящем может только тогда быть приспособлено к общественной выгоде, если в будущем ожидается увеличение склонности к потреблению. Вспомним «Басню о пчелах» – будущие удовольствия совершенно неизбежно порождают причину сегодняшних забот.
Любопытно отметить, что общественное мнение осознает неизбежность осложнений в будущем, по-видимому, лишь в тех случаях, когда дело касается общественных инвестиций, например строительства дорог, жилых домов и т. п. Обычное возражение против планов увеличения занятости с помощью инвестиций, осуществляемых центральным правительством и муниципальными органами, состоит в том, что тем самым создается источник возникновения трудностей в будущем. В таких случаях обычно задают вопрос: «Что вы будете делать, когда построите все дома и дороги, городские общественные здания, электросети, водопровод и т. д. – все то, что может потребоваться тому же самому количеству людей в будущем?». Трудней, однако, осознать, что та же проблема возникает и при осуществлении частных инвестиций, и особенно в ситуации промышленного подъема; ведь в последнем случае намного легче заметить довольно быстрое насыщение спроса на новые фабрики и заводы (когда строительство отдельного нового предприятия поглощает сравнительно небольшую сумму денег), чем насыщение спроса на жилые дома.
В рассмотренных примерах (так же как и во многих академических дискуссиях, посвященных теории капитала) ясному пониманию вопроса препятствует недооценка следующего факта: капитал не является некой замкнутой в себе субстанцией, которая существует как бы независимо от потребления. Напротив, всякое ослабление склонности к потреблению, которое, как можно полагать, превращается в постоянную привычку, должно приводить не только к сокращению спроса на потребительские товары, но и к уменьшению спроса на капитал.
* * *
Нам остается рассмотреть другую группу факторов, влияющих на величину потребления при данном уровне дохода; мы имеем в виду те субъективные и социальные мотивы, которые определяют размеры расходов при данном совокупном доходе (выраженном в единицах заработной платы) и при данных воздействующих на склонность к потреблению объективных факторах, которые мы уже рассмотрели выше. Поскольку, однако, анализ субъективных факторов не связан с рассмотрением каких-либо существенно новых вопросов, достаточно лишь перечислить наиболее важные моменты, не останавливаясь на этом более подробно.
Существует, вообще говоря, восемь основных стимулов или целей, которые носят субъективный характер; все они побуждают людей воздерживаться от расходования получаемого ими дохода. Речь идет о стремлениях:
1. Образовать резерв на случай непредвиденных обстоятельств.
2. Обеспечить сбережения, поскольку уже теперь можно предусмотреть, что предстоящее отношение между доходами отдельного человека или семьи и его (их) нуждами будет отличаться от отношения, которое сложилось в настоящее время; в качестве примера можно сослаться на накопление сбережений в связи с необходимостью позаботиться о старости, предоставить членам семьи возможность получить образование или содержать иждивенцев.
3. Обеспечить себе доход в форме процента, а также воспользоваться увеличением ценности имущества, поскольку большему реальному потреблению в будущем отдают предпочтение по сравнению с меньшим немедленным потреблением.
4. Иметь возможность постепенно увеличивать свои будущие расходы, так как это соответствует широко распространенному подсознательному желанию видеть в будущем постепенное повышение, а не понижение своего жизненного уровня (даже в том случае, когда сама способность пользоваться жизненными благами может убывать).
5. Наслаждаться чувством независимости и возможностью самостоятельных решений (даже не имея ясного представления или определенных намерений относительно тех или иных конкретных будущих действий).
6. Обеспечить себе резерв, позволяющий осуществлять спекулятивные или коммерческие операции.
7. Оставить наследникам состояние.
8. Просто удовлетворить чувство скупости как таковое, иначе говоря, реализовать ни на чем не основанное, но стойкое предубеждение против самого акта расходования денег.
Эти восемь стимулов могут быть названы Осторожностью, Предусмотрительностью, Расчетливостью, Стремлением к лучшему, Независимостью, Предприимчивостью, Гордостью и Скупостью. Можно составить аналогичный список соответствующих стимулов к потреблению, а именно: Желание пользоваться жизнью, Недальновидность, Щедрость, Нерасчетливость, Тщеславие, Мотовство.
Помимо сбережений, накапливаемых отдельными лицами, значительная часть доходов, составляющая, вероятно, от 1/3 до 2/3 всего накопления в современных промышленно развитых странах, таких как Великобритания или Соединенные Штаты, сберегается центральными правительствами и местными органами власти, коммерческими корпорациями и прочими учреждениями и организациями по мотивам во многом сходным, но все же не тождественным с теми, которыми руководствуются отдельные лица. Здесь действуют четыре главных мотива:
1. Предприимчивость, иначе говоря, желание обеспечить ресурсы для осуществления дальнейших капиталовложений, не прибегая при этом к долгам или к помощи рынка капиталов.
2. Стремление к лучшему – желание обеспечить себя ликвидными ресурсами на случай непредвиденных обстоятельств, трудностей и депрессий.
3. Стремление к ликвидности – желание обеспечить постепенное возрастание доходов, что, кстати сказать, страхует высших должностных лиц от критики, так как возрастание доходов в результате накопления редко отличают от увеличения прибыли в результате лучшего ведения дел.
4. «Финансовое благоразумие» и стремление к «респектабельности» фирмы. Эти мотивы приводят к накоплению резерва финансовых отчислений в размерах, превышающих издержки использования и добавочные издержки; в результате этого имеющиеся долги погашаются и ценность капитального имущества списывается не с запозданием, а «раньше срока», до того как фирма столкнется с физическим или моральным износом указанного имущества. Интенсивность, с которой реализуется этот мотив, зависит главным образом от размеров используемого капитального оборудования, от характера оборудования и темпов технического прогресса.
Этим стимулам, которые сдерживают расходование части доходов на потребление, в некоторых случаях противостоят иные мотивы – мотивы, которые влекут за собой превышение потребления над доходом. Некоторые из названных выше индивидуальных стимулов к сбережению по самой своей природе предполагают отрицательное сбережение в следующий период. Это относится, например, к сбережениям, накапливаемым в целях содержания семьи или для обеспечения старости. Помощь безработным, которая осуществляется за счет средств, получаемых от размещения займов, лучше всего считать отрицательными сбережениями.
Сила всех этих мотивов будет резко меняться в зависимости от характера существующих инструментов и экономической структуры рассматриваемого нами общества, в зависимости от привычек, создаваемых расовыми особенностями, уровнем образования условностями, религией, существующими представлениями о морали, в зависимости от преобладающих в настоящее время надежд и прошлого опыта, от масштабов наличных производственных мощностей и их технического уровня, от господствующих форм распределения богатства и установившегося уровня жизни. В настоящей книге мы не будем, однако, рассматривать (кроме отдельных отступлений) результаты далеко идущих социальных изменений или постепенное влияние векового прогресса. Мы будем полагать заранее заданным, так сказать, основной «фон» субъективных стимулов к сбережению и, соответственно, к потреблению. Поскольку распределение богатства определяется более или менее постоянной социальной структурой общества, оно тоже должно рассматриваться как фактор, подверженный лишь медленному изменению в течение длительного периода, – фактор, который при рассмотрении данной проблемы мы можем считать заранее заданным.
* * *
Поскольку, таким образом, основной «фон» субъективных и социальных стимулов меняется сравнительно медленно, а влияние изменений нормы процента и других объективных факторов на протяжении коротких промежутков времени имеет обычно лишь второстепенное значение, из всего сказанного мы можем заключить, что кратковременные изменения в потреблении зависят главным образом от того, с какой быстротой осуществляется переход к новому уровню текущего дохода (измеряемого в единицах заработной платы), а не от изменений в склонности к потреблению при данном уровне дохода.
Мы должны, однако, предостеречь здесь от возможной ошибки. Из сказанного выше действительно следует, что влияние умеренных изменений нормы процента на склонность к потреблению обычно невелико. Но это не означает, что изменения нормы процента оказывают лишь небольшое влияние на фактические размеры сбережения и потребления. Совсем наоборот. Влияние изменений нормы процента на фактически сберегаемые суммы чрезвычайно важно; но все дело в том, что такое воздействие обычно осуществляется в направлении, противоположном тому, какое обычно имеют в виду. Ведь если даже соблазн более крупных будущих доходов, которые обеспечивают переход к более высокой норме процента, привел бы к уменьшению склонности к потреблению, то и в этом случае можно было бы с уверенностью утверждать, что рост процента приводит к сокращению действительно сберегаемой суммы денег. Дело в том, что общая сумма сбережений определяется размерами совокупных инвестиций; рост нормы процента (если только он не компенсируется соответствующим смещением кривой спроса на инвестиции) повлечет за собой падение инвестиций; поэтому повышение нормы процента должно привести к уменьшению доходов до уровня, при котором сбережения сократятся в той же мере, что и инвестиции. Поскольку доходы снизятся на большую абсолютную величину, чем инвестиции, то действительно оказывается верным положение, согласно которому с ростом нормы процента размеры потребления уменьшаются. Но это не означает, что тем самым создаются более широкие возможности для сбережений. Напротив, в этом случае сокращаются как сбережения, так и расходы на потребление.
Таким образом, если бы даже рост нормы процента побуждал общество сберегать сравнительно большую часть данного дохода, мы можем быть совершенно уверены в том, что рост нормы процента (предполагая, что не происходит благоприятных смещений кривой спроса на инвестиции) повлечет за собой сокращение фактических размеров совокупных сбережений. С помощью аналогичных рассуждений мы можем даже определить, насколько именно при прочих равных условиях рост нормы процента понизит доход. Доходы должны будут упасть как раз настолько, чтобы при заданной склонности к потреблению сбережения снизились на ту же самую сумму, на которую при существующей предельной эффективности капитала уменьшатся инвестиции в результате повышения нормы процента (тот же эффект может быть достигнут в результате соответствующего перераспределения доходов). В следующей главе мы займемся более подробным исследованием этой стороны дела.
Рост нормы процента мог бы побудить нас сберегать больше, если бы наши доходы оставались неизменными. Но раз более высокая норма процента оказывает неблагоприятное воздействие на инвестиции, то наши доходы не останутся и не могут остаться неизменными. Они неизбежно будут падать до тех пор, пока сокращающиеся возможности сбережения не уравновесят в достаточной степени стимулы к сбережению, создаваемые более высокой нормой процента. Чем больше мы добродетельны, чем больше намеренно руководствуемся чувством бережливости, чем упрямее придерживаемся ортодоксальных правил в сфере национальных финансов, а также в наших личных финансовых операциях, тем больше должны падать наши доходы, когда рост процента увеличивает разрыв между нормой процента и предельной эффективностью капитала. Упрямство может повести только к наказанию, а не к вознаграждению. Таков неизбежный результат.
Таким образом, в конечном счете фактические размеры совокупных сбережений и потребительских расходов не зависят от Осторожности, Предусмотрительности, Расчетливости, Стремления к лучшему, Независимости, Предприимчивости, Гордости или Скупости. Ни добродетель, ни порок не играют здесь никакой роли. Все зависит от того, насколько благоприятна для инвестиций норма процента (сравниваемая с предельной эффективностью капитала). Но в таком утверждении все же содержится, пожалуй, некоторое преувеличение. Если бы норма процента регулировалась таким образом, чтобы постоянно поддерживать полную занятость, тогда добродетель могла бы быть восстановлена в правах; темпы накопления капитала тогда действительно зависели бы от того, насколько ослаблена склонность к потреблению.
Таким образом, дань, которую представители классической экономической теории отдают добродетели, опять-таки вытекает из их молчаливого допущения, будто норма процента всегда именно так и регулируется.
Государственные программы в экономике
Мы установили, что занятость может возрастать только параллельно с увеличением инвестиций. Мы можем теперь продвинуться дальше в изучении этого соотношения. При данных обстоятельствах может быть установлено определенное соотношение между доходом и инвестициями – будем называть его мультипликатором, – а также допущено некоторое упрощение между совокупной занятостью и занятостью, непосредственно связанной с инвестициями (которую мы будем называть первичной занятостью). Дальнейший анализ этой проблемы представляет собой неотъемлемую часть нашей теории занятости, так как им устанавливается (предполагая, что склонность к потреблению задана) точное соотношение между совокупной занятостью и доходом с одной стороны и масштабами инвестиций – с другой.
Понятие мультипликатора впервые было введено в экономическую теорию Р. Ф. Каном в его статье «Отношение внутренних инвестиций к безработице». Основное положение, из которого он исходил в этой статье, заключается в следующем: если принять, что склонность к потреблению, а также некоторые другие условия в различных гипотетических обстоятельствах заданы, и если представить себе, что монетарные органы или какие-либо другие государственные органы примут меры, направленные на стимулирование или замедление инвестиций, то изменения в величине занятости окажутся функцией от изменений в сумме чистых инвестиций. Кан видел свою цель в том, чтобы установить общие принципы, с помощью которых можно исчислить количественное отношение между приростом чистых инвестиций и вызываемым им приростом совокупной занятости. Однако, прежде чем перейти к рассмотрению мультипликатора, целесообразно ввести понятие предельной склонности к потреблению.
Колебания размеров реального дохода представляют собой результат приложения различного объема занятости (т. е. различного количества единиц труда) к данному капиталистическому имуществу, так что реальный доход увеличивается и уменьшается вместе с числом используемых единиц труда. Если, как мы вообще полагаем, с ростом числа единиц труда, затрачиваемых при неизменных размерах капитального оборудования, имеет место убывание доходности, то доход (измеряемый в единицах заработной платы) будет увеличиваться быстрей, чем объем занятости, а последний, в свою очередь, будет возрастать более чем пропорционально величине реального дохода (измеряемого, если это возможно, в натуральном выражении).
Реальный доход (измеряемый в натуральном выражении) и доход (измеряемый в единицах заработной платы) будут, однако, увеличиваться и уменьшаться параллельно; это относится к коротким промежуткам времени, в течение которых размеры капитального имущества остаются практически неизменными. Поскольку же реальный доход (в натуральном выражении) может не поддаваться точному измерению, во многих случаях удобней рассматривать доход, выраженный в единицах заработной платы (Yw), как показатель, достаточно точно улавливающий изменения в реальном доходе. В некоторых случаях нам нельзя упускать из виду тот факт, что Yw, как правило, возрастает и убывает в большей пропорции, чем реальный доход; но в других случаях то обстоятельство, что они всегда испытывают изменения в одном и том же направлении, позволяет нам беспрепятственно переходить от одной величины к другой.
Поэтому и обычный психологический закон, согласно которому при увеличении или уменьшении реального дохода общества размеры совокупного потребления будут меняться в том же направлении, но не с такой быстротой, можно сформулировать, правда не с абсолютной точностью, но с такими оговорками, которые являются очевидными и легко могут быть представлены с достаточной полнотой в формальном виде, прибегнув к следующим положениям: величины Cw и Yw имеют одинаковый знак, но Yw > Cw, где Cw представляет собой потребление, выраженное в единицах заработной платы.
Мы можем определить предельную склонность к потреблению как dCw/dYw. Эта величина играет весьма существенную роль; она показывает, как очередное увеличение продукции будет разделено между потреблением и инвестициями. Ведь Yw = Cw + Iw, где Cw и Iw представляют собой соответственно приращения потребления и инвестиций. Таким образом, мы можем записать следующее соотношение: Yw = kIw, где величина равна предельной склонности к потреблению.
Назовем k мультипликатором инвестиций. Из сказанного выше следует характеристика мультипликатора инвестиций: когда происходит прирост общей суммы инвестиций, то доход увеличивается на сумму, которая в k раз превосходит прирост инвестиций.
* * *
Рассматривавшийся Каном мультипликатор несколько отличается от приведенного выше. Будем обозначать мультипликатор Кана символом k’; этот показатель можно назвать мультипликатором занятости, поскольку с его помощью измеряется отношение между увеличением совокупной занятости и приращением первичной занятости в отраслях, непосредственно связанных с инвестициями. Иными словами, если приращение инвестиций Iw ведет к увеличению первичной занятости N2 в отраслях, непосредственно связанных с инвестициями, то прирост всей занятости составит N = k’N2. Вообще говоря, нет оснований полагать, что k = k’. Мы не можем считать, что в различных отраслях экономики соответствующие отрезки функции совокупного предложения всегда имеют такую форму, при которой отношение между увеличением занятости в одной группе отраслей к приращению спроса, который оно вызывает, будет тем же самым, что и для другой группы отраслей.
Действительно, легко можно представить случай (например, если предельная склонность к потреблению существенно отличается от средней склонности к потреблению), когда все доводы будут склоняться к тому, что величины и не равны между собой, поскольку темпы, которыми меняется спрос на потребительские блага, будут сильно отличаться от темпов изменения спроса на капитальные блага. Если бы мы захотели принять во внимание возможные различия в форме соответствующих отрезков кривых, характеризующих функции совокупного спроса для двух названных групп отраслей, то могли бы без особого труда изложить вышеприведенную аргументацию в более общей форме. Но для выяснения интересующего нас вопроса удобнее рассмотреть упрощенный случай, когда k = k’.
Допустим, что при сложившейся потребительской психологии общества оно потребляет, скажем, 9/10 приращения дохода. Тогда из всего сказанного следует, что мультипликатор будет равен 10 и совокупная занятость, вызванная, например, увеличением общественных работ, окажется в 10 раз больше первичной занятости, обеспечиваемой непосредственно самими общественными работами (при этом предполагается, что не происходит сокращения инвестиций в других сферах). Увеличение занятости может ограничиваться первичной занятостью, непосредственно связанной с расширением общественных работ, только в том случае, если общество, несмотря на наблюдающийся рост занятости, а следовательно, и реального дохода, будет сохранять свое потребление на прежнем уровне. Если же, с другой стороны, общество будет стремиться потребить целиком любое приращение дохода, тогда равновесие не может быть достигнуто ни при каком уровне цен и цены будут расти безгранично. При обычных предпосылках относительно поведения участников экономического процесса увеличение занятости только тогда может сопровождаться уменьшением потребления, если в то же самое время происходит изменение в склонности к потреблению, например во время войны в результате пропаганды в пользу ограничения личного потребления. И только в этом случае увеличение занятости, которая непосредственно связана с инвестициями, будет сочетаться с неблагоприятными изменениями, которые испытывает занятость в отраслях, производящих потребительские блага.
Все сказанное лишь как бы подытоживает и придает более точное количественное выражение тому, что теперь должно быть понятно читателю из общих соображений. Приращение инвестиций (выраженное в единицах заработной платы) не может иметь места, если участники экономического процесса не готовы увеличить свои сбережения (также выраженные в единицах заработной платы). Исходя из повседневного опыта, можно предположить, что участники экономического процесса не сделают этого, если их совокупный доход (выраженный в единицах заработной платы) не возрастает. Стремление населения потребить часть своих возросших доходов будет стимулировать расширение производства, до тех пор пока новый уровень (и новое распределение) доходов не обеспечит возможностей для накопления из текущих доходов сбережений, величина которых соответствует увеличившимся размерам инвестиций. Величина мультипликатора показывает, насколько должна возрасти занятость, для того чтобы вызвать такое увеличение реального дохода, которое может побудить участников хозяйственного процесса отложить необходимую сумму добавочных сбережений; значения мультипликатора представляют собой функцию от психологических склонностей населения. Если сравнить сбережения с пилюлей, а потребление – с джемом, которым ее заедают, то добавка варенья должна находиться в определенной пропорции к размерам дополнительной пилюли. Если только психологические склонности участников экономического процесса действительно оказываются примерно такими, какими мы их здесь предполагали, то можно считать, что существует закон, согласно которому расширение занятости, непосредственно связанное с инвестициями, неизбежно должно оказать стимулирующее влияние и на те отрасли, которые производят потребительские блага, и, таким образом, повести к увеличению совокупной занятости, причем такое увеличение превосходит прирост первичной занятости, непосредственно связанной с дополнительными инвестициями.
Из сказанного следует, что если предельная склонность к потреблению приближается к единице, то небольшие колебания в размерах инвестиций повлекут за собой интенсивные колебания занятости; в то же самое время сравнительно небольшой прирост инвестиций поведет к достижению полной занятости. Если, с другой стороны, предельная склонность к потреблению немногим отличается от нуля, то небольшие колебания в размерах инвестиций будут вызывать малые изменения в размерах занятости, и тогда для того, чтобы достигнуть полной занятости, может потребоваться большой прирост инвестиций. В первом случае вынужденная безработица оказалась бы легко излечиваемой болезнью (хотя такая болезнь, конечно, могла бы осложниться, если дать ей развиться). Во втором случае занятость была бы не столь изменчивой, но она проявляла бы склонность стабилизироваться на низком уровне и упорно не поддавалась бы лечению; в такой ситуации могли бы помочь только самые сильнодействующие средства. В действительной жизни предельная склонность к потреблению, по-видимому, расположена где-то в промежутке между этими двумя описанными крайними ситуациями, хотя и много ближе к единице, чем к нулю. В результате нам приходится в известном смысле иметь дело с отрицательными сторонами обеих обрисованных гипотетических ситуаций, поскольку колебания занятости весьма значительны и в то же самое время увеличение инвестиций, необходимое для достижения полной занятости, оказывается слишком большим, для того чтобы его можно было обеспечить без особого труда. К несчастью, колебания были достаточно велики, чтобы замаскировать истинную природу болезни, а между тем указанные колебания настолько серьезны, что их невозможно устранить, не поняв их природу.
Как только полная занятость достигнута, всякая попытка еще больше увеличить инвестиции независимо от величины предельной склонности к потреблению повлечет за собой тенденции к безграничному росту цен, иначе говоря, в такой ситуации мы достигли бы состояния подлинной инфляции. Но вплоть до этого момента рост цен будет сочетаться с увеличением совокупного реального дохода.
* * *
До сих пор мы рассматривали увеличение чистой ценности инвестиций. Если мы хотим, не делая особых оговорок, применить все вышесказанное при анализе влияния, которое может оказать, скажем, расширение общественных работ, то мы должны допустить, что их эффект не ослабляется в связи с сокращением инвестиций в других сферах, а также, конечно, что не происходит изменений в склонности общества к потреблению. Ведь в реальной жизни на конечный результат влияют не только тот или иной прирост инвестиций данного вида, но и различные другие факторы. Перечислим эти факторы.
1. Специфические методы финансирования государственных мероприятий и увеличение суммы активно используемых денежных остатков, сопровождающие расширение занятости и связанный с этим рост цен, могут вызвать повышение нормы процента и тем самым оказать неблагоприятное влияние на процессы инвестирования в других сферах, если только органы, регулирующие денежное обращение, не предусмотрят соответствующих противодействующих мероприятий. Между тем увеличение ценности капитальных благ в то же самое время уменьшит предельную эффективность их использования частными инвесторами; поэтому на самом деле потребуется уменьшение нормы процента, чтобы компенсировать неблагоприятное влияние этого процесса.
2. В условиях путаницы, которая часто господствует в умах, правительственная программа, оказывая влияние на степень «уверенности» участников экономического процесса, может повлечь за собой увеличившееся предпочтение ликвидности или снизившуюся предельную эффективность капитала, что опять-таки может замедлить другие инвестиции, если не будут приняты специальные противодействующие меры.
3. В открытой экономической системе с внешнеторговыми связями воздействие возросших инвестиций в некоторой части будет сказываться на занятости не в своей стране, а в иностранных государствах, так что увеличение потребления в какой-то степени ослабит благоприятный внешнеторговый баланс собственной страны. Поэтому если иметь в виду только влияние на внутреннюю занятость, отвлекаясь от занятости во всем мире, то следует соответственно уменьшить численное значение мультипликатора. С другой стороны, наша собственная страна может как бы наверстать известную долю такой «утечки» вследствие того, что мультипликационные процессы, протекающие в другом государстве, оказывают благоприятное воздействие на экономическую активность в нашей стране.
Далее, если речь идет о существенных изменениях, то нужно учесть также прогрессирующее изменение предельной склонности к потреблению, так как отрезок кривой, рассматриваемый при исчислении предельных величин, постепенно смещается, а значит, меняется и величина мультипликатора. Предельная склонность к потреблению может менять значение с переходом к новому уровню занятости, и весьма вероятно, что чаще всего мы будем наблюдать тенденцию к уменьшению предельной склонности к потреблению по мере роста занятости. Иными словами, по мере того, как реальный доход возрастает, общество желает потреблять постоянно уменьшающуюся его часть.
Наряду с упомянутым выше общим правилом имеются также и другие факторы, которые могут оказать влияние на изменение предельной склонности к потреблению, а вместе с тем и на мультипликатор. И эти «прочие» факторы, по всей видимости, обычно усиливают, а не ослабляют действие общего правила. Прежде всего, в результате эффекта убывающей доходности в течение коротких периодов увеличение занятости будет порождать тенденцию к увеличению той части совокупного дохода, которая попадает в руки предпринимателей. Между тем предельная склонность к потреблению у предпринимателей, вероятно, меньше, чем средняя склонность к потреблению, исчисленная для общества в целом.
Во-вторых, безработица обычно сочетается с отрицательными сбережениями, которые возникают в результате финансовых операций, проводимых частными лицами или государственными учреждениями; дело в том, что безработные могут жить либо на сбережения (принадлежащие им самим или их друзьям), либо на средства общественной помощи, которая частично финансируется за счет выпуска займов. Обратный приток на работу должен постепенно уменьшать масштабы таких процессов отрицательного сбережения и поэтому быстрее сокращать предельную склонность к потреблению, чем это происходило бы, если бы реальный доход общества увеличивался в той же пропорции при иных обстоятельствах.
Во всяком случае, мультипликатор, вероятно, будет большим для сравнительно малого увеличения чистой суммы инвестиций, чем для значительного приращения. Поэтому там, где имеются в виду существенные изменения, следует исходить из средней величины мультипликатора, основанной на среднем значении предельной склонности к потреблению в пределах того диапазона, о котором идет речь.
* * *
До сих пор мы предполагали, что изменения в размерах совокупных инвестиций могут быть предусмотрены заблаговременно, так чтобы отрасли промышленности, изготовляющие потребительские блага, могли развиваться параллельно с отраслями, производящими капитальные блага, и цены потребительских благ не испытывали более резких потрясений, чем это вытекает из самого факта увеличения производимой продукции в условиях убывающей доходности.
Однако для большей общности мы должны рассмотреть также случай, когда первоначальный импульс исходит из расширения производства в отраслях, производящих капитальные блага, причем от такого расширения, которое не было полностью предусмотрено. Ясно, что подобный толчок сможет целиком реализовать свое влияние на занятость только по истечении известного периода времени. Однако при обсуждении данного вопроса я заметил, что этот естественный факт часто приводит к смешению логической теории мультипликатора, правильной применительно к любому моменту времени и не требующей специального учета запаздываний во времени, с последствиями расширения производства в отраслях, производящих капитальные блага, эффект которого сказывается лишь постепенно, с временным лагом и только по прошествии определенного промежутка времени.
Связь между этими двумя явлениями станет ясней, если учесть, во-первых, что непредвиденное или не вполне предвиденное расширение производства в отраслях, производящих капитальные блага, не приводит немедленно к такому же увеличению общей суммы инвестиций, а вызывает их постепенный рост и, во-вторых, что оно может вызвать временное отклонение предельной склонности к потреблению от ее обычного значения, за которым, однако, последует постепенное возвращение к «норме».
Таким образом, на протяжении определенного периода расширение производства в отраслях, производящих капитальные блага, через известные промежутки времени вызывает ряд последовательных приращений в общей сумме инвестиций; вместе с тем в последовательные промежутки времени меняются также значения предельной склонности к потреблению, причем эти значения отличаются как от того, чем они были бы, если бы расширение производства было заранее предусмотрено, так и от той величины, которую они будут составлять, когда в обществе установится новый устойчивый уровень совокупных инвестиций. Но в течение каждого отдельного промежутка времени теория мультипликатора сохраняет силу в том смысле, что приращение совокупного спроса равно увеличению общей суммы инвестиций, помноженному на мультипликатор, численное значение которого определяется предельной склонностью к потреблению.
Для того чтобы четче разграничить две группы указанных факторов, рассмотрим крайний случай, когда расширение занятости в отраслях, выпускающих капитальные блага, оказалось настолько неожиданным, что в первый момент вообще не произошло никакого увеличения производства потребительских благ. В таком случае расширится занятость в отраслях, выпускающих капитальные блага, и те, кто вновь получил работу в указанных отраслях, будут стремиться получить взамен некоторой части своих дополнительных доходов потребительские блага; в результате этого цены потребительских благ будут повышаться, до тех пор пока не будет достигнуто временное равновесие между спросом и предложением. Установлению равновесия будут способствовать повышение цен, побуждающее отложить потребление, перераспределение дохода в пользу «сберегающих» классов (подобное перераспределение доходов оказывается результатом увеличения прибылей в связи с повышением цен) и, наконец, рассасывание запасов под влиянием роста цен. Поскольку равновесие восстанавливается в результате отсрочки в потреблении, имеет место временное сокращение предельной склонности к потреблению, то есть уменьшается численное значение самого мультипликатора. Поскольку же в ходе установления равновесия рассасываются запасы, это означает, что на протяжении рассматриваемого промежутка времени общая сумма инвестиций увеличивается медленней, чем расширяются инвестиции в отрасли, производящие капитальные блага. Или, иначе говоря, подлежащая умножению величина не увеличивается на всю сумму приращения инвестиций в отраслях, выпускающих капитальные блага. Однако с течением времени отрасли, производящие потребительские блага, приспосабливаются к новому уровню спроса, и тогда (поскольку происходит удовлетворение отложенных потребностей) предельная склонность к потреблению на протяжении некоторого времени оказывается выше обычной, как бы компенсируя ее недостаточность в предшествующий период; в конечном счете предельная склонность к потреблению возвращается к нормальному уровню. В то же время восстановление запасов до их прежней величины приводит к тому, что приращение общей суммы инвестиций временно обгоняет увеличение инвестиций в отраслях, производящих капитальные блага (накопление дополнительного оборотного капитала, связанное с расширением объема производства, также временно действует в том же направлении).
Тот факт, что непредвиденные изменения полностью оказывают свое влияние на размеры занятости лишь по истечении известного промежутка времени, играет существенную роль при решении ряда проблем. В частности, его необходимо принять во внимание при исследовании экономического цикла (подход к анализу этого вопроса излагается в моей работе «Трактат о деньгах»). Но этот факт нисколько не подрывает значения теории мультипликатора, как она была изложена в этой книге; несмотря на существование временных лагов, мультипликатор все же может служить мерилом совокупного увеличения занятости, которое, как можно ожидать, повлечет за собой расширение производства в отраслях, выпускающих капитальные блага. Больше того, за исключением тех случаев, когда отрасли, производящие потребительские блага, уже работают почти на полную мощность – так что увеличение продукции требует расширения предприятий, а не только более интенсивного использования имеющегося оборудования, – нет оснований полагать, что потребуется сколько-нибудь значительный промежуток времени, прежде чем занятость в отраслях, выпускающих потребительские блага, не начнет повышаться параллельно с занятостью в отраслях, производящих капитальные блага, и численное значение мультипликатора не установится вблизи от его нормального уровня.
* * *
Как уже отмечалось, чем больше предельная склонность к потреблению, тем больше величина мультипликатора и, значит, тем больше сдвиги в занятости, вызываемые данным изменением в размерах инвестиций. Кажется, что это может привести нас к следующему парадоксальному заключению: бедное общество, в котором сберегается очень малая доля дохода, подвержено более резким колебаниям, чем богатое общество, где сберегается большая доля дохода и поэтому меньше величина мультипликатора.
Однако подобное заключение упускает из виду различие между влиянием, которое оказывают предельная склонность к потреблению и средняя склонность к потреблению. Хотя при высокой предельной склонности к потреблению данное процентное изменение инвестиций дает сравнительно больший мультипликационный эффект, все же в абсолютном выражении указанный эффект будет невелик, если и средняя склонность к потреблению также высока. Это можно проиллюстрировать следующим числовым примером.
Предположим, что склонность общества к потреблению такова, что, до тех пор пока его реальный доход не превышает продукции, получаемой в результате соединения 5 млн человек с имеющимися в наличии производственными мощностями, оно потребляет весь свой доход. Допустим также, что из продукции дополнительно занятых 100 тыс. человек оно потребляет 99 %, из продукции следующих 100 тыс. – 98 %, еще дополнительных 100 тыс. – 97 % и т. д. и что при увеличении численности рабочих и служащих до 10 млн человек достигается полная занятость.
Когда занято 5200 тыс. человек, мультипликатор очень велик (он равен 50), но инвестиции представляют собой лишь ничтожную долю – 0,06 % текущего дохода. Если даже инвестиции сократятся очень резко, скажем на 2/3, то занятость снизится лишь до 5100 тыс. человек, т. е. примерно на 2 %. С другой стороны, когда занято 9 млн человек, предельный мультипликатор сравнительно мал, а именно 2,5, но инвестиции теперь составляют существенную часть – 9 % текущего дохода, и поэтому если инвестиции сокращаются на 2/3, то занятость снизится до 6900 тыс., т. е. на 23 %. В пределе, когда инвестиции падают до нуля, в первом случае занятость снизится только на 4 %, тогда как в последнем случае она сократится на 44 %.
В приведенном выше примере более бедное из двух сравниваемых обществ оказывается более бедным вследствие более низкого уровня занятости. Но то же самое рассуждение применимо и к случаям, когда бедность обусловлена более низкой квалификацией используемых рабочих и служащих, худшей техникой или меньшими размерами капитального имущества. Таким образом, хотя в бедном обществе размеры мультипликатора сравнительно велики, влияние колебаний в размерах инвестиций на занятость окажется много сильней в богатом обществе, так как можно предположить, что именно в последнем текущие инвестиции составляют гораздо большую долю текущей продукции.
Из сказанного также со всей очевидностью следует, что при наших предположениях один и тот же прирост численности людей, привлекаемых к осуществлению общественных работ, сможет оказать значительно большее влияние на совокупную занятость, если оно проводится еще в тот период, когда уровень безработицы особенно высок, чем если оно предпринималось бы поздней, когда экономика приближается к уровню полной занятости. Обратимся к приведенному примеру: если в то время, когда занятость упала до 5200 тыс. человек, на общественных работах будет занято дополнительно еще 100 тыс. человек, совокупная занятость возрастет до 6400 тыс. Но если занятость уже составляет 9 млн человек, прием на общественные работы добавочных 100 тыс. человек вызовет увеличение совокупной занятости только до 9200 тыс. Таким образом, если только сохраняет силу предположение, согласно которому по мере увеличения безработицы все меньшая доля дохода сберегается, во время жестокой безработицы могут многократно «окупаться» даже те общественные работы, финансируемые за счет сокращения расходов на выплату пособий безработным, полезность которых представляется сомнительной. Но то же самое предположение о расширении общественных работ может стать гораздо менее убедительным, по мере того как экономика приближается к уровню полной занятости.
Далее. Если правильно наше предположение, согласно которому предельная склонность к потреблению неуклонно падает с приближением к полной занятости, то отсюда следует, что заданное дальнейшее увеличение занятости все труднее обеспечить путем дополнительного увеличения инвестиций.
* * *
Когда существует вынужденная безработица, то предельная тягость труда неизбежно оказывается меньше, чем полезность предельного продукта. В действительности разрыв между ними может достигать значительных размеров. Ведь для человека, который долго оставался безработным, некоторые трудовые затраты не только не будут в тягость, но, напротив, могут доставлять ему удовлетворение. Если согласиться с этим, тогда приведенные выше соображения показывают, каким образом «непроизводительные расходы», финансируемые с помощью займов, могут тем не менее в итоге обогатить общество. Сооружение пирамид, землетрясения, даже войны могут послужить стимулом к увеличению богатства, если воспитание наших государственных деятелей на принципах классической политической экономии не позволяет выбрать какой-либо лучший путь.
Любопытно, что здравый смысл, пытаясь вырваться из пут нелепых теоретических заключений, склонялся к тому, чтобы предпочесть полностью непроизводительные доходы, финансируемые с помощью займов, частично непроизводительным расходам: ведь о последних, поскольку они не совсем непроизводительные, обычно судят с точки зрения строгих «коммерческих» принципов. Например, решение о помощи безработным, финансируемой за счет займов, как правило, принимают легче, чем решение о таких расходах на совершенствование техники, которые не окупаются исходя из существующей нормы процента. В то же время рытье ям в земле, известное под названием добычи золота, которое не только не прибавляет ничего к действительному богатству мира, но предполагает к тому же дополнительную тягость труда, рассматривается как лучшее из всех решений.
Если бы казначейство наполняло старые бутылки банкнотами, закапывало их на соответствующей глубине в бездействующих угольных шахтах, заполняло эти шахты доверху городским мусором, а затем, наконец, предоставляло бы частной инициативе на основе хорошо испытанных принципов laissez-faire выкапывать эти банкноты из земли (причем, чтобы получить право на такую добычу, требовалось бы, конечно, надлежащим порядком арендовать «банкнотоносную» площадь), то безработица могла бы полностью исчезнуть, а косвенным образом это привело бы, вероятно, к значительному увеличению как реального дохода общества, так и его капитального богатства по сравнению с существующими размерами. Разумеется, более целесообразно было бы строить жилые дома и т. п., но если этому препятствуют политические и практические трудности, то и предлагаемый вариант лучше.
Аналогия между подобным вариантом и реальными процессами добычи золота, в сущности говоря, полная. Как показал опыт, в то время когда на доступной глубине можно добыть достаточное количество золота, реальное богатство мира быстро растет, а когда золота на доступных глубинах мало, наступает застой или упадок. Таким образом, золотые рудники чрезвычайно ценны и важны для цивилизации. Так же как расходы на ведение войны оказываются единственной формой огромных затрат, финансируемых с помощью займов, которую государственные деятели считают оправданной, так и добыча золота представляет собой единственный предлог для такого рытья ям в земле, которое банкиры готовы считать здоровым финансовым предприятием. И тот и другой виды деятельности сыграли свою роль в прогрессе за неимением лучшего. Здесь стоит упомянуть также следующее обстоятельство: наблюдающаяся во время кризисов тенденция к росту цены золота (по сравнению с ценами на труд и материалы) помогает конечному восстановлению хозяйственной активности.
И дело не ограничивается вероятным влиянием увеличенного притока золота на норму процента; когда мы сталкиваемся с ситуацией, исключающей увеличение занятости такими средствами, которые позволяют в то же самое время обеспечить рост запаса полезного богатства, сама добыча золота может по двум причинам рассматриваться как чрезвычайно удобная форма инвестиций. Во-первых, добыча золота представляется особенно привлекательной с точки зрения спекулятивных операций, поэтому и решения насчет такой добычи сравнительно меньше зависят от установившейся на рынке нормы процента. Во-вторых, результат этой деятельности, а именно рост запаса золота, не оказывает влияния на уменьшение его предельной полезности, как это происходит с другими благами. Поскольку ценность дома зависит от его полезности, каждый следующий построенный дом уменьшает ожидаемую величину доходов, которые могло бы принести строительство новых домов, и поэтому делает менее привлекательными дальнейшие инвестиции такого рода (если только норма процента не снижается параллельно с указанным процессом). А плоды, приносимые добычей золота, лишены этого недостатка, и приостановку дальнейшей добычи могло бы вызвать лишь увеличение единицы заработной платы (выраженной в золоте); однако такая ситуация едва ли может иметь место до тех пор, пока уровень занятости существенно не повысится.
Древний Египет был вдвойне счастлив и, несомненно, был обязан своим сказочным богатством тому, что он располагал двумя такими видами деятельности, как сооружение пирамид и добыча благородных металлов, плоды этой деятельности не могли непосредственно удовлетворять нужды человека и не использовались для потребления, а следовательно, и по мере увеличения изобилия они не утрачивали своей ценности. В Средние века строили соборы и служили панихиды. Мы теперь столь тщательно взвешиваем каждое решение, прежде чем увеличить «финансовое бремя», которое возлагается на потомство при сооружении домов, предназначенных для наших детей и внуков, что у нас нет таких легких способов избавить себя от страданий, причиняемых безработицей. И нам приходится принимать такие страдания как неизбежный результат применения к деятельности государства тех заповедей, которые наилучшим образом приспособлены для того, чтобы «приносить обогащение» отдельному человеку.
Заметки об экономическом цикле
Мы полагаем, что в предшествующих главах показали факторы, определяющие объем занятости в каждый данный момент, и если мы правы, то наша теория должна быть пригодной и для объяснения явлений экономического цикла.
Если мы начнем исследовать детально какой-либо отдельный момент экономического цикла, то обнаружим, что положение весьма сложно и для полного объяснения необходим каждый элемент нашего анализа. В частности, мы найдем, что колебания в склонности к потреблению, в состоянии предпочтения ликвидности и в предельной эффективности капитала играют определенную роль. Но я полагаю, что главные черты экономического цикла, и особенно регулярность чередования во времени и его продолжительность, что и оправдывает название цикл, связаны с механизмом, колебаний предельной эффективности капитала. По-моему, лучше всего рассматривать экономический цикл как явление, вызванное циклическими изменениями предельной эффективности капитала, хотя и осложненное и усиленное сопутствующими изменениями других важных краткосрочных переменных экономической системы. Для того чтобы развить это положение, потребовалась бы не глава, а целая книга и было бы необходимо тщательное исследование фактов. Однако, чтобы дать представление о направлении исследования, вытекающем из изложенной теории, достаточно нижеследующих кратких замечаний.
Под циклическим движением мы подразумеваем такое развитие экономической системы, например в сторону подъема, при котором вызывающие его силы накапливаются и усиливают друг друга, но потом постепенно ослабевают, пока в известный момент не замещаются силами, действующими в противоположном направлении. В свою очередь, противодействующие силы крепнут в течение определенного времени и взаимно активизируются, пока и они, достигнув своего максимума, не начинают убывать, уступая место своей противоположности. Под циклическим движением мы понимаем, однако, не только то, что повышательная и понижательная тенденции, раз начавшись, не действуют бесконечно в одном и том же направлении и что в конечном счете они меняют его на противоположное. Мы полагаем также и то, что имеется заметная регулярность в чередовании и продолжительности повышательных и понижательных тенденций.
В экономическом цикле есть и еще одна характерная черта, которую наша теория должна объяснить, если она правильна, а именно явление кризиса, т. е. внезапную и резкую, как правило, смену повышательной тенденции понижательной, тогда как при обратном процессе такого резкого поворота зачастую не бывает.
Любое изменение в инвестициях, которое не компенсируется соответственным изменением склонности к потреблению, приведет, конечно, к изменению занятости. Поскольку объем инвестиций подвержен чрезвычайно сложным влияниям, весьма маловероятно, чтобы все колебания в инвестициях или в предельной эффективности капитала носили циклический характер. Один особый случай, а именно связанный с сельским хозяйством, будет отдельно рассмотрен в последнем параграфе этой главы. Я полагаю, однако, что в силу некоторых определенных причин колебания предельной эффективности капитала в типичных экономических циклах XIX века должны были носить циклический характер. Эти причины достаточно известны и сами по себе, и как объяснение экономического цикла. Моей целью является только увязать их с ранее изложенной теорией.
* * *
Мне удобнее всего начать с последней стадии бума и начала «кризиса».
Предельная эффективность капитала зависит не только от существующего изобилия или недостатка капитальных благ и текущих издержек их производства, но также и от ожидаемой в настоящее время их доходности в будущем. Поэтому в отношении долгосрочных капиталовложений вполне естественно и разумно, что расчеты на перспективу играют доминирующую роль при определении оптимальных размеров новых инвестиций. Но, как мы видели, исходные данные для таких расчетов очень шатки. Будучи основаны на меняющихся и ненадежных показателях, эти расчеты подвержены внезапным и резким изменениям.
Мы привыкли при объяснении «кризиса» обращать особое внимание на повышательную тенденцию нормы процента под влиянием возросшего спроса на деньги как для производственных целей, так и для спекуляции. Временами этот фактор действительно может играть роль усилителя, а иногда от него может даже исходить первоначальный толчок. Но я полагаю, что более типичное, а часто и главное объяснение кризиса надо искать не в росте процента, а во внезапном падении предельной эффективности капитала.
Для последних стадий бума характерна оптимистическая оценка будущей доходности капитальных товаров, достаточно отчетливая, чтобы уравновесить влияние растущего избытка этих товаров и увеличения издержек их производства, а также, вероятно, и повышения нормы процента. Сама природа организованных рынков инвестиций, где преобладают покупатели, зачастую не интересующиеся тем, что они покупают, а также спекулянты, больше занятые предвосхищением ближайшего изменения настроений рынка, чем обоснованной оценкой будущей доходности капитальных товаров, такова, что, когда на рынке, на котором господствуют чрезмерный оптимизм и чрезмерные закупки, начинается паника, она приобретает внезапную и даже катастрофическую силу. Более того, страх и неуверенность в будущем, которые сопутствуют резкому падению предельной эффективности капитала, порождают, естественно, стремительный рост предпочтения ликвидности, а следовательно, и рост нормы процента. Крах предельной эффективности капитала, имеющий тенденцию сопровождаться ростом нормы процента, способен серьезно усилить падение объема инвестиций. И все же существо дела заключается в резком падении предельной эффективности капитала, особенно тех его видов, вложения которых в предыдущей фазе были наиболее крупными. Предпочтение ликвидности, исключая случаи, связанные с ростом торговли и спекуляции, увеличивается только после краха предельной эффективности капитала.
Именно это усложняет выход из кризиса. На более поздней стадии снижение нормы процента будет способствовать оживлению хозяйства и, вероятно, явится даже необходимым его условием. Но на данный момент резкое падение предельной эффективности капитала может оказаться настолько полным, что никакое возможное снижение нормы процента не будет достаточным. Если бы снижение нормы процента могло само по себе быть эффективной мерой, то можно было бы достигнуть оживления в течение довольно короткого периода времени и средствами, находящимися под более или менее прямым контролем финансовых органов. Но в действительности это не так просто: поднять предельную эффективность капитала, зависящую от неуправляемой психологии делового мира, не так легко. Попросту говоря, речь идет о восстановлении доверия, которое столь трудно поддается контролю в экономике частного капитализма. Это и есть та сторона кризиса, которой правильно придают значение банкиры и бизнесмены и которую недооценивают экономисты, полагающиеся на «чисто денежные» мероприятия.
Мы подходим, таким образом, к существу проблемы. Объяснение фактора времени в экономическом цикле, т. е. того обстоятельства, что до начала оживления обычно должен пройти определенный период, следует искать в причинах, обусловливающих восстановление предельной эффективности капитала. Есть причины, связанные, во-первых, с соотношением продолжительности срока службы капитального имущества длительного пользования и нормальных темпов экономического роста в данный период и, во-вторых, с издержками хранения избыточных запасов, вследствие которых длительность понижательной тенденции не является величиной случайной, понижение наступает не так, что в одном случае через год, а в другом – через 10 лет, а с известной регулярностью, скажем каждые 3–5 лет.
* * *
Возвратимся к тому, что происходит во время кризиса. Пока длится бум, многие новые инвестиции дают неплохой текущий доход. Крах надежд наступает вследствие внезапных сомнений в ожидаемой доходности, может быть, потому, что текущая прибыль обнаруживает признаки сокращения по мере постоянного роста запаса вновь произведенных капитальных товаров. Если при этом текущие издержки производства расцениваются как слишком высокие по сравнению с тем, какими они должны быть впоследствии, налицо еще одна причина для ухудшения предельной эффективности капитала. Как только сомнение зарождается, оно распространяется очень быстро. Таким образом, в начальной стадии кризиса окажется, вероятно, много капиталов, предельная эффективность которых сделалась ничтожной или даже превратилась в отрицательную величину. Но промежуток времени, который должен пройти до того момента, пока недостаток капитала вследствие его использования, порчи и морального старения сделается вполне очевидным и вызовет рост его предельной эффективности, может быть довольно устойчивой функцией средней продолжительности службы капитала в данный период. Если характерные черты периода меняются, то вместе с тем изменится и типичный интервал времени. Если, например, от периода роста населения мы перейдем к периоду его сокращения, то определяющая фаза цикла удлинится. Но, как видно из вышесказанного, имеются веские причины, вследствие которых продолжительность кризиса должна находиться в определенной зависимости от продолжительности срока службы капитального имущества длительного пользования и от нормальных темпов роста в данный исторический период.
Второй постоянно действующий временной фактор связан с издержками хранения избыточных запасов, что форсирует их использование в течение известного периода времени, не очень короткого, но и не очень длинного. Внезапное прекращение новых инвестиций капитала после наступления кризиса приводит, по всей вероятности, к накоплению избыточных запасов полуфабрикатов. Хранение этих запасов редко обойдется дешевле 10 % их стоимости в год. Поэтому падение их цены должно быть довольно значительным, чтобы вызвать ограничение производства, обеспечивающее рассасывание этих запасов, предположим, в течение самое большее 3–5 лет. Процесс поглощения запасов представляет собой отрицательные капиталовложения, которые еще больше обостряют проблему занятости, и окончание этого процесса приносит явное облегчение.
Кроме того, уменьшение оборотного капитала, неизбежно сопровождающее сокращение производства в фазе понижения, представляет собой еще один элемент дезинвестиций, который может быть очень значительным, и, как только спад конъюнктуры начинается, это оказывает сильное и прогрессирующее влияние в сторону понижения. В начальной стадии типичного кризиса, вероятно, будут производиться инвестиции в растущие запасы, что будет частично компенсировать сокращение оборотного капитала. В следующей фазе в течение короткого времени может происходить одновременно сокращение и запасов, и оборотного капитала. После того как будет пройдена самая низкая точка падения, вероятно, будет происходить дальнейшее сокращение запасов, которое частично ослабит эффект возобновления вложений в оборотный капитал. И наконец, когда наступит всеобщее оживление, оба упомянутых фактора будут одновременно благоприятствовать инвестициям. Именно на фоне этих явлений нужно исследовать дополнительное и усиливающее воздействие колебаний в размерах инвестиций в производство товаров длительного пользования. Если уменьшение инвестиций этого типа дает толчок циклическому движению, то будет мало оснований для их роста, до тех пор пока не будет пройдена какая-то часть этого цикла.
К сожалению, серьезное падение предельной эффективности капитала отрицательно влияет и на склонность к потреблению. Оно вызывает сильное падение рыночной стоимости ценных бумаг на фондовой бирже. А это оказывает угнетающее влияние на ту категорию людей, которые принимают активное участие в инвестициях на фондовой бирже, особенно если они пользуются заемными средствами. На готовность этих людей тратить, вероятно, больше влияет повышение или падение рыночной стоимости их инвестиций, чем их доходы. Для публики с «биржевой психологией», как, например, в наше время в Соединенных Штатах, повышение на бирже может явиться почти необходимым условием возникновения достаточной склонности к потреблению. И это обстоятельство, на которое до недавнего времени обычно не обращали внимания, очевидно, еще больше усугубляют кризисное влияние падения предельной эффективности капитала.
Когда оживление начинается, механизм, с помощью которого оно «питает» себя и благодаря которому оно само себя «усиливает», вполне понятен. Но в фазе понижения, когда налицо избыток и основного капитала, и материальных запасов, а оборотный капитал сократился, предельная эффективность капитала может упасть так низко, что едва ли ее можно восстановить настолько, чтобы обеспечить приемлемый уровень новых инвестиций с помощью какого-либо практически возможного понижения нормы процента. Итак, при нынешней организации рынков и при тех влияниях, которые на них господствуют, рыночная оценка предельной эффективности капитала может подвергаться таким колоссальным колебаниям, что их нельзя в достаточной мере компенсировать соответствующими изменениями нормы процента. Более того, соответствующие изменения на рынке ценных бумаг могут, как мы видели выше, оказать депрессивное влияние на склонность к потреблению как раз тогда, когда она более всего нужна. В условиях laissez-faire вряд ли поэтому можно избежать широких колебаний в размерах занятости без глубоких изменений в психологии рынка инвестиций, т. е. таких изменений, ожидать которых нет причин. На этом основании я делаю вывод, что регулирование объема текущих инвестиций оставлять в частных руках небезопасно.
* * *
Предшествующий анализ как будто бы совпадает со взглядами тех, кто считает, что характерной чертой бума являются избыточные инвестиции, что устранение избыточных инвестиций представляет собой единственно возможное средство против последующего кризиса и что если по указанным выше причинам кризис нельзя предотвратить посредством низкой нормы процента, то тем не менее можно избежать бума при помощи высокой нормы процента. Действительно, утверждение о том, что высокая норма процента является гораздо более эффективным средством против бума, чем низкая норма процента против кризиса, выглядит довольно убедительно.
Однако делать такой вывод из вышесказанного – это значит неправильно толковать мой анализ; с моей точки зрения, это может привести к серьезным ошибкам. Дело в том, что выражение «избыток инвестиций» страдает крайней неопределенностью. Оно может относиться к инвестициям, результаты которых, вероятно, не оправдывают расчетов тех, кто произвел эти инвестиции, или же к инвестициям, которые невозможно использовать в условиях острой безработицы; или же этот термин может обозначать состояние дел, когда капитальные товары всех видов имеются в таком изобилии, что никакие новые инвестиции даже в условиях полной занятости не могут принести в течение срока своей службы больше, чем стоимость их возмещения. Строго говоря, только в последнем случае можно говорить об избытке инвестиций в том смысле, что всякие дальнейшие вложения были бы чистой растратой ресурсов. Более того, даже если бы понимаемый в этом смысле избыток инвестиций действительно был характерной чертой бума, то и тогда средством его преодоления было бы не повышение нормы процента, которое могло бы тормозить некоторые полезные инвестиции и еще больше уменьшать склонность к потреблению, а принятие жестких мер, таких как перераспределение доходов или других средств, ведущих к увеличению склонности к потреблению.
Однако, согласно моим рассуждениям, о буме можно говорить, что он характеризуется избытком инвестиций только в первом из указанных значений. Ситуация, которую я привел как типичную, характеризуется вовсе не таким избытком капитала, когда общество в целом не может уже с пользой вкладывать дополнительное его количество, а тем, что инвестиции производятся в нестабильных условиях и не могут более продолжаться, поскольку они вызваны необоснованными расчетами.
Конечно, вполне возможно и даже вероятно, что иллюзии бума поведут к производству отдельных видов капитального имущества в таком огромном излишке, что некоторая часть этой продукции будет с любой точки зрения представлять собой бесполезную растрату ресурсов. (К этому можно добавить, что такая ситуация может возникнуть и в том случае, когда никакого бума нет.) Это, так сказать, неоправданные инвестиции. Но самой главной и существенной чертой бума является то, что инвестиции, которые в условиях полной занятости фактически принесут, скажем, 2 %, производятся из расчета получения дохода, скажем, 6 % и соответственно этому оцениваются. Когда же наступает крах иллюзий, то подобные завышенные расчеты сменяются противоположной «ошибкой пессимизма», приводящей к тому, что инвестиции, которые в условиях полной занятости могли бы в действительности принести 2 %, рассматриваются как убыточные. А вытекающее отсюда резкое сокращение новых инвестиций ведет к безработице, и тогда инвестиции, способные принести при полной занятости 2 %, действительно приносят только убыток. Мы оказываемся в таком положении, когда налицо недостаток жилищ и когда тем не менее никто не может себе позволить жить в имеющихся домах.
Таким образом, в условиях бума нужна не более высокая, а более низкая норма процента. Последняя дает возможность поддерживать состояние так называемого бума. Эффективное средство борьбы с экономическими циклами нужно искать не в устранении бумов и установлении хронической полудепрессии, а в том, чтобы устранить кризисы и постоянно поддерживать состояние квазибума.
Бум, которому суждено закончиться кризисом, порождается, таким образом, нормой процента, которая при правильных расчетах на будущее была бы слишком высока для полной занятости, а при неправильных предположениях (до тех пор пока их придерживаются) мешала бы этой норме процента проявить свое сдерживающее влияние. Бум – это состояние, при котором чрезмерный оптимизм берет верх над нормой процента, слишком завышенной при более трезвой оценке.
Далее, если бы мы даже допустили, что современный бум может сочетаться с кратковременными периодами инвестиционного насыщения или избытка инвестиций в строгом смысле слова, то все-таки было бы нелепо видеть в более высокой норме процента подходящее средство лечения. В действительности в этих условиях оказались бы правы те, кто видит источник болезни в недопотреблении. Лечение заключалось бы в различных мерах, направленных на увеличение склонности к потреблению путем перераспределения доходов или иным способом, так как для поддержания данного уровня занятости потребовался бы меньший объем инвестиций.
* * *
В этой связи уместно сказать несколько слов о тех важных школах экономической мысли, которые утверждают, подходя с различных позиций, что хроническая тенденция к неполной занятости, характерная для современных обществ, имеет свои корни в недопотреблении, т. е. в таких социальных порядках и таком распределении богатства, которые ведут к слишком низкой склонности к потреблению.
В современных условиях или, по крайней мере, в условиях, существовавших до последнего времени, когда объем инвестиций не планируется и не контролируется, а подвержен причудам предельной эффективности капитала, определяемой решениями частных лиц, несведущих или руководствующихся спекулятивными мотивами, когда долгосрочная процентная ставка очень редко падает или никогда не падает ниже обычного уровня, эти школы экономической теории, несомненно, правы в их рекомендациях по практической политике. В подобных условиях действительно нет других способов увеличить среднюю занятость до более удовлетворительного уровня. Если практически невозможно увеличить инвестиции, то, очевидно, нет других способов обеспечить более высокий уровень занятости, кроме увеличения потребления.
Практически я не согласен с этими школами экономической мысли только в том смысле, что они могли бы придавать меньшее значение увеличению потребления в то время, когда еще можно извлечь большие социальные преимущества из увеличения инвестиций. С теоретической точки зрения их можно, однако, упрекнуть в том, что они игнорируют наличие двух способов расширения производства. Если даже мы решим, что целесообразнее замедлить рост капитала и сосредоточить усилия на увеличении потребления, мы должны это сделать обдуманно, хорошо взвесив альтернативное решение. Я лично считаю, что в увеличении массы капитала до уровня, когда перестанет ощущаться его недостаток, имеются большие социальные преимущества. Но это вопрос практического решения, а не теоретический императив.
Более того, я охотно согласился бы, что наиболее разумно начать наступление сразу на обоих фронтах. Стремясь к установлению общественно контролируемой величины инвестиций, для того чтобы обеспечить постепенное снижение предельной эффективности капитала, я бы поддерживал вместе с тем все мероприятия, направленные на увеличение склонности к потреблению, ибо, что бы мы ни делали в области инвестиций, вряд ли можно будет поддерживать полную занятость при существующей склонности к потреблению. Таким образом, имеется достаточно оснований для одновременных действий в двух направлениях – и увеличения инвестиций, и увеличения потребления до уровня, который при существующей склонности к потреблению не только соответствовал бы возросшим инвестициям, но и был бы еще выше.
Если, например, – воспользуемся для иллюстрации округленными цифрами – средний уровень нынешнего производства на 15 % ниже того уровня, каким бы он был при непрерывной полной занятости, и если 10 % этого производства представляют чистые инвестиции, а 90 % – потребление, и если, далее, для обеспечения полной занятости при существующей склонности к потреблению нужно увеличить чистые инвестиции на 50 %, так чтобы объем производства при этом поднялся со 100 до 115 %, потребление – с 90 до 100 % и чистые инвестиции – с 10 до 15 %, то мы могли бы, пожалуй, попытаться так изменить склонность к потреблению, чтобы в условиях полной занятости потребление возросло с 90 до 103 %, а чистые инвестиции – с 10 до 12 %.
Другая школа экономического мышления видит решение проблемы экономического цикла не в увеличении потребления или инвестиций, а в уменьшении предложения труда, т. е. в перераспределении существующего его объема без увеличения занятости или производства.
Мне такая политика представляется преждевременной, и притом в гораздо большей степени, чем план увеличения потребления. Когда-нибудь наступит момент, когда каждый человек сравнит преимущества увеличения досуга с преимуществом увеличения дохода. Но в настоящее время, бесспорно, я думаю, значительное большинство людей предпочло бы увеличение дохода увеличению досуга; и я не вижу достаточных оснований, почему следовало бы заставлять тех, кто предпочитает более высокий доход, удовлетворяться большим досугом.
* * *
Может показаться странным, что существует такая школа экономического мышления, которая видит решение проблемы экономического цикла в приостановке бума в начальной его стадии с помощью повышения нормы процента. Единственное оправдание, которое можно найти для такой политики, выдвинуто Д. X. Робертсоном, полагающим, что полная занятость – это недостижимый идеал и что самое большое, на что можно надеяться, так это на уровень занятости, значительно более устойчивый, чем сейчас, и в среднем, возможно несколько более высокий.
Если исключить возможность больших изменений в политике, касающейся установления контроля либо над инвестициями, либо над склонностью к потреблению, и предположить, вообще говоря, что существующее положение дел будет продолжаться, тогда, пожалуй, действительно можно утверждать, что в среднем предположения будут оправдываться в большей мере, если банки будут пресекать в корне начинающийся бум с помощью такой высокой нормы процента, которая отпугнет даже самых стойких заблуждающихся оптимистов. Характерный для кризиса крах предположений может причинять такие большие убытки и потери, что средний уровень оправданных инвестиций, пожалуй, окажется выше при условии применения этого тормоза. Однако даже при принятых допущениях трудно наверняка сказать, как это будет на самом деле. Это вопрос практического решения, требующий более детального изучения фактов. Может быть, при таком подходе недоучитывается общественная выгода, связанная с увеличением потребления на основе тех инвестиций, которые оказались полностью неоправданными; даже такие инвестиции лучше, чем полное отсутствие каких бы то ни было вложений. Кроме того, даже при самом искусном денежном контроле можно оказаться в весьма затруднительном положении перед лицом такого бума, какой был в 1929 году в Америке, не располагая другими средствами, кроме тех, которые имела в то время федеральная резервная система; возможно, что никакие альтернативные решения в пределах ее полномочий не оказали бы существенного влияния на результат. Но как бы то ни было, такой взгляд представляется мне чрезмерно пораженческим и опасным. Он предлагает или по крайней мере допускает сохранение слишком многих изъянов нашей существующей экономической системы.
Однако крайняя точка зрения, согласно которой следует пользоваться высокой нормой процента, чтобы сразу пресекать любую тенденцию к заметному повышению уровня занятости выше средней, скажем, за предыдущее десятилетие, чаще подкреплялась доводами, которые не имеют абсолютно никакого обоснования, кроме путаницы мыслей. Иногда эта точка зрения порождается представлением, что во время бума инвестиции имеют тенденцию превышать сбережения и что повышение нормы процента восстанавливает равновесие, затрудняя инвестиции с одной стороны и стимулируя сбережения – с другой. Это рассуждение, предполагающее, что сбережения и инвестиции могут быть одинаковы по величине, представляет собой бессмыслицу, если только этим терминам не придается какое-либо особое значение. Или иногда говорят, что рост сбережений, сопровождающий увеличение инвестиций, нежелателен и неоправдан, потому что он, как правило, связан с повышением цен. Но если бы это было так, то следовало бы возражать против всякого подъема существующего уровня производства и занятости. Ведь рост цен в своей основе проистекает вовсе не из увеличения инвестиций. В действительности он порождается тем, что в течение небольшого периода времени цена предложения обычно поднимается вместе с ростом производства либо вследствие реального сокращения доходности, либо из-за тенденции к росту себестоимости в денежном выражении, когда производство увеличивается. Если бы налицо были условия постоянной цены предложения, то, конечно, не было бы роста цен, но и тогда увеличение сбережений сопровождалось бы увеличением инвестиций. Именно рост производства порождает рост сбережений, повышение цен – только побочный продукт увеличения производства, и цены все равно будут расти, если вовсе не будет роста сбережений, а вместо этого увеличится склонность к потреблению. Никто не имеет права узаконивать возможность покупать по низким ценам, если они низки только потому, что низок уровень производства.
Или, например, считают злом, если рост инвестиций обусловлен падением нормы процента вследствие увеличения количества денег. Однако в прежней норме процента нет ровно никакого особенного достоинства, а новые деньги никому не «навязываются». Их создают для удовлетворения возросшего предпочтения ликвидности, соответствующего более низкой норме процента, или для обслуживания возросшего оборота, и их держат те, кто предпочитает держать деньги, вместо того чтобы ссужать их по сниженному проценту. Еще утверждают, что бум характеризуется «проеданием капитала», понимая, по-видимому, под этим чистые отрицательные инвестиции, т. е. чрезмерной склонностью к потреблению. Если бы экономический цикл не смешивали с «бегством от денег», происходившим во время послевоенных европейских валютных кризисов, то были бы все основания утверждать как раз противоположное. Кроме того, если бы даже это было так, то в условиях недостатка инвестиций более подходящим средством было бы понижение нормы процента, а никак не ее повышение. Я вообще не вижу во всех этих теориях никакого смысла, если только не сделать молчаливого допущения, что совокупное производство не способно изменяться. Однако теория, которая исходит из неизменного уровня производства, очевидно, не совсем пригодна для объяснения экономического цикла.
* * *
В более ранних исследованиях экономического цикла, особенно у Джевонса, цикл объяснялся скорее сезонными колебаниями в сельском хозяйстве, чем явлениями в промышленности. В свете вышеизложенной теории это представляется весьма разумным подходом к решению проблемы. Даже в наше время колебания величины запасов сельскохозяйственной продукции в течение того или иного года является одной из важнейших причин изменения величины текущих инвестиций. А в те времена, когда писал Джевонс – и особенно в период, к которому относилась большая часть его статистических данных, – этот фактор должен был по своему значению далеко превосходить все остальные.
Теорию Джевонса о том, что экономический цикл порождается прежде всего колебаниями в величине урожая, можно изложить следующим образом. После сбора особенно большого урожая происходит обычно большое увеличение переходящих на следующие годы запасов. Выручка от этого прироста запасов увеличивает текущие поступления фермеров и рассматривается ими как доход. В то же время прирост запасов не ведет к сокращению доходов или расходов других секторов хозяйства, а финансируется из сбережений. Иными словами, увеличение переходящих запасов есть добавка к текущим инвестициям. Этот вывод не теряет силы, даже если цены резко падают. Подобным образом при плохом урожае переходящие запасы расходуются на текущее потребление, и, значит, соответствующая часть доходов или расходов потребителей не создает текущих доходов для фермеров. Иными словами, то, что берется из переходящих запасов, означает соответствующее уменьшение текущих инвестиций. Таким образом, если инвестиции по другим статьям принимаются за неизменные, то разница в общей сумме инвестиций между годами, когда происходит существенное увеличение переходящих запасов, и теми годами, когда происходит существенное изъятие из них, может быть велика. В обществе, где сельское хозяйство является господствующей отраслью, эта разница будет далеко перекрывать любые обычные колебания инвестиций, вызываемые другими причинами. Поэтому вполне естественно, что поворот к повышательной тенденции характеризуется обильным урожаем, а к понижательной – недородом. Далее, эта теория рассматривает природные факторы регулярных циклов хороших и плохих урожаев; это, конечно, особый вопрос, и мы его здесь не касаемся.
Относительно недавно были выдвинуты теории, согласно которым для хозяйства выгодны плохие, а не хорошие урожаи либо потому, что плохие урожаи заставляют людей работать за более низкое реальное вознаграждение, либо потому, что порождаемое плохими урожаями перераспределение покупательной способности рассматривается как фактор, благоприятный для потребления. Не приходится говорить, что не эти теории я имел в виду, указывая выше на явления, связанные с урожаем, для объяснения экономического цикла.
Причины колебаний, коренящиеся в сельском хозяйстве, однако, гораздо менее важны в современном мире по двум причинам. Во-первых, сельскохозяйственное производство составляет теперь гораздо меньшую долю в общем производстве. Во-вторых, развитие мирового рынка большинства сельскохозяйственных товаров, охватывающего теперь оба полушария, выравнивает влияние хороших и плохих урожаев, так как выраженные в процентах колебания мирового урожая гораздо меньше его колебаний по отдельным странам. Но в прежние времена, когда каждая страна зависела главным образом от своего собственного урожая, трудно было найти какую-либо другую причину колебаний в инвестициях, не считая войны, которую можно было бы каким-либо образом сравнить по значению с изменениями размеров переходящих запасов сельскохозяйственной продукции.
Даже и в наши дни необходимо уделять пристальное внимание той роли, которую играют изменения запасов сырья как сельскохозяйственного, так и минерального в определении величины текущих инвестиций. Я склонен приписывать медленные темпы выхода из кризиса, после того как уже достигнут перелом, главным образом дефляционному влиянию сокращения чрезмерных запасов до нормального уровня. Вначале, после того как бум терпит крах, накопление запасов смягчает его разрушительную силу. Но за это смягчение позже приходится расплачиваться замедлением темпов последующего подъема. Иногда процесс рассасывания запасов должен полностью завершиться, прежде чем наступит сколько-нибудь заметное оживление. Инвестиции по другим статьям, сами по себе достаточные, чтобы вызвать повышательную тенденцию в условиях, когда не происходит противодействующего им сокращения текущих запасов, могут оказаться совершенно недостаточными, если такое сокращение запасов продолжается.
* * *
Характерный пример этому представляют, по моему мнению, ранние стадии американского «нового курса». Когда правительство Рузвельта начало расходовать крупные суммы за счет выпуска займов, запасы всякого рода, и в особенности сельскохозяйственных товаров, были еще очень велики. «Новый курс» отчасти заключался во всемерных усилиях, направленных к снижению этих запасов путем сокращения текущего производства и иными средствами. Сокращение запасов до нормального уровня было необходимым процессом – фазой, которую нужно было пройти. Но пока – около двух лет – продолжался этот процесс, он в значительной мере ослаблял эффект расходов за счет займов, производимых по другим статьям. Только с его окончанием открылся путь для настоящего оживления. Американский опыт последнего времени представляет также хороший пример той роли, которую играют колебания в размерах запасов готовых изделий и незавершенного производства – товарных запасов, как их теперь обычно называют, – в отклонениях меньшего масштаба в пределах основных фаз экономического цикла. Предприниматели, начиная производство в соответствии с объемом потребления, которое они предполагают увеличить через несколько месяцев, нередко допускают небольшие просчеты, обычно забегая несколько вперед. Когда их ошибка обнаруживается, им приходится быстро сокращать производство до уровня ниже текущего потребления, чтобы дать рассосаться излишним товарным запасам. Разница в размерах производства между периодами забегания вперед и периодами отступления назад оказывает настолько сильное влияние на текущие инвестиции, что ее можно вполне отчетливо обнаружить с помощью весьма подробной статистики, имеющейся ныне в Соединенных Штатах.
Заметки о меркантилизме и теориях недопотребления
В течение примерно двух столетий и экономисты-теоретики, и практики не сомневались в важных преимуществах для страны, вытекающих из активного торгового баланса и серьезной опасности пассивного баланса, особенно если последний приводит к утечке благородных металлов. Однако в течение последних 100 лет выявилась удивительная разница во мнениях. Основная масса государственных деятелей и людей практики в большинстве стран и, пожалуй, около половины их даже в Великобритании – на родине противоположного взгляда – остались верны старой доктрине. В то же время почти все экономисты-теоретики стали утверждать, что эти опасения совершенно не обоснованы, если только не подходить к делу с очень уж узкой точки зрения, так как механизм внешней торговли способен к саморегулированию, а попытки вмешаться в его действие не только бесполезны, но и ведут к обеднению тех, кто прибегает к ним, лишаясь преимуществ международного разделения труда. Будет удобно, следуя установившейся традиции, называть более старое направление меркантилизмом, а более новое – фритредерством, хотя оба эти термина, поскольку каждый из них имеет и более широкое, и более узкое значение, следует понимать в зависимости от контекста.
Вообще говоря, современные экономисты не только утверждают, что международное разделение труда, как правило, в конечном счете дает больше преимуществ, чем политика меркантилизма, но и объявляют всю аргументацию меркантилистов основанной с начала до конца на интеллектуальной путанице.
Например, Маршалл, хотя и нельзя сказать, что он отрицательно отзывается о меркантилизме, вовсе не счел нужным касаться основных идей меркантилистов как таковых и даже не упоминает о тех правильных положениях в их взглядах, о которых я буду говорить ниже. Равным образом и теоретические уступки, на которые готовы пойти экономисты фритредерского направления в современной полемике по вопросу, например, содействия развитию новых отраслей промышленности или об улучшении соотношения между ценами на экспортные и импортные товары, не затрагивают самой основы идей меркантилизма. Я не помню, чтобы во время дискуссий по вопросам финансовой политики в первой четверти текущего столетия хоть какой-нибудь экономист согласился с тем, что протекционизм может увеличить внутреннюю занятость. Пожалуй, лучше всего беспристрастно процитировать то, что я сам писал в то время. Еще в 1923 году я в качестве верного ученика классической школы, не сомневающегося в том, чему его учили, и не делая никаких отступлений, писал: «Если и есть что-то, чего не может сделать протекционизм, так это вылечить от безработицы… В пользу протекционизма имеются определенные доводы, основанные на том, что он может принести некоторые, хотя и маловероятные, выгоды, и эти доводы оспорить не так просто. Но рассчитывать на исцеление от безработицы – это значит совершать протекционистскую ошибку в самой вульгарной и грубой форме. Ранние меркантилистские теории вообще не были нигде толком изложены, и мы были воспитаны в уверенности, что они представляли собой почти полную бессмыслицу.
Таким абсолютным и полным было господство классической школы.
* * *
Вначале я изложу своими собственными словами то, что мне теперь представляется элементами научной истины в изучении меркантилизма. Затем мы сравним мое изложение с действительными аргументами меркантилистов. Необходимо учитывать, что те преимущества, на которых настаивали меркантилисты, носят национально ограниченный характер и вряд ли пригодны для мира, взятого в целом.
Когда богатство страны довольно быстро увеличивается, то дальнейшему прогрессу такого благополучного состояния может помешать в условиях laissez-faire недостаточность побуждений к новым инвестициям. При данной социальной и политической обстановке и национальных особенностях, определяющих склонность к потреблению, благосостояние успешно развивающегося государства в основном зависит – по причинам, которые были изложены выше, – от силы этих побуждений. Побуждения эти могут относиться к внутренним или к иностранным инвестициям (включая в последние и накопление драгоценных металлов), а то и другое вместе образует общую сумму инвестиций. В условиях, когда общие размеры инвестиций определяются лишь стремлением к получению прибыли, возможности внутренних инвестиций будут зависеть в конечном счете от уровня нормы процента в стране. Величина же заграничных инвестиций неизбежно определяется размерами активного сальдо торгового баланса. Поэтому в обществе, где и речи нет о прямых инвестициях под эгидой государственной власти, вполне естественным предметом заботы правительства в области экономической политики являются норма процента внутри страны и баланс внешней торговли.
Если при этом единица заработной платы более или менее стабильна и не подвержена сильным стихийным изменениям (а это условие почти всегда выполнимо) и если состояние предпочтения ликвидности (имея в виду среднюю краткосрочных колебаний) тоже более или менее стабильно и вдобавок неизменны правила деятельности банков, тогда норма процента в основном будет зависеть от количества драгоценных металлов (измеряемого в единицах заработной платы), имеющегося в наличии для удовлетворения потребностей общества в ликвидных активах. Вместе с тем в век, когда крупные иностранные займы и прямое владение находящимся за границей богатством едва ли возможны в широком масштабе, прирост и сокращение количества драгоценных металлов будут в основном зависеть от того, активен или пассивен торговый баланс.
Таким образом, как это бывает, забота государственной власти о поддержании активного торгового баланса служила сразу двум целям и была к тому же единственным доступным средством их достижения. В те времена, когда государственная власть не оказывала прямого воздействия на норму процента внутри страны и на другие побуждения к внутренним инвестициям, меры, принимавшиеся в целях увеличения активного сальдо торгового баланса, были единственным прямым средством в распоряжении государства для увеличения заграничных инвестиций. В то же время влияние активного торгового баланса на приток драгоценных металлов было единственным косвенным средством понижения внутренней нормы процента и, следовательно, усиления побуждения к внутренним инвестициям.
Не следует, однако, упускать из виду двух обстоятельств, ограничивающих успех такой политики. Если норма процента внутри страны настолько понижается, что объем инвестиций начинает существенно стимулировать рост занятости до такого уровня, когда последний достигает неких критических точек, за которыми начинается повышение единицы заработной платы. В этих условиях рост издержек производства внутри страны будет оказывать неблагоприятное влияние на сальдо внешнеторгового баланса, и поэтому усилия, направленные на увеличение последнего, перестают давать эффект и становятся тщетными. Вместе с тем если норма процента внутри страны падает так низко по отношению к нормам процента за границей, что поощряет кредитование иностранных заемщиков в размерах, не соответствующих активному сальдо торгового баланса, то это может вызвать утечку драгоценных металлов, достаточную для того, чтобы обратить во вред все ранее полученные преимущества. Риск того, что одно из названных обстоятельств возникнет в реальной ситуации, особенно велик для большой страны, играющей важную роль в мировом хозяйстве, в условиях, когда текущая добыча драгоценных металлов относительно невелика и приток денег в одну страну означает их утечку из другой. Поэтому отрицательное влияние роста издержек производства и падения нормы процента внутри страны может еще больше осложниться (если меркантилистская политика заходит слишком далеко) вследствие снижения издержек и роста нормы процента за границей.
Экономическая история Испании в конце XV и в XVI веке дает нам пример страны, внешняя торговля которой пришла в упадок вследствие влияния на единицу заработной платы чрезмерного изобилия драгоценных металлов. В довоенные годы XX века Великобритания являла собой пример страны, где чрезмерно широкие возможности предоставления иностранных кредитов и приобретения собственности за границей часто препятствовали снижению внутренней нормы процента, тогда как последнее было необходимо для обеспечения полной занятости внутри страны. Индия во все времена служила примером страны, впавшей в бедность вследствие предпочтения ликвидности, превратившегося в такую сильную страсть, что даже огромного и постоянного притока драгоценных металлов было недостаточно для снижения нормы процента до уровня, совместимого с ростом реального богатства.
* * *
Тем не менее, если мы рассматриваем общество с относительно устойчивой единицей заработной платы, с известными национальными чертами, определяющими склонность к потреблению и предпочтение ликвидности, и денежной системой, жестко связывающей количество денег с запасом драгоценных металлов, то в таком обществе для поддержания его процветания существенно важно, чтобы государственная власть уделяла пристальное внимание торговому балансу. Дело в том, что благоприятное сальдо торгового баланса при условии, если оно не слишком велико, чрезвычайно стимулирует хозяйство, а неблагоприятный баланс может вскоре породить продолжительную депрессию.
Из этого не следует, что максимальное ограничение импорта обеспечит наиболее благоприятный торговый баланс. Ранние меркантилисты подчеркивали это и часто противились торговым ограничениям, поскольку в длительной перспективе эти ограничения могли ухудшить торговый баланс. Можно даже утверждать, что в особых условиях Великобритании середины XIX века почти полная свобода торговли была политикой, наиболее содействовавшей развитию активного баланса. Современная практика торговых ограничений в послевоенной Европе богата примерами необдуманных ограничений свободы международного оборота, которые вместо того, чтобы улучшить торговый баланс, как это имелось в виду, на самом деле действовали в противоположном направлении.
По этой и по другим причинам читатель не должен делать преждевременных выводов о практической политике, к которой подводят наши соображения. Существуют веские доводы общего характера против торговых ограничений, если только они не оправданы какими-либо особыми обстоятельствами. Преимущества международного разделения труда реальны и существенны, если даже классическая школа их сильно преувеличила. Тот факт, что выигрыш нашей собственной страны от благоприятного баланса может означать соответственный ущерб для какой-либо другой страны (в чем меркантилисты отдавали себе ясный отчет), означает не только необходимость большой умеренности в обеспечении себя запасом драгоценных металлов не более чем это необходимо и разумно, но также и то, что неосторожная политика может повести к бессмысленному международному соперничеству за активный торговый баланс, которое в равной мере повредит всем. Наконец, политика торговых ограничений – это коварное оружие даже для достижения поставленной цели, так как влияние частных интересов, некомпетентность властей и трудность самой задачи могут привести к тому, что результаты вместо ожидаемых получатся прямо противоположные.
Таким образом, моя критика направлена против несостоятельности теоретических основ доктрины laissez-faire, на которой я сам воспитывался и которой в течение многих лет обучал других, а также против утверждения, что норма процента и объем инвестиций автоматически устанавливаются на оптимальном уровне и что поэтому забота о торговом балансе – это лишь потеря времени. Мы, академические экономисты, оказались слишком самоуверенными, ошибочно считая детским упрямством то, что в течение веков было первейшей заботой государственного управления.
Под влиянием этой ошибочной теории лондонское Сити постепенно выработало для поддержания равновесия самую опасную технику, какую только можно себе представить, а именно регулирование банковского процента в сочетании с жестким паритетом иностранных валют. Это означало, что поддержание внутренней нормы процента, совместимой с полной занятостью, совершенно исключалось. Поскольку на практике невозможно пренебрегать платежным балансом, то выработали средство контроля, которое, вместо того чтобы защитить внутреннюю норму процента, приносило ее в жертву слепой стихии. За последнее время лондонские банкиры-практики многому научились, и можно почти надеяться, что в Великобритании больше никогда не будут пользоваться методом регулирования банковского процента для защиты платежного баланса в таких условиях, когда это может породить безработицу внутри страны.
С точки зрения теории отдельной фирмы и распределения продукта при данной занятости ресурсов классическая теория сделала вклад в экономическую науку, который не приходится оспаривать. Без этой теории как составной части общего аппарата мышления невозможно составить ясное представление о названных предметах. Меня нельзя заподозрить в том, что я ставлю под вопрос эти достижения, обратив внимание на пренебрежение со стороны классической школы к тому ценному, что содержалось в трудах ее предшественников. Но если говорить о вкладе в искусство государственного управления экономической системой в целом и обеспечения оптимальной занятости всех ресурсов этой системы, то ранние представители экономической мысли XVI и XVII веков в некоторых вопросах достигали практической мудрости, которая в оторванных от жизни абстракциях Рикардо была сначала забыта, а потом и вовсе вычеркнута. Были благоразумными их постоянные заботы о снижении нормы процента с помощью законов против ростовщичества (к которым мы еще вернемся ниже в этой главе) путем поддержания на определенном уровне внутреннего запаса денег и ограничения роста единицы заработной платы, а также их готовность обратиться в качестве последнего средства к восстановлению запаса денег посредством девальвации, если этот запас становился явно недостаточным вследствие неустранимой утечки денег за границу, роста единицы заработной платы или по каким-либо другим причинам.
* * *
Ранние представители экономической мысли могли прийти к разумным практическим выводам, и не отдавая себе ясного отчета о лежащих в их основе теоретических посылках. Рассмотрим поэтому вкратце их доводы и рекомендации. Это сравнительно легко сделать, обратившись к капитальной работе проф. Хекшера «Меркантилизм», так как именно благодаря этой книге важнейшие черты экономической мысли за два столетия стали впервые известны широким кругам экономистов. Приведенные ниже цитаты заимствованы главным образом из этого источника.
1. Меркантилисты никогда не предполагали существования тенденции к автоматическому установлению нормы процента на нужном уровне. Наоборот, они горячо настаивали на том, что чрезмерно высокая норма процента является главным препятствием к росту богатства. Они даже знали, что норма процента зависит от предпочтения ликвидности и от количества денег. Они занимались и вопросом уменьшения предпочтения ликвидности, и увеличением количества денег, а некоторые из них ясно указывали, что роста количества денег они добиваются для того, чтобы снизить норму процента. Проф. Хекшер так резюмирует эту сторону их теории.
«Позиция наиболее проницательных меркантилистов была в этом вопросе, как и во многих других, совершенно ясна в определенных границах. Для них деньги были, употребляя терминологию нашего времени, таким же фактором производства, как и земля. Иногда деньги рассматривались как «искусственное» богатство в отличие от «естественного» богатства. Процент на капитал рассматривался как плата за «аренду» денег аналогично земельной ренте. Поскольку меркантилисты пытались найти объективное объяснение высокой нормы процента – а они делали это все чаще и чаще в течение рассматриваемого периода, – они отыскивали эти причины в общем количестве денег. Из имеющегося обильного материала будут взяты лишь наиболее типичные примеры, для того чтобы показать прежде всего, насколько устойчиво было это представление, насколько глубоки были его корни и в какой мере оно не зависело от практических соображений. Обе стороны в борьбе по вопросам денежной политики и торговли с Ост-Индией в начале 20-х годов XVII века в Англии были полностью согласны между собой в этом пункте. Джерард Мелин, подробно обосновывая свой тезис, заявлял, что «изобилие денег отрицательно сказывается на ростовщичестве, воздействуя на цену или ставку процента». Его воинственный и довольно беспринципный противник Эдуард Миссельден отвечал, что «средством против ростовщичества может быть изобилие денег» Полвека спустя один из ведущих писателей того времени Чайлд, всемогущий руководитель Ост-Индской компании и ее наиболее искусный адвокат, обсуждал (в 1668 году) вопрос о том, насколько законодательное установление максимальной процентной ставки – чего он настойчиво добивался – может отразиться на выкачке «денег» голландцами из Англии. В качестве средства борьбы с этим опасным явлением он предлагал облегчение трансферта долговых обязательств, когда последние используются в качестве валюты, потому что это, как он говорил, «возместит недостаток по крайней мере половины наличных денег, которыми мы пользуемся в стране». Другой автор – Петти, который стоял совершенно в стороне от этого столкновения интересов, – высказывал аналогичную точку зрения, когда он объяснял «естественное» падение нормы процента с 10 до 6 увеличением количества денег («Политическая арифметика», 1676 год) и рекомендовал предоставление процентных займов как подходящее средство для страны, у которой слишком много «монеты».
Такого рода рассуждения, естественно, имели хождение не только в Англии. Например, несколькими годами позже (в 1701 и 1706 годах) французские купцы и государственные деятели жаловались на нехватку монеты (disette des especes) как на причину высоких процентных ставок и пытались снизить взимаемые ростовщиками проценты путем увеличения денежного обращения.
Великий Локк был, по-видимому, первым, кто в своем споре с Петти сформулировал в абстрактной форме связь между нормой процента и количеством денег. Он оспаривал предложение Петти об установлении максимальной нормы процента на том основании, что это так же практически неосуществимо, как и фиксированный максимум земельной ренты, поскольку «естественная стоимость денег, выражающаяся в их способности приносить ежегодный доход в форме процента, зависит от отношения всего количества обращающихся в королевстве денег ко всей торговле королевства (т. е. к общей сумме продаж всех товаров)». Локк поясняет, что деньги имеют двоякую стоимость: 1) стоимость их использования, выражающуюся в проценте, «и в этом отношении они имеют ту же природу, что и земля, но только доход от земли называется рентой, а от денег – пользой (use)», и 2) меновую стоимость, «и в этом отношении они имеют ту же природу, что и товар», причем их меновая стоимость «зависит только от изобилия или недостатка денег по отношению к изобилию или недостатку этих товаров, а не от величины процента».
Таким образом, Локк явился родоначальником двух родственных вариантов количественной теории. Во-первых, он утверждает, что норма процента зависит от отношения количества денег (с учетом скорости обращения) к общей стоимости торговли. Во-вторых, он утверждает, что меновая стоимость денег зависит от отношения количества денег к общему количеству товаров на рынке.
Но, стоя одной ногой на позиции меркантилизма, а другой – на почве классической теории, он не мог иметь достаточно четкого представления о связи между этими двумя отношениями и упустил из виду возможность колебаний в предпочтении ликвидности. Однако он стремился объяснить, что понижение нормы процента не оказывает прямого влияния на уровень цен и затрагивает цены, «только если изменение процента в хозяйстве ведет к притоку или утечке денег или товаров, изменяя со временем соотношение между теми и другими здесь, в Англии, по сравнению с прежним уровнем», т. е. если понижение процента ведет к вывозу наличных денег или к увеличению объема производства. Но Локк, как я думаю, никогда не достигал подлинного синтеза.
Насколько хорошо меркантилисты различали норму процента и предельную эффективность капитала, видно из той цитаты (напечатанной в 1621 году), которую Локк приводит из «Письма другу о ростовщичестве»: «Высокий процент вредит торговле. Выгода от процентов больше, чем прибыль от торговли, и это побуждает богатых купцов бросать торговлю и отдавать свой капитал под проценты, а более мелких купцов разоряет». Фортри дает еще один пример ставки на низкий процент как на средство увеличения богатства.
Меркантилисты не проглядели и того, что если в результате чрезмерного предпочтения ликвидности притекающие драгоценные металлы переходят в сокровища, то преимущество для нормы процента теряется. В некоторых случаях (например, у Мана) стремление к усилению могущества государства побуждало их все же выступать в защиту накопления денег в государственной казне. Но другие меркантилисты откровенно противились такой политике.
«Шретер, например, пользовался обычными меркантилистскими аргументами, рисуя мрачную картину того, как обращение страны могло бы лишиться своих денег вследствие большого роста государственной казны… Он проводил также вполне логичную параллель между накоплением сокровищ монастырями и экспортом излишка драгоценных металлов, что, по его мнению, было самым плохим оборотом дела, какой только можно себе представить. Давенант объяснял крайнюю бедность многих восточных наций, которые, как полагали, имели больше золота и серебра, чем другие страны мира, тем, что там сокровища «обречены праздно лежать в сундуках князей»… Если в накоплении сокровищ государством видели в лучшем случае сомнительное благо, а часто и большую опасность, то не приходится и говорить, что частного накопления следовало избегать, как чумы. Это была одна из тех наклонностей, против которой бесчисленные меркантилисты метали громы и молнии, и я не думаю, чтобы можно было найти в этом хоре хотя бы один голос, звучащий диссонансом».
* * *
2. Меркантилисты понимали обманчивость дешевизны и опасность того, что чрезмерная конкуренция может привести к невыгодному для страны соотношению цен на экспортные и импортные товары. Так, Мелин писал в своем «Lex Mercatoria» (1622): «Не стремитесь продавать дешевле других в ущерб для государства под предлогом увеличения торговли. Торговля не расширяется, когда товары очень дешевы, потому что дешевизна проистекает из слабого спроса и недостатка денег, что и делает вещи дешевыми; напротив, торговля увеличивается, когда налицо изобилие денег и товары дорожают, пользуясь спросом». Проф. Хекшер так подытоживает эту сторону теории меркантилизма:
«В течение полутора веков этот взгляд снова и снова подтверждался тем положением, что страна, у которой относительно меньше денег, чем у других стран, вынуждена «продавать дешево и покупать дорого…»»
Еще в первоначальном издании «Рассуждений об общем благе», т. е. в середине XVI века, эта точка зрения была уже ясно высказана. В самом деле, Хейлс говорил: «И все же, если бы иностранцы были склонны брать наши товары в обмен на свои, то что побуждало бы их повышать цены других вещей (понимая под другими вещами и те, которые мы покупаем у них), хотя наши товары достаточно дешевы для них? И в этом случае мы проиграем, а они выиграют, поскольку они продают дорого и покупают наши товары дешево, вследствие чего обогащаются сами и разоряют нас. Я бы, скорее, повышал цены наших товаров, когда они повышают цены своих, как мы это теперь и делаем. Если при этом кое-кто и проиграет, то все же не так сильно, как при другом образе действия». Несколько десятилетий спустя (1581 год) он был безоговорочно поддержан в этом вопросе своим издателем. В XVII веке эта точка зрения появляется снова без существенного изменения. Мелин, например, полагал, что такое неблагоприятное положение может явиться следствием того, чего он более всего опасался, а именно падения курса английской валюты… Эта концепция встречается постоянно. Петти в своей работе «Verbum Sapienti» (написанной в 1665 году и опубликованной в 1691 году) считал, что упорные усилия, направленные на увеличение количества денег, можно прекратить только тогда, «когда мы наверняка имеем больше денег (и ни в коем случае не столь же мало), чем любое из соседних государств, как в арифметической, так и в геометрической пропорции». За период времени между написанием и опубликованием этой работы Кок заявил: «Если бы в нашей казне денег было больше, чем в казне соседних государств, меня бы не беспокоило то, что в ней была бы одна пятая того, что у нас есть теперь» (1675 год).
3. Меркантилисты были родоначальниками «боязни товаров» и представления о недостатке денег как о причине безработицы, которое экономисты-классики двумя столетиями позже отвергли как нелепость:
«Один из самых ранних случаев ссылки на безработицу как на основание для запрета импорта можно найти во Флоренции в 1426 году…Английское законодательство по этому вопросу восходит по крайней мере к 1455 году…Изданный почти в то же время французский декрет 1466 года, заложивший основу шелковой промышленности Лиона, ставшей позднее столь знаменитой, менее интересен, поскольку он на самом деле не был направлен против иностранных товаров. Но и в этом декрете упоминалось о возможности предоставить работу десяткам тысяч безработных мужчин и женщин. Отсюда видно, как широко был распространен этот довод в те времена…».
Впервые этот вопрос, как и почти все социальные и экономические проблемы, стал широко обсуждаться в Англии в середине XVI века или немного ранее – при королях Генрихе VIII и Эдуарде VI. В связи с этим мы должны упомянуть ряд сочинений, написанных, по-видимому, в конце 30-х годов XVI века, причем по крайней мере два из них, вероятно, принадлежат перу Клемента Армстронга… Он формулирует это положение, например, так: «Изобилие иностранных товаров, доставляемых ежегодно в Англию, не только породило нехватку денег, но и подорвало все ремесла, обеспечивавшие возможность зарабатывать деньги на еду и питье многим простым людям, которые теперь вынуждены жить безработными, попрошайничать и воровать».
«Наиболее ярким из известных мне примеров типично меркантилистских высказываний о таком состоянии дел являются дебаты о нехватке денег, происходившие в английской палате общин в 1621 года, когда наступил серьезный кризис, затронувший, в частности, вывоз сукна. Один из наиболее влиятельных членов парламента, сэр Эдвин Сэндис, очень ясно описал обстановку того времени. Он указывал, что фермеры и ремесленники почти повсеместно испытывают лишения, что ткацкие станки бездействуют из-за недостатка денег в стране, что крестьянам приходится расторгать свои контракты не «из-за недостатка плодов земли (благодарение Господу!), а из-за недостатка денег». Ввиду создавшегося положения было решено предпринять подробное расследование вопроса о том, куда могли уйти деньги, недостаток которых чувствовался столь остро. Многочисленные нападки были направлены против всех тех людей, которые были заподозрены в том, что способствовали либо экспорту драгоценных металлов, либо их исчезновению путем соответствующей деятельности внутри страны».
Меркантилисты понимали, что своей политикой они, по выражению проф. Хекшера, «убивали одним выстрелом двух зайцев». «С одной стороны, страна освобождалась от нежелательного избытка товаров, который, как тогда полагали, вел к безработице, а с другой – увеличивался общий запас денег в стране» со всеми вытекающими отсюда преимуществами в смысле падения нормы процента.
Невозможно понять те представления, к которым приводил меркантилистов их действительный опыт, если не учесть, что на протяжении всей человеческой истории существовала хроническая тенденция к более сильной склонности к сбережению по сравнению с побуждением инвестировать. Слабость побуждения к инвестированию во все времена была главнейшей экономической проблемой. В наше время слабость этого побуждения можно объяснить главным образом величиной уже существующих накоплений, тогда как в прежние времена, по-видимому, гораздо большую роль играли риск и всякого рода случайности. Но результат от этого не меняется. Желание отдельных лиц увеличивать свое личное богатство, воздерживаясь от потребления, обычно было сильнее, чем побуждение предпринимателей увеличивать национальное богатство путем использования рабочей силы для производства товаров длительного пользования.
* * *
4. Меркантилисты не обманывались относительно националистического характера их политики и ее тенденций к развязыванию войны. Они единодушно стремились к национальной выгоде и относительному могуществу.
Мы можем критиковать их за явное безразличие, с которым они принимали это неизбежное следствие международной денежной системы. Однако в теоретическом отношении их реализм много предпочтительнее путаных представлений современных защитников международного фиксированного золотого стандарта и политики laissez-faire в области международного кредитования, которые думают, будто именно такой политикой можно лучше всего содействовать делу Мира. В экономике, где денежные контракты и пошлины являются более или менее фиксированными в течение определенного времени, где количество средств обращения в стране и уровень внутренней нормы процента определяются главным образом платежным балансом, как это было в Великобритании до войны, у государственных органов власти нет иного общепринятого средства противодействия безработице внутри страны, кроме борьбы за увеличение экспортного излишка и импорта денежного металла за счет соседей. Никогда еще в истории не был выдуман метод, который в большей степени давал бы преимущества одной стране за счет ее соседей, чем международный золотой (а ранее серебряный) стандарт. Ибо при таком положении дела внутреннее благосостояние страны непосредственно зависит от конкурентной борьбы за рынки и за драгоценные металлы. Если благодаря счастливой случайности новые поступления золота и серебра были сравнительно велики, борьба могла несколько смягчаться. Но с ростом богатства и уменьшением предельной склонности к потреблению эта борьба становилась все более разрушительной. Роль экономистов ортодоксального направления, у которых не хватало здравого смысла для преодоления их ложной логики, оказалась роковой. Когда в слепой борьбе за выход из трудностей некоторые страны отбросили в сторону обязательства, делавшие ранее невозможным самостоятельное регулирование нормы процента, эти экономисты стали проповедовать, будто необходимо влезть в прежние оковы в качестве первого – шага к общему улучшение положения.
Между тем правильно как раз обратное. Именно политика независимой нормы процента, не нарушаемая соображениями международных отношений, и осуществления программы национальных инвестиций, направленной на достижение высокого уровня внутренней занятости, дважды благословенна, потому что она одновременно помогает и нам, и нашим соседям. И именно одновременное проведение такой политики всеми странами, вместе взятыми, способно восстановить экономическое благополучие и мощь в международном масштабе независимо от того, будем ли мы оценивать их уровнем внутренней занятости или объемом международной торговли.
Меркантилисты понимали, в чем заключается проблема, но не могли довести свой анализ до определения путей ее решения. Классическая же школа вовсе игнорировала проблему, введя в свои предпосылки такие условия, которые означали ее исключение. Так возник разрыв между выводами экономической теории и здравого смысла. Замечательным достижением классической теории было то, что она преодолела представления «обыкновенного человека», будучи в то же время ошибочной. Проф. Хекшер говорит по этому вопросу следующее:
«Если основная позиция по отношению к деньгам и материалу, из которого они сделаны, не изменилась за период с крестовых походов и до XVIII века, то это значит, что мы имеем дело с глубоко укоренившимися представлениями. Может быть, такие представления существовали и за пределами указанного периода в 500 лет, даже если они и не доводили до «боязни товаров»… За исключением эпохи laissez-faire, никакой век не был свободен от этих представлений. Только благодаря единственному в своем роде влиянию на умы laissez-faire удалось на время преодолеть представления «обыкновенного человека» в этом вопросе».
«Требовалась безоговорочная преданность доктрине laissez-faire, для того чтобы искоренить «боязнь товаров»… (которая) является наиболее естественной позицией «обыкновенного человека» в условиях денежного хозяйства. Доктрина фритредерства отрицала существование очевидных факторов и была обречена на дискредитацию в глазах человека с улицы, как только идея laissez-faire перестала держать людей в плену своей идеологии».
Я вспоминаю гнев и недоумение Бонара Лоу, когда экономисты отрицали то, что было очевидно. Он стремился разъяснить истинное положение вещей. Невольно напрашивается аналогия между господством классической школы экономической теории и некоторых религий. Ведь для того, чтобы изгнать из круга представлений очевидное, нужна гораздо большая власть, чем для того, чтобы ввести в сознание рядовых людей нечто малопонятное и отдаленное.
* * *
Остается еще один тесно связанный со всем этим, но все же особый вопрос, по которому в течение столетий и даже тысячелетий просвещенное мнение придерживалось определенных концепций, отвергнутых впоследствии классической школой как наивных, но заслуживающих почетной реабилитации. Я имею в виду положение, согласно которому норма процента не приспосабливается автоматически к уровню, наиболее отвечающему общественной пользе, а постоянно стремится подняться слишком высоко, и мудрое правительство должно заботиться о том, чтобы снизить ее, опираясь на законы и обычаи и даже взывая к морали.
Постановления против ростовщичества принадлежат к числу наиболее древних из известных нам экономических мероприятий. Подрыв побуждения инвестировать вследствие чрезмерного предпочтения ликвидности был величайшим злом, главной помехой для роста богатства в Древнем мире и в Средние века. И это вполне естественно, поскольку риск и случайности экономической жизни либо уменьшали предельную эффективность капитала, либо способствовали росту предпочтения ликвидности. Поэтому в мире, где никто не чувствовал себя в безопасности, было почти неизбежно, что норма процента, если ее не сдерживать всеми средствами, имеющимися в распоряжении общества, поднималась слишком высоко и препятствовала необходимому побуждению инвестировать.
Я был воспитан в вере, что отношение средневековой церкви к проценту было, по существу, абсурдным и утонченные рассуждения о различии между доходом по денежным займам и доходам от реальных инвестиций – это лишь иезуитская уловка, чтобы обойти на практике нелепую теорию. Но теперь, перечитывая эти споры, я вижу в них честную интеллектуальную попытку распутать то, что классическая теория безнадежно запутала, а именно норму процента и предельную эффективность капитала. Теперь представляется ясным, что изыскания схоластов были направлены на разъяснение формулы, которая допускала бы высокую предельную эффективность капитала и держала бы в то же время на низком уровне норму процента, используя для этого закон, обычаи и моральные санкции.
Даже Адам Смит проявлял в своем отношении к законам о ростовщичестве чрезвычайную умеренность. Он хорошо понимал, что индивидуальные сбережения могут быть либо поглощены инвестициями, либо отданы в долг и что направление их именно в инвестиции ничем не гарантировано. Далее Смит благосклонно относился к низкой норме процента, считая, что это увеличивает шансы на помещение сбережений в новые инвестиции, а не в долговые обязательства; и именно по этой причине в параграфе, за который его сильно упрекал Бентам, он защищал умеренное применение законов о ростовщичестве. Кроме того, Бентам основывал свою критику главным образом на том, что присущая Адаму Смиту шотландская осторожность слишком сурова по отношению к «грюндерам» и что установление максимального процента оставит слишком мало возможностей для вознаграждения за законный и общественно полезный риск. Бентам подразумевал под «грюндерами» «всех лиц, которые в погоне за богатством или преследуя какую-либо другую цель, пускаются с помощью богатства на любое «изобретательство»»… всех тех, кто, преследуя свои собственные цели, стремится к чему-либо такому, что можно назвать «улучшением». Короче говоря, дело идет о таком применении человеческих способностей, когда изобретательность нуждается в помощи богатства. Конечно, Бентам был прав, протестуя против законов, мешавших оправданному риску. «Благоразумный человек, – продолжает Бентам, – в таких обстоятельствах не будет выбирать хорошие затеи из множества плохих, так как он вообще не будет впутываться ни в какие затеи».
Можно сомневаться, действительно ли это имел в виду Адам Смит. Не слышим ли мы в Бентаме (хотя он и писал в марте 1787 года в «Кричеве в Белоруссии») голос Англии XIX века, обращенный к XVIII веку? Только в исключительных условиях величайшей эпохи с точки зрения побуждения к инвестированию можно было упустить из виду теоретическую возможность недостаточности такого побуждения.
* * *
Здесь уместно упомянуть странного, несправедливо забытого проповедника Сильвио Гезелла (1862–1930), чей труд заключает в себе проблески глубокой проницательности и кто лишь совсем немного не дошел до существа вопроса. В послевоенные годы его последователи засыпали меня экземплярами его работ. Тем не менее из-за некоторых явных дефектов аргументации я не мог полностью оценить его заслуги. Как часто бывает с недостаточными знаниями, основанными скорее на интуиции, их значение стало очевидным только тогда, когда я пришел к своим собственным выводам своим собственным путем. Как и другие академические экономисты, я расценивал его глубоко оригинальные устремления не более как причуду. Так как, по-видимому, немногие из читателей этой книги хорошо знакомы с Гезеллом, я отвожу ему здесь достаточное место, что было бы в противном случае неоправданным.
Гезелл был преуспевающим немецким купцом в Буэнос-Айресе, начавшим изучать проблемы денег под влиянием кризиса конца 80-х годов, который был особенно сильным в Аргентине. Его первый труд – «Реформа монетного дела как путь к социальному государству» – был опубликован в Буэнос-Айресе в 1891 году. Его основные идеи о деньгах опубликованы в том же году в Буэнос-Айресе в работе «Nervus rerum», а также во многих последующих книгах и памфлетах, выходивших вплоть до его ухода от дел и отъезда в Швейцарию в 1906 году. Как состоятельный человек, он мог посвятить последние десятилетия своей жизни двум самым восхитительным занятиям, доступным тем, кто не должен зарабатывать себе на жизнь, – литературному труду и опытам в сельском хозяйстве.
Первая часть его классической работы «Осуществление права на полный рабочий день» была опубликована в 1906 году в Женевских высотах, в Швейцарии, а вторая – в 1911 году в Берлине под названием «Новое учение о проценте». Обе части были опубликованы в Берлине и в Швейцарии во время войны (1916) и выдержали при его жизни шесть изданий, последнее из которых называется «Свободное государство и свободные деньги как путь к естественному экономическому порядку». В английском переводе (Филиппа Раи) эта работа издана под названием «Естественный экономический порядок». В апреле 1919 года Гезелл входил в качестве министра финансов в просуществовавший короткое время кабинет Баварской советской республики и впоследствии был осужден военным трибуналом. Последнее десятилетие своей жизни он провел в Берлине и Швейцарии, посвятив себя пропаганде своих идей. Гезелл, создав вокруг себя атмосферу полурелигиозного поклонения, которая ранее концентрировалась вокруг Генри Джорджа, стал почитаемым проповедником культа с тысячами последователей во всем мире. Первый международный съезд швейцарского и немецкого Фрейландфрейгельд Бунда и подобных организаций из многих стран состоялся в Базеле в 1923 году. После смерти Гезелла в 1930 году то особое поклонение, которое могли возбудить такие доктрины, как его, перешло к другим проповедникам (на мой взгляд, менее выдающимся). Д-р Бюши является лидером движения в Англии, но его работы поступают, по-видимому, из Сан-Антонио в Техасе, его главные силы находятся в настоящее время в Соединенных Штатах, где проф. Ирвинг Фишер, единственный из академических экономистов, признает значение этого движения.
Несмотря на одеяния пророка, в которые Гезелла облачают его последователи, основная его работа написана сухим, научным языком, хотя она от начала до конца пронизана более страстной, более эмоциональной приверженностью к социальной справедливости, чем это, как считают, подобает ученому. Та часть работы, которая почерпнута у Генри Джорджа, хотя и является, несомненно, важным источником силы движения, представляет собой, в общем-то, второстепенный интерес.
Внесенный Гезеллом вклад в теорию денег и процента можно изложить следующим образом. Во-первых, он проводит ясное разграничение между нормой процента и предельной эффективностью капитала и доказывает, что именно норма процента ставит предел темпам роста реального капитала. Во-вторых, он отмечает, что норма процента – это чисто денежный феномен и что специфическая особенность денег, из которой вытекает значение процента на деньги, заключается в том, что владение деньгами как средством накопления богатства вовлекает их держателя в ничтожные издержки хранения, а такие формы богатства, как, например, запасы товаров, хранение которых связано с издержками, приносят в действительности доход только потому, что таков «порядок», установленный деньгами. Гезелл ссылается на сравнительную устойчивость нормы процента на протяжении веков как на доказательство того, что она не может зависеть от чисто физических факторов, поскольку изменения последних от одной эпохи к другой должны быть неизмеримо больше, чем наблюдавшиеся изменения процента. Другими словами (по моей терминологии), норма процента, которая зависит от постоянных психологических факторов, оставалась устойчивой, тогда как факторы, подверженные сильным колебаниям, которые в первую очередь влияют на величину предельной эффективности капитала, определяют не норму процента, а темпы роста реального капитала при данной норме процента.
Здесь-то и кроется большой порок теории Гезелла. Он показывает, что только существование процента на деньги дает возможность извлекать выгоду от ссуды товаров. Его диалог между Робинзоном Крузо и чужеземцем – превосходная экономическая притча, не уступающая никакому другому произведению этого рода, – иллюстрирует эту мысль. Но, приведя объяснения, почему денежная норма процента, в отличие от большинства процентных ставок на товары, не может быть отрицательной, он упустил из виду необходимость объяснить и то, почему денежная норма процента является положительной, и не объяснил, почему она не определяется (как это утверждала классическая школа) размерами дохода, получаемого на производительный капитал. Беда в том, что от него ускользнуло понятие предпочтения ликвидности. Он разработал теорию нормы процента только наполовину.
Именно неполнотой его теории надо объяснить то обстоятельство, что академический мир не обратил внимания на работы Гезелла. Все же он развил свою теорию настолько, что пришел к практическим рекомендациям, которые в своей основе могут соответствовать потребностям, хотя они и неосуществимы в действительной жизни в той форме, в какой он их предложил. Он доказывает, что рост реального капитала задерживается денежной нормой процента. Если этот тормоз устранить, то рост реального капитала в современном мире станет настолько быстрым, что будет, вероятно, оправдана нулевая норма процента, правда не немедленно, но в течение сравнительно короткого периода времени. Таким образом, первейшая необходимость заключается в снижении денежной нормы процента, а этого, как указывает Гезелл, можно достигнуть, заставив владельцев денег нести издержки их хранения аналогично издержкам хранения бездействующих запасов товаров. Отсюда он пришел к своему знаменитому предложению о деньгах, «оплаченных марочным сбором», с которым связывается главным образом его имя и которое получило благословение проф. Ирвинга Фишера. В соответствии с этим предложением стоимость денежных знаков (хотя, очевидно, это необходимо было бы применить также по крайней мере и к некоторым разновидностям кредитных денег) должна сохраняться только при условии ежемесячного наклеивания на них марок, покупаемых на почте (примерно так, как на страховую карточку). Стоимость марок могла бы фиксироваться на любом подходящем уровне. Согласно моей теории, эта стоимость должна была бы быть примерно равна превышению денежной нормы процента (без учета стоимости марок) над предельной эффективностью капитала, совместимой с таким уровнем новых инвестиций, который соответствует полной занятости. Рекомендованная Гезеллом величина сбора – 1 % в месяц, что равно 5,4 % в год. В нынешних условиях это было бы слишком много, но найти подходящую цифру, которую следовало бы время от времени менять, можно было бы только практическим путем.
Общая идея, лежащая в основе этого предложения, несомненно, здравая. Весьма возможно, что удалось бы ее применить на практике в скромных масштабах. Но есть много затруднений, которых Гезелл не предвидел. В частности, он не учел того, что не только деньгам присуща премия за ликвидность и что деньги отличаются от других товаров только тем, что премия по ним выше, чем по любым другим товарам. Если бы денежные знаки были лишены их премии за ликвидность введением системы наклейки марок, то их место заняли бы многочисленные суррогаты: кредитные деньги, долговые бессрочные обязательства, иностранная валюта, ювелирные изделия и драгоценные металлы и т. д. Как я уже раньше отметил, были времена, когда страстное желание владеть землей независимо от приносимого ею дохода поддерживало норму процента на высоком уровне. Впрочем, по системе Гезелла такая возможность была бы устранена национализацией земли.
* * *
Теории, которые мы рассматривали выше, касались, по существу, той составляющей эффективного спроса, которая зависит от достаточности побуждения инвестировать. Однако совсем не ново приписывать бедствия безработицы недостаточности другой составляющей, а именно слабой склонности к потреблению. Но такое объяснение экономических бед нашего времени – столь же непопулярное у экономистов классической школы – играло гораздо меньшую роль в мышлении XVI и XVII веков и приобрело известное влияние только сравнительно недавно.
Хотя жалобы на недопотребление играли весьма подчиненную роль в воззрениях меркантилистов, все же проф. Хекшер приводит ряд примеров того, что он называет «глубоко укоренившейся верой в полезность роскоши и вред бережливости». Действительно, бережливость рассматривалась как причина безработицы по двум мотивам: во-первых, потому, что реальный доход, как полагали, уменьшается на сумму денег, не участвующую в обмене, и, во-вторых, потому, что сбережение отвлекает деньги из обращения. В 1598 году г-н Лафма («Сокровища и богатства, необходимые для великолепия государства») выступил против тех, кто отказывался от французского шелка, указывая, что покупатели французских предметов роскоши обеспечивают пропитание беднякам, в то время как скупость заставила бы последних умереть в нищете. В 1662 году Петти оправдывал «развлечения, великолепные зрелища, триумфальные арки и т. п.» ввиду того, что их стоимость течет в карманы пивоваров, булочников, портных, сапожников и т. п. Фортри оправдывал «излишества нарядов». Фон Шреттер (в 1686 году) неодобрительно отзывался по поводу ограничений роскоши и заявлял, что он хотел бы, чтобы щегольство в одежде и т. п. было даже еще больше. Барбон (в 1690 году) писал, что «расточительность – это порок, который вредит человеку, но не торговле… Жадность – вот порок, вредный и для человека, и для торговли». В 1695 году Кери доказывал, что если бы каждый тратил больше, то все получали бы большие доходы и «могли бы жить в большем достатке».
Мысль Барбона, однако, получила широкую известность благодаря «Басне о пчелах» Бернарда Мандевиля – книге, признанной вредной судом присяжных в Мидлсексе в 1723 году и выделяющейся в истории этических учений своей скандальной репутацией. Насколько известно, только один человек сказал о ней доброе слово, а именно д-р Джонсон, который заявил, что она не смутила его, а, наоборот, «очень широко открыла глаза на действительный мир». В чем именно заключалась безнравственность книги – об этом можно судить по статье Лесли Стивена в «Словаре национальных биографий».
«Мандевиль вызвал глубокое возмущение своей книгой, в которой он остроумными парадоксами придал привлекательность циничной системе морали… Его учение о том, что процветание больше увеличивается в результате расходов, чем в результате сбережений, согласовывалось со многими экономическими заблуждениями, которые еще не искоренены. Допуская вместе с аскетами, что человеческие желания являются в своей основе злом и порождают «частные пороки», и соглашаясь одновременно с общепринятой точкой зрения, что богатство есть «общественное благо», он легко показал, что всякая цивилизация зависит от развития порочных наклонностей…».
«Басня о пчелах» – это аллегорическая поэма «Ропщущий улей, или Мошенники, ставшие честными», где показана плачевная участь процветающего общества, в котором все граждане внезапно возымели желание ради сбережения расстаться с роскошью и сократить вооружения государства.
«Теперь уже ни один благородный не мог довольствоваться тем, чтобы жить и брать в долг то, что он расходует. Ливреи висят в ломбардах, кареты они отдают за бесценок, породистых лошадей продают целыми упряжками, продают и загородные виллы, чтобы уплатить долги. Бесполезных расходов чураются, как безнравственного обмана. За границей они не держат войск. Ни в грош не ставят «почтение иностранцев» И суетную славу войн. Они дерутся, но лишь за свою страну, когда дело идет о праве и свободе.
А теперь подумайте о славном улье и посмотрите, как уживаются между собой честность и торговля: роскошь быстро скудеет и исчезает, и теперь выявляется совсем другая сторона дела, так как ведь исчезли не только те, кто каждый год тратил большие деньги, но и массы людей, что жили на эти деньги, каждый день делая свою работу. Тщетно пробовали они искать других занятий: везде излишки.
Земли и дома падают в цене; чудесные дворцы, стены которых, подобные стенам Фив, были воздвигнуты искусством, теперь сдаются в наем… Строительное дело совсем подорвано, у ремесленников больше нет занятий, никакой живописец теперь уже не знаменит своим искусством. Больше не называют имен резчиков по камню и дереву».
И «мораль» отсюда такова:
«Благодаря одной добродетели народы не могут жить в великолепии. Кто хочет возродить Золотой Век, должен иметь не только честность, но и желуди в пищу».
Две цитаты из комментария, которые следуют за аллегорией, показывают, что изложенное выше основано на определенных теоретических соображениях.
«Поскольку благоразумная экономия, которую некоторые именуют сбережением, является для отдельной семьи наиболее верным средством увеличить ее состояние, кое-кто воображает, что если все станут применять это средство (которое они считают практически возможным), независимо от того, бедна или богата их страна, то это будет иметь такое же значение для нации в целом, и что, например, англичане были бы много богаче, если бы были такими же экономными, как некоторые из их соседей. Я думаю, что это ошибка».
В противовес этому Мандевиль заключает:
«Великое искусство сделать нацию счастливой и тем, что мы называем процветающей, состоит в том, чтобы дать каждому возможность быть занятым. Чтобы осуществить это, первой заботой правительства должно быть поощрение всего разнообразия мануфактур, искусств и ремесел, какое только может изобрести человеческий ум, и второй заботой – поощрение сельского хозяйства и рыболовства во всех их видах таким образом, чтобы вся земля, как и человек, могла полностью проявить свои возможности. От такой политики, а не от никчемных правил о расточительности и бережливости можно ожидать величия и счастья народов. Пусть стоимость золота и серебра поднимается или падает, благополучие всех человеческих обществ будет всегда зависеть от плодов земли и труда народа. Соединенные вместе, они представляют более надежное, более неистощимое и реальное богатство, чем все золото Бразилии или серебро Потоси».
* * *
Неудивительно, что такие безнравственные чувства вызывали в течение двух столетий неодобрение моралистов и экономистов, считавших себя гораздо более добродетельными на основании своей суровой доктрины, согласно которой нельзя найти других надежных средств, кроме крайней бережливости и экономии, как со стороны отдельных лиц, так и со стороны всего государства. Петти, с его защитой «развлечений, великолепных зрелищ, триумфальных арок и т. п.», уступил место копеечной мудрости гладстоновских финансов и такой системе, когда государство «не может позволить себе» госпитали, места отдыха, красивые здания и даже охрану памятников старины, а тем более великолепие музыки и драмы, предоставляя все это частной благотворительности или великодушию щедрых людей.
О подобных идеях не вспоминали в респектабельных кругах в течение целого столетия, пока у Мальтуса в его поздних работах представление о недостаточности эффективного спроса не заняло определенного места в научном объяснении безработицы. Поскольку я остановился на этом довольно подробно в моем очерке о Мальтусе, то здесь можно воспроизвести одну-две характерные цитаты из упомянутого очерка:
«Почти в каждой части мира мы видим обширные бездействующие производительные силы, и я объясняю это явление тем, что из-за неправильного распределения созданного продукта не возникает достаточных побуждений для продолжения производства… Я определенно утверждаю, что попытка накапливать слишком быстро (что предполагает значительное сокращение непроизводительного потребления) должна преждевременно затормозить рост богатства ввиду ослабления обычных стимулов к производству… Но если верно, что попытка накапливать очень быстро вызовет такое распределение между вознаграждением за труд и прибылями, которое почти совсем подорвет как побуждения к накоплению, так и возможности накопления в будущем и, следовательно, возможности содержания и использования растущего населения, то не следует ли признать, что такие попытки накапливать слишком быстро или слишком много сберегать могут быть в действительности вредны для страны?»
«Вопрос заключается в том, может ли этот застой в накоплении капитала и вытекающий отсюда застой в спросе на труд, порожденные увеличением производства без соответственного увеличения непроизводительного потребления лендлордов и капиталистов, иметь место без ущерба для страны, не ведя к меньшей степени счастья и богатства, чем это было бы в том случае, если бы непроизводительное потребление лендлордов и капиталистов находилось в таком отношении к естественным излишкам общества, чтобы обеспечить непрерывное поддержание стимулов к производству, предотвратить сначала ненормальный спрос на труд, а затем неизбежное и внезапное сокращение этого спроса. Но если это так, то как можно говорить, что бережливость, хотя она и может быть вредной для производителей, не может быть вредной для государства или что увеличение непроизводительного потребления лендлордов и капиталистов не может иногда оказаться подходящим средством для исправления положения, когда мотивы к производству ослабели».
«Адам Смит утверждал, что капиталы увеличиваются бережливостью, что каждый экономный человек является благодетелем общества и что увеличение богатства зависит от превышения производства над потреблением. Что эти положения в значительной мере правильны, не подлежит сомнению… Но совершенно очевидно, что они не могут быть верными до бесконечности и что принцип сбережения, доведенный до крайности, подорвал бы стимулы к производству. Если бы каждый довольствовался самой простой пищей, самой скромной одеждой и жильем, то, очевидно, и не существовало бы никаких других видов пищи, одежды и жилья… Видимо, то и другое – крайности. Отсюда следует, что должен существовать какой-то средний уровень – хотя политическая экономия, пожалуй, и не сможет его установить, – при котором, учитывая состояние производительных сил и желание потреблять, поощрение роста богатства было бы наибольшим».
«Среди всех мнений, высказанных способными и умными людьми, с которыми мне пришлось встретиться, мнение Сэя, утверждающего, что «потребленный или уничтоженный продукт все равно что потерянный рынок сбыта» (I, i ch. 15), как мне кажется, наиболее откровенно противоречит верной теории и почти постоянно опровергается практикой. И однако, оно прямо вытекает из нового учения, в силу которого нужно рассматривать товары только в их взаимном отношении друг к другу, а не к потребителям. Что, спросил бы я, сделалось бы со спросом на товары, если бы все потребление, кроме хлеба и воды, прекратилось на ближайшие полгода? Какое бы получилось накопление товаров! Какой сбыт! Какой замечательный рынок получился бы при этом!»
Однако Рикардо остался совершенно глух к тому, что говорил Мальтус. Последний отзвук этого спора можно найти в рассуждении Джона Стюарта Милля и его теории фонда заработной платы, игравшей, по его собственному мнению, важную роль в опровержении им позднего Мальтуса, на спорах о котором, он, конечно, был воспитан.
* * *
Последователи Милля отвергли его теорию фонда заработной платы, но проглядели тот факт, что опровержение Миллем Мальтуса зависело от этой теории. Их прием заключался в том, чтобы исключить эту проблему из свода законов экономической теории, не решив ее, а предав забвению. Она вообще исчезла из научных дискуссий. Кэрнкросс, искавший недавно следы этой проблемы в трудах второстепенных викторианцев, нашел их меньше, чем можно было ожидать. Теории недопотребления пребывали в забвении до появления в 1889 году «Физиологии промышленности» Дж. А. Гобсона и А. Ф. Меммери – первого и наиболее значительного из многочисленных томов его работ, в которых в течение почти 50 лет Гобсон боролся с неослабевающим, но почти бесплодным рвением и отвагой против многочисленных ортодоксов. Хотя теперь эта книга совершенно забыта, публикация ее в известном смысле знаменует эпоху в развитии экономической мысли.
«Физиология промышленности» была написана Гобсоном в сотрудничестве с А. Ф. Меммери. Гобсон изложил историю написания этой книги следующим образом:
«Только к середине 80-х годов моя неортодоксальность в экономической теории начала принимать определенную форму. Хотя кампания Генри Джорджа против земельной собственности и агитация различных социалистических групп против явного угнетения рабочего класса вместе с откровениями обоих Бутсов по поводу лондонской нищеты произвели на меня глубокое впечатление, они не подорвали мою веру в политическую экономию. Это произошло, можно сказать, из-за случайной встречи. Будучи учителем в школе в Эксетере, я познакомился с одним бизнесменом по имени Меммери, известным альпинистом, открывшим новый путь к вершине Меттер-хорна и погибшим в 1895 году при попытке достигнуть знаменитой гималайской вершины Нанга-Парбат. Меня связывали с ним – вряд ли стоит об этом даже говорить, – конечно, не интересы в области альпинизма. Он был также и интеллектуальным исследователем, обладавшим врожденной способностью находить свои собственные пути и не считаться с интеллектуальными авторитетами. Этот человек втянул меня в споры о чрезмерном сбережении, в котором он видел причину недостаточного использования капитала и труда в периоды ухудшения конъюнктуры. Я долго старался опровергнуть его аргументы, пользуясь обычным оружием ортодоксальной экономической теории. Но в конце концов он переубедил меня, и я взялся вместе с ним за разработку теории чрезмерного сбережения, изложенной в нашей книге «Физиология промышленности», опубликованной в 1889 году. Это было первое открытое выступление в моей еретической карьере, и я никак не представлял себе его немедленные последствия. Как раз в это время я оставил работу в школе и взялся за новое дело – чтение популярных лекций по экономике и литературе при университете. Первым ударом был отказ лондонского управления народных курсов разрешить мне чтение курса политической экономии.
Как я узнал, причиной было вмешательство одного профессора-экономиста, который прочитал мою книгу и увидел в ней нечто вроде попытки доказать, что земля плоская. Каким образом может существовать предел полезному сбережению, когда каждый элемент сбережения улучшает структуру капитала и увеличивает фонд, из которого выплачивается заработная плата? Здравомыслящие экономисты не могли без ужаса относиться к теории, которая стремится подорвать источник всякого промышленного прогресса. Еще один случай заставил меня почувствовать всю греховность моей позиции. Хотя мне и не позволили читать лекции по политической экономии в Лондоне, мне разрешили благодаря большому либерализму движения народных курсов при Оксфордском университете обратиться к провинциальной аудитории, ограничившись практическими вопросами, касающимися положения рабочего класса. Как раз в это время организация благотворительных обществ задумала провести цикл лекций по экономическим вопросам и предложила мне подготовить курс. Я выразил свою готовность взяться за эту новую лекционную работу, как вдруг, внезапно, без всякого объяснения, предложение было взято назад. Даже и тогда я не совсем понял, что, ставя под вопрос преимущества безграничной бережливости, я совершил непростительный грех».
* * *
В этой ранней работе со своим соавтором Гобсон более прямо, чем в позднейших работах, высказался о классической экономической теории, на которой он был воспитан. По этой причине, а также потому, что это было первым изложением его теории, я приведу цитаты из нее, чтобы показать, насколько значительна и хорошо обоснована была критика авторов и правильна была их интуиция. Они следующим образом характеризуют в предисловии существо тех выводов, которые они подвергают критике:
«Сбережение обогащает, а расходование денег делает бедным общество, как и отдельных лиц, и поэтому можно выдвинуть в качестве общего положения, что действительная любовь к деньгам лежит в основе этих экономических достижений. Она не только обогащает самого бережливого человека, но и повышает заработную плату, дает занятие безработным и расточает благодеяния везде и всюду. От ежедневных газет и до новейших экономических трактатов, от кафедры проповедника и до палаты общин это положение повторялось непрестанно, до тех пор пока сомневаться в этом стало просто нечестивостью. И все же образованный мир при поддержке большинства экономистов, вплоть до опубликования работы Рикардо, решительно отвергал это учение, и если позднее оно было принято, то лишь вследствие неспособности опровергнуть теперь уже сведенную на нет теорию о фонде заработной платы. То, что вывод пережил аргумент, на котором он логически основывался, можно объяснить только большим авторитетом провозглашавших его великих людей. Экономисты отважились критиковать детали этой теории, но боялись затрагивать ее основные выводы. Наша цель – показать, что эти выводы неправильны, что возможно чрезмерное развитие привычки к сбережению и что такое чрезмерное сбережение обедняет общество, выбрасывает рабочих на улицу, сокращает заработную плату, сеет уныние и подавленность в деловом мире, которые известны под именем экономических депрессий…
Цель производства – снабдить потребителя «полезными благами и удобствами». Это непрерывный процесс, начиная от первичной переработки сырья и до конечного потребления полезных благ либо услуг. Единственное использование капитала заключается в помощи производству этих полезностей или услуг, и весь его объем будет неизбежно изменяться в зависимости от количества ежедневно или еженедельно потребляемых благ и услуг. Сбережение, увеличивая совокупный капитал, одновременно уменьшает количество потребляемых благ и услуг. Поэтому чрезмерное развитие привычки сберегать должно вызвать накопление капитала в размере, превышающем его использование, и этот избыток принимает форму общего перепроизводства».
В последней фразе абзаца – корень ошибки самого Гобсона. Он полагает, что чрезмерное сбережение порождает действительное накопление капитала сверх потребности в нем. На самом деле это второстепенное зло, которое проистекает только из-за ошибок в предвидении. Главное же зло – это склонность сберегать в условиях полной занятости больше, чем требуемый эквивалент, препятствуя таким образом полной занятости, за исключением случаев ошибок в предвидении. Однако одной-двумя страницами далее он, по моему мнению, совершенно верно излагает, во всяком случае, половину проблемы, хотя и упускает из виду возможное влияние изменений нормы процента и деловой уверенности, т. е. факторов, которые он, по-видимому, считает заранее данными.
«Мы приходим, таким образом, к заключению, что основа, на которой покоилась со времен Адама Смита вся экономическая наука – а именно представление, что количество ежегодно производимого продукта определяется совокупностью природных факторов, капитала и труда, – ошибочна и что, напротив, объем производства, хотя и не может никогда превысить границ, установленных этими факторами, может упасть и фактически падает намного ниже этого максимума вследствие препятствий, создаваемых чрезмерным сбережением и вытекающим из этого перепроизводством. Иными словами, в современных промышленных обществах потребление ограничивает производство, а не производство – потребление».
* * *
Наконец, Гобсон показывает отношение своей теории к аргументации защитников ортодоксального фритредерства:
«Отметим также, что обвинение в коммерческой глупости, так легко бросаемое ортодоксальными экономистами по адресу наших американских родичей и других протекционистских обществ, не может поддерживаться какими-либо приводившимися до сих пор фритредерскими доводами, так как все эти доводы основывались на предпосылке, что перепроизводство невозможно». Следующая затем аргументация, возможно, неполна. Но все же это первое явное утверждение того факта, что капитал образуется не в результате склонности к сбережению, а в результате спроса, обусловленного текущим и перспективным потреблением. Ход мыслей авторов виден из следующих нескольких цитат:
«Должно быть ясно, что капитал общества не может с пользой увеличиваться без соответственного роста потребления товаров… Всякое увеличение сбережения и капитала, чтобы быть действительным, требует соответствующего роста потребления в ближайшем будущем»… И когда мы говорим о будущем потреблении, то имеем в виду не потребление через 10, 20 или 50 лет, а в самое ближайшее время… Если растущая бережливость или осторожность побуждает людей больше сберегать в настоящем, то они должны согласиться больше потреблять в будущем…
Ни на одной стадии производственного процесса не может быть экономически оправдано существование большего количества капитала, чем это необходимо для снабжения товарами при текущем объеме потребления… Ясно, что моя личная бережливость никоим образом не затрагивает общих экономических сбережений «общества, но лишь определяет, какая доля общего сбережения будет осуществляться мной или кем-либо другим. Мы покажем, как бережливость одной части общества заставляет другую его часть жить вне рамок ее дохода… Большинство современных экономистов отрицает, что потребление может иногда быть недостаточным. Можем ли мы найти какую-либо действующую экономическую силу, которая могла бы побудить общество к такой излишней бережливости, и если есть такие силы, то не обеспечивает ли механизм торговли сдерживающего влияния? Мы покажем, во-первых, что в каждом высокоорганизованном промышленном обществе постоянно действует сила, которая, естественно, побуждает к излишней бережливости, а во-вторых, что якобы заложенные в самом механизме торговли «тормоза» либо вовсе не действуют, либо недостаточны для предотвращения крупного ущерба торговле… Краткий ответ, который дал Рикардо на утверждения Мальтуса и Чалмерса, был, по-видимому, принят большинством позднейших экономистов как вполне достаточный. «Продукция всегда покупается за продукцию или услуги. Деньги – это лишь орудие, посредством которого осуществляется обмен. Поэтому увеличение производства всегда сопровождается соответственным увеличением способности к приобретению и потреблению, и перепроизводства быть не может», – Ricardo. Principles of Political Economy, p. 362.
Гобсон и Меммери знали, что процент есть не что иное, как плата за пользование деньгами. Они также достаточно хорошо знали, что их противники будут ссылаться на то, будто должно произойти «такое падение нормы процента (или прибыли), которое будет сдерживать сбережения и восстановит правильную пропорцию между производством и потреблением». В ответ они указывали, что «если падение прибыли побуждает людей сберегать меньше, то это должно проявляться двумя путями – либо склоняя их расходовать больше, либо производить меньше». В отношении первого случая они доказывали, что если прибыль падает, то весь доход общества уменьшается, и «мы не допускаем, чтобы, когда средняя величина дохода падает, люди испытывали побуждение к увеличению потребления только потому, что премия за бережливость соответственно уменьшилась».
Что же касается второй возможности, то, пишут авторы, «мы и не думаем отрицать, что падение прибыли, вызванное перепроизводством, будет тормозить производство. Предположение о наличии такого тормоза и есть центральный пункт нашей аргументации». Тем не менее их теории не хватало законченности именно потому, что они не разработали самостоятельной теории процента. Вследствие этого Гобсон слишком подчеркивал (особенно в своих последних книгах) роль недопотребления, ведущего к чрезмерным, т. е. нерентабельным, инвестициям, вместо того чтобы объяснить, что относительно слабая склонность к потреблению содействует появлению безработицы, потому что она требует и не получает в компенсирующем объеме новые инвестиции, которые хотя иногда в течение короткого времени и имеют место вследствие чрезмерно оптимистических ожиданий, но вообще не производятся вследствие падения ожидаемой прибыли намного ниже уровня, устанавливаемого нормой процента.
* * *
Со времени войны на нас обрушился целый поток еретических теорий недопотребления, из которых наиболее знаменита теория майора Дугласа. Сила аргументации майора Дугласа заключалась главным образом в том, что у ортодоксальной теории не было убедительного ответа на его разрушительную критику. С другой стороны, детали его концепции, в частности так называемая «теорема А + Б», содержит много чистейшей мистификации. Если бы майор Дуглас ограничил свои статьи «сектора Б» создаваемыми предпринимателями финансовыми резервами, которым не соответствуют никакие текущие расходы на возмещение и обновление, он был бы ближе к истине. Но даже и в этом случае следует учитывать возможность балансирования этих резервов новыми инвестициями по другим направлениям, а также увеличением расходов на потребление.
Майор Дуглас вправе претендовать на то, что он, не в пример некоторым своим ортодоксальным противникам, по крайней мере не упустил совсем из виду весьма важную проблему нашей экономической системы. Однако он, может быть, имеет право претендовать на ранг рядового, но никак не майора в храброй армии еретиков, включающей Мандевиля, Мальтуса, Гезелла и Гобсона, которые, следуя своей интуиции, предпочли, пусть смутно и неполно, видеть истину, чем защищать ошибку, выведенную, правда, с соблюдением требований ясности и последовательности, на основе простой логики, но из предпосылок, не соответствующих фактам.
Замечания о социальной философии, к которой может привести общая теория
Наиболее значительными пороками экономического общества, в котором мы живем, являются его неспособность обеспечить полную занятость, а также его произвольное и несправедливое распределение богатства и доходов. Связь изложенной выше теории с первой частью проблемы очевидна. Но есть также два важных аспекта, касающихся второй ее части.
С конца XIX века был достигнут значительный прогресс в устранении чрезмерного неравенства богатства и доходов посредством прямых налогов: подоходного, добавочного прогрессивного и налога с наследства, особенно в Великобритании. Многие хотели бы пойти по этому пути еще дальше, но их останавливают два соображения. Отчасти они опасаются, что слишком велик станет соблазн ловких уклонений, а также что слишком уменьшатся стимулы к принятию на себя риска. Главным же образом их смущает, как я думаю, представление, что рост капитала зависит от силы побуждения к индивидуальному сбережению и что в отношении большей части этого роста мы зависим от сбережения богатых людей за счет их излишков. Наши аргументы не затрагивают первого из этих соображений. Но они могут существенно изменить отношение ко второму. Мы видели, что до достижения уровня полной занятости рост капитала вообще не стимулируется слабой склонностью к потреблению, а, напротив, сдерживается ею. Только в условиях полной занятости слабая склонность к потреблению способствует росту капитала. Более того, опыт показывает, что в нынешних условиях сбережения учреждений и фондов погашения более чем достаточны, и мероприятия, направленные на перераспределение доходов и ведущие к усилению склонности к потреблению, могут оказаться весьма благоприятными для роста капитала.
Путаные представления по этому вопросу, бытующие среди широкой публики, можно проиллюстрировать очень распространенным мнением о том, что налог на наследство является причиной уменьшения богатства страны. Если государство использует поступления от налога на наследство на покрытие своих обычных расходов, так что налоги на доходы и на потребление соответственно уменьшаются или вовсе отменяются, тогда, конечно, верно, что политика высоких налогов на наследство увеличивает склонность общества к потреблению, усиливает, как правило (т. е. за исключением условий полной занятости), также и побуждение к инвестированию, то традиционно выводимое заключение как раз противоположно истине.
Таким образом, наш анализ приводит к выводу, что в современных условиях рост богатства не только не зависит от воздержания состоятельных людей, как обычно думают, но, скорее всего, сдерживается им. Одно из главных социальных оправданий большого неравенства в распределении богатства, следовательно, отпадает. Я не утверждаю, что нет других причин, не затрагиваемых нашей теорией, которые могут в определенных обстоятельствах оправдать известную степень неравенства. Но этим устраняется одна из самых важных причин, по которой до сих пор мы считали необходимым действовать с большой осторожностью. Это особенно касается нашего отношения к налогу на наследство, так как некоторые соображения в пользу неравенства доходов явно неприменимы в той же мере к неравенству наследств.
Что касается меня, то я полагаю, что есть известные социальные и психологические оправдания значительного неравенства доходов и богатства, однако не для столь большого разрыва, какой имеет место в настоящее время. Есть такие нужные виды человеческой деятельности, для успешного осуществления которых требуются меркантильная заинтересованность и общие условия частной собственности на капитал. Более того, опасные человеческие наклонности можно направить по сравнительно безобидному руслу там, где существуют перспективы «делать деньги» и накапливать личное богатство. Эти же наклонности, если они не могут быть удовлетворены таким путем, могут найти выход в жестокости, безрассудном стремлении к личной власти и влиянию и других формах самовозвеличивания. Лучше, чтобы человек тиранил свои текущие счета, чем своих сограждан. И хотя часто говорят, что первое – это лишь средство ко второму, все-таки иногда это представляет хоть какую-то альтернативу. Но не обязательно, чтобы для поощрения названных видов деятельности и удовлетворения наклонностей, о которых идет речь, игра велась по таким высоким ставкам, как сейчас. И гораздо меньшие ставки будут служить так же хорошо, как только игроки привыкнут к ним. Задачу преобразования человеческой натуры не следует смешивать с задачей руководства людьми. Хотя в идеальном обществе люди, может быть, и будут так обучены или воспитаны, чтобы не чувствовать интереса к выигрышу, все же мудрое и благоразумное государственное руководство должно дать возможность вести игру в соответствии с установленными правилами и ограничениями, до тех пор пока средний человек или хотя бы значительная часть общества остаются сильно подверженными страсти «делать деньги».
* * *
Есть, однако, еще один, более фундаментальный вывод из нашей теории, имеющий отношение к сохранению неравенства в распределении богатства в будущем, а именно наша теория процента. До сих пор относительно высокую норму процента оправдывали необходимостью создания достаточного побуждения к сбережению. Но мы показали, что величина эффективного сбережения неизбежно определяется размерами инвестиций и что увеличению размера последних содействует низкая норма процента, если только мы не будем пытаться стимулировать инвестиции этим путем вне условий полной занятости. Отсюда следует, что нам всего выгоднее снижать норму процента до такого ее отношения к величине предельной эффективности капитала, при которой будет обеспечена полная занятость.
Не может быть сомнения в том, что, исходя из этого критерия, норма процента должна быть гораздо ниже уровня, существовавшего до сих пор, и, насколько можно судить по изменениям предельной эффективности капитала в соответствии с увеличением массы капитала, норма процента, вероятно, постоянно будет снижаться, если окажется возможным поддерживать неизменно более или менее полную занятость, исключая случаи какого-либо чрезвычайного изменения в совокупной склонности к потреблению (учитывая и потребление государства).
Я убежден, что спрос на капитал ограничен узкими рамками в том смысле, что было бы нетрудно увеличить массу капитала до такого объема, при котором его предельная эффективность упала бы до очень низкого уровня. Это не значит, что пользование капитальными средствами не стоило бы почти ничего; это означает, что пользование капитальными средствами приносило бы доход, несколько превышающий стоимость их физического и морального износа, плюс небольшую надбавку за риск и вознаграждение за мастерство и самостоятельное принятие решений. Короче говоря, весь доход, приносимый товарами длительного пользования в течение всего срока их службы, так же как и товарами кратковременного пользования, как раз покрывал бы издержки на оплату труда, связанные с их производством, плюс надбавку за риск и вознаграждение за мастерство и надзор.
Далее, хотя такое положение и совместимо с некоторым индивидуализмом, оно означало бы эвтаназию рантье и, следовательно, эвтаназию все более усиливающегося гнета капиталистов, имеющих возможность эксплуатировать обусловленную недостатком ценность капитала. Процент в нынешних условиях вовсе не является вознаграждением за какую-нибудь действительно понесенную жертву, так же как и земельная рента. Собственник капитала может получить процент потому, что капитал редок, так же как и собственник земли может получить ренту потому, что количество земли ограниченно. Но тогда как редкость земли может обусловливаться присущими только земле свойствами, для редкости капитала таких причин нет. Особая причина такой редкости в смысле подлинной жертвы, которую можно было бы компенсировать предложением вознаграждения в виде процента, не могла бы существовать в течение длительного времени, за исключением тех случаев, когда индивидуальная склонность к потреблению оказалась бы настолько высокой, что чистые сбережения в условиях полной занятости были бы исчерпаны еще до образования достаточного изобилия капитала. Но даже и в этих случаях могли бы поддерживаться общественные сбережения, осуществляемые с помощью государства на таком уровне, который обеспечил бы рост капитала до размеров, когда перестал бы ощущаться его недостаток.
Я рассматриваю поэтому рантьерскую особенность капитализма как переходную фазу, которая исчезнет после выполнения своей миссии. А с исчезновением этой рантьерской черты изменится и многое другое. Кроме того, большим преимуществом того хода развития событий, который я защищаю, будет то, что эвтаназия рантье как нефункционирующего инвестора не будет внезапной, а явится постепенным и длительным продолжением процесса, наблюдаемого в последнее время в Великобритании, и не потребует никакой революции.
Таким образом, мы можем стремиться на практике (и в этом нет ничего недостижимого) к увеличению массы капитала, пока он не перестанет быть редким, так что нефункционирующий инвестор уже больше не будет получать премии, и к такой системе прямых налогов, которая позволила бы поставить на службу обществу ум, энергию и квалификацию финансистов, предпринимателей et hos genus omne (настолько преданных своему ремеслу, что их труд можно будет получить гораздо дешевле, чем теперь) за разумное вознаграждение.
В то же время мы должны признать, что только опыт покажет, насколько общая воля, воплощенная в политике государства, должна быть направлена на усиление и укрепление побуждения инвестировать и насколько безопасно стимулировать среднюю склонность к потреблению, не отказываясь от цели лишить капитал его ценности, обусловленной редкостью, в течение одного или двух поколений. Может случиться, что склонность к потреблению будет настолько усилена понижением нормы процента, что полная занятость будет достигнута при темпах накопления, лишь немногим больших, чем нынешние. В этом случае систему повышенного обложения налогом крупных доходов и наследства могут подвергнуть критике за то, что она ведет к полной занятости при более низких темпах накопления капитала, чем в настоящее время. Не следует думать, что я отвергаю возможность или даже вероятность такого исхода. В подобных вещах не следует слишком поспешно предсказывать, как средний человек будет реагировать на изменение обстановки. Если, однако, окажется возможно без особого труда обеспечить приближение к полной занятости при темпах накопления немногим больших, чем сейчас, то по крайней мере одна важная проблема будет решена. И тогда остается особый вопрос: в каких размерах и какими средствами правомерно и разумно призывать нынешнее поколение к ограничению своего потребления ради того, чтобы обеспечить с течением времени достаточные инвестиции для будущих поколений?
* * *
В некоторых других отношениях вышеизложенная теория является по своим выводам умеренно консервативной. Хотя она и указывает на жизненную необходимость создания централизованного контроля в вопросах, которые ныне в основном предоставлены частной инициативе, многие обширные сферы деятельности остаются незатронутыми. Государство должно будет оказывать свое руководящее влияние на склонность к потреблению частично путем соответствующей системы налогов, частично фиксированием нормы процента и, возможно, другими способами. Более того, представляется маловероятным, чтобы влияние банковской политики на норму процента было само по себе достаточно для обеспечения оптимального размера инвестиций. Я представляю себе поэтому, что достаточно широкая социализация инвестиций окажется единственным средством, чтобы обеспечить приближение к полной занятости, хотя это не должно исключать всякого рода компромиссы и способы сотрудничества государства с частной инициативой. Но, помимо этого, нет очевидных оснований для системы государственного социализма, которая охватила бы большую часть экономической жизни общества. Не собственность на орудия производства существенна для государства. Если бы государство могло определять общий объем ресурсов, предназначенных для увеличения орудий производства и основных ставок вознаграждения владельцев этих ресурсов, этим было бы достигнуто все, что необходимо. Кроме того, необходимые меры социализации можно вводить постепенно, не ломая установившихся традиций общества.
Наша критика общепринятой классической экономической теории заключалась не столько в отыскании логических изъянов ее анализа, сколько в установлении того факта, что ее молчаливые предпосылки редко или даже никогда не бывают убедительны и что она не может разрешить экономических проблем реальной жизни. Но если наша система централизованного контроля приведет к установлению общего объема производства, настолько близкого к полной занятости, насколько это вообще возможно, то с этого момента классическая теория вновь обретет силу. Если принять объем продукции за величину данную, т. е. определяемую факторами, лежащими вне классической схемы мышления, тогда не будет возражений против классического анализа того способа, посредством которого частные эгоистические интересы определяют, что именно должно быть произведено, в каких пропорциях нужно для этого соединить факторы производства и как распределить между ними стоимость конечного продукта. И еще: если уж мы разрешили по-иному проблему бережливости, то не будет возражений против современной классической теории в отношении степени совместимости между собой частных и общественных интересов в условиях совершенной и несовершенной конкуренции. Таким образом, помимо необходимости централизованного контроля для достижения согласованности между склонностью к потреблению и побуждением инвестировать, имеется не больше оснований для социализации экономической жизни, чем прежде.
Конкретно говоря, я не вижу оснований полагать, что существующая система плохо использует те факторы производства, которые она вообще использует. Конечно, случаются просчеты в предвидении, но их не избежать и при централизованном принятии решений. Когда из 10 млн желающих и способных работать людей занято 9 млн, то у нас нет оснований утверждать, что труд этих 9 млн используется неправильно. Претензии к нынешней системе состоят не в том, что труд этих 9 млн людей должен использоваться для выполнения других задач, а в том, что нужно найти работу еще одному миллиону человек. Именно в определении объема занятости, а не в распределении труда тех, кто уже работает, существующая система оказалась непригодной.
Итак, я согласен с Гезеллом в том, что результатом заполнения пробелов классической теории должно быть не устранение «манчестерской системы», а выяснение условий, которых требует свободная игра экономических сил, для того чтобы она могла привести к реализации всех потенциальных возможностей производства. Учреждение централизованного контроля, необходимого для обеспечения полной занятости, потребует, конечно, значительного расширения традиционных функций правительства. Кроме того, в современной классической теории обращается внимание на различные условия, в которых свободная игра экономических сил нуждается в обуздании или руководстве. Но все же остаются широкие возможности для проявления частной инициативы и ответственности. В пределах этих возможностей традиционные преимущества индивидуализма сохранятся и далее.
Вспомним на минуту, в чем заключаются эти преимущества. Отчасти это преимущества эффективности, обусловленные децентрализацией и влиянием личной заинтересованности. Преимущества эффективности, вытекающие из децентрализации принятия решений и индивидуальной ответственности, возможно, даже более значительны, чем полагали в XIX веке, и реакция против призыва к личной заинтересованности, пожалуй, зашла слишком далеко. Но всего ценнее индивидуализм, если он может быть очищен от дефектов и злоупотреблений; это лучшая гарантия личной свободы в том смысле, что по сравнению со всеми другими условиями он чрезвычайно расширяет возможности для осуществления личного выбора. Он служит также лучшей гарантией разнообразия жизни, прямо вытекающего из широких возможностей личного выбора, потеря которых является величайшей из всех потерь в гомогенном или тоталитарном государстве. Ибо это разнообразие сохраняет традиции, которые воплощает в себе наиболее верный и успешный выбор предшествующих поколений. Оно окрашивает настоящее в переливающиеся цвета фантазии, и, будучи служанкой опыта в такой же мере, как традиции и фантазия, оно является наиболее могущественным средством для достижения лучшего будущего.
Поэтому, хотя расширение функций правительства в связи с задачей координации склонности к потреблению и побуждения инвестировать показалось бы публицисту XIX века или современному американскому финансисту ужасающим покушением на основы индивидуализма, я, наоборот, защищаю его как единственное практически возможное средство избежать полного разрушения существующих экономических форм и как условие для успешного функционирования личной инициативы.
Если эффективный спрос недостаточен, то растрата ресурсов, связанная с ним, представляет собой не только нетерпимый общественный скандал. Отдельный предприниматель, который захотел бы ввести эти ресурсы в действие, тоже оказывается в очень невыгодном положении. Игра случая, в которую он включается, дает частые проигрыши, и все игроки обязательно проигрывают, если у них хватает энергии и надежды испытать счастье на всех картах. До сих пор прирост мирового богатства отставал от совокупных позитивных индивидуальных сбережений. Разница состояла из потерь тех, чье мужество и инициатива не подкреплялись исключительными способностями или необычайным везением. При соответствующем эффективном спросе достаточно и средних способностей, и средней удачи.
* * *
Я упомянул мимоходом, что новая система может оказаться более благоприятной для сохранения мира, чем старая. Стоит еще раз остановиться на этой стороне дела и подчеркнуть ее.
Войны имеют разные причины. Диктаторы и прочие, кому войны сулят, как они, по крайней мере, надеются, приятное волнение, могут без труда играть на естественной воинственности народов. Но самое большое значение имеют, помогая им раздувать пламя народного гнева, экономические причины войны, а именно чрезмерный рост населения и конкурентная борьба за рынки. Именно второй фактор, который, вероятно, играл основную роль в XIX веке и может сыграть ее опять, имеет наиболее непосредственное отношение к нашей теме.
В условиях laissez-faire внутри страны и при наличии международного золотого стандарта, что было характерно для второй половины XIX века, правительства не располагали никакими другими средствами для смягчения экономических бедствий в своих странах, кроме конкурентной борьбы за рынки. Ведь все средства борьбы с хронической или перемежающейся безработицей были запрещены, кроме мер, направленных на улучшение торгового баланса за счет его поступлений.
Таким образом, хотя экономисты и привыкли расхваливать господствующую международную систему как обеспечивающую преимущества международного разделения труда, а также гармоническое сочетание интересов различных народов, в ней заключены и менее благотворные начала. Несомненно, здравым смыслом и правильной оценкой хода событий руководствовались те государственные деятели, которые полагали, что если богатая старая страна пренебрегает борьбой за рынки, то ее процветание померкнет и прекратится. Но если народы научатся обеспечивать себе полную занятость с помощью внутренней политики (и, добавим, если они смогут к тому же достигнуть равновесия в динамике населения), тогда не должно быть мощных экономических сил, рассчитанных на противопоставление интересов одной страны интересам ее соседей. Возможности для международного разделения труда и международного кредита на подходящих условиях останутся и в этом случае. Но тогда больше не будет настоятельных причин, в силу которых одна страна вынуждена навязывать свои товары другим или отвергать предложения своего соседа не потому, что ей необходимо раздобыть средства для оплаты товаров, которые она хочет купить, а с определенным намерением нарушить равновесие платежей и изменить торговый баланс в свою пользу. Международная торговля перестала бы быть тем, чем она является сейчас, а именно отчаянной попыткой поддержания занятости внутри страны путем форсирования экспорта и ограничения импорта. Даже в случае успеха это лишь перекладывает проблему безработицы на плечи соседа, оказавшегося самым слабым в борьбе. Международная торговля стала бы добровольным и беспрепятственным обменом товаров и услуг на взаимовыгодной основе.
Не является ли осуществление этих идей призрачной мечтой? Может быть, они имеют недостаточные корни в тех мотивах, которые управляют политическим развитием общества? Не являются ли интересы, подавление которых они предполагают, более сильными и более очевидными, чем те, которым они должны служить?
Я не пытаюсь ответить здесь на эти вопросы. Потребовался бы целый том совершенно иного характера, чтобы обрисовать даже в самых общих чертах те практические меры, в которые эти идеи могли бы постепенно воплотиться. Но если сами идеи правильны – а из этой гипотезы автор неизбежно должен исходить, – то было бы ошибкой, как я считаю, оспаривать их потенциальные возможности. В настоящее время люди особенно ждут более глубокого диагноза, особенно готовы принять его и испробовать на деле все, что будет казаться имеющим хоть какие-нибудь шансы на успех. Но даже и помимо этого современного умонастроения, идеи экономистов и политических мыслителей – и когда они правы, и когда ошибаются – имеют гораздо большее значение, чем принято думать. В действительности только они и правят миром. Люди практики, которые считают себя совершенно неподверженными интеллектуальным влияниям, обычно являются рабами какого-нибудь экономиста прошлого. Безумцы, стоящие у власти, которые слышат голоса с неба, извлекают свои сумасбродные идеи из творений какого-нибудь академического писаки, сочинявшего несколько лет назад. Я уверен, что сила корыстных интересов значительно преувеличивается по сравнению с постепенным усилением влияния идей. Правда, это происходит не сразу, а по истечении некоторого периода времени. В области экономической и политической философии не так уж много людей, поддающихся влиянию новых теорий, после того как они достигли 25– или 30-летнего возраста, и поэтому идеи, которые государственные служащие, политические деятели и даже агитаторы используют в текущих событиях, по большей части не являются новейшими.
Но рано или поздно именно идеи, а не корыстные интересы становятся опасными и для добра, и для зла.









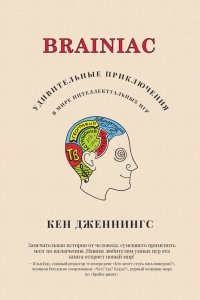




Комментарии к книге «Впечатления о Советской России. Должно ли государство управлять экономикой», Джон Мейнард Кейнс
Всего 0 комментариев