Борис Цирюльник О стыде. Умереть, но не сказать
Boris Cyrulnik
MOURIR DE DIRE
© ODILE JACOB, 2010
***
Если желаете знать, почему я ничего не сказал, — вам надо просто разобраться в том, что заставило меня молчать. Стечение обстоятельств и предполагаемая реакция окружающих — таковы соавторы моего молчания. Если я расскажу вам, что именно со мной произошло, вы не поверите, засмеетесь, встанете на сторону моего обидчика, начнете задавать непристойные вопросы или и того хуже — пожалеете меня. Какой бы ни была ваша реакция, мне достаточно лишь заговорить, чтобы под вашим взглядом я почувствовал себя скверно.
Значит, чтобы защитить себя, я буду молчать, выставлю напоказ лишь часть моей истории, которую вы сможете воспринять. Другая ее часть — сумрачная — будет бессловесно обитать в глубинах моего «я». Эта молчаливая история станет управлять нашей с вами связью, потому что в глубине души я бесконечно долго произносил все эти непроизнесенные слова.
Слова — обрывки переживаний, они иногда почти не содержат информации. Стратегия защиты от невыразимого, непроизносимого, с трудом воспринимаемого на слух только что создала между нами странный мостик, ширму, позволяющую отодвинуть в тень невероятный эпизод, историю катастрофы, которую я непрестанно повторяю про себя, не произнося вслух ни слова.
Невозможность поделиться эмоциями образует в раненой душе то молчаливое пространство, где без умолку раздается голос: что-то шепчет, повторяя в глубине моего «я» постыдный рассказ. Молчать трудно, но можно не говорить. Когда мы не выражаемся посредством слов, переживание, передаваемое молча, бессловесно, становится еще сильнее. Переживший травму, как бы он ни страдал, не говорит, — стискивает зубы, вот и все. Когда неосознанное невыразимое ни с кем не разделено, оно превращается в причудливое настоящее. «Этот человек легко изъясняется, однако я четко ощущаю: он рассказывает, скрывая то, что не хочет произносить вслух». Вытеснение организует различные связи. Оно принадлежит к области бессознательного. Но помимо призрачных сновидений возникают еще и странные сцены, позволяющие некоторым тайнам избежать дешифровки.
Стыдящийся силится говорить, он бы очень хотел признаться, что является пленником собственной немоты, что хотел бы произнести вслух то же самое, что повторяет про себя, но не может — настолько его пугает ваш взгляд. Он верит: если начнет говорить — умрет. И тогда он рассказывает историю другого человека, который, как и он, пережил невероятную катастрофу.
Он придумывает автобиографию от третьего лица и удивляется, как легко у него выходит рассказывать о себе, как о другом, представляя другого на месте себя, сделав его своим голосом. То, что он облек историю своей катастрофы в слова и, несмотря ни на что, поделился ей с вами, позволило ему перестать считать себя монстром. Он вновь стал подобен остальным, ведь вы его поняли и, быть может, даже полюбили? Писать — значит создавать интимную связь. И если у вас тысячи читателей, значит, создаются тысячи интимных связей, ибо читающий всегда остается с тем, кто пишет, один на один.
Одно воспоминание из юности (Вместо вступления)
В то время, о котором пойдет речь, на Мосту Искусств было немноголюдно. Мы гуляли по нему, тихо переговариваясь.
— Я живу там, — признался мне Суфир, указывая на дом за дворцом Института. — Мой отец очень богат. Он хотел, чтобы я учился в Париже, и купил мне художественную мастерскую на набережной Конти… Я стыжусь этого.
Я бы никогда не подумал, что можно стыдиться того, что живешь в столь невероятном месте. Из окна виднелись крыши Института, Лувр и Сена, а проделав несколько сот шагов, можно было добраться до здания медицинского факультета, студентами которого мы были.
Что касается меня, я жил на улице Рошешуар, между площадью Пигаль и бульваром Барбес, в маленькой комнатушке без воды и отопления, площадью, вероятно, менее десяти квадратных метров. Я почти гордился этим, поскольку выкрасил ее в красный и голубой цвета, совсем как на картине Пикассо «Жаклин со скрещенными руками». Я не стыдился инея на стенах и замерзших стекол, символизировавших испытание холодом и бедностью, — и то и другое я бы смог преодолеть, — однако мне было стыдно от того, что на моих штанах, невероятно старых и поношенных, между ног зияла огромная дыра, и, заметь ее другие студенты, они бы стали презирать меня.
Мы с Суфиром дружили и с гордостью обсуждали то, что можно было обсуждать вдвоем. Он описывал мне красоты Марокко, описание приемов, которые устраивала его семья, произвело на меня неизгладимое впечатление, а когда он рассказал о своем отношении к отцу — смесь обожания и страха, — я был даже удивлен. Однако я явственно ощущал, что все эти красивые рассказы позволяют ему оставить в тени ту часть своей семейной истории, которая причиняла ему боль.
Однажды вечером Суфир предложил мне продолжить наш разговор в маленьком ресторанчике, находившемся здесь же, в квартале. Я заявил, что оплачу половину суммы счета, — что означало: в течение следующей недели я не смогу покупать талоны на обед в университетском кафе. Но мне было бы стыдно, окажись я не на высоте. Мне следовало вести себя так же уверенно, как Суфир. Если бы он заплатил за меня, я бы воспринял этот подарок, как проявление превосходства с его стороны, и почувствовал бы себя почти униженным.
Мысль о том, что остаток недели придется провести, не имея возможности заглянуть в университетское кафе, напомнила мне один послевоенный эпизод, когда я, будучи ребенком, попал в приют, где воспитанники искали любой повод быть назначенными на дежурство по столовой, чтобы иметь возможность наскрести лишнюю горсть хлебных крошек. Это воспоминание не вызывало у меня чувства унижения. Напротив, я испытывал непонятную гордость, вспоминая об этом, — такую же, как от созерцания инея на стенах и замерзших стекол комнатенки на улице Рошешуар. Однако я не рассказал об этом Суфиру, поскольку боялся вызвать у него удивление или жалость (так же, как стыдился своих дырявых штанов). Один и тот же факт, следовательно, мог порождать одновременно чувство стыда и гордости! Где-то в глубине моего сознания мысль о горсточке подобранных со стола крошек не вызывала стыда. Я даже ощущал себя победителем, ловкачом, сумевшим зажилить эту горсть. Но разве я мог признаться в этом вслух?
Я подозревал, что мы стыдимся друг друга, даже немного презираем. А знаете ли вы, кто спровоцировал в нас это взаимное презрение? Ален, вечно довольный собой! Его всегдашняя удовлетворенность собственным существованием раздражала нас обоих. Мы говорили друг другу, что он, Ален, обязан своим счастьем собственному неумению почувствовать всю сложность жизни (что в свою очередь означало следующее: яд стыда, проникшего в наши отношения, ощущался нами именно потому, что мы прекрасно отдавали себе в этом отчет). Как вам такое? Мы с Суфиром испытывали унижение, когда на нас смотрели окружающие: из-за дыры на штанах и из-за того, что собственный отец делает подарки в виде шикарной квартиры; тем не менее, мы чувствовали себя более человечными, чем Ален. Мы уверяли себя, что он защищен собственной несознательностью. Мы без пиетета относились к той силе, с которой он — чересчур просто — смотрел на мир. Довольно улыбаясь, Ален объяснял нам, что не стоит изучать медицину дольше года, иначе мы неизбежно потеряем прибыль, которую могли бы иметь, устроившись в один из городских врачебных кабинетов. Сам Ален выбрал для стажировки свободный график, что позволяло ему не посещать больницу и каждое утро заниматься по несколько часов. Он подсчитал, что участие в конкурсах и чтение журналов — не более чем потеря времени, гораздо лучше посвятить себя изучению минимального набора предметов, необходимого, чтобы успешно сдать экзамены. Мы считали его глупцом, когда он пускался разглагольствовать о том, что достаточно пробежать глазами левую страницу книги и выбрать несколько ключевых слов из текста, расположенного на правой, чтобы экзамен был сдан. Мы полагали отвратительными его рассуждения о необходимости жениться на богатой девушке, чтобы обзавестись машиной, загородным домом и обеспечить себе безбедное существование на все годы учебы. Он никогда не перенапрягался, но при этом получил диплом, будучи очень молодым, и он вообще ничего не стыдился. Ален развелся с женой, она покончила с собой, но он никогда не чувствовал себя виноватым.
Знакомые с тем, что такое стыд, мы презирали этого наглеца, полагая, что он обязан своей удачей и дурацким счастьем полному отсутствию каких-либо моральных принципов. На его месте мы бы просто умерли от стыда. Не исключено, что мы даже лелеяли мысль, что смерть от стыда — доказательство высокой морали. Ведь мы не были монстрами или бездушными автоматами. Яд стыда свидетельствовал о нашей способности страдать, когда мы замечали направленные на нас взгляды окружающих: мы придавали им большое значение, полагая стыд признаком нашей нравственности.
Мы беседовали с Суфиром о политике и литературе. Он рассказывал мне о Марокко, о великолепии тамошних городов, богатстве культуры. Я так никогда и не узнал, каким образом его отец заработал столько денег, заставлявших страдать его сына.
Я изложил ему свои политические убеждения — разумеется, они были левыми, — мы часто спорили с товарищами, и я никогда не стыдился нашей смелости и нашей трусости. Я никогда не вспоминал вслух о прорехах — в брюках, в подошвах ботинок, в крыше моей комнаты. А он, этот богатый чужак, никогда не говорил об оторванности от своих корней. Я, будучи чужаком бедным, тоже никогда не рассуждал о корнях. Наш стыд был молчаливым, словно мы заключили тайное соглашение. Мы обменивались переживаниями, которые можно было доверить друг другу, однако скрывали те страдания, которые нельзя облечь в слова. Мы произносили «я» с наслаждением, если речь шла о Марокко, Центральной Европе, кино и литературе. Однако, несмотря на все эти рассказы и доверенные друг другу переживания, наши внутренние миры никогда полностью не вмещались в это «я».
Необходимо было молчать о том, что часть наших душ покрыта плесенью, необходимо было обмениваться лишь приятными воспоминаниями о времени, проведенном вместе, и о нескольких мгновениях счастья. Стыд, образовывавший кисты в глубинах совести, поделил наши дружеские связи надвое: одна часть предполагала разговоры и дружбу, другая, молчаливая, отравляла жизнь каждого из нас. Если бы мы вдруг утратили хоть малейшую частичку нашей смелости, с губ могло непроизвольно сорваться какое-нибудь слово, демонстрирующее изнанку нашей разорванной души, а тело произвести жест, обнажающий дыру на брюках.
Без малейшего намека на дружеское расставание Суфир внезапно уехал с набережной Конти. Потом мне рассказали, что его отец арестован. Бежать моего друга вынудил стыд: он и подумать не мог о том, чтобы посмотреть мне в глаза.
Ален женился снова, заработал много денег и разбился, несясь на полной скорости в спортивном автомобиле; он так никогда и не испытал ни малейшего чувства стыда.
Шестьдесят лет спустя, в порту Ля Пти Мер в Ля Сене, недалеко от Тулона, я болтал с Лораном, пока тот менял доску в моей провансальской плоскодонке. Эти суденышки — настоящие произведения искусства, но поскольку они построены из дерева, о них постоянно нужно заботиться, иначе неизбежна течь. Лоран рассказал мне, что ходил в местную школу — здесь, в портовом квартале. Его родители были глухими и не могли разговаривать. Он признался, что умирал от стыда, видя хорошеньких мамочек, подзывавших к себе детишек; а потом вдруг сдавленно произнес: «Тогда я не понимал, какой невероятный подарок родители сделали мне своей самоотверженной привязанностью, невзирая на все проблемы. Мне стыдно, что я их стыдился. Сегодня я горжусь ими».
В Ля Сене много итальянских детей. Их отцы приехали сюда работать на верфях, рыболовецких судах и цветочных полях. Фели в детстве регулярно слышала от отца историю о том, как он был вынужден бежать из Италии. В 1920 году он служил жандармом в Генуе и получил приказ стрелять в бастовавших рабочих. «Когда я понял, что должен стрелять, то позеленел, обделался и опустил ружье», — звучал один и тот же рассказ. Маленькой девочке сложно восхищаться отцом, позеленевшим от страха и наделавшим в штаны. Любой ребенок предпочел бы, чтобы его отца, проявившего героизм в каком-нибудь сражении, наградили орденом посреди многолюдной площади. Став историком, Фели изучала рапорт немецкого офицера, расстрелявшего четыре сотни цыганских евреев в отместку за убитых партизанами сослуживцев. В конце он написал: «Подумать только, каждый вечер я вспоминаю об этом»[1]. Этот документ неожиданно полностью изменил свой смысл, когда Фели сопоставила его с воспоминанием об отце, «позеленевшем от страха». «Я сразу же подумала о нем — о том, как он наделал в штаны и категорически отказался убивать себе подобных»[2].
Тот позеленевший от страха жандарм, Джузеппе де ла Рокетте, не был героем и даже антифашистом. «Откуда взялся в нем этот отказ убивать, совершить нечто, способное разрушить наше внутреннее „я“?» — задается вопросом Фели[3]. Возможно, этот человек не был настолько образован, чтобы поддаться фашистской риторике, но в любом случае его личность оказалась достаточно независимой, чтобы не подчиниться ей. Простая мысль о том, что ты можешь убить себе подобного — невинного человека, — разрушает наше «я». С точки зрения Джузеппе, это убийство выглядело абсурдным.
В ту же самую эпоху (1939–1942 гг.) бойцы 101-го резервного батальона немецкой полиции[4] получили приказ убить еврейских и цыганских детей в районе Лодзи в Польше. Большинство выполнили приказ превосходно. «Помню первые казни. Это всегда выглядело одинаково… По правде говоря, в самом начале они не отдавали нам приказы убивать на месте, довольствуясь, скорее, тем, что просто намекали: с подобными людьми нечего церемониться…»[5] Вскоре убийство превратилось в рутину. Меньшинство, имевшее право не участвовать в казнях, почти извиняясь, признавалось, что у них нет силы исполнять подобные приказы. Употребление слова «исполнять» для обозначения цели происходящего придает исполнителю статус винтика в системе, ориентированной на победу. Офицеры батальона могли бы заявить, что их люди «подчинились приказам», — однако выбор слова «подчиняться» означал бы слабую сознательность, тогда как слово «исполнять» предполагает ощущение механической силы. Следует гордиться исполнением приказа, который приближает победу и очищение. Мы стыдимся подчиняться приказам, которых не понимаем. Эти бравые бойцы 101-го резервного батальона, торговцы чаем, столяры, мелкие предприниматели, бывшие коммунисты, охваченные национал-социалистической эйфорией, испытывали удовольствие от исполнения приказов. Они гордились тем, что приближают победу нацизма и участвуют в очищении общества, в то время как те, кто не рискнул участвовать в казнях, почти стыдились того, что не нашли в себе необходимой силы. Их неучастие сделало работу 101-го батальона менее эффективной — то есть они не могли разделить успех операции, почти что предали своих товарищей, оставив их один на один с приказом убивать. Менее 20 % этих полицейских отказались стрелять в детей. Хотя имели на это право. Лейтенант Бюхман, тридцати восьми лет, член национал-социалистической партии, заявил, что он не будет убивать невинных. Как и следовало ожидать, ему просто доверили исполнение другого приказа. Никакого героизма, неповиновения — лишь немного стыда от того, что не нашел в себе ментальной силы, отличавшей других полицейских, и тем самым лишил весь отряд чувства солидарности.
Джузеппе, итальянский полицейский, измарал брюки, потому что в его голове обыкновенная мысль об убийстве себе подобного — ради выполнения приказа, лишенного смысла, — вызвала отклик в теле, направив сигнал, атаковавший сфинктер. Джузеппе не стыдился своей слабости. Понятно, что его маленькая дочь предпочла бы узнать о героизме своего отца, однако, достигнув интеллектуальной зрелости, она ощутила, как ее стыд превращается в гордость.
Бравые бойцы 101-го батальона немецкой полиции не стыдились казнить людей одного за другим — на улицах, в больницах и школах, — всего было казнено 83 тысячи человек. Правда, они не могли гордиться теми, кто не нашел в себе силы повиноваться. Неразборчивость в выборе средств заставила исполнителей относиться к себе подобным с доверием, тогда как слабаки, не испытавшие общего экстаза, ощутили себя почти предателями.
Джузеппе представлял людей такими же, как он сам, и потому он не мог их убивать. Тогда как исполнители массового убийства не считали себя виновными в смерти хотя бы одного человека. Эти полицейские попросту чистили ряды общества от stück[6], паразитов, отребья, не имеющего ничего человеческого.
Стыд, это ядовитое чувство, этот нарыв в душе, не является окончательной эмоцией. Он может вдруг превратиться в чувство гордости, если наша жизнь продолжается или когда мы занимаем надлежащее место в своей культурной среде.
Я знаю вещества, вызывающие необъяснимые приступы бешенства, напитки, вызывающие беспричинную эйфорию. Но не знаю ничего, что искусственным образом порождало бы стыд, — поскольку это чувство присутствует в подсознании неизбывно. В моем закрытом внутреннем театре я вывожу на сцену то, о чем не могу сказать вслух, поскольку опасаюсь того, как вы это воспримете.
«Нет необходимости изменять факты… Речь постоянно идет лишь о том, чтобы сорвать покров тайны, признаться… Гордый стыд… превращение судьбы пассивной в судьбу направляющую»[7].
Значит, из этого состояния можно выйти?
Глава 1 Выйти из стыда — подобно тому, как выползают из норы
Странное молчание травмированных душ
Странное молчание травмированных душ… «В возрасте шестнадцати лет я узнал, что однажды больше не смогу видеть. Вдохновленный бешеным желанием победить и зная, как сильно любят меня близкие […], я решил ничего не говорить о болезни даже собственным родителям»[8].
Ошарашенный известием, Жак еще больше года не пытался ничего рассказать! Он знал, что станет инвалидом, но достаточно было произнести это вслух, чтобы в душах тех, кто его любил, уже в момент окончания фразы поселилось несчастье. Сказать — означает сделать ошибку, допустить постыдную оплошность.
Разделенная эмоция врачует травму[9], однако повергает в страдание любящих травмированного. Речь идет о связи, не так ли? По какому праву мы вовлекаем близких в наши беды? Но если мы молчим, это способствует рождению недоверия, и между нами возникает тень. «К стыду, заставляющему меня молчать, добавится — стоит лишь мне заговорить — чувство вины за то, что я вовлек вас в собственные проблемы».
К счастью, сочинительство, театр, роман или любая другая репрезентация способны управлять эмоциями, придавать им художественную оболочку, что позволяет сохранять интимную связь с посторонними. Вот почему доверие оказывается более легким способом: проще довериться незнакомцу, которого больше никогда не увидишь, чем близкому человеку, рядом с которым существуешь. Тяжесть слов в обоих случаях оказывается разной.
Разделение эмоций может быть приятным или утомительным занятием — в зависимости от характера самой эмоциональной связи. Не сложно делить радость или счастье с теми, кто находится рядом. Можно даже испытывать некоторое удовлетворение от того, что делишься своей болью с теми, кого любишь, чтобы успокоить их[10]. Но кто захочет разделить со мной мой стыд? Кто не испытает смущение, услышав рассказ о «сексуальных ловушках, расставляемых мне моим отцом»? Этот человек был ответственным работником небольшого уровня, которого окружающие уважали за его поступки. Он хорошо говорил, хорошо одевался и всегда был готов великодушно откликнуться на просьбу ближнего о помощи. Его очень ценили. Однако каждый вечер он блокировал задвижку на двери в спальне собственной дочери, чтобы она не могла запереться там, или приказывал ей спать в его кресле, или, когда она проходила мимо, внезапно набрасывался на нее. Как рассказать об этом, не боясь вызвать недоверие: «Я знал твоего отца, он никогда не смог бы так поступить»? Слушающий впадает в ступор, испытывая тошноту или ощущая на губах привкус чего-то непристойного. «Инцест не является частью истории»[11], мы не можем на публике рассказывать о сексуальных ловушках, которые расставлял дочери отец, уважаемый обществом человек.
Ситуации, провоцирующие непонимание, многочисленны. Инцест, сексуальная агрессия, особенно со стороны женщины, не поддаются пересказу. Представьте отца, сидящего за столом вместе с детьми во время изысканной трапезы и рассказывающего, как в возрасте двенадцати лет, когда он находился в пансионе, женщина из обслуги каждый вечер приходила в спальню к мальчикам, срывала с него одеяло и делала все, что требуется, чтобы вызвать эрекцию. Садилась верхом, а затем исчезала, ничего не сказав и оставляя ребенка абсолютно обескураженным. Одно-единственное слово, произнесенное этой женщиной, могло бы установить между ними связь, однако непроизнесение слов еще больше усиливало ощущение стыда от сексуального домогательства со стороны неизвестной — действительно, какой стыд! И как рассказать об этом своим детям?.. Просто невообразимо! Друзьям? Невозможно! Их ступор или насмешка покажутся вам оскорбительными. «Даже психоаналитику я рассказал об этом с трудом. Я попросил перенести сеанс в кафе на углу… Словно собирался преступить закон… Это не нормально… Я стыжусь того, что со мной случилось… Я не такой, как все».
Стыдящийся культивирует тайну, чтобы не смущать тех, кого любит, чтобы не быть презираемым и защититься, сохранив свое лицо. Эта реакция — вполне законная защита — заставляет человека говорить иносказательно. Стыдящийся предпочитает отстраненность, иносказательность, поверхностность — только так он чувствует себя относительно спокойно. Неосторожно вырвавшееся слово, случайный поступок — и воцаряется тяжелое молчание, всякие межличностные связи прерываются. Эти раз за разом возникающие волны напряжения — неожиданные, непонятные окружающим — высасывают из человека всю энергию. Ничто так не истощает организм, как запреты, необходимость бездействия, молчание, — это сродни тому, как зверь, чувствуя опасность, замирает неподвижно.
Подобное поведенческое и словесное молчание — защитная реакция, проявляющаяся в контексте ситуации насилия. Но молчание начинает угнетать самого насильника, как только окружение перестает им интересоваться. Адаптация, естественная самозащита во время войны, что бы под ней ни воспринималось, заложена в человеческую память, как условный рефлекс, и дезорганизует связи между людьми. К чему молчать, если больше нет необходимости делать это, чтобы защититься? Зачем тревожиться, если наше окружение относится к нам нормально?
Память играет с нами дурную шутку, когда мы пытаемся ответить на давнюю агрессию, хотя давно уже наступило время жить, отказавшись от любого насилия. Нужно меняться одновременно с контекстом, а это не всегда возможно. Дети быстро учатся реагировать на новые условия своего существования. Большую часть времени пережившие травму дети носят на себе ярлык «трудных» и, не имея надлежащего окружения, действительно становятся «трудными». Но когда их приглашают поделиться своими чувствами, когда окультуривание позволяет им избавиться от ощущения травмы, стыд видоизменяется. Теперь судьбой этих детей будет управлять традиционное отношение культурной среды к стыдящимся.
Внутренний обличитель
Этот яд души сложно разделить с кем-либо, поскольку доверить историю о происхождении источника стыда означает оказаться во власти другого, разрешить ему судить нас. Нередко стыдящийся, который «доверился», «провоцирует критику со стороны тех, кому открылся»[12]. Поскольку молчание — защитная функция, раскрытие тайны несет в себе опасность для того, кто начинает говорить. Теперь чувство стыда, живущее в нем, зависит от реакции доверенного лица, культурных мифов, оказывающих на него свое влияние, а также его предубеждений. Раз есть жертва, значит, между насильником и подвергшимся насилию существовала физическая близость. Возникни между ними чувство соучастия, это бы нас не удивило. Впрочем, во множестве культур все еще принято осуждать «партнеров по насилию».
Стыдящийся, потерявший в результате акта насилия свою индивидуальность, не способен противиться физическому превосходству доминанта и даже просто заявить о себе как о личности, глядя тому в глаза. Он чувствует себя ничтожнее другого — подчиненным, униженным; любопытно, что этот невероятный разрыв в сознании порождает следующую мораль: «Другой более значим, нежели я. Я изучаю поведение насильника, чтобы лучше управлять им, ставлю себя на место тех, которые, как и я, подверглись агрессии». Подобная манера думать о себе таким образом, отождествляя себя с другими, — это «знак, что речь не идет ни о каком извращении»[13]. В то время как Нарцисс восклицает: «Я самый прекрасный на земле, ибо нет никого, подобного мне», стыдящийся, напротив, шепчет: «Единственное, что имеет значение, — это взгляд другого. Если он поймет, каков я на самом деле, я сразу же умру от стыда. Надо избегать его взгляда, это меня защитит. Сделаюсь тише воды, ниже травы в глазах тех, кого я признаю доминантом».
Когда речь идет о защите братьев, стыдящийся способен броситься на насильника. Эта защита нападением позволяет ему продемонстрировать самому себе, что он не столь ничтожен, как полагает. Помочь тому, кто пережил травму, понять его, сродниться с ним одновременно означает оказать насильнику отпор и признать истинность ненавидимой нами мысли, что мы создаем себя сами. Стыдящийся — это анти-Нарцисс, и его оружие — альтруизм. «Ради защиты других я отважусь напасть на Нарцисса, думающего только о себе; признаюсь, я немного его презираю. Ведь он должен стыдиться думать о ком-то еще, кроме себя». Помогая пережившим травму, давая отпор Нарциссу, стыдящийся пресекает собственные нарциссические порывы. Альтруизм и мораль приходят ему на помощь, помогая убить Нарцисса-извращенца.
Попытка «историзации» — еще один способ помочь тем, кто подвергся насилию. Написать или пересказать историю пережитой травмы означает составить судебную речь, в которой будет предпринята попытка объяснить причины того, зачем жертва насилия прибегает к самоуничижению, и таким образом позволить ей почувствовать себя под взглядами других не столь ничтожной. Чувство стыда становится легче, если окружение ищет возможность понять, а не осуждать. Когда мы рассказываем истории о самих себе, когда мы становимся выразителями собственных мыслей, стараясь объяснить, почему «недочеловек» — это не про нас, мы действуем по схеме «другой — как я», и, глядя в это зеркало, перестаем стыдиться слишком сильно.
Внутри у стыдящегося обитает назойливый обличитель, не перестающий нашептывать: «Ты — ничтожество», подобно тому, как в душе виноватого расположился Суд, беспрестанно выносящий ему обвинительный приговор. Стыдящийся прячется, чтобы меньше страдать, или пытается вновь вернуть себе вес в глазах окружающих. Виновный наказывает себя, дабы искупить вину. Меланхолики полагают, что они достойны смерти, настолько серьезным представляется им собственное преступление. И в то время, когда их никто не осуждает извне, они приговаривают себя к самобичеванию, заведомо обрекая на неудачу. Удивляются тому, что разорвали отношения с женщиной, которую любят, и задаются вопросом, почему так часто забывают заводить будильник перед экзаменом, к которому так тщательно готовились. «Ты — лишь то, чего ты достоин», — провозглашает внутри нас воображаемый Суд.
Не верьте, будто чувство вины не имеет общего с чувством стыда. Тот факт, что у них разные корни, не мешает нам рассмотреть их вместе. Я вспоминаю мадам М., которая должна была ухаживать за матерью, страдавшей болезнью Альцгеймера. Почти двадцать лет подряд она была матерью собственной матери, что мешало ей быть матерью своих детей и женой своего мужа. Скованная привязанностью, требовавшей огромной ответственности, она стыдилась взгляда матери, полагая, что не полностью отдается ей. Когда та наконец умерла, потеря спровоцировала невероятную тоску и одновременно приступы счастливого экстаза. «Наконец-то свободна! Сегодня вечером я могу пойти в кино с мужем!» Невероятная радость! И сразу же — тяжесть стыда. «Мне стыдно быть счастливой, потому что моя мать умерла». Страдание, вызванное смертью тех, кого мы любим, равноценно стыду, который возникает, если мы позволяем себе радоваться их уходу.
Нельзя перестать чувствовать себя виноватым, но можно приспособиться к этому чувству и меньше страдать. И тогда мы изобретаем различные стратегии, связанные с искупительной жертвой, самонаказанием, дающие возможность несколько загладить вину. «Я делаю себе плохо, потому что я поступал плохо», — думает тот, кто подчиняется решению своего внутреннего Суда. Мы не понимаем, почему наказываем себя, не отдаем себе отчет, настолько подавление мешает нам мыслить трезво. И когда появляется ошибочное ощущение, что пора выйти из тени, мы бьем себя в грудь, повторяя: «Это — моя вина, моя огромная вина». Я ни разу не слышал: «Это — мой стыд, мой великий стыд», но часто видел стыдящихся, прячущих лицо в ладонях, словно этим они желали сказать: «Не могу, когда вы видите меня в подобном состоянии. Ваш взгляд пронзает меня насквозь, — весь мой ничем не примечательный внутренний мир».
Стыд и его противоположность
К стыду адаптируются благодаря механизмам избегания, замалчивания, отступления, что ослабляет межличностные связи. И все же в конце концов мы перестаем стыдиться и выходим из стыда, как из логова. С возрастом это чувство ослабевает, поскольку мы сами по себе становимся сильнее, учимся доверять, и еще потому, что, лучше приспосабливаясь к самим себе, мы меньше теряемся под взглядами других. Стыд не столь заметен, если наши чувства притуплены и мы легче управляем ими. Однако нередко стыд возвращается к нам в виде своей противоположности — чувства превосходства.
Как-то вечером в Бордо, во время собрания в синагоге одна дама рассказала, что когда (во время Второй мировой войны) она была ребенком, ей, дабы избежать смерти, пришлось сменить фамилию. Скрыв свои еврейские корни, она выжила, однако эта девочка умирала от стыда, ежедневно слыша, как храбрые крестьяне, защитившие ее, рассуждают о том, что все финансовые трудности проистекают от евреев, из-за которых и началась война. После Освобождения она, единственная из выживших в ее семье, продолжала скрывать принадлежность к еврейской нации, настолько сильно отпечатался в ее памяти стыд. Смущаясь, она размышляла: «Я принадлежу к еврейской семье, ответственной за несчастья этих отважных людей, спрятавших меня! Достаточно никому не говорить, что я еврейка, чтобы все любили меня, но если я расскажу об этом, те, кого я люблю, посмотрят на меня с враждебностью». Тайна, спасшая ей жизнь во время войны, перешла в разряд невысказанного и позволила существовать в гармонии с окружающими. Ей очень хотелось раскрыть эту тайну, но она ждала, пока ее окружение даст ей возможность высказаться.
Однажды, когда ей было уже за шестьдесят, сидя за чаем у соседки, она произнесла: «Вам следует знать, что я — еврейка». Поскольку это «признание» не имело ничего общего с темой беседы, соседка заинтересовалась услышанным. Так, благодаря простому признанию, еврейская дама одной фразой заставила замолчать своего внутреннего обличителя. И потом, каждый раз встречая соседку, она произносила: «Вам следует знать, что я — еврейка». Ее соседи стали интересоваться Холокостом, поскольку культура изменилась, и то, что говорилось вокруг, не могло пролить свет на некоторые события истории. Кое-кто полагал, что эта дама просто желает привлечь к себе внимание, и считали высокомерием то, что для нее было всего лишь наслаждением свободой.
Слово «стыд» вполне может означать и его прямую противоположность. Станислав Томкевич появился на свет в 1930 г. в Варшаве. Не очень удачное время, чтобы родиться евреем. В результате действий антисемитов он был заключен в гетто, а потом депортирован в лагерь смерти. После Освобождения полумертвый подросток был отправлен Красным Крестом во Францию. Несколько десятилетий спустя, став психиатром с мировым именем, он был приглашен в Иерусалим. Ошеломленный, он смотрел на израильских солдат, контролировавших арабов, и шептал: «Это начинается снова… Это начинается снова…» Он, обычно такой веселый, помрачнел. И сказал: «Мне стыдно от того, что я еврей». Но слово «стыд» имело совсем иное значение, нежели то, которое вкладывала в него дама из Бордо. Когда она произносила «стыдно», то вспоминала опасное ощущение собственной ничтожности, связанное с принадлежностью к проклятой нации. Станислав, употребляя то же самое слово, желал сказать: «Я горжусь тем, что мне стыдно», словно пытался объяснить: «Я не на стороне насилия. Я слишком хорошо знаю, что это такое… я вспоминаю Варшаву; а теперь это начинается снова!» Говоря, что ему стыдно, он гордился тем, что занял сторону угнетенных. И несмотря на свою принадлежность к доминантам, не был солидарен с ними.
Этот процесс «перехода в противоположное»[14] нередок в повседневной жизни. Мы часто видим тучных людей, стыдящихся афишировать свой избыточный вес и потому поющих в одном хоре с такими же толстяками, лысых, смеющихся над собственной плешью, или гомосексуалистов, организующих гей-парады, где энергия плещет через край.
«Мне это скорее кажется симпатичным»[15], — таково чувство стыда, которое я зачастую испытываю. Это умеренное чувство доказывает, что я не являюсь доминантом, а просто хочу показать вам, насколько я горд своей простотой. Можно в одно и то же время испытывать эротическое наслаждение и стыд — как женщина, впервые демонстрирующая себя обнаженной мужчине, к которому ее влечет желание. «Чтобы подогреть его, я должна разыграть тонкое смущение, это сблизит нас». Робкие люди, стыдящиеся своей эрекции, говорят, что смущаются физического выражения собственного желания, и никогда не скажут, что они виноваты в том, что кого-то хотят[16].
«Когда я, раздетая, нахожусь в своей ванной одна, мне не стыдно, — говорит женщина. — Даже если мне грустно от того, что я вижу свой целлюлит». «Когда у меня случается эрекция в присутствии моего кота, — продолжает мужчина, — я не прошу его отвернуться, чтобы избежать его взгляда». «Но если я раздеваюсь в присутствии мужчины, к которому испытываю желание, — заявляет женщина, — мне хочется быть великолепной и сексуальной в его глазах, поскольку стыд может быть связан с крахом наших личных чаяний»[17]. Разрыв между тем, что я есть, и тем, что я произношу вслух, приводит к возникновению болезненной травмы. Когда самореализация ничтожна по отношению к чаяниям, тот расколотый образ, который возникает у нас в голове, вызывает чувство стыда — и мы стыдимся самих себя. Следовательно, можно испытать стыд, ассоциируя себя с тем расколотым образом, который другие даже и не думают отождествлять с нами.
Прозрачность стыда
Бедность становится причиной возникновения похожей ситуации. Бедность не порок, но лохмотья, связанные с ней, разрушают целостность образа, отчего нуждающийся начинает стыдиться. Потертые брюки словно являются откровением об их владельце — они показывают другим то, что он хотел бы скрыть от их глаз. Стыд бедности возникает от очевидности: «Мои потертые брюки вопреки моему желанию демонстрируют мою социальную деградацию». Подросток, который верит, что мать угадывает его эротические мечты, умирает от стыда под ее взглядами, тогда как вполне очевидно, что она не может проникнуть в его внутренний мир, где ей нет места. Днем подросток чувствует, как взгляд матери пронизывает его насквозь, оценивает все его позы и «шарит» по его одежде. Ночью, когда подростка охватывают эротические сновидения, в его голове все еще сильно опасение, что его раскрыли. Лишь позднее, став самостоятельным, он сможет купить себе новые брюки или представить матери свою невесту, так же как сможет посмеяться над старыми потертыми брюками, похвастаться победой над бедностью и удивиться своим фантазиям, столь психологически очевидным. Преодолев бедность и избавившись от родительского превосходства, он начинает смотреть на себя по-другому.
Этот обезличивающий стыд, который принято связывать с властью чужого строгого взгляда, становится источником своеобразного морального мазохизма, противоположного мазохизму извращений. Сад или Мазох полагают, что другой — не более чем средство испытывать наслаждение. Чтобы убедиться, что ты встретил на своем пути личность, а не просто сексуальную игрушку, достаточно всего лишь поинтересоваться внутренним миром этого человека, узнать историю его жизни, понять, какие ценности он исповедует. Извращенец даже не предполагает, что можно спросить другого о каком-то там «внутреннем мире». Тогда как стыдящийся думает только об одном: что другой думает о нем самом. И, возможно, о том, что его собственная стратегия выстраивания отношений, по причине невозможности быть реализованной, искажает отношения между людьми.
Посттравматический стыд провоцирует такое самоуничижение, что переживший травму в конце концов начинает стесняться партнера: «Посмотрите, каков я, — способен произнести стыдящийся. — Как вы можете хотеть, чтобы она любила такое ничтожество, как я? Чтобы любить меня, необходимо, чтобы она нашла во мне то, что она ожидает. Я сделаю все, чтобы стать хоть немного достойным ее привязанности». Подобная эмоциональная попытка договориться с самим собой обезличивает стыдящегося, который — чтобы его полюбили — в конце концов помещает себя на конвейер изнурительной депрессии. Вот почему среди тех, кто занимается профессиональным оказанием помощи, столь широко распространен синдром эмоционального выгорания: тридцать из ста медсестер страдают им[18]. Эта ситуация еще более характерна, если говорить о психотерапевтах. Отстраненная связь, когда врач не ставит себя на место пациента, освобождает врача от переживаний, но если врач, общаясь с пациентом, вспоминает какие-либо болезненные моменты собственной биографии, пациент не лишается участия и заботы.
Стремление ставить себя на место другого, чрезмерная эмпатия определяют выработку определенной стратегии — этической, но одновременно делающей сочувствующе уязвимым. Витольд Гомбрович, родившийся в семье польских аристократов, уходившей корнями в литовское дворянство, должен был стать юристом, чтобы управлять финансами своей семьи. Однако в возрасте десяти лет он обнаружил «отвратительную правду», и ему стало невероятно стыдно: «…Мы, „господа“, были гротескным, абсурдным, глупым, болезненно комичным и даже отталкивающим феноменом…»[19] Испытывая унижение от того, что родился аристократом и не сделал ничего для прославления семьи, ребенок начал стыдиться собственной принадлежности к дворянству, подобно тому, как другие гибнут от стыда, помогая умереть собственной матери. «Чем больше я возвышаюсь, тем больше меня унижают беды угнетенных», — рассуждали аристократы в ночь на 4 августа 1789 г., когда они были лишены своих привилегий.
Аналогичный стыд присутствовал в душе Захер-Мазоха, чья богатая семья пользовалась всеобщим почтением. Невероятное счастье: «Мой отец получал огромное жалованье и, помимо прочего, имел роскошную квартиру в здании Префектуры полиции, с отоплением и освещением, свой экипаж, ложу в театре, — и все это за государственный счет»[20]. Могли бы вы дегустировать изысканные блюда, в то время как рядом с вашим столом умирает от голода изнуренный ребенок? Чтобы насладиться трапезой, вы должны поделиться с ним куском. Испытывая подобные переживания, маленький Леопольд Захер-Мазох участвовал в уличных боях в революционной Праге 1848 года. В возрасте двенадцати лет он поднялся на баррикады и был опьянен «сухим треском ружейных выстрелов, раскатистыми командами офицеров, криками сражающихся, стонами раненых»[21]. Начиная с этого момента духовного рождения Леопольд посвятил свою жизнь помощи беднякам и защите угнетенных, не имея другой возможности быть счастливым, кроме как делая счастливыми их. Для обоих мальчиков, Витольда и Леопольда, власть и богатство стали источниками стыда, поскольку основывались на унижении других. Можно преодолеть стыд, бросившись помогать слабым и угнетенным. Именно такой ценой достигается сладостное облегчение и эротическое наслаждение.
Стыд достигает своего пика у подростков — в тот период жизни, когда возникающее сексуальное желание побуждает их интересоваться: «Каким меня видят другие? Ничтожным — из-за моих лохмотьев, которые служат доказательством моей нищеты, или, наоборот, ничтожным потому, что мое богатство унижает других? Богач я или бедняк — в любом случае я страдаю от того, что именно читаю во взглядах других, устремленных на меня».
Можно преодолеть стыд подобно тому, как раб покупает себе свободу, соблазняя хозяина, или поднимаясь на баррикады, чтобы придать солидность своему образу в заботе об угнетенных, или вступая в ложу масонов, чтобы вернуть себе утраченное достоинство, или становясь писателем — чтобы возвеличить униженных. В день своего прибытия в Аушвиц Примо Леви узнал в охраннике ученого-химика, такого же, как он сам, и попытался сблизиться с ним. Но эсэсовец дал понять узнику, что тот у него «как на ладони». В его глазах Леви больше не был человеком. Следовательно, его можно было бросить в печь, не испытывая чувства вины. Но когда Примо Леви, почти утративший человеческое обличье, встретил Лоренцо, сохранившего, несмотря на ужасы реальности, свое достоинство, он стал смотреть на него с обожанием и принялся подражать ему, излечиваясь от стыда: «Я обязан Лоренцо тем, что не забыл: когда-то я тоже был человеком»[22].
Разделить наслаждение, выразить гнев, скрыть стыд
«Я даю вам власть сокрушить стыд и вернуть себе достоинство». Какая любопытная дилемма! Сила стыда зависит от влияния другого. Но могущество, которым он обладает, невыразимо!
Однако это чувство можно проанализировать и оценить. Бернард Риме опросил 913 человек в возрасте от двенадцати до шестидесяти лет[23]: «Какие сильные эмоции вы испытывали в последние дни?» Благодаря этому простому методу, он собрал множество свидетельств гнева, тоски, страха и иных эмоций. Стыд упоминался более чем в половине всех ответов. Но на следующий вопрос: «Какими эмоциями вы делились с вашими близкими, семьей, друзьями или коллегами?» — он получил удивительные ответы. О гневе и депрессии говорили спокойнее всего. Значит, окружение могло как-то реагировать на это, разделить слова признающегося. Но со стыдом все обстояло совсем иначе! Часто возникающий, сильный, переворачивающий душу, отравляющих одних и дезориентирующий других — стыд оставался невысказанным! Говорить о гневе не так уж и неприятно. Акт проговаривания обладает смягчающим эффектом — гора с плеч, вы как будто разгрузили вагон: «Мне необходимо рассказать об этом!» Когда другой разделяет с нами наш гнев, мы уже не так одиноки, как раньше: мы чувствуем, что нас понимают, что наш собеседник принимает нашу сторону и становится нашим союзником. Мы испытываем облегчение благодаря проговариванию, успокоенные тем, что слушающий понимает нас.
Сегодня о депрессии говорить проще, чем раньше. Ни в коем случае нельзя произносить вслух: «Я провел три месяца в психиатрической клинике», но можно употребить формулировку вроде: «Мне все надоело, я удручен, потерял вкус к чему бы то ни было», и это позволит нам разделить с другим чувство, которое, быть может, испытывает и этот другой. Так, несмотря на депрессию, мы остаемся нормальными людьми, верно?
Слова о стыде трудно произносимы, ведь мы боимся неожиданной реакции другого. Представим, что кто-то говорит: «Простите, я опоздала, но пока я поднималась по лестнице, направляясь сюда, меня изнасиловали». Какой бы ни была в этом случае ваша реакция, она все равно будет негативной. Нельзя сказать: «Это ерунда, не стоит даже думать об этом». Мы часто считаем колебания слушателя и его затуманенный взгляд попыткой понять, каким образом жертва могла спровоцировать нападавшего. После чего единственно возможная реакция такова: «Тебе необходимо успокоиться, а потом мы вместе отправимся в комиссариат полиции»; но возникшая пауза порождает чувство стыда. Когда мы вновь наберемся сил — лет через двадцать — можно будет признаться: «Меня изнасиловали», но сразу после изнасилования чувство унижения мешает нам раскрыться полностью.
Успех как маска стыда
Глупо утверждать, будто несчастье других вдохновляет. Поэтому переживший травму не контролирует реакцию окружения, которому он доверяется. Пожарные — настоящие герои, мы обожаем их за силу и мужество, они неуязвимы, они спасают нас. Ничто не заставит их бояться, ни огонь, ни смерть. Но однажды Супермен может задрожать, скукожиться, сделать шаг назад и спрятаться, чтобы поплакать. Ему стыдно, что он тонет в страхах, которые надо преодолевать. А насмешливые свидетели испытывают маленькое наслаждение, наконец-то видя его униженным, — ведь теперь он подобен любому из нас!
Итак, стыд, не имея возможности быть облеченным в слова и по причине того, что мы существуем среди себе подобных, и никак иначе, заставляет нас изобретать некоторые стратегии его преодоления. Амбиции — превосходная личина для стыда, если униженный начинает гордиться своим бунтом. «Думаете, я ничтожен? Что ж, сейчас я покажу вам, каков я на самом деле!» Мысль о реванше придает ему силы для после дующей реабилитации. Однако и в этой закономерной самозащите остается место стыду. Стыдящийся не избавляется от яда — он просто находит противоядие, необходимое и дорогостоящее[24]. Отныне все его усилия посвящены стремлению к успеху, и это позволяет смотреть на себя, как на победителя. Рассуждая исключительно о победах, он пытается замаскировать промахи, которые по-прежнему отравляют его существование, когда он остается наедине с собой в тишине. Позади источника света, исходящего от социума, возникают склепы, в которых перешептываются призраки[25].
Успех не всегда является доказательством победы, часто он тождествен триумфу скрытого страдания. Впрочем, те, кто изобрел слово «успех», прекрасно понимали, что речь идет об освобождении от стыда, подобно тому, как раб покупает свою свободу. По-итальянски «успех» — re-uscita, что означает выход из страдания, тупика, обретение пути, уводящего от повторения. Умирающий от стыда вдруг понимает, что может выйти из этого состояния, совершая поступки, диаметрально противоположные тем, которые отравляют его ощущения. В этом случае успех — сражение, но не победа. Нередко толстый мальчик ощущает себя ничтожеством в глазах девочек. Стыдясь своего тела в том возрасте, когда ему хочется быть желанным, он начинает регулярно ходить в спортивный зал и в течение нескольких месяцев превращается в Мистера Мускула. Поднимая тоннами гантели, он забывает про уроки, но теперь ему приятно смотреть на себя в зеркало. Он больше не стыдится собственного тела, но все равно задается вопросом, почему же до сих пор не нравится девочкам. «Ведь у меня бицепсы — сорок три сантиметра в обхвате», — думает он. Он компенсировал стыд, который возникал от того, что его тело было толстым и рыхлым, но не смог направить свой порыв на выстраивание личных отношений[26]. Компенсирующий бой со стыдом — вполне закономерная самооборона, однако победить не удается. «Механизмы освобождения требуют работы, направленной вглубь… дабы выйти из оцепенения и активизировать свои потенциальные возможности… приспособить свою собственную историю к социальным нормам…»[27]
Восхитительная Роми Шнайдер в возрасте одиннадцати лет была отдана в религиозный приют недалеко от Зальцбурга. Мать навещала ее три-четыре раза в год, отец — никогда. Магда Шнайдер, мать девочки, была подругой Гитлера и известной актрисой, невероятно востребованной нацистской пропагандой. «Как можно быть немцем?» — спрашивал себя ребенок, чье человеческое становление происходило в послевоенные годы, переполненные свидетельствами нацистских преступлений[28]. Стыд за свои корни вызывал у Роми непрестанную горечь, и ее «мятеж» принял наиболее простую для девочки ее возраста форму: влюбляться в мальчиков, которые не нравятся матери[29]. Речь, правда, не идет о свободе в выборе друга, скорее — об оппозиции по отношению к идеологическим устремлениям матери. Впрочем, сама став матерью, Роми даст своим детям еврейские имена, чтобы полностью порвать с родителями и компенсировать стыд, любя тех, кого презирала ее мать.
Многие молодые немцы преодолели стыд иметь подобных родителей, вступая с ними в публичные споры. Но в кругу семьи, предполагающем обязательную привязанность к близким, невысказанное только усиливает тягостное ощущение: «Вы ничего не узнаете обо мне. Ничего, ни слова. То, что они сделали, останется тайной… мои родители горят в аду… А меня они приговорили жить с постоянным чувством вины… Однажды, один-единственный раз, мой отец напился так сильно, что рассказал, насколько ужасно было расстреливать детей из пистолета, поскольку эти глупые солдаты со своими автоматическими ружьями целились слишком высоко. И попадали только во взрослых… Боже мой, дорогой папочка! Каким все-таки добрейшей души человеком ты был…»[30]
Хозяева сновидений и испачканное зеркало
Один и тот же факт провоцирует чувство стыда и гордости — в зависимости от позиции окружающих. Двумя этими противоположными эмоциями управляет степень близости окружающих к нам. Примо Леви до того, как он попал в лагерь смерти, считал себя смелым, однако вскоре после прибытия туда стал смотреть в землю, чтобы не получать удары от охранников; он думал только о том, как защититься от холода, и тайком жевал упавшие отбросы. Когда освободители обнаружили, какой кошмар царит в лагере, они не могли удержаться от того, чтобы не смотреть на выживших с изумлением и отвращением. Ощущая на себе эти взгляды, Примо Леви вновь стал умирать от стыда. Он выжил благодаря своему имени, известному в научных кругах, — оно избавило его от необходимости отступать на Запад (что стало причиной гибели десятков тысяч ходячих трупов из Аушвица, которых немцы согнали в колонны и заставили уходить ввиду наступления советских войск). «Меня пощадили, потому что я был известным химиком», — писал он.
В послевоенные годы дети нацистов, нашедших убежище в Аргентине, Египте или Сирии, гордились принадлежностью своих отцов к наци. Рассказы окружающих прославляли деяния этих людей, сражавшихся за наступление тысячелетнего периода счастья, обещанного Гитлером. Переход в противоположность нередок, если предмет стыда становится предметом гордости. В Турции начала XX в. интеллектуальные успехи армян и занимаемое ими положение в обществе вызывали у молодого поколения, не добившегося чего-то подобного, чувство унижения. Уверенность в том, что армяне — предатели, работающие на Россию[31], позволила туркам преодолеть свой стыд и без всякого чувства вины истребить их.
«Быть евреем — проклятие», — говорил мне Шарль. Он провел свое детство в Лодзи — польском городе, где множество евреев трудились в банках, на заводах или занимались культурной деятельностью, когда их накрыла волна антисемитизма. Едва приехав во Францию, он вступил в Сопротивление и заявил (как Анри Бергсон, Андре Фруассар и многие другие): «Война заставила меня почувствовать себя евреем и защищаться — вступить в отряд франтиреров и партизан». Стыд и гордость переполняли его душу, сосуществуя, как супруги, собирающиеся развестись, но никак не могущие расстаться. «Мы упрекаем негров в том, что они некультурны. Лично я, черная женщина, стыжусь, если чернокожий оказывается некультурным…» «Евреев упрекают в жадности, но я, будучи евреем, горжусь, когда могу спустить деньги, стараясь доказать самому себе неправоту этого утверждения». Жительница Антильских островов говорит: «Эме Сезер отстаивал идею „негритюда“, но слышали ли вы хоть раз, чтобы какой-нибудь белый придумал термин „бланшитюд“? „Негритюд“ возник как защитная реакция человека, который, воспринимая как проклятие цвет собственной кожи, объявил его стандартом»[32].
Когда зеркало, в которое мы смотримся, настолько запачкано, что почти ничего не удается разглядеть, мы можем очистить его, обратившись за помощью к великолепной выставке живописных работ, концертному выступлению звезды, публикации, которую потом будут часто цитировать, — словом, «существует много способов скрыть чувство стыда»[33]. Когда собственный образ невыносим, стыдящийся нередко погружается в сновидения[34]. Там, по крайней мере, восприятие себя обретает некоторую ценность, становится приятным занятием. Разумеется, мы понимаем, что это не по-настоящему, однако чувствуем невероятное блаженство, когда видим сны. Можно, конечно, сказать: все истории в мире сновидений выдуманы, но ведь этот мир имеет отношение к нам, обнажая наши скрытые желания.
Каждый вечер в спальне сиротского приюта, куда он был помещен, Арман отдавался своим сновидениям. В момент засыпания его затуманенный мозг порождал один и тот же образ: большую желтую собаку, исполненную привязанности к хозяину. Арман, улыбаясь, засыпал, вознагражденный воображением за утрату любви. Подобное наслаждение — признание горечи личных связей: «Эта собака из моего сна любит меня, тогда как на самом деле никто меня не любит». Подобная регрессивная защита позволяет вздохнуть свободнее, обезопасить себя, набраться сил, чтобы держаться увереннее в дальнейшем[35]. Благодаря этой маленькой выдумке, принесшей ему чувственное удовлетворение, обделенный любовью ребенок успокоился и смог реализовать свои желания. «Счастливый человек не имеет нужды в сновидениях»[36], поскольку он все получает днем, а ночью спокойно спит, сбрасывая накопленную усталость. Несчастному же необходимо прибегать к помощи сновидений, чтобы усилить эмоции, которые он испытывает, и придать театральную форму своей ностальгии по привязанности. Когда несчастный не умеет укрываться в сновидениях, он знает лишь горечь реальности, поскольку наяву не способен испытывать даже краткие моменты счастья.
Хозяева сновидений — поэты, романисты и кинорежиссеры, увлекающие нас в свои творения, придавая нашим желаниям воображаемый облик. Но есть и мошенники сна, использующие наши желания с целью приманить то, на что мы надеемся.
Чтобы сон сделал нас счастливым, достаточно просто спать, но для того, чтобы запустить процесс обретения уверенности, нужно видеть сны, а потом пробуждаться. Эту мысль иллюстрирует история Полетт Робине: «Ты находишься в приюте. Родители бросили тебя и твоих братьев… Ты их больше не увидишь». Ребенок замолкает, прекрасная ученица превращается в дебила. Но когда она начинает фантазировать во сне, ее жизнь принимает подобие сказки: «Мой отец — невероятно богатый принц. Однажды он встретил мою мать, прекрасную, но очень бедную… девушка ждала малыша… и его необходимо было оставить в приюте… это и была я, Полетт». «„Робине“ не настоящая моя фамилия, — думает она, — такую фамилию мне дали из-за того, что я столько плакала и слезы текли, как из крана[37]… Позднее отец-принц и мать… заберут меня к себе»[38]. Сочинив подобную историю, в которой Ариела Палаш усматривает мотив обретения привязанности, девочка вновь стала первой ученицей и благополучно выстроила свою дальнейшую жизнь.
Зачастую сказки — это истории стыда, обращенного в гордость. Мальчик-с-пальчик, в конце концов, всего лишь карлик из разваливающейся семьи с падшими родителями. Этот маленький человечек, вынужденный однажды испытать отчаяние, являет свой талант спасителя, воспользовавшись белыми камешками. Он отстаивает братьев и искупает вину родителей, возвращая им счастье снова видеть детей, которых те хотели бросить.
Приманка правдой
Ослиная Шкура, стыдясь своего собственного мерзкого отца, распаляемого желанием инцеста, сберегла и свою нравственность, и нравственность царственного соблазнителя, защитившись от него с помощью отталкивающих лохмотьев, а затем, вновь став принцессой, стала гордиться тем, что ей удалось избежать трагедии.
Бегство в сновидения обладает эффектом антидепрессанта и позволяет видеть мир иным, нежели его исключительно чудовищный вариант, строить планы возвращения к жизни. В лагерях заключенные, находясь на волосок от голодной смерти, представляли себе великолепные блюда, которые однажды, после Освобождения, они смогут разделить с близкими. Они проникались нежностью, видя, как солдат СС ухаживает за надзирательницей. Ведь в этом случае мир не есть один сплошной кошмар, в нем еще можно иногда разглядеть следы счастья.
Приманка — это иллюзия, однако не всегда, поскольку нас не может манить все что угодно. Чтобы мы могли обмануться, необходимо, чтобы нам было обещано то, на что мы надеемся, но в конце концов не было дано. Жульничество может состояться только тогда, когда мошенник обещает обманываемому воплотить часть его сновидений, превращая последнего в своего соучастника, которым он успешно манипулирует. Реальность тоже может обманывать нас, подобно тому, как обманывает внешне аппетитный ядовитый гриб или наркотик, обещающий чудесные мгновения. Мы готовы обманываться всем этим, но еще охотнее ищем того, кто может обмануть нас, рассказывая, как нам избавиться от наших травм. Необходимо собрать воедино все осколки, если мы хотим стать хозяевами перевернутого с ног на голову мира нашей психики. Веря в то, что кто-то способен нам в этом помочь, мы соглашаемся идти за манящим нас, становимся добычей сект и диктаторов, обещающих вернуть счастье, которое только что от нас ускользнуло.
Что такое миф? Приманка правдой?
Ребенок начинает рассказывать о себе лишь в возрасте пяти-семи лет. Именно на этом этапе его нервная система развивается настолько, что позволяет ему иметь представление о времени, связывая информацию о прошлом (след, опыт) с мечтой о будущем. Именно тогда он может воздействовать на сознание другого иначе, нежели прибегая к плачу, крикам или ища защиты. Рассказывая о себе другому, он пытается создать в душе этого человека более-менее приемлемое представление о себе. Ребенок, стыдящийся чего-либо, может произнести речь в свою защиту или описать произведение искусства, в котором стыдящийся герой пытается изменить свой образ, транслируемый другому. Ребенок лжет, чтобы защититься, чувствуя себя в опасности. Но когда он рассказывает выдуманную историю, он вполне искренен, использует свои воспоминания, чтобы нарисовать прекрасную картину собственного существования, что позволит ему чувствовать себя увереннее в глазах другого.
Если зеркало протереть, в него лучше видно нас. Комедия, сопровождающаяся жестами, словами, сценарием и идеями, обладает огромной властью перестраивать образы. Автор может вывести в своем произведении то, о чем бы он не рискнул говорить. Затем, когда он изменит ваш душевный мир, больше не ощущая себя ничтожеством в ваших собственных глазах, ложь утратит свою защитную функцию[39]. Привязанность вновь становится подлинной, когда стыдящийся более не чувствует себя презираемым.
Мифомания демонстрирует нам резкий поворот на 180°, способный увлечь пережившего травму, но не решающегося рассказать о своем стыде в область фантастического. Необходимо было дождаться наступления XX в., чтобы понять, что такое «мифомания», обнаружить, что она демонстрирует страдание от воображаемого и чрезмерной впечатлительности[40]. Стыдящийся, чувствуя, насколько отравлена его душа, время от времени — когда замечает на себе взгляд другого, — прибегает к мифомании: «Сейчас я доверю вам историю о чудесном событии моей жизни, которое представляет собой нечто экстраординарное. В конце концов, несколько часов подряд я буду чувствовать себя обожаемым». Речь здесь идет о своего рода наркотике воображаемого[41]: во время своих выдуманных путешествий стыдящийся испытывает невероятное наслаждение; но после того, как он парил над землей, возвращение на нее становится печальным и болезненным. Тогда этот «наркоман» быстро изобретает новую историю, чтобы сохранить в вашем сознании свой величественный образ. Меняя зеркало, он в конце концов начинает обожать себя. Ложь оказывается крепостью, которую выстраивает тот, кто подвергся нападению, когда чувствует себя в опасности, также как бьющая через край мифомания становится красивой одеждой, которую стыдящийся натягивает поверх собственных лохмотьев, рассматривая ее, как защитную оболочку.
Когда реальность безумна, безумное сновидение приносит нам мгновение счастья, а когда связь с другим начинает отравлять стыдящемуся жизнь, он предпринимает бегство в вымышленную историю, повествующую о гордости, — и это позволяет ему в течение краткого мига пережить состояние эйфории. Основа этого сценария — сон о самом себе — таком, какого нам бы хотелось любить в реальности[42]; внутреннее бегство в достойное уважения воображаемое — именно в то время, когда мы погрязли в повседневности и рутине[43]. Хозяева своих сновидений рассказывают «прекрасные истории, заставляющие забыть скучную реальность и внушают нам смелость трудиться над ее преображением»[44].
Немечтатели, погрязшие в реальности, пленники сиюминутного не способны предвидеть, какой будет их дальнейшая жизнь. И наоборот, те, кто занят только одним делом — погружением в сновидения, бегут от реальности. Они предпочитают сказки и готовы расплачиваться словами, лишь бы не противостоять бескрайнему отчаянию. Те, кто грезит, стараясь обрести свою частичку счастья, обнаруживают, что им остается сделать, чтобы изменить реальность и воплотить желаемое. Это путь избавления от нищеты или физического несовершенства.
Всякая форма «травматизма способствует интерпретации мифа в целях самозащиты»[45]. Ложь защищает от внешней опасности — поэтому люди лгут, чтобы успокоить агрессора. Мифомания защищает человека от опасности стать презираемым — он видит это презрение в зеркале, которым являются для него другие. Миф защищает также и коллектив — от опасности рассеивания.
Мифомания как приманка приписывает сознанию других некое подобие обожания, и потому его защитный эффект вызывает разочарование. Паскаль любил рассказывать школьным товарищам о том, как его мать каждое утро причесывается, отказываясь выходить к завтраку ненакрашенной. Товарищи слушали его рассказы невнимательно и без интереса. Но благодаря собственной фантазии Паскаль мгновенно представлял далекий от реальности образ милой мамочки, нисколько не похожий на тот, который он наблюдал каждое утро, когда его мать, налегавшая на алкоголь и табак, входила в кухню, держа — всегда в одной и той же руке — стакан с выпивкой и сигарету. «Мой папа организует все деревенские праздники», — рассказывал другой мальчик, чей отец, лежа перед телевизором, постоянно молчал. «Моя невеста — нежная и очень веселая блондинка. Мы совершаем прогулки по горам, и каждый вечер ходим в театр», — беспрестанно рассказывал он, став подростком, которого терроризировали женщины. Все эти дети пытаются компенсировать свое травмированное нарциссическое самолюбие, надевая чудесную маску, которая манит их чем-то желанным, позволяет преодолеть презрение и добиться от других обожания.
Больше несчастья — величие, больше побед — слава
Сказка мифомана — приманка правдой, стимулирующая демонстрацию собственных грез с целью сокрытия реальности. Однажды Алин призналась: «Мне было стыдно, что у меня нет родителей. И когда ко мне подходил какой-нибудь мальчик, я лгала, выдумывая себе замечательных родителей, и много о них рассказывала. Я говорила ему, что меня ужасает счет за телефонные разговоры, — чтобы он решил, что у меня много друзей. Я мечтала иметь чудесных родителей, отца-чиновника и мать-домохозяйку»[46]. Восхитительные фантазии лишенного семьи ребенка стали бы кошмарным стыдом для подростка, подавляемого родителями. Чтобы выйти из состояния летаргии, разогнать стоячую воду жизни, некоторые прибегают к трагедии. В конце концов, чудо — не что иное, как фрагмент насыщенной жизни! Необходимо, чтобы несчастье было велико, тогда и победа будет славной. Заурядная нищета не может создать ощущение величия. И почему бы тогда не рассказать трагическую историю о том, как пережил геноцид, сражался с волками, погибал смертью мученика, — чтобы выглядеть в представлении других еще идеальнее: «Вот именно тот рассказ, который порождает настоящее, наполненное смыслом Событие»[47]. Стать мучеником означает стать героем, рассказывающий «эксплуатирует слушателя с целью добиться симпатии последнего и обратить на победителя либо ненависть, либо презрение… Мученик и его участие в разыгрываемом спектакле заканчиваются перестановкой сил, и победителем оказывается группа лиц, практикующих самопожертвование»[48]. Чтобы мученик выглядел убедительнее, чтобы вызвать ненависть к победителю, историю необходимо вынести на сцену. В культуре, скорее ассоциирующейся с жертвой, чем с агрессором, трансляция на экране телевизора в течение нескольких минут история из разряда «жертва — победитель» легко вызовет вселенское возмущение. В сознании зрителей, готовых вновь и вновь вооружать побежденных, ненависть по отношению к победителям становится добродетелью.
В этой ситуации легче всего избавляются от стыда те индивиды, которые любят действовать. Когда мы побеждены, унижены, деградируем, мы легче восстанавливаем свой разрушенный образ, стремясь к обновлению, даже если оно оказывается разрушительным. Интроверты, которым трудно выразить себя, неохотно делятся с кем-либо собственными эмоциями и остаются в одиночестве. «Риск разрыва шаблона еще более велик, когда бессловесный уязвленный решается защищаться. Самообман препятствует освобождению от стыда»[49].
Иногда «ситуации, в которых индивид сталкивается с разницей между тем, кем бы он хотел быть, и тем, кто он есть на самом деле»[50], порождают внутренние травмы. Самообман, разрыв между представлением о себе и настоящим «я», фантазией и самореализацией, способствуют развитию стыда, но мы не замечаем травмы, поскольку она внутри нас. Многие дети, в которых родители вкладывали чрезмерно много, желая, чтобы те реализовали родительские идеи, считают себя сверхлюдьми — настолько родители завышают их самооценку. Но когда то, кем они становятся, оказывается скорректированным вариантом фантазий, и не более того, это может привести к разрыву шаблона. Обман, навеянный родительскими и собственными фантазиями, становится для таких людей травмой, скрываемым стыдом: «Я оказался не на высоте, недостоин уважения, которое мне сулили и на которое я рассчитывал. Мне стыдно». В подобном случае стыд не связан с провалом. Многие молодые люди мечтают стать великими футболистами, и, становясь просто хорошими игроками, которые, тем не менее, никогда не достигнут уровня звезд, они заявляют: «Да, не повезло, но все-таки я хорошо играл, а теперь займусь чем-нибудь другим». У стыдящегося представление о себе разрушено: «Меня убедили, что я должен стать великим, а на самом деле оказался ничтожеством». Результат — частые параноидальные реакции: «Мои родители внушили мне собственные желания. Из-за этого я несчастен».
Некоторые стыдящиеся «раздувают в себе чувство самоуничижения»[51]. Если их родители одеваются изящно, сами они все делают наоборот — к примеру, ребенок расцарапывает себе лицо, стараясь сделать плохо «тому, кого обожают родители», а тот, кто мог бы доставить столько счастья своим близким, вопреки всему сознательно проваливается на экзаменах или разбивает подаренную отцом машину, дабы наказать отца за то, что тот сделал такой роскошный подарок. Все они в конце концов начинают любить собственный стыд, который воспринимают как нечто вроде орудия мести. «И несчастный стыдящийся воплощает образ того, кем он хотел бы стать»[52]. Жене трансформирует свои детские страдания в рассказ преследуемого мифомана — с целью погрузиться в некоторые из пережитых мерзостей, вызывающих чувство презрения. Мы не желаем избавляться от стыда, если он приносит столько дивидендов.
Однако существует несколько способов выхода из этой ситуации. Можно подчиниться императивам группы с целью стать ненормально «нормальным», как все вокруг, культурным архипослушным клоном, и тогда стыд, не имеющий конкретных очертаний, будет преодолен. Можно подчиниться сверхчеловеческой, защищающей, трансцендентной силе, и тогда подчинение станет моральной ценностью, превозносимой теми, кто образует ряд себе подобных. Но можно также поискать в глубине собственной души ценности, накопленные исторически, и попытаться разглядеть среди них миф, определяющий суть нашего существования, имеющий ценность для нас и совсем не ценимый группой, в которой мы живем.
Тоталитарные общества боятся внутренней свободы человека, ускользающей от контроля вождя. В тирании не должно быть секретов: все проговариваемо, на виду, комментируемо и подвергаемо наказанию. Религиозный или светский тоталитаризм страдает из-за внутреннего неповиновения человека, не нуждающегося в согласованных действиях[53]. Подобный саботаж личности — вид некоего извращенного контракта: для тех, кто подчиняется законам коллектива, солидарность становится дорогой к величию. Блаженство, обещанное диктаторами, «светлое завтра», о котором поют коммунисты, «тысячелетний период счастья» фашистов требуют устранения личности. «Мы вместе движемся к одной социальной цели». Такое счастье достигается через обнищание мысли каждой личности, доведенной до эйфории орнитоза, «попугайной болезни».
Машина солидарности, навязывая всем одну и ту же историю, фальсифицирует реальность — чтобы облегчить задачу вожаку. Любые осколки памяти истинны, однако они нужны, чтобы подпитывать историю, используемую в идеологических целях.
Ведь попугаям никогда не стыдно.
Глава 2 Смерть в душе. Психология стыда
«Я» существует только рядом с другим
«Попугайная болезнь», заставляющая индивида пересказывать услышанное, не стараясь вдуматься в то, что именно он пересказывает, имеет огромные психологические преимущества. Ребенок повторяет и принимает на веру то, что ему говорят взрослые, которых он любит и которые его защищают. Повторяя услышанное, он раскрывает свой мир, чувствует себя сильным, находящимся в безопасности: в этом оно и состоит, огромное преимущество пситтакоза, или «попугайное счастье». Лишь постепенно ребенок оказывается способным обзавестись собственными представлениями и представить мир других, отличный от его собственного. Все происходит медленно, однако сомнение в итоге становится творцом, и выясняется, что существуют различные способы воспринимать мир! Усиление эмпатии рождает удовольствие исследовать других и сомнение в правде. Самодостаточные личности любят подобные психологические авантюры, что касается не самодостаточных — им кажется, будто они страдают от нарастающей индивидуализации, им нужна уверенность в себе — именно ее и дает им «попугайная болезнь».
Я только что пересказал «теорию разума»[54], к которой сегодня часто прибегают, чтобы прояснить суть межличностных отношений. Этот психологический феномен позволяет понять, что «„я“ и „другой“ не одно и то же»[55], даже если эти субстанции взаимодействуют и взаимопроникают ежедневно. Лишь в возрасте трех лет ребенок научается говорить «я так думаю». И лишь в четыре года тот же ребенок способен рассуждать: «Я думаю так, но знаю, что он думает иначе». Это отделение себя от других формируется в результате двойного давления: вследствие развития мозга и приведения эмоций в состояние гармонии с чувствами окружающих. Изолированный ребенок не имеет ни малейшей возможности развить в себе умение отделять себя от других — ведь других-то нет. Однако его мозг здоров. Напротив, ребенок, чей мозг развивается плохо из-за аварии или болезни, с трудом, даже если его тело здорово, соответствует названной «теории разума».
Различие между двумя ментальными мирами, коммуницирующими между собой и различающимися, хотя и ежедневно взаимопроникающими, дает возможность для создания нового вида связи: мира слов. Когда натиск стихает, «эмоциональная настройка»[56] помогает выстроить межличностные связи: малыш, начиная с шести месяцев, учится отделять представления о самом себе от представлений о других.
Подобное систематическое рассуждение позволяет утверждать, что не только реальное унижение провоцирует стыд. Скорее, сценарий «унижения» спускает с цепи немое бешенство, отчаяние или травматическое отупение. Стыд же рождается от приписывания другому каких-либо неприглядных мыслей. Стыдящийся ожидает уважения со стороны другого, однако порочность межличностных связей заставляет его думать, что в сознании ближнего он — ничтожество! Под пристальными взглядами этого ближнего, с которым он бы так хотел построить отношения, основанные на взаимоуважении, стыдящийся, чувствуя себя презираемым, испытывает лишь болезненное разочарование.
Унижение — поведенческий сценарий высшего насилия, поскольку оно приводит к разрушению ментального мира другого. Стыд способствует сохранению связей, в которых стыдящийся ощущает себя униженным. Фраза «Тебе должно быть стыдно» означает: «Ты должен знать: я думаю, тебе стоило бы озаботиться мыслью, что ты более недостоин моего уважения». И если попытка унижения может вызвать ответный выплеск гордости, то болезненное переживание стыда толкает к разрыву связей.
Все это напоминает мне дебаты Малека Шебеля[57] и Жана-Мари Ле Пена, в которых я принял участие. Президент Национального фронта, опытный словесный боксер, противостоял прямым выпадам Малека, но буквально обезумел, когда я спросил его, что было бы, если бы в контексте предлагаемой им политики ареста всех эмигрантов потребовалось вернуть на родину миллионы французов, работающих за границей? Не без некоторого удовольствия поймав на себе его мрачный взгляд, я более не ощущал себя незначительным, даже когда он проигнорировал мой аргумент, касающийся «исключений». К концу дебатов он решил пригласить Малека на ужин и при этом сделал вид, что не замечает меня. Даже несмотря на мое презрение, мне никогда потом не было стыдно. Дистанция оказалась слишком большой, невозможность выстроить мостик межличностных связей заставила его попытаться вызвать у меня стыд.
Чтобы страдать от разрыва, необходимо сплести эту связь. Можно говорить о травме, когда эта связь явно разорвана и когда она оказывается коварным образом разгаданной. Подобные травмы становятся правилом, если чувство стыда растет. Но если стыд вызывает комплексное чувство, которое, будучи выраженным, искажает связь (взгляды в сторону, опущенная голова, избегания, бредовый шепот), это означает, что причины возникновения травм имеют различные корни.
Явный разрыв. Сексуальный стыд
«Я всего лишь женщина», — призналась мне изнасилованная сотрудница полиции. До момента изнасилования ей нравилось «создавать тайны» и регулярно участвовать в задержаниях. Однажды, когда она вышла из комиссариата в униформе и при оружии, следом за ней направился какой-то мужчина, схватил ее, связал руки и изнасиловал, прежде чем она смогла вытащить свой револьвер. Она была раздавлена случившимся. Ее собственный образ, представление о себе как о женщине отважной, всегда готовой вступить в бой, но при этом улыбчивой и дружелюбной — коллеге, с которой приятно проводить время, мгновенно было разбито. Причем ее поверг в шок не сам сексуальный акт, а мысль о проникновении в нее, грубое вмешательство в ее тело и душу, о котором она прежде и думать не могла.
Когда ранее у нее была интимная связь с напарником, она, по понятным причинам, никому о ней не рассказывала. Это было ее личное дело, защищаемое от взглядов окружающих, не более того. Можно, впрочем, представить, что, случись у нее любовное приключение с какой-нибудь знаменитостью, она бы рассказала об этом своим подружкам, которые отнеслись бы к услышанному с восторгом, приязнью или завистью. Подав заявление в собственный комиссариат после изнасилования, в глазах коллег она стала «проигравшей». Она понимала, что, говоря о себе, как о женщине, подвергнувшейся насилию, она заставляет коллег смотреть на нее, как на вещь, в которую можно войти, которую можно сломать, разрушить. В течение нескольких минут уверенность в собственных силах и благополучии женской доли сменилась стыдом превращения в «изнасилованную». Рассуждая логически, она должна была бы воспринимать насилие в первую очередь как серьезнейшую внешнюю агрессию, но в ее представлении, строившемся на попытке представить, что думают о ней другие, она утратила статус «гордой женщины» и превратилась в маленькую несчастную вещь; и тогда ей стало стыдно.
Стыд, вызванный этим обстоятельством, не всегда отражается в поведении стыдящегося. Можно скрыть крах образа под маской безразличия или цинизма. Приобретенная после «разрушительного» события «робость» сочетается с наследственной гиперчувствительностью, поскольку до получения травмы эта женщина жила вполне благополучно, теперь же ей приходилось скрывать свои внутренние болезненные ощущения.
Два брата, Алек (14 лет) и Кевин (12 лет), явственно замечали, что, когда они возвращаются домой, там царит гнетущая тишина. Однажды ночью их разбудил необычный шум. Войдя в гостиную, они обнаружили собственную мать голой и прикованной к радиатору в такой позе, словно она кого-то умоляла. Она была совершенно измучена — только что изнасилована и избита мужем. Женщина молча взглянула на детей, и те, тоже не сказав ни слова, отправились в туалет, а потом вернулись к себе в спальню. Ничего не было проговорено вслух. Мальчики не рискнули спросить (а какие вопросы они могли бы задать?). Мать не отважилась объяснить (что она могла рассказать?). Не знаю, где в тот момент находился отец.
Уже на следующее утро, в школе, поведение детей изменилось. Оба стали мрачными и молчаливыми. Кому доверить пережитую немую сцену, не осуждая отца или, может быть даже, свою мать? К счастью, среди этого невероятного срывания кожи, отмершей части их внутреннего мира, где ничто не могло быть осмыслено (как думать о таком?), мальчики нашли способ самозащиты, который помог им выстоять: они стали отличниками! Как правило, третируемые дети в школе учатся плохо, для них учеба лишена всякого смысла, настолько они поглощены тем, что им приходится переживать дома. Однако для некоторых школа становится способом сохранить немного доброты и главное — возможностью ухода в интеллектуальное развитие, позволяющее забыть пережитый ужас. Это защищающее от страданий бегство способствует улучшению школьных результатов, но не ведет к полному устранению проблемы (как бы это было возможно?), которая напомнит о себе десять или двадцать лет спустя, когда наступит время преодолевать некоторые затруднения супружеской жизни. Не таким ли способом мы влияем на свой брак? Возможно, столкнувшись с чем-то подобным, они почувствуют себя настолько утомленными, что предпочтут подчиниться или… сбежать. Никто из окружающих не поймет, в чем заключается причина столь странной реакции — чрезмерная мягкость либо паника, поскольку и сами пережившие травму не в силах что-либо объяснить. Быть может, они никогда не раздумывали над собственным молчаливым потрясением (с кем можно разделить подобное?). Речь не идет об отступлении в сферу бессознательного, напротив — о молчаливом сверхосознании разорванной связи, которую невозможно восстановить.
Переживший травму приспосабливается к этой немоте (которая тоже является травмой), причем его личность разделяется надвое — то, что предназначено для всех, выглядит так: сосредоточенный, успевающий ученик, что в нашей культуре является синонимом социальной успешности; то, что остается внутри, умирает от стыда, беспрестанно, день за днем, как только малейшее происшествие воскрешает невыносимое воспоминание о себе — ребенке, чью мать избил и приковал голой к радиатору собственный отец.
Следовательно, отрицание, избавляющее от страданий, не есть фактор устойчивости, поскольку переживший травму не может полностью от нее избавиться. Он не развивается в эмоциональном плане, сосредоточившись на своей немой травме, гнойнике, образовавшемся в душе. Когда позднее встреча с женщиной породит в каждом из них желание близости, они закроются еще больше, поскольку близость вновь разбудит в них чувство стыда, связанного с областью сексуального.
Травма не всегда оказывается явной. Чаще всего она коварна, и стыд, приобретенный в период взросления, остается в памяти ребенка подобно рассеянному гнойнику, неуловимому разрыву шаблона. Во время ежедневного взаимодействия ребенок замечает, что его родитель, сам того не осознавая, своими жестами и мимикой выражает отказ или презрение. Некоторые словесные мельнички вроде «Опять ты!.. ааах! Но это меня не удивляет!», фразы, случайно слетевшие со сжатых губ, нахмуренные брови, резкость и отталкивание ребенка в тот момент, когда он хочет прильнуть к родителю, — все это явные признаки желания сохранить эмоциональную дистанцию. Когда эти столь много значащие, важнейшие с точки зрения ребенка жесты повторяются изо дня в день и из года в год при малейшем взаимодействии с родителями, то они оставляют в памяти болезненный след, делают ребенка уязвимым — что выражается в поведении чрезмерно униженного человека[58]. Ребенок замыкается, молчит, опускает глаза и избегает любой словесной коммуникации. Привязанность к готовому отвергнуть его родителю рождает в его душе уверенность, что любая связь невозможна. Тогда ребенок становится неестественно мудрым, унылым, молчаливым, держится особняком — до момента, когда станет подростком и сможет применить этот способ построения связей в поисках сексуальных приключений. Крошечные ежедневные разрывы шаблона выстроили в его душе самопрезентацию, которую можно сформулировать следующим образом: «Я прекрасно вижу, что разочаровываю тебя… Я не достоин твоих фантазий… И то, что ты меня презираешь, — нормально…» Ребенок смотрится в зеркало собственных глаз и видит там образ, достойный презрения. Братья, школьные товарищи, учителя, любой человек, мнение которого имеет для него значение, обладает властью заставить его поверить в обесценивание собственного образа. Быть отвергнутым или презираемым кем-либо, на чью привязанность ты рассчитывал, — это очередной разрыв и шок. Он менее вопиющ, чем изнасилование или какая-нибудь ужасная сцена, однако, плохо подвергаясь оценке, наносит более сильную травму, от которой мы, в силу невозможности ее осмыслить, менее защищены.
Марсель был усыновлен в возрасте десяти лет; вся его предыдущая жизнь была непростой. Приемная мать, опьяненная любовью, мечтала, как всякая хорошая мать, сделать своего ребенка счастливым. Марсель оказался в заботливых руках, стал примерным учеником, пожертвовав ради этого своей всегдашней веселостью. Мать делала для него все. Но реальность оказалась иной, нежели она предполагала. Марсель, с которым прежде, на протяжении длительного времени, обращались скверно, державшийся вдали от всех, не научился любить. Он боялся того, в чем более всего нуждался, — привязанности. Когда приемная мать бросалась ему навстречу, желая радостно заключить его в свои объятья и надеясь на ответную нежность, он впадал в ступор, думая: «Я не достоин всего этого. Чем больше она обнимает меня, тем большим недотепой я себя ощущаю. Я не знаю, как ответить ей. Чем ласковей она со мной, тем больнее внутри». Неправильная интерпретация предопределила характер их отношений. Мать была переполнена любовью, а ребенок испытывал стыд, не умея реагировать на проявления этой любви. Отталкивая ее и цепенея, он вызывал у нее только разочарование — ведь он вел себя «как маленький старичок». Она решила отомстить ему и назвала «Свиной тушкой». Ребенок принял это оскорбительное прозвище, ведь оно точно характеризовало его эмоции. И тогда словесная связь между матерью и ребенком стала более внятной; мать говорила: «Эй, свиная тушка, поищи мои сигареты», ребенок сразу же откликался: «Да, мамочка». И все вокруг смеялись, кроме самих партнеров; введенный ими в обиход шаблон означал искажение связи. В ответ на уничижительное мнение разочарованной матери ребенок стал вести себя, как настоящий бука. Избегал любого контакта, не смотрел в глаза, держался в стороне, что-то смущенно бормотал шепотом в ответ на вопросы, напряженно улыбался, дабы скрыть гнев и обезоружить ту, которая теперь его презирала.
Таким образом, шаткость семейной связи может неосознанно вызвать интерес к учебе. Фразы, банальные для родителей, а иногда и кажущиеся им веселыми, могут отпечататься в памяти чувствительного ребенка и ранить его. Как было с тем мальчиком, которого мать называла «Пилюлей», и никак иначе, чтобы повеселить остальных взрослых, а заодно напомнить ребенку, что тот обязан своим существованием одному-единственному факту: как-то раз она забыла принять свое противозачаточное средство. Как было с той неблагодарной девочкой, которой сторонилась мать, внушавшая дочери, что ее существование будет пустым, если она не научится милым женским хитростям: «Валери-Анн, дочь моя, знай, что твой капитал находится у тебя в трусиках. Отсутствие легкомыслия закроет для тебя двери салонов». В душе мальчика эти ежедневно произносимые фразы подспудно усиливали чувство собственной незначительности, а в душе девочки — нежелание быть благодарной за советы.
Мир, где все заставляет стыдиться
Любой человеческий коллектив организуется, чтобы вынуждать стыдиться тех, кто не вписывается в рамки его культуры. Обряды инициации позволяют человеку оказаться среди посвященных — умеющих преподнести себя, вести надлежащие беседы с представителями коллектива, к которому они принадлежат, владеющих кодами присущих коллективу хороших манер или используемых внутри коллектива слов; все это помогает мгновенно распознавать тех, кто принадлежит к тому же коллективу. Тех, кто не владеет этими кодами, унижают снисходительные улыбки или чрезмерная любезность. Непосвященные, не принадлежащие к коллективу, чувствуют себя отверженными, чужими. Олухами и обормотами — то есть пребывают в ситуации, когда вынуждены стыдиться.
Размывание связей становится решением, но решением болезненным. Мы стыдимся чуть меньше, избегая связей, унизительных для нас, но при этом отсекаем себя от тех, чьего уважения мы хотим и на чью привязанность рассчитываем. Принятие ситуации, когда «любой стыд опьяняет», уменьшает дискомфорт и разрушает связь. В этом случае отступление оказывается успокоительным средством.
Вино Ноя действительно было великолепным. Грустно, когда после двух бокалов мы не можем подняться со стула. Значит, нам нельзя пить. Когда я присутствовал на празднике окончании сбора урожая винограда в компании владельца виноградника, меня удивило поведение рабочих: выстроившись в ряд возле чанов, они снимали свои фуражки и вертели их, держа в руках за спиной. Опустив глаза, они шептали: «Спасибо, хозяин». Патрон вежливо обращался к ним, довольствовавшимся минимальной связью. Любая другая фраза, иной стиль общения напугал бы их. Они соглашались с властью хозяина. Сдача позиций позволила им пережить стыд: они смирились с положением людей подневольных, словно подобная унизительная самопрезентация была чем-то вроде детской болезни индивидуальности[59]: «Я маленький. Быть ничтожным вполне нормально».
На каждом этапе строительства себя любой повод может спровоцировать появление в душе грязи, которую мы именуем «стыдом». Генетически заложенная в нас гиперчувствительность иссякает под воздействием внешних факторов. Обеднение связей в детском возрасте, разрыв окружающей нас чувственной оболочки, не способной более защитить, чаще всего приводят к появлению запоздалой травмы, возникновению «стыда-унижения»[60], явного или подспудного, который, тем не менее, поскольку порожден ближними, реально способен «растереть». Когда индивиду наносится травма извне, причем в период «воспитания» его чувств, это может вызвать образование в его памяти «зоны нарыва», болезненной и немой, провоцирующей стремление к эмоциональному и поведенческому приспособлению[61]. Поскольку речь здесь идет о сделке между тем, кем мы ощущаем себя, и происходящим вокруг в тот момент, когда на нас воздействует окружение, травма в равной степени может возникнуть и внутри. Когда идеал «мое грандиозное „Я“» диссонирует с незначительностью реализации, это приводит к внутреннему разрыву, провоцирующему чувство унижения и выбор нами манеры поведения. Презирая в душе самих себя, мы думаем: логично, что и другие презирают нас, — тогда как другие зачастую вовсе этого не делают. Отсюда — взаимодействие, провоцирующее разрыв шаблона — «психологический шок»[62], нарциссический коллапс («Я более ничего не стою»), потерю чувства неуязвимости («Все ранит меня»), аннигиляцию самоощущения («Я больше не рискую самоутверждаться»). Любая связь становится невозможной, успокаивает и спасает только одно — отступление. Начиная с того момента, когда этот шок, видимый или подспудный, разрушает чувство самоуважения, стыдящийся остро подмечает любые жесты, слова и ситуации, подтверждающие отношение к нему окружающих. Он становится гиперчувствительным ко всему, что заставляет его стыдиться. «Избранные фрагменты пережитой им реальности формируют ощущение полученной травмы»[63]. В подобном мире все заставляет стыдиться.
Режин де Сен-Кристоф родилась в небольшом замке возле Монпелье. Во времена ее детства этот замок и прилегающие к нему территории было почти невозможно содержать. Отец Режин решил превратить прекрасный парк в кемпинг, а мать топила свою грусть — правда, делая паузы — в алкоголе. Девочку отдали кормилице, старавшейся угодить родителям и унижавшей ребенка. Она одевала ребенка как нищенку, привязывала к стулу и приносила ей еду в свиной миске, заставляла снимать обувь, чтобы девочка, сама того не желая, перемазалась в грязи и экскрементах. Она не посещала школу и проводила дни в одиночестве, будучи привязанной к стулу и в компании свиней. Кормилица обращалась к ней только для того, чтобы ударить или отругать. Слишком занятый своими делами отец, всегда в неизменной футболке, ходил с мастерком в руке — благоустраивал кемпинг, мать, постоянно полупьяная, не сомневалась, что утешительные новости, которые им сообщает любезная бонна, — чистая правда. В возрасте четырнадцати лет Режин, само собой, была изнасилована четырьмя рабочими, трудившимися на поле, и даже не подумала подать заявления в полицию. В семнадцать, оказавшись в больнице после попытки суицида, она впервые ощутила на себе внимание медсестер и приязнь санитарок. Устроившись в Центр помощи посредством труда, она, будучи красивой, очень скоро родила двух детей, которых не умела воспитывать.
Когда я консультировал ее, на меня произвели впечатление ее красота, ум, красноречие и стыд, стыд, стыд, который она испытывала. Она рассказала мне, что ее жизнь началась с замка, милого, обожаемого отца и активной, всегда находившейся где-то поблизости матери. Она мечтала о том, как однажды, когда она вырастет, ее жизнь наполнится романтикой: живя в замке, она наденет белое платье и выйдет замуж за смелого мужчину, который понравится родителям, и у них будет много детей, друзей, домашних животных и семейных праздников. Вот оно, счастье!
Счастье рухнуло, когда ей исполнилось пять лет, — отец принялся строить кемпинг, мать начала пить, а кормилица стала ломать малышку как личность. Огромный разрыв между фантазиями маленькой, романтически настроенной девочки и ужасом повседневности поселил в ней чувство стыда, подавлявшее любые попытки выстоять. Она забывала приезжать ко мне, поскольку наша манера рассуждать вместе в ее понимании означала стремление к пугающему благополучию, которого она недостойна, — как она мне говорила. Полагая, что овладеть какой-либо профессией не трудно, она испытывала облегчение от того, что ей это не удавалось. Это отступление позволяло ей избежать стыда при выслушивании замечаний преподавателя, которые он громко произносил перед смеющимся классом. «Весь мир смеется надо мной», — только и шептала она. Когда у нее родился сын, он был настолько красив, что акушерки показали его матери почти что с гордостью, но она сразу же подумала: «Он красив! Он так красив, что этого просто не может быть; вероятно, они перепутали детей». Мальчик хорошо развивался, однако в этом было кое-что любопытное. В возрасте пяти лет он стал заботиться о собственной матери, поскольку стал ощущать ее уязвимость. В школе он учился неплохо, имел несколько друзей и в шестнадцать представил матери свою первую девушку. А мать подумала: «Он любим, это невероятно» — словно счастье, невозможное для нее, было невозможным и для ее собственных детей. Не переносит ли таким образом стыдящийся немного яда из своей души на тех, кого любит?
Подобное заниженное представление о самом себе искажает один из двух полюсов межличностных отношений и, как следствие, трансформирует их в целом. Между ментальным миром матери, не умевшей стать счастливой, и миром ее сына, выстроившего связь с сознательно унижающей себя матерью, возник любопытный мостик. В мальчике неожиданно рано проявилась зрелость — мостик межличностных отношений полностью способствовал этому. Разрушительная травма, сломавшая его мать, стала для него травмой созидательной[64].
Стыд или чувство вины?
Позднее, когда стремление подростка к независимости станет насущным, необходимо перестроить сложившееся интересное равновесие. Этот процесс болезненный для обоих партнеров. Мать отнесется к подобному виражу, как к неизбежной потере, которую она заслужила, тогда как сын скорее воспримет свободу с чувством вины. Почти неуловимо — из-за одного-единственного жеста, слова, улыбки или единожды нахмуренных бровей — этот опыт, являющийся следствием созревания, может стать разрушительным. Но без опыта не возникнет самоидентификация. Нарративное самоутверждение происходит у подростка в тот момент, когда он вспоминает испытания, из которых вышел победителем, и поражения, в равной мере способствующие формированию его личности. Испытания помогают ему понять, кто он есть на самом деле. Если он переживет разрушительную травму, то может утратить решимость, ибо внутренняя катастрофа вредит работе мысли. Тут есть одно особое обстоятельство: созреванию сопутствует крушение. Но когда после физической агонии жизнь возобновляется, говорить об обретении устойчивости все равно нельзя. Если «содержимое изначально не вшито внутрь»[65], рана становится невидимой, но при этом способствует молчаливому рождению новой личности. Чем глубже эта рана, чем больше она превращается в своего рода «склеп», тем более заметное влияние она — так и не выраженная словами — оказывает на личность и тем более явно мешает обретению устойчивости. «Стыд-склеп»[66] проникает во внутренний мир и, приспосабливаясь к обстоятельствам, ежедневно отравляя любые межличностные отношения.
Стыд не обязательно предполагает возникновение чувства вины. Один, испытывая горечь, считает вселенную ничтожной, в то время как другой, попав в «неправильную» вселенную, переполняется страданием. Различие этих миров способствует возникновению разных типов межличностных отношений. Чувство совершения чего-то отрицательного порождает стратегию искупления или самобичевания, тогда как чувство униженности приводит к запуску механизмов избегания, ухода и порожденного отчаянием гнева. Часто, общаясь с человеком, ощущающим себя виновным в чем-либо, видя его подавленную радость, слыша его слова, глядя на его поведение, цель которого — искупительное умерщвление, мы, наблюдая это желание принести себя в жертву, иногда испытываем страх. Но, оказываясь рядом со стыдящимся, замечаем, что он старательно нас избегает, не хочет встречаться взглядом, прячется от нас где только может и явно боится, упрекая нас в том, что мы пугаем его.
Испытывающий чувство вины настроен враждебно по отношению к самому себе, верит, что допустил ошибку, из-за которой предмет его любви оказался для него потерян. «То, что я совершил, — ужасно, — твердит „виноватый“, царапая лицо. — Она уйдет от меня, и это моя ошибка, я сам того хотел, желал зла самому себе». Стыдящийся же говорит так: «Под взглядом другого я чувствую себя униженным, покрытым плесенью; я избегаю его, чтобы меньше страдать; уверен: он презирает меня».
«Территория стыда привлекала внимание психоаналитиков не столь сильно, как вопрос рождения чувства вины»[67]. Однако юный Фрейд испытал стыд, когда имя его дяди Иосифа, обвиненного в производстве фальшивых денег, попало в заголовки венских газет, и еще более, когда его собственный отец не захотел преодолеть унижение: «Будучи маленьким (рассказывал отец), я вышел в субботу на улицу — хорошо одетый, в новой меховой шапке. Попавшийся мне навстречу христианин сбил шапку в грязь, закричав: „Еврей, сойди с тротуара!“ — „И что ты сделал?“ — спросил Зигмунд отца. „Я поднял ее“». «С тех пор юный Фрейд „вынашивал план реванша“. Он отождествлял себя с Ганнибалом, этим великолепным, бесстрашным семитом, поклявшимся отомстить за Карфаген, несмотря на могущество Рима… Чтобы стать независимым, ребенок начал учиться лучше владеть собой и старался развиваться физически…»[68]. Мальчик испытал стыд, поскольку мошенничество дяди и трусость отца оказались вынесенными на всеобщее обозрение — в заголовки венских газет и на улицу. Мысль о реванше позволила ему восстановиться и не погрязнуть в самобичевании.
Тонкий психоаналитик, предвосхитивший появление «теории привязанности», Имре Херманн первым описал чувство отравленности, объясняя причину возникновения стыда в тот момент, когда ребенок «теряет контакт с матерью, объектом, за который он цепляется»[69]. Этот венгерский психоаналитик, ставший провозвестником опытов Харлоу на макаках и предвосхитивший создание Джоном Боулби теории привязанности[70], сказал бы сегодня, что живое существо (зверь, человек), имеющее — для продолжения развития — потребность в материнской защите, утрачивает присущее ему примитивное доверие и чувствует себя ничтожным, лишаясь этой защиты, или в том случае, если она видоизменяется. В более классической концепции, разработанной психоаналитиком Сержем Тиссероном, говорится об «отказе от защитного экрана, созданного матерью»[71], а Венсан де Гольжак добавляет к этому следующее оригинальное замечание: обсуждение истории и изменение представлений коллектива дают надежду, что стыд может быть преодолен[72].
Все эти аналитики носят разные очки, устремленные, однако, на один и тот же посыл: тягостное чувство стыда, испытываемое человеком, имеет различную природу.
Телесный стыд: «Я грязен, дурен» — относится к индивидуальной восприимчивости взглядов других.
Стыд через самообесценивание: «Посмотрите, кто я. Разве можно меня хотеть… Я ничтожнее других, я бесцветен, я разочаровываю вас и самого себя… Я самый незаметный в классе и самый жалкий в коллективе».
Стыд как элемент морали и упадка: «Я был отвратительным… Позволял себе поступать, как вздумается». Подобный онтологический стыд объясняет, почему можно стыдиться превосходства других. «„Присядем?“ — как-то обратился ко мне один студент… Покраснев от стыда, я прошептала, что я бы, конечно, хотела присесть, но только не рядом с ним», — произносит в ответ преподавательница университета. Она была столь молода, что юноша принял ее за студентку. Невольно унизив его, преподавательница таким образом отнесла себя к группе тех, кто доминирует, а иногда и насмехается, демонстрируя собственное превосходство. И ей стало стыдно.
В данном случае стыд возникает не из-за чувства поражения — это чувство бывает очень разным. Можно потерпеть неудачу и чувствовать себя свободным более не предпринимать пугающих авантюр. А можно тысячу раз пережить успех — и потерпеть неудачу, почти добравшись до вершины, почувствовать себя «в дерьме» из-за того, что добраться до нее не удалось. Некоторые дети испытывают стыд, когда клоун смеется над ними, чтобы заставить их смеяться в ответ. Решительно, все человеческое существо определяется моралью, и стыд легко возникает в человеческом сознании.
Лилипут и «звездный» стыд
Какой бы ни была ситуация, провоцирующая появление чувства стыда, это всегда сценарий из образов и слов, излагающий тонкие моменты нашей внутренней истории. Если другой навязывает нам свою силу или заставляет нас делать что-то против нашей воли, мы вполне способны испытать унижение.
Но позднее, когда мы вновь начинаем размышлять над ситуацией и краснеть от стыда, чувство отравленности становится свидетельством нашей попытки преодолеть травму и восстановить утраченную самооценку[73]. Когда неудача заставляет нас терять свое лицо, мы ощущаем себя раздавленными, и не более. Затем ментальные способности восстанавливаются, и мы вновь даем себе уничижительную характеристику. Как осознать, что мы живем в условиях, навязанных нам обществом, что наша душа мертва, что мы ничтожнее других, незначительнее, грязнее, лишены какой бы то ни было свободы, и что сторонняя помощь еще сильнее унижает нас, ибо выглядит как снисхождение? Чувство ничтожности по сравнению с другими эмоциями, несмотря ни на что, часто приобретает форму «лилипутских фантазий»[74].
Многие сироты удивляются своим повторяющимся почти каждую ночь снам, в которых присутствует один и тот же сюжет: ребенок не видит себя во сне, однако он знает, что речь идет о нем, маленьком, испытывающем угрозу со стороны огромных шаров, катящихся на него, увеличиваясь в размерах. Он пытается бежать, но не может спрятаться, поскольку комната, где катаются эти шары, пуста. Он не может ни увернуться, ни остановить шары: он слишком маленький по сравнению с ними, а они становятся все больше и больше, — и в тот самый момент, когда они должны вот-вот раздавить его, страх заставляет ребенка проснуться.
Этот «сон Лилипута» вынуждает сироту чувствовать себя в мире одиноким, совсем крошечным, бояться угрожающих ему безликих предметов. Ситуация сиротства, жизненная катастрофа лишила ребенка чувства безопасности. Не умея быть сильным, ребенок ощущает себя крошечным, беззащитным, незначительным по сравнению с другими, у которых есть мама. Внезапно лишившись идеала привязанности, Лилипут чувствует себя раздавленным, когда встречается с кем-либо на своем пути.
Разделение (разрыв) с основами безопасности не всегда очевидно прослеживается в случае с сиротами, но главное, всегда остается неизменным. Раннее разделение, (оттого что мать была больна, что нищета заставляла ее соглашаться на любую работу вдали от ребенка, что ее депрессия, сковывая любые попытки чувствовать, говорить, улыбаться, петь, играть и действовать, обедняла кластер эмоций, которые должны были подпитывать ребенка, — все эти разные случаи сводятся к одному: ребенок лишается чувства безопасности, переживает глубинные разрывы шаблона, испытывает шок[75]. Едва поддержанный, он теряет доверие к самому себе и во время встреч с другими чувствует себя подавленным. Самопрезентация, созданная им шаг за шагом из осмысливаемых ранних опытов, заставляет его постоянно ожидать от других удара, толчка[76]. Когда фигуры привязанности умаляются несчастьем, неблагоприятная среда, в которой находится ребенок, формирует в его голове представление о собственной ничтожности. Неприметный Лилипут, он воспринимает всякую встречу именно как попытку раздавить его. Он относится к другим со смесью страха и гнева, а к себе — со стыдом и презрением.
Приобретенный стыд не тождествен ревности. Стыдящийся хотел бы стать таким, как все, или, скорее, чувствовать себя, как все. Но несчастный случай или неблагоприятная среда сделали его неспособным на это. Размышления о том, что же он из себя представляет, — нечто вроде зеркала, в котором отражается скорее потеря, чем несправедливость: «Я потерял то, что должен был иметь, другим я не нужен. Они значительнее меня, вот и все». Когда на себя в зеркало смотрит меланхолик, он не видит там ничего, ибо чувствует себя пустым. Стыдящийся, ощущая себя ничтожнее других, видит себя в зеркале голым, когда другие одеты, неряшливым по сравнению с другими — такими элегантными. Он старается избежать конфронтации, в которой проиграл бы, и краем глаза наблюдает за гигантами, старающимися его раздавить. Стараясь сохранить лицо, он выдавливает из себя улыбку, бормочет какие-то фразы или нападает на тех, кто, сам того не желая, презирает его. Быть стыдящимся означает привнести горечь в собственные привязанности. Тот, кто чувствует себя униженным, становится распространителем заразной болезни, поскольку втягивает партнера по удовольствию в отношения, напоминающие пинг-понг.
О Жорже говорили, что он — «правая рука босса». Молодой студент архитектурного факультета только что получил должность рисовальщика в бюро, где изучал профессию. Скопив достаточную сумму, он купил машину, что позволило ему набраться смелости для встреч с девушками.
Жорж делал то, что хотел бы делать Бенжамен. Он был таким, каким хотел видеть себя Бенжамен. Спокойное и уверенное движение Жоржа вверх стало для Бенжамена откровением — тот понял, чего не хватает ему самому. Он постоянно страдал от мысли о том, что все, что он затевает, провалится. В отношениях с Жоржем Бенжамен ощущал себя подавленным, а тот не отказался бы померяться с Бенжаменом силами в хвастовстве.
Стремление Бенжамена постоянно испытывать стыд воспринималось окружением как нечто нормальное до момента его встречи с «правой рукой босса». Неизбежный и тяжелый разрыв отношений заставил его окончательно утратить доверие к самому себе. События ослабили его и породили в нем устойчивое представление о собственной незначительности[77].
Стыд может длиться и два часа, и двадцать лет
Стыд может длиться и два часа, и двадцать лет; если пациент чувствует себя «преломленным через призму взгляда другого»[78], стыд вызывает травму. «Когда он разглядывает меня, то проникает внутрь. Его взгляд лишает меня собственного достоинства. По какому праву он вторгается в мою душу?» Эти псевдодоводы разума есть не что иное, как попытка словами выразить ощущаемое. Когда человек оказывается за одним обеденным столом своим психоаналитиком, он думает: «Я позволил ему проникнуть в мою душу. Я обсуждал с ним то, что обычно предпочитаю скрывать. Я позволил ему все узнать про себя, тогда как для друзей вынужден разыгрывать комедию превосходства. Я знаю, что он проник в меня и сбросил с меня маску реляционности. В его присутствии мне становится неуютно. Я стыжусь самого себя, потому что знаю: он знает. Полагаю, он думает следующее: я не настолько хорош, как пытаюсь казаться».
Проблема заключается в следующем: можно испытывать стыд, не осознавая, что стыдишься: «Я умираю от стыда совершенно напрасно, ведь ничего постыдного я не совершал». Думающие таким образом ежедневно делают в собственном эго почти незаметные, но очень коварные разрывы, едва понимая, что в конце концов это приведет к потере самоуважения, как было в случае с тем маленьким мальчиком, которого мать называла «Свиная тушка» — просто чтобы позабавить взрослых. Когда наша душа отравлена невидимым несчастьем, когда нас разрывают на части неприметные, но повторяющиеся шоковые состояния, наше сознание старается защититься любым способом, пусть даже самым нелогичным. Благодаря процессу подавления, мы меньше страдаем от изнуряющего чувства вины, наказывая себя, чтобы расплатиться, — непонятно, правда, за что именно. Стыд провоцирует болезненное мышление, в результате чего каждый наш жест — даже самый обычный — оказывается отравленным. «Стыдно ходить к парикмахеру», — говорит брошенный ребенок, которому пришлось долго собираться с силами, чтобы уточнить: «Мне стыдно, когда кто-то занимается мной — я этого не достоин». Стыдно предлагать дружбу: «Если мы — о, несчастье! — станем любовниками, он (она) увидит, насколько я посредственен. Я прячусь подальше от всех или скрываю лицо под маской гордости. А более частые, чем обычно, встречи ради секса поселят во мне беспредельный ужас… Я избегаю женщин, кажущихся мне привлекательными». Некоторые девушки, стыдясь того, что у них начала расти грудь, прячут ее под просторным пуловером. А мужчины, стыдясь эрекции, избегают девушек из страха выглядеть смешными. Подобный печальный отказ от жизненных удовольствий и реализации сексуального влечения менее тяжек, чем унижение от неудачной встречи или убитой в зародыше фантазии. Когда наконец эти люди освобождаются от стыда, им становится стыдно того, что они стыдились! Как печально это избавление!
Дискомфорт не всегда вызван шоком. Ежедневно испытываемое нами чувство стыда приводит к тому, что в некоторых ситуациях самоуважение оказывается под ударом. Эти маленькие «позорные клейма» способствуют, однако, развитию склонности понимать другого; уважительное отношение к представлениям этого другого становятся отправленной точкой следующей морали: «Что он подумает обо мне?» Слабые приступы чувства вины также выполняют моральную нагрузку: «Мне жаль, что я ранил ее. Я буду стараться загладить свою вину». Но мы не можем позволить себе все что угодно, если принимаем в расчет эмоции, испытываемые другими. Без чувства стыда и ощущения собственной вины выстраиваемая нами связь будет просто жесткой, вот и все. Стыд, чувство вины, возможные упреки позволяют нам сосуществовать, уважая друг друга, и соглашаться с запретами, управляющими процессом социализации.
Умаление себя с целью уважать других превращает стыд в могучее средство социального контроля. Испытывая стыд, мы никогда не бываем одиноки, поскольку мучаемся догадками, как же мы выглядим в глазах других? Подобные молчаливые или плохо выразимые вслух межличностные связи объясняют перетекание чувств. Даже если другого на самом деле не существует, он остается в нашем воображении: «Отец гордился бы мной», — но одновременно нам в голову может прийти и такая мысль: «Если бы моя мать знала, что я делаю, она бы умерла со стыда». Если речь идет о стыде или чувстве вины, наша склонность к морали подвергает нас воображаемому суду.
История, разыгрываемая в нашем внутреннем фильме, подпитывается стыдом или гордостью — в зависимости от ценности, которые им сообщает культура, в которой мы существуем. Меня впечатляет смелость и искренность молодых немцев, пытавшихся понять, что именно произошло в их стране во время Второй мировой войны. Они интересуются этим, публикуют документы, участвуют в дебатах и оплачивают открытие музеев, куда ходят школьники.
И вместе с тем споры внутри семьи более проблематичны, нежели общественные. Молодые немцы узнали, что их страна пережила одну их самых больших катастроф в истории. Они с честью пытаются понять эту трагедию, но на внутрисемейном уровне эта отважная работа иногда превращается в обвинения, высказываемые в адрес собственных родителей или дедушек и бабушек, то есть в болезненный процесс.
Однажды я был приглашен в гости в прекрасный дом в Дамаске, где хозяйка — блондинка — угощала нас вином и пыталась объяснить, насколько она гордится нацистскими убеждениями своего отца. В школах Буэнос-Айреса нередки случаи, когда дети евреев, бежавших из Германии, учатся бок о бок с детьми нацистов, приехавших в Аргентину несколько лет спустя. Эти подростки вынуждены сбросить груз собственного прошлого. Они полагают, что все происходит так: «Отец, давший мне жизнь, совершал постыдные или достойные уважения поступки — в зависимости от того, что рассказывает нам наше окружение. Мы относимся к своему прошлому со стыдом или с гордостью — все зависит от культурных представлений. Стыд рождается не из голого факта — его порождает способ изложения». Событие, превозносимое культурой, внушает ребенку чувство гордости своей историей и одновременно тот же самый эпизод, обесцененный рассказами окружения, заставляет его стыдиться. Цыганам не стыдно быть кочующим народом. Они даже гордятся своей княжеской иерархией и моральным кодом, который не распространяется на gadjos, не-цыган. Многие иммигранты, ночевавшие на земле до того, как смогли ассимилироваться, студенты, работавшие старьевщиками, чтобы оплачивать учебу, почти стыдились того, что их называли грязными и некультурными. Несколько лет спустя, заняв достойное место в обществе, они испытывали гордость, когда слышали разговоры о том, как смело они преодолели обстоятельства[79]. Факт меняется в зависимости от изменения смысла, который сообщают этому факту другие, — соответственно меняется и образ, который они примеряют на себя.
Происходящее оценивается нами с позиций утраты нравственности
Чувство стыда и гордости — результат взаимодействия двух сюжетов: рассказа о себе и рассказа о том, как поступают с нами другие. Рассказы окружения не обязательно направлены на то, чтобы заставить нас молчать. Фраза здесь, молчание там, само течение событий, насмешка формируют словесную среду, в которой рана обретает смысл. В подобной вербальной оболочке можно замечательным образом «умереть, но не сказать»[80] и страдать от того, что не высказался.
Большое число мужчин оказывается запертыми между напряженностью сексуального влечения и боязнью женщин. Одинокие иммигранты и асоциалы не могут гордиться ни тем, что они есть, ни страной, откуда приехали. Они работают как проклятые, не выучив язык, не умея одеваться, не желая погружаться в чужую культуру, — и испытывают желания, которые не могут выразить. Остается обратиться к шлюхам! Однако, стыдясь самого себя, стыдящийся не умеет заявить о своем желании, он не отваживается хотя бы просто заговорить с проституткой. Он умрет от стыда, если кто-нибудь случайно услышит, как он уточняет цену на ее услуги. Профессионалки называют таких «голубками», потому что они не отваживаются защищаться, когда «самочки» щиплют их перья.
Энзо был немного женоподобным — большие черные глаза, длинные, изогнутые — точно подкрашенные — ресницы. Блестящий студент, он много работал, закрывшись в маленькой комнате в злачном районе Марселя. Каждый вечер Энзо натягивал свою рубашку-«марсельку», как он ее называл, белую кепку и спускался в соседнюю пиццерию поесть. Так он проводил все свое время: днем занимался, ночами лакомился пиццей. Ни друзей, ни язвительной компании, вращаясь в которой мальчики набираются смелости и начинают волочиться за женщинами. Выбранная им стратегия «молодого ботаника» позволяла ему не выставлять напоказ свою невероятную робость. Когда его накрывало сексуальное желание, оно лишь усиливало постоянно испытываемое им чувство реляционистской беспомощности. Энзо не знал, что ему делать. Однажды он находился на улице, где рядом с пиццерией тусовались девушки. Первый опыт оказался грязным и исполненным отчаяния: «Вот, значит, как это бывает». Он плакал. Разумеется, об этом нельзя рассказывать. Да и кому? Родителям: что вы, это стыдно! Приятелям с факультета: унизительно! Невозможно! Он старался не вспоминать об этом — до момента, когда его вновь охватило желание. Стыд поселился в его душе и отравлял существование. Прекрасный студент — робкий юноша днем и любитель пиццы по ночам — выстроил на соседней улице склеп собственного стыда. В его душе стал править воображаемый суд над самим собой.
Физическое выражение стыда порой приобретает любопытную форму. Стыдящийся ребенок закрывает лицо ладонями или прячется под столом. Подросток краснеет, избегает встречаться с кем-либо взглядом и что-то бормочет, испытывая явный дискомфорт. Энзо стал заниматься еще усерднее, делал это молча и прятал свой стыд в склепе невыразимого[81]. Если бы кто-нибудь раскрыл его тайну, выставив перед всеми его убогую сексуальность, половой акт, явившийся следствием обыкновенного торга, он бы умер со стыда.
Некоторые мужчины начинают половую жизнь с походов к проституткам, не придавая этому особого значения. Они полагают, что интимный акт — всегда лишь краткий миг, что ментальный мир женщины, продающей свою вагину, не имеет никакого значения — это профессия, не более, в конце концов, это ее выбор, чем заниматься в жизни. Что до ментального мира свидетелей, то он может стать даже источником гордости! Клод Б. с гордостью рассказывал о том, как его отец приказал принести в комнату юному сыну бутылку шампанского и привести проститутку. Никакого внутреннего суда! Напротив, Клод считал этот поступок восхитительным — демонстрацией сексуальной силы престарелого отца. Таким образом, стыд заключается не в самом поступке, он возникает из внутренней оценки этого поступка.
В возникновении чувства стыда замешаны все
Внутренний обличитель, «омерзитель» сознания, убивающий стыдящегося, всегда рождается из краха самоуважения. Однако причины его появления могут быть различными:
— внешние социальные причины: народ проиграл войну, пережил период культурного упадка и нищеты;
— внешние культурные причины: мифы и предрассудки, превращающие стыдящегося в неприкасаемого (в его собственных глазах) — в комок грязи в чистой воде, еврея, покупающего всех подряд, вероломного араба, готового всадить нож в спину друзьям, чернокожего футболиста-дебила или цыгана, крадущего кур.
Эти внешние причины могут способствовать развитию чувства стыда, только если они имеют влияние или им придается значение.
Внешние семейные причины более действенны, поскольку родственные отношения имеют большое значение:
— дерущийся отец, презираемая мать;
— братья и сестры — когда успех одного унижает других;
— родители как «разносчики» стыда: отец с поражающим воображение рассказом про войну[82], мать, умолкающая, когда речь заходит о ее «корнях».
Плюс приобретенные причины: «Все чего-то ждут от тебя. Ты должен нас покорить. Ты настолько талантлив, что должен быть на высоте».
Когда ребенок не достигает высоты своих сновидений, являющихся скорее плодом родительских фантазий, происходит интрапсихический шоковый разрыв; от того, что он всегда оказывается вторым, вопреки мечтам о том, как сильно он будет страдать, если перестанет быть первым[83], подростка охватывает чувство стыда.
Глава 3 Неправедный стыд
Можно ли зашифровать стыд?
События сексуального характера столь явно демонстрируют особенности нашего внутреннего мира, что трудно говорить о них как о чем-то автономном. Поэтому, чтобы сгладить ситуацию, мы предпочитаем придерживаться в своих рассказах двух стереотипов, которые позволяют нам не раскрываться. Кто-то говорит: «Невозможно оправиться от сексуального шока — это хуже, чем депортация». Другим, напротив, нравится думать, что «все это не столь уж серьезно», что женщины часто занимаются этим не ради чего-то большого, а просто из желания вызвать у мужчин чувство вины и скрыть за маской морали собственный агрессивный настрой.
Анкеты психологов содержат разные цифры, имеющие прямое отношение к этим противоречивым стереотипам. В целом «от 20 до 40 % жертв сексуальных нападений не признаются в этом»[84]. Если придерживаться этих данных, мы автоматически должны принять тот факт, что каждая вторая женщина восстанавливается после изнасилования постепенно и без посторонней помощи. Но если мы посмотрим на эти цифры через призму анкетных данных, то обнаружим, что время дает окружающим возможность реализовать то, что описывается двумя ключевыми словами и характеризует процесс обретения устойчивости: «поддержка» и «понимание».
Сексуальное насилие провоцирует появление у жертв чувства страха и гнева, а иногда и придает сексу характер заведомо «низменного» занятия (неточность цифр можно объяснить слишком эмоциональной реакцией). Анкеты показывают, что 10 % всех женщин подверглись насилию, и лишь 10 % из подвергшихся насилию написали заявление в полицию. Но опрашивающий должен помнить, что нескромный жест, брошенное вскользь словечко или заинтересованный взгляд в 60 % случаев будут расцениваться как сексуальное домогательство! Процентное выражение случаев рецидива тоже оказывается неточным. Число повторных нападений, совершенных мужчинами, отсидевшими срок за изнасилование, варьируется от 1,6 до 30 %[85]! В этом разбросе цифр, тем не менее, есть некоторые закономерности — правда, в случае с теми, кто нападал на мальчиков: эти чаще других насильников совершают преступления повторно. Что касается процента тех, кто устоял и не сорвался, — его высчитать еще сложнее, поскольку часть исследователей утверждает, что изнасилование — худшее из всех преступление, тогда как другие считают подобную мысль явным преувеличением.
И все же, сопоставив данные анкетирования и результаты бесед, проводимых психологами, можно разобраться, о чем идет речь. Клиника приводит к появлению трагического опыта, последствия которого могут облегчить психологи.
В 1949 г. в Ирландской республике один религиозный приют был вынужден взять на воспитание 247 «трудных» детей. Скандал разразился, когда, став подростками, они рассказали, что почти все были изнасилованы. Ими занялись, заставили пройти тесты, с ними беседовали психологи, стараясь поддержать, и вот, через пятьдесят лет, о них вспомнили и решили посмотреть, какими они выросли. Развитие биологии, тесты на привязанность и социологические коды позволили выработать адекватные критерии оценки[86]. За основу исследования брались две группы источников: результаты опросов, тестов и экзаменов, полученные в период пребывания детей в приюте (когда они были изнасилованы), и результаты, появившиеся много лет спустя, когда каждому пациенту уже было за шестьдесят; кроме того, опираться можно было и на рассказы участников событий о том, что с ними происходило в жизни, о травме, нанесенной им в стенах приюта, и смятении, за которым последовала попытка преодоления пережитого.
Когда разразился скандал, 83 % детей из группы очень сильно изменились, что никого не удивило: задержка физического и ментального развития, беспокойство, прием успокоительных и расстройства личности. Анализ связей, выстроенных этими людьми пятьдесят лет спустя, продемонстрировал следующее: 45 % не перестали бояться, 27 % замкнулись, а еще 12 % отвечали, противореча самим себе. Таким образом, 84 % связей оказались неустойчивыми, тогда как обычно эта цифра достигает 30 %.
Удивление вызвал тот факт, что 16 % изнасилованных детей все-таки создали крепкие связи! Это намного меньше, чем обычно (когда цифра достигает примерно 66 %), однако в рассматриваемом контексте легко можно было ожидать, что число неудач достигнет катастрофических 100 %. Каким чудом эти дети смогли вырасти нормальными, несмотря на отсутствие перед глазами положительной модели и сексуальную агрессию, вызывавшую расстройство психики[87]? Можно ли говорить о ментальной гибкости, позволяющей выстоять, когда психика меняется в результате разрушительного опыта, и выполняющей функции стабилизатора, если подобные опыты повторяются[88]?
Как оценить факторы устойчивости?
Проблема выглядит следующим образом: небольшая часть этих подвергнувшихся насилию детей смогла встать на путь правильного развития, потому что встречи с другими людьми оказались для них благоприятными. Если бы они смогли узнать и проанализировать условия, в которых находились, выйдя из приюта, мы смогли бы понять, что же управляет процессами выработки устойчивости.
Можно разделить благоприятные (или неблагоприятные) факторы на три группы.
1. Как развивался ребенок до момента агрессии.
2. Какие обстоятельства сопутствовали моменту агрессии.
3. Была ли ребенку оказана в семье и в коллективе поддержка, направленная на преодоление последствий шокового разрыва.
Каждый из этих факторов можно исследовать.
Дети, которые до пережитого ими потрясения страдали от некоторых психопатологий — фобий, гипервозбудимости, страха одиночества, хаотически выстроенных связей, — не смогли развить в себе устойчивость. Однако попадаются и такие, кто принял как данность связь «на удалении», а также ее заведомо опасный или двойственный характер. Когда окружение постоянно, подобный характер выстраиваемых связей не приобретает черты патологий — он просто свидетельствует об адаптации в рамках собственной семьи. Но если ребенок переживает личную катастрофу, подобная манера создания связей выступает в качестве фактора, усиливающего уязвимость.
У детей, подвергшихся насилию и сохранивших устойчивость, колебания психики — редкое явление: почти всегда они смогли выстроить безопасные связи, которые помогли им создавать отношения и в дальнейшем. Это позволило им пережить шок и самоутвердиться.
Составляющие насилия — иначе говоря, условия, в которых было совершено сексуальное воздействие, — становятся мощным фактором выработки устойчивости или его отсутствия.
Когда насилие случается вне рамок семьи, когда неизвестный овладевает своей жертвой, насилие обычно воспринимается как нечто крайне тяжкое. Попытка описать случившееся оказывается однозначной. Оно выглядит как катастрофа, нечто ужасное, унижение, болезненное проникновение, вина за которое полностью лежит на насильнике.
Но когда насилие исходит от близкого человека, к боли и унижению добавляется ощущение предательства. Термин «действие сексуального характера» корректно описывает следующий поведенческий сценарий: взрослый (мужчина или — в редких случаях — женщина) устанавливает с ребенком определенную связь, в основе которой лежит чувство безопасности и благополучия. Но нежные жесты бывают коварными: за ними следует сексуальное воздействие. В этом случае насилие будет отождествляться с радостью, которую сулит связь (получение подарка, а иногда даже сексуальное удовольствие). В таком случае жертва становится сообщником насильника! Более того, если насильником оказывается близкий человек, сексуальная агрессия может повторяться, трансформируясь в своеобразную связь, которая врезается в память, порождая ощущение соучастия в происходящем, заставляя испытывать вину. Это объясняет, почему изнасилованные женщины часто произносят удивительную фразу: «Должно быть, это я, пусть не нарочно, спровоцировала его».
Когда признание вины обращено наружу, уязвленный в глубине души сохраняет немного самоуважения (поскольку он смог восстать против обстоятельств) и начать поиск союзников.
Среди жертв, испытывающих вину из-за действий насильника, наиболее сильна тенденция к ревиктимизации: женщины, чувствующие себя виноватыми в случившемся, имеют шансы от 20 до 30 % быть изнасилованными повторно[89]. Бывает так, что женщина не помнит о том, что ее изнасиловали, при том, что под давлением свидетелей насильник признается в содеянном. Бывает и так, что жертва отрицает случившееся, объясняя это тем, что сам факт насилия слишком незначителен: после того, что произошло, она, жертва, возобновила свою пробежку. Мы восторгаемся ее невероятной резистентностью, нас интригует ее безразличие, однако два года спустя мы с удивлением констатируем у этой женщины расстройство психики, вызванное ужасным ощущением, словно все «только что произошло». Женщина способна думать только об этом, она непрерывно прокручивает в голове кадры насилия, завладевшие ее внутренним миром и разрушающие любую защиту. Чаще всего результатом становится хроническая депрессия, потеря интереса к жизни, приводящая к потере бдительности.
Совпадение разнородных факторов объясняет причины деградации внутреннего мира тех, кто подвергся насилию[90]. Сексуализация, связанная с насилием, ощущение, что тебя предали, что ты соучастник, униженный, создают в голове изнасилованного обесцененный образ себя: «Раз я согласилась получить подарок до того, как меня изнасиловали, значит, я продала свое тело… Если меня можно воспринимать такой, значит, я игрушка, повинующаяся желаниям других… Я не способна отличить привязанность от сексуальности, следовательно, есть причина бояться настоящей любви…» Эти стигматы возникают в нашей душе вследствие своеобразной реакции окружающих нас людей. Когда семья заявляет: «Мы тебе не верим, мы знаем: твой отец никогда бы так не поступил», когда школьные товарищи возбуждаются, представляя женщину, которую они поимели и бросили, и когда культурные стереотипы утверждают, что изнасилованная женщина — «грязная», что она позорит семью, — подобные реакции способны лишь посеять стыд в душе той, что подверглась насилию.
Дети выражают свои беспорядочные чувства, ожесточаясь из-за сексуальных провокаций, эксгибиционизма и постоянных намеков на безудержные половые акты, тогда как в сознании изнасилованных подростков любые образы, связанные с сексом, отвратительны и безнадежны.
Избегание: нездоровая, но закономерная защита
Наиболее проверенное средство борьбы с подобной тошнотворной репрезентацией — избегать думать о случившемся. Избегание — вот та стратегия, которая позволяет минимизировать эмоциональное воздействие факта насилия. Эта защитная стратегия дает возможность справиться[91] — то есть выдержать испытание; это создает видимость ментальной силы: «Все это ерунда… я видел(а), как с этим справляются другие!» Мы обожаем смотреть, как улыбаются уязвленные: мы верим, что они остались невредимыми, тогда как подобная защита часто оказывается миной замедленного действия, предысторией психологической катастрофы, которая разразится позднее[92]. Если люди избегают думать об этом, то лишь потому, что они не чувствуют себя достаточно сильными, чтобы спокойно рассуждать об этом вслух. Представление о себе, как о «грязном», подвергшимся агрессии другого, — признак слабости, стыда, заставляющего уязвленного отдалиться от социума и мешающего ему занять место среди других. Он замыкается, избегая обычных связей, которыми полна повседневная жизнь.
Подобная стратегия избегания не исключает появления одной волшебной мысли, позволяющей испытывать некоторые моменты счастья. Мы обожаем тех, кто пережил травму и при этом сохранил способность мечтательно улыбаться, писать стихи и объяснять всем, что видимым миром управляют оккультные силы, которые они только что обнаружили. Они имеют полное право реагировать таким образом, ведь в конце концов в их случае это закономерная защита! Однако бегство в воображаемое — это предвестник катастрофы, поскольку человек отделяет себя от реальности, вместо того чтобы просто отдаться краткому мигу наслаждения, испытанному во сне.
Певец Корнель пережил геноцид в Руанде, оказавшись в ситуации, близкой к той, в которую попадали еврейские дети во время Второй мировой войны. Домашние погибли у него на глазах, ему самому пришлось бежать в Заир (нынешнее Конго) и в течение трех месяцев прятаться в Кигали, пока его не усыновила семья из Германии: «Я был спасен. Я избежал ада, который невозможно описать словами»[93]. Выжив — в отличие от своих близких, — он испытывал стыд при одной только мысли о жалости, направленной на самого себя, и тогда, потихоньку решив избавиться от невыносимых мыслей, стал думать лишь о музыке. Этого защитного механизма оказалось недостаточно, хотя он инкапсулирует боль, которая захлестнула бы нас, позволь мы эмоциям распоряжаться нашим внутренним ментальным миром; тем не менее, подобная стратегия иногда позволяет буквально выхватить моменты счастья и выглядеть сильным, улыбчивым человеком. Но подобная защита все-таки не позволяет избежать реальности: потери, изгнания, выживание «вполовину», когда мы не можем полностью поделиться с кем-либо своей историей и способны явить окружающим лишь часть нашего ментального мира, пытаясь задушить другую — болезненную — ее часть. Говоря об этой закономерной защите, мы не можем вести речь об устойчивости, поскольку здесь имеет место очевидный процесс ампутации личности: «На самом деле я умер, находился вне моей собственной жизни, за пределами самого себя», — рассказывает певец[94].
Избегание часто становится длительным процессом, и это необходимое условие[95], поскольку его соблюдение позволяет нам меньше страдать, однако мы не можем всю жизнь прожить «в половину» личности. Однажды мы столкнемся с необходимостью отказаться от избегания, и тогда мы констатируем, что наша жизнь направилась по странному пути. Мина замедленного действия — частый вариант этого пути, предполагающий сознательное уклонение от любой работы сознания: «Нужно идти вперед… нечего пережевывать все это». В тот день, когда механизм избегания оказывается запущенным, но ничто еще к этому не готово — ни в душе пациента, ни в его окружении, — тоска становится еще болезненнее. Если мы не страдали от смерти наших близких, нам стыдно, что мы не страдали: «То, что они умерли, не произвело на меня никакого впечатления. Я — чудовище». Огромная скорбь обрушивается на нас еще сильнее, если чувство стыда возникает с запозданием: «Необходимо сохранить ощущение, что я родился в то утро, когда они умерли. Надо, чтобы они умерли раньше, чем я стал запоминать что-либо, — только так я смогу жить после них… Милосердная амнезия… Заставьте плакать детей, желающих забыть о том, что они страдают»[96].
Избегание не распространяется на воспоминание о трагедии, а лишь на аффект, связанный с этим воспоминанием. Проститутки часто не страдают от мысли о порочности своего ремесла. И они правы. Мы страдаем меньше, когда мучение вызывает психическую агонию: «У меня больше нет души, нет тела, ничего, что было бы мной. Я — всего лишь ничто, продолжающее длиться… Все это напоминает эффект от воздействия кокаина, своего рода забытье»[97]. Лишь став депутатом Верховного совета Женевы, Николь рискнула наконец смело взглянуть в глаза своему прошлому. Она смогла ускользнуть от тех, кто унижал ее, но это случилось только тогда, когда она смогла найти в себе силы стать активистом «Аспазии» — ассоциации, помогающей уличным женщинам: «Возможно, мне потребовалось все это время, чтобы по-новому взглянуть на проституцию, понять, чем она является на самом деле — фактором экономической и социальной, а следовательно, политической, реальности»[98]. Певец Корнель говорил то же самое: «…Быть достаточно сильным и жить, прося о помощи, взглянуть на свое довольно гнусное прошлое, таким, каким оно было на самом деле, — чтобы иметь возможность жить в настоящем и стремиться в будущее»[99]. Но когда депутат попыталась защитить девушек, приехавших с Востока, ее коллеги удивились, зачем она погружается в тот мир, откуда попыталась бежать. Как будто все, кто ее окружал, думали: «Я бы на ее месте продолжал молчать». Эта женщина преодолела стыд, превратив его в гордость, однако мнение общества было иным: «лучше бы она предпочла скрыть свое прошлое, перестать говорить о нем столько нелицеприятного!» Вспомнить о том, что с ней происходило, означает попытаться сшить разорванные лохмотья разорванного «я». Если избегание дает нам время обрести силы и изменить мнение других о нас, только тогда процесс обретения устойчивости окажется успешным — после долгих лет страданий, вызывающих оцепенение[100].
Дети умеют использовать этот способ защиты. Когда стюардесса Николь умерла перед одним из рейсов UTA в Нджамену, ее муж вложил всю свою эмоциональную энергию в общение с сыном Бенжаменом, восьми лет, чтобы лучше защитить его и защититься самому: «Мы много говорили с ним. Он рассказывает мне свои мысли, о чем он думает, чего хотел бы. О школе, о своих товарищах. Он никогда не говорит о маме. Об этом он говорить не может»[101]. Это молчание — свидетельство существования сверхпамяти, запечатлевшей историю, запертую внутри, историю, которую невозможно рассказать вслух.
Окружающие становятся соучастниками процесса избегания, дав возможность пережившему травму понять, что о таких вещах не говорят. Тогда-то молчание и становится новым творцом «я», немым тираном, заставляющим нас тайком страдать, мешая нам начать работу по перестройке себя. Бешенство понимания — это орудие обретения устойчивости, оно пытается прорваться сквозь письменный текст, слова и рассказы, через объяснения. В то время как молчание, замораживающее связи, увеличивает интенсивность истории, не проговариваемой вслух: «Я постоянно думаю о том разрыве шаблона, который случился в моей голове, однако я должен молчать, поскольку никто не способен меня понять». Подобный отказ от умения чувствовать (и говорить) ведет к посттравматическому пережевыванию одной и той же ситуации и порождает стыд: «Я — всего лишь женщина… мы, неприкасаемые, должны повиноваться мужчинам… на протяжении всей истории нашего народа мы всегда были угнетаемы…» Покорность мешает избежать повторения агрессии. Когда мы ничем и никем не управляем — ни собой, ни другими, — мы не можем защититься от новых приступов насилия. Именно так можно объяснить странный фатализм, сопровождающий процесс ревиктимизации[102].
Тихий склеп, где блуждают призраки
Иногда невозможно ни о чем рассказать, поскольку не имеешь в себе сил это сделать, потому что другой не желает ничего слышать или потому что опасность разоблачения запирает наши рты на замок. Рассказ о себе превращает нашу душу в склеп, где бродят призраки: «Если я скажу мамочке, что делал со мной ее муж, она сразу же умрет… Если я признаюсь, насколько я отвратительна, моя семья отвергнет меня, а общество будет меня презирать».
Доверить тяжкий секрет кому-либо не всегда означает выработать устойчивость. Раскол семьи, неизбежно следующий за признанием в инцесте, делает виноватой во всем дочь, которая после того, как была изнасилована отцом, будет еще и растерзана своей собственной семьей. Избегание, защищающее переживших травму от страдания, препятствует проведению курса психотерапии, способствующей пробуждению ментальной активности. Для того чтобы отказ от избегания не спровоцировал возвращение боли, необходимо, чтобы окружение также эволюционировало, обретая способность слушать рассказ о пережитом шоке и поддержать травмированного.
Отсутствие поддержки со стороны окружающих до момента наступления шока не позволяет заранее выстроить связи, которые в случае агрессии могли бы помочь той, что пережила травму, преодолеть это испытание[103]. Отсутствие поддержки после совершившегося насилия приводит к запрету на рассказ о произошедшем — это невозможно сделать, не рискуя навлечь на себя сомнения и враждебность собственной семьи.
Одним из неожиданных и пока еще малоизученных факторов устойчивости, который иногда, тем не менее, годится для того, чтобы поддержать маленькую измученную девочку, оказывается присутствие рядом одноклассницы! Когда ребенок может назвать несколько имен своих товарищей, которым он готов доверить свою историю, это означает, что он — если вдруг с ним случится несчастье — способен обратиться за поддержкой к кому-то из них[104].
Любые продолжительные наблюдения, распространяющиеся на становление «трудных» детей, свидетельствуют о необходимости создать надежные связи до момента испытания. Безопасная и уверенная связь, формирующаяся в самые первые месяцы жизни, дает возможность — в случае, если произошла беда, — успешно выстоять. Травмированный ребенок, который найдет в себе силы отправиться на поиски доверенного лица, увеличивает возможность встретить на своем пути человека, олицетворяющего устойчивость[105]. Однако этот человек не может быть неизвестно кем — он должен соответствовать потребностям и взглядам ребенка. Когда школьный приятель соглашается выслушать рассказ друга, пережившего травму, разделенная на двоих интимная тайна укрепляет связь между ними. Возможно, этим объясняется тот факт, что после перенесенного сексуального насилия у приемных детей вырабатывалась устойчивость — намного более очевидная, чем в случае с детьми, росшими в биологических семьях[106]: они меньше боялись рассказывать о том, что с ними произошло.
Следует различать сексуальное насилия и сексуальное домогательство. В случае насилия вся память пронизана ощущением пережитой жестокости, что приводит к чрезвычайно легкому повторению посттравматического синдрома, тогда как в случае с домогательством именно ощущение того, что тебя предали, заставляет жертву молчать и порождает у нее чувство стыда. Нередко действия насильника вынуждают ребенка воспринимать любой нежный жест извне как часть сексуального акта, тождественного предательству, совершаемому семьей по отношению к жертве: «Друг (семьи) — очень милый… раз за разом фотосессии становились все более „выразительными“… Мама была недовольна, когда мы успевали взглянуть на сделанные фотоснимки. „Это нехорошо“, — говорила она… но ни она, ни мой отец никоим образом не захотят портить свои отношения с этим мужчиной и его женой: дружба — святое. Этим летом они даже поедут вместе с нами отдыхать»[107]. Предательство родителей, отсутствие защиты с их стороны порождает в душах детей больше переживаний, чем сексуальное насилие как таковое[108].
Признание оказывается менее трудным, если пережившая травму получает поддержку семьи, друзей и общества, способных разделить с ней эмоции и таким образом запустить процесс[109] ментализации[110]. Подобный контекст помогает справиться с несчастьем и вновь занять место среди других. Невозможность признаться почти всегда порождает отсутствие поддержки. Изнасилованная женщина думает, что о произошедшем с ней рассказать невозможно, поскольку тем самым ей придется создать у себя в голове образ опороченной, униженной, вызывающей отвращение. И она стыдится того, что может сформировать этот отталкивающий образ в представлении других о себе. Тогда она выбирает молчание — индивидуальный способ защиты.
Восставший призрак все еще способен поражать
Когда Жеральду исполнилось семнадцать, с ним случилось нечто странное. Его усыновила семья, отношения внутри которой не всегда были радужными, но, по крайней мере, он мог посещать занятия в лицее. Однажды он сидел в кухне и занимался, склонившись над книгой; в этот момент позади него появился приемный отец и неожиданно поцеловал его в шею. Удивленный Жеральд вскочил и получил сильную пощечину, сопровождавшуюся словом «Педик»; потом отец ушел. Жеральд снова уселся и принялся за чтение. Размышляя впоследствии над произошедшим, он удивлялся необычному поведению мужчины, носившему явный сексуальный оттенок, и особенно безразличию, которое он сам испытывал каждый раз, когда его «отец» пытался к нему приставать.
Двадцать лет спустя, отправившись в кинотеатр посмотреть датский фильм «Фестен», главной темой которого был инцест, Жеральд наконец понял смысл того, что же тогда происходило. В фильме, как и в его собственной жизни, любой огласке препятствовало стремление сохранить семью. Друзья Жеральда, с которыми он обсуждал фильм, объяснили ему, что «страшная тайна» могла бы разрушить семью и вызвать психозы у внуков. Жеральд подумал, что его приемная семья, возможно, уже пострадала от этих странных действий, прежде чем возник сценарий «поцелуй — пощечина — оскорбление». Он попытался представить, что могло произойти, решись он обо всем рассказать. Вероятно, его приемная мать не поверила бы ему — она хотела сохранить то, что еще оставалось от ее брака. В этом случае Жеральд был бы обвинен в клевете. «Как ты можешь говорить столько дурного об отце после всего, что он для тебя сделал?» — разумеется, сказала бы она. И Жеральда могли бы забрать из этой семьи, где его так часто оскорбляли. Однозначно, признание спровоцировало бы взрыв внутри семьи. У матери не было никакой профессии, а проблемы восьмилетней Вивианы — родной дочери, испытывавшей психологические трудности, — стали бы еще заметнее. Жеральд чувствовал свою ответственность перед семьей и согласился жить, ощущая собственную вину.
Рассказав о случившемся, он бы все сломал, обрек бы всех домашних на страдание. Промолчав, он не дал семье развалиться. Но, чтобы защититься, он должен был выстроить с близкими холодные отношения: вежливый, молчаливый, загадочный, не желающий никому довериться — это позволило ему идти своей дорогой, не раня других и разрешая ранить себя. Избегание связей выступило своеобразным болеутоляющим, помогая Жеральду адаптироваться к нездоровой атмосфере нового дома.
Со временем Вивиан стала матерью двух детей, и они, когда немного подросли, месяц за месяцем жаловались на своего отца — безразличного к ним, порой находившегося под действием алкоголя и дурно обращавшегося с домочадцами. Суд доверил детей бабушке и дедушке, которые приняли их с любовью. Избежав ада, в котором они находились, живя в доме матери, оба ребенка обожали новых опекунов, сделавших все для их спокойствия. Они выучились и создали свои семьи, боготворили деда и сделали все что могли (и даже больше) для матери, постоянно испытывавшей нужду. Ни один из них не стал психотиком. Случилось бы с ними нечто подобное, если бы двадцатью годами ранее Жеральд отправился в комиссариат полиции?
Общие законы, имеющие ценность для коллектива, не обязательно отличаются той же ценностью для каждого индивида, входящего в этот коллектив. В целом женщина, пережившая насилие вне семьи, быстрее вновь обретает достоинство и устойчивость, если до случившегося у нее были доверительные отношения с родными, да и после они поддержали бы ее. Мальчики, пережившие насилие со стороны мужчины или женщины, не всегда могут выработать устойчивость — они рискуют быть обвиненными во лжи и получить насмешку в ответ на свое признание.
С тех пор как западная культура перестала клеймить изнасилованных женщин, им удается с меньшими трудностями избавляться от пережитого стыда[111]. Когда женщину окружает понимающая семья и друзья, когда в культуре больше не укоренен миф о том, что изнасилованная позорит близких, она более не чувствует себя изгоем общества. Случается даже так, что женщина берет верх над насильником, демонстрируя этому несчастному типу свою мораль: «Должно быть, у тебя серьезная проблема, если ты не умеешь поступать иначе». Происходит и так, что некоторые женщины сегодня меняются ролями с мужчинами, начинают доминировать — совсем, как в только что приведенном примере.
Если члены семьи плохо общались между собой до момента агрессии, то рассказать о том, что тебя изнасиловали, означает разбудить старые проблемы и испытать дополнительный шок. Возможно, именно этот факт объясняет то обстоятельство, что изнасилованные девочки предпочитают рассказывать об этом в школе — подруге или медсестре. Другие останавливают свой выбор на священнике или на ком-то, кто заслуживает доверия, выбирая при этом человека, не являющегося членом семьи. Поскольку мы рискуем ранить наших близких, лучше рассказать о случившемся кому-то вне семьи, кто способен понять нас, не умерев от стыда вместе с нами[112].
Разоблачение часто сопровождается приступом тревоги: «Что мне делать с моей тайной? Доверившись медсестре, я заставила ее смотреть на меня другими глазами… Отныне для нее я навсегда буду изнасилованной женщиной. Станет ли она смеяться надо мной или будет презирать?» Попытка довериться близкому человеку вызывает чувство вины: «Если я все расскажу матери, я сделаю ей очень больно». Однако и стремление довериться кому-либо, не входящему в число близких людей, вызывает опасение: «Избавившись от постыдной тайны, я не избавлюсь от травмы и одновременно дам другим оружие, которое может быть обращено против меня».
Освободиться от стыда, получив поддержку
Мы не можем по-настоящему избавиться от стыда, если не будет соблюдено одно условие: друзья, семья, соседи и коллектив должны оказать нам поддержку[113]. Возможно, личность, подвергшаяся насилию, прежде была мягкой или, наоборот, закаленной по отношению к несчастьям — в зависимости от своего эмоционального развития. Но когда после перенесенного шока в ее душе поселяется яд стыда, связь с окружением становится дисфункциональной.
Рассказанная история насилия порождает межличностный мостик, возникающий из слов, которые мы отваживаемся произнести, обращаясь к тому, кто отваживается нас выслушать.
Мы можем назвать этот процесс «когнитивной перестройкой»[114], можем также сказать, что перестройка представлений о себе меняется в зависимости от историй и важных встреч. Когда я пытаюсь облечь в слова трагедию, унизившую меня, и доверяю ее верному другу, я удивляюсь, что мне становится лучше. Я успокаиваюсь, потому что приоткрыл свой внутренний мир, стал увереннее, что-то сделав с травмой в моей душе. Я больше не одинок, ведь мой друг услышал, посочувствовал, посмеялся или раскритиковал мою историю. Теперь мне кажется, что люди меньше преследуют меня (некоторое беспокойство все же остается, ведь я не знаю, что сделают другие с информацией, которую я им доверил). Эта перестройка репрезентации травмированного «я» влечет за собой изменение эмоций, их поведенческого выражения и интеллектуальных построений, способных придать случившейся со мной катастрофе некоторые разумные формы. Я избавляюсь от смущения, вновь начинаю управлять своей судьбой, перестаю быть сексуальной игрушкой в руках других — тем куском (stück), который необходимо бросить в печь.
Когда ребенка не поддерживают близкие, зачастую сами выступающие в роли агрессоров, он может искать ощущение устойчивости вне дома. У дяди, друга или тренера в спортивной секции. Часто в этой роли выступает преподаватель, не подозревающий об этом. Из всех стратегий, способствующих обретению ребенком устойчивости, наиболее благоприятным оказывается школа[115]. Единственное место, где он чувствует себя уважаемым, любимым, полным идей и готовым участвовать в играх на перемене.
Наблюдение за детьми, подвергшимися сексуальному насилию, до момента, когда им исполнилось тридцать, свидетельствуют, что к зрелому возрасту случившееся проявилось по-разному — в зависимости от того, насколько внимательным оказалось к ним окружение, и нюансов формирования их личности до момента шока.
Хуже всего перенесли случившееся примерно 10 % мальчиков, которые превратились во взрослых насильников с извращенной сексуальностью. Лишь 3 % девочек, подвергавшихся длительному сексуальному унижению, сами стали применять сексуальное насилие, сочетая его с процессом виктимизации вследствие серьезного расстройства личности и неумелого поведения родителей[116].
Одиночество, отсутствие поддержки после пережитого насилия, эмоциональная изоляция и отсутствие привязанности — таковы наиболее сильные причины повторения перенесенной жестокости. Когда во время судебного разбирательства насильник, стараясь облегчить свою вину, заявляет, что был изнасилован сам, часто это действительно так, однако не факт насилия над ним заставил его в свою очередь стать насильником — просто он остался один на один с собой после катастрофы или, что еще хуже, был сочтен лжецом.
Мы освобождаемся от стыда, изменяя взгляды, обращенные на нас
От 10 до 20 % жертв идут по пути неумолимого саморазрушения. Некоторые, как ни парадоксально, кажутся не сломленными и не пострадавшими в результате акта насилия. Защищенные отрицанием серьезности случившегося, внешне очень спокойные и уверяющие, что все это — рядовое событие (которое, тем не менее, оказывается — применительно к их внутреннему миру — явно значительным), они приводят в движение призраков, молча блуждающих в их душах и однажды вырывающихся наружу, принимая облик психотравматического синдрома, — это может произойти и спустя несколько лет, но так, «словно всё только что случилось». Подобные картины регулярного или отсроченного ухудшения чаще наблюдаются у детей, живущих в неблагополучных семьях.
От 40 до 75 % жертв насилия постепенно начинают испытывать облегчение: в семьях, члены которых смогли окружить жертву заботой и вниманием, мы наблюдаем детей, которым удалось восстановиться после пережитого. Они смогли взять себя в руки и озаботиться своим будущим[117]. Когда совершается подобная ментальная работа, меняется и вся личность целиком, поскольку представление о себе тоже изменяется, жизненные ценности становятся иными.
Посттравматическое созревание часто наблюдается у людей, относящихся к одной среде. Когда в семье происходит кризис, дети быстро становятся независимыми, помогают своим родителям, иногда даже начинают заботиться о них. После разразившейся катастрофы некоторые дети в течение нескольких дней учились готовить, хозяйничать и заполнять бумаги — то есть делать то, что невероятно раздражало их до момента катастрофы. Взрослым также знаком этот эффект созревания. «С тех пор как меня изнасиловали, я стала более бдительной, обращаю внимание на детей, стараюсь лучше защитить себя», — зачастую можно услышать от них. Однако следует подчеркнуть, что подобная эволюция совершается в сознании только тех переживших травму, кто был поддержан окружением. Если окружение продолжает относиться к жертве насилия уважительно, то она (вначале будучи обезличена актом насилия) «берет себя в руки», как обычно говорят.
Стратегия обретения устойчивости косвенно помогает преодолеть последствия травмы, заставляя интересоваться произведениями искусства, проявлять социальную или вербальную активность, «позволяя жертве изменить свой статус, — из жертвы насилия превратиться в притягивающий воображение объект». Жестокость в этом случае перетекает в категорию воображаемого, заставляя верить, что процесс трансформации реальности состоялся. Ребенок участвует в процессе собственной реконструкции, порой не помня о том, что ему пришлось выстрадать[118].
Когда факторы обретения устойчивости оказываются многочисленными и взаимосвязанными, число детей, находящихся в бедственном положении, в течение года с момента совершения насилия уменьшается почти вдвое[119]. Подобное облегчение не означает, что они забыли все случившееся с ними, — просто травма требует от них начать активный поиск эмоциональной поддержки извне, а также художественных произведений, представляющих собой метафорический рассказ о тех или иных травмах[120].
Принадлежность пережившего травму к семье или большому коллективу объясняет, каким образом удар, обрушиваясь на одно из звеньев цепи, одновременно атакует и остальные, разрушая единство целого[121]. Реакции окружения столь тесно взаимосвязаны, что достаточно одному члену семьи впасть в депрессию, и риск того, что от этого испытают шок остальные, увеличивается втрое. «Я сопровождал ее в комиссариат, постоянно находился рядом, — рассказывает супруг, — а сегодня чувствую, как мне плохо». Если насилуют жену, 59 % всех мужей погружаются в депрессию; если нечто подобное случается с ребенком, депрессия поражает почти 67 % родителей[122].
Наиболее очевидный фактор устойчивости, как было выявлено в результате регулярных и длительных исследований, — создание устойчивой «системы связей». Те пережившие травму, которым удалось впоследствии создать прочную пару, достигали лучших результатов с точки зрения эффекта эмоциональной защиты[123]. Защитный эффект в одинаковой степени распространяется на обоих уязвленных партнеров. Несколько месяцев адаптации — и каждый из них способен помочь другому восстановиться: «Мне становится спокойнее, когда мой муж находится здесь…», «Моя жена — мой эмоциональный хребет, я выстраиваю свою жизнь ради нее, вокруг нее. Рядом с ней я наконец-то начал жить». Взаимозащитный эффект выражается в увеличении у обоих супругов продолжительности жизни, меньшем количестве физических заболеваний и депрессий (если, конечно, речь идет о стабильных браках). Грамотно выстроенные беседы с психологом и психологические тесты отчасти свидетельствуют, что супруги ведут более правильный образ жизни и быстрее справляются с депрессией.
Мы можем пояснить это утверждение, сказав, что стабильность брака создает ощущение благополучия семьи, уверенность в партнере придает уверенность в самом себе: «Я могу рассчитывать на нее», «Он всегда был рядом, когда я нуждалась в нем». Подобное согласие снимает тоску, тревогу и позволяет лучше сосредоточить усилие на социальной стороне жизни. Переживший травму обретает в своей «второй половинке» необходимую привязанность, которая помогла ему однажды в детстве и придала сил жить дальше. Когда этой базовой уверенности не хватает, лишенному ее в браке дается второй шанс, благодаря которому он приобретает силу и спокойствие, которых ему не хватало прежде[124].
При этом «устойчивый» брак вовсе не синонимичен «качеству связи». Переживший травму, чувствующий, что рядом с надежным партнером находиться правильно, старается это делать, даже если связь оказывается сложной и требует некоторых жертв: «Допустим, он желает заставить меня отказаться от некоторых моих общественных авантюр. Мне хотелось быть журналистом, однако эта профессия вынуждает много путешествовать, что означает подвергнуть риску разрушения семью, в которой я так нуждаюсь. Значит, я откажусь от всех приключений и соглашусь окунуться в рутину рядом с ним. Это отречение стоило мне дорого, однако без мужа вся моя жизнь рухнет».
Мы часто видим, как в устойчивых браках разрушенная сексуальным насилием безопасная связь постепенно восстанавливается. Изнасилованная женщина может отождествлять сексуальность с жестокостью, от которой пытается защититься, замораживая сексуальные отношения и отвергая даже обыкновенные жесты нежности. Чувствуя себя в безопасности рядом с партнером, она принимает ухаживания и соглашается на секс, чтобы «сделать ему приятно». В устойчивых и безопасных браках сексуальность постоянно подогревается партнерами. Оценка степени привязанности в этом случае свидетельствует о повышенной безопасности и одновременно — о возможности испытывать сексуальное наслаждение[125]. Страх вновь оказаться покинутым, страдание от возможной потери близкого человека могут быть столь ощутимы, что один из супругов соглашается терпеть присутствие другого, даже если за это приходится дорого заплатить.
Бывает, что подобная чувственная сделка имеет чересчур высокую цену — если один из партнеров пытается извлечь из нее максимальную выгоду. Понимая, что его жена (муж) соглашается заплатить за стабильность, переживший травму желает слишком многого и тем самым обесценивает супруга. Когда один из супругов использует желание другого обрести стабильность и построить новые отношения, основой которых оказывается превосходство, это приводит к деперсонализации, подавленности и депрессии.
Большую часть времени понимающий супруг испытывает удовольствие, поддерживая того, кто пережил травму, он чувствует себя хорошо, когда делает хорошо своему ближнему. Этот негласный договор и приводит к формированию устойчивой пары — спокойной, уверенной в себе, взаимодействие внутри которой способствует формированию длительной безопасной связи (что отнюдь не является синонимом «поверхностности»), каждый из участников которой насыщает силами другого, не запирая его в тюрьму собственной привязанности.
Мы освобождаемся от стыда, воздействуя на любой из элементов системы
Есть и другие факторы, влияющие на пережившего травму извне, участвующие в обретении им устойчивости: одним из таких факторов является религия, играющая важную роль[126]. В культурах, где священник не распинает падшую женщину, но, напротив, поддерживает ее, пытается укрепить в ней веру, такая женщина воспринимает насилие как «внешний элемент» бытия. Нередко проникнутые состраданием члены различных неправительственных организаций страдают от психотравматического синдрома: ужас реальности провоцирует появление травм, связанных с чрезмерным сопереживанием. Религиозные общины, члены которых живут вместе, редко страдают от этого. Возможность медитации и исцеления дает им молитва, но главное — устойчивость команды и смысл, вкладываемый в веру, эффективно защищают ее членов.
Аналитический подход, позволяющий оценить вероятность обретения устойчивости после пережитого сексуального насилия, можно распространить на любую травму, даже если каждая травма имеет свои особенности[127].
Оценивая характер связей и способность к ментализации, можно прогнозировать, выберет ли жертва возможность закрыться в себе или будет искать поддержку в окружающих.
Анализируя структуру насилия, можно спрогнозировать, станет ли жертва приписывать вину внешнему агрессору или будет винить себя в том, что она невольно спровоцировала это насилие.
Наблюдая за реакцией семейной среды, исследуя структуру мифов и предрассудков общества, в котором живет переживший катастрофу человек, можно отыскать тех, кто поможет этому человеку обрести устойчивость, исцелить рану или отыскать силы, которые помешают совершиться насилию.
Этот метод исследования базируется на нескольких группах данных:
— биологических, предполагающих оценку характера связи;
— психологических, предполагающих структурирование внутреннего мира;
— социологических, представляющих исследование семей и мифов, распространенных в обществе.
Системные рассуждения охватывают сразу все группы данных, но этот метод не является комплексным. Довольно просто представить это на примере дыхательной системы: газообразный кислород проходит через легочный фильтр, а затем накапливается в альвеолах. Дыхательная система — комплексное явление, состоящее из неоднородных и невидимых элементов. Достаточно, чтобы какой-то элемент системы случайно дал сбой, и вся система перестает функционировать.
Размышления о природе стыда так же требуют системного подхода и сведения вместе разнородных данных. Выше мы описали, как чувство стыда оказывается вызванным только лишь особенностями репрезентации. Однако эмоциональная реакция на этот «образ самого себя, пропущенный через взгляд другого» может быть ощутима только телом — ведь именно тело фиксирует волнение и смятение, вызванное присутствием другого. Следовательно, самое время поразмышлять над тем, каким образом тело участвует в подобной самопрезентации.
Глава 4 Биология стыда
Стыдятся ли животные?
Однажды я имел честь быть представленным семье бонобо из зоопарка Сан-Диего. Эти карликовые шимпанзе прославились тем, что для решения возникающих между ними конфликтов совокупляются, воплощая на практике девиз Вудстока: «Люби, а не воюй».
В тот день самка требовала пищу от сторожа с такой настойчивостью, что он, раздражаясь, отправил ее гулять. В этот момент обезьяна увидела меня и вздрогнула. Я пришел за несколько секунд до этого и застал ее сидящей напротив со скрещенными лапами; у меня сложилось впечатление, что она смотрит мне прямо в глаза, размышляя, по какому праву я оказался здесь. На другой день я застал ее выпрашивающей еду и ругающейся. Закрыв левой лапой глаза, она отвернулась и… продолжала попрошайничать, протягивая вперед правую лапу.
Мы засмеялись, и сторож объяснил мне, что самка, раздираемая желанием получить пищу и смущением, вызванным моим присутствием, испытывает стыд. Следовательно, ей необходимо было найти поведенческий компромисс между своими желаниями и стремлением избежать моего взгляда.
Хорошо, допустим. Но чтобы вести речь о стыде у животных, прежде всего необходимо собрать информацию о среде обитания и проделать несколько опытов.
В каждой популяции макак в среднем 15–20 % животных в высшей степени активны — вскакивают при малейшем шуме, беспокоятся по любому поводу и без и нападают, движимые страхом. Было замечено, что с самого рождения они проявляют гиперчувствительность, затрудняющую взаимодействие с другими представителями их популяции и их собственными матерями. Всегда стремящиеся прижаться к матери, они дольше других малышей сосут молоко, что препятствует процессу овуляции у самки. Медленное восстановление самки после родов задерживает появление на свет следующего малыша и позволяет маленькому гиперчувствительному зверьку невероятно долго распоряжаться собственной матерью[128]. Однако это не совсем хорошо, поскольку подобная сверхпривязанность вызывает опасения и приводит к тому, что процесс обучения необходимым навыкам у боязливого малыша затягивается. Он не активно интересуется окружающим миром, реже других участвует в играх и ритуалах взаимодействия. Робкие малыши с трудом социализируются, оставаясь «на периферии» своей стаи и воспринимают любое приглашение к игре как проявление агрессии в свой адрес. Всякой активности они предпочитают возможность находиться рядом с матерью, свернуться клубком у нее на коленях, буквально вцепившись в нее; при этом обнаруживается амбивалентность этой родственной связи, отчего даже самая незначительная встреча с посторонней обезьяной приобретает для матери и малыша характер конфликта[129]. Налицо все признаки стресса: увеличение сердечного ритма, возбуждение нервной системы, нарушение фаз сна, увеличение уровня кортизола и адреналина в крови, снижение концентрации гормонов роста. Диада «мать — дитя» функционирует слабо: мать становится заложницей слишком привязанного к ней малыша, а малыш, зацикленный на своей связи с матерью, плохо социализируется, поскольку не способен ее покинуть.
Подобный темперамент, порождающий тесную амбивалентную связь, обусловлен генетической чувствительностью, вызванной мутацией аллели 5-HIAA[130], обнаруживаемой абсолютно у всех млекопитающих. Такие животные с трудом отстаивают свою независимость, поскольку любая попытка восприятия ими чего-либо извне порождает тревогу, переполняющую их и не дающую успокоиться иначе, как прижавшись к матери. Но и когда они прижимаются к ней, они продолжают испытывать тревогу; вот тогда-то они и впиваются в ту, которая их защищает! Это доказывает, что генетический код оказывается ослабленным в результате меньшего, чем необходимо, объема синтезируемого протеина, являющегося переносчиком серотонина в синопсис, от одного нейрона к другому. Слабое функционирование нейромедиатора иногда может быть обусловлено также присутствием некоторых химических соединений (резерпина, интерферона, бета-блокаторов), вызывающих депрессивное состояние, с которым, впрочем, можно бороться, давая животному другие препараты, способствующие увеличению в крови уровня сератонина (амфетамины, антидепрессанты).
С самого рождения маленькие макаки, испытывающие недостаток серотонина, одинаково негативно воспринимают любую информацию извне. Даже солнце, светящее в глаза, для них является проявлением агрессии, от которой они пытаются защититься[131]. Тогда как 80 % остальных обезьян, у которых уровень серотонина в норме, воспринимают тот же солнечный свет, как нечто удивительное, вызывающее желание в игровой форме приняться за исследование окружающего пространства.
Генетика не тоталитарна
Связи внутри двух разных групп макак сильно различаются. Малыши, готовые конфликтовать, чувствуют дискомфорт, а когда они подрастут, им трудно занять более высокое место в иерархии стаи. Характер их поведения предопределен генной мутацией, в итоге оказывающей влияние на социальное становление. Достаточно ли этого, чтобы говорить об общих закономерностях существования? Многие животные дают нам понять, что этот частичный детерминизм — недостаточное объяснение жизненной траектории. Робкие обезьяны, готовые лезть в драку из страха, испытывают недостаток серотонина. Однако этот дефицит скорее наследуемый, чем наследственный[132]. Это напоминает ситуацию, когда больная или пережившая травму мать (будь то нападение сородичей или просто проявление резкости с чьей-либо стороны) старается сделать так, чтобы ее малыш оказался в безопасности: в уютном «эмоциональном уголке», где любая информация воспринимается, как знак тревоги. «Трудные» взрослые сами проявляют агрессию по отношению к ребенку, ведомые страхом, уча его, таким образом, отвечать им столь же агрессивно. То же самое можно наблюдать у представителей популяции обезьян, собак и чаек, которые находят себе «козлов отпущения». Эти «избранные», поскольку их мать или бабушка когда-то пережила травму, становятся отщепенцами внутри своих стай.
Робкие, плохо социализированные матери также демонстрируют опасную сверхпривязанность. Они охраняют малышей, находясь рядом с ними, препятствуя им исследовать окружающий мир[133], они приписывают любому событию заведомое свойство пугать их малыша. Неважно, из-за чего эти матери испытывают робость: в результате генных мутаций, слабого стимулирования их самих в детстве или дезорганизации, явившейся следствием травмы, перенесенной их матерью или бабкой, — результат для малыша всегда одинаковый: любая новая информация воспринимается им как сигнал тревоги. Он может в испуге убежать прочь, застыть неподвижно в результате резкого упадка сил или, испугавшись, напасть на «агрессора», который вовсе не собирался нападать на него.
Другие новорожденные макаки, у которых с уровнем серотонина все в порядке, в раннем возрасте были разлучены с матерями, вскармливались с помощью бутылки, а затем их поместили в среду им подобных, в контакте с которыми они в дальнейшем и развивались. Став взрослыми, эти обезьяны, теснейшим образом связанные с коллективом, так же мало, как и остальные члены коллектива, интересовались окружающим миром; более того, они начали испытывать страх, хотя генетически имели полнейшую предрасположенность к тому, чтобы оставаться открытыми и дружелюбными. Генетические особенности оказались менее значимы, чем эмоциональная данность, сообщаемая непосредственным окружением. Особи, сделавшиеся уязвимыми благодаря тому, что в раннем возрасте были разделены с матерями, привязались к своим товарищам. Однако успокаивающий эффект этой связи — более низкий по сравнению с эффектом, который возникает в результате связи с матерью, — спровоцировал болезненную сверхпривязанность[134]. После нескольких месяцев трудного развития макаки оказались на нижней ступени иерархии стаи, повторив путь малышей, испытывавших недостаток серотонина. Слабо уязвимые в генетическом плане, они, тем не менее, оказались уязвимыми на эпигенном уровне!
Следует отметить, что испытывавшие недостаток серотонина малыши, если бы их так же рано разлучили с матерями, восприняли это, как настоящую катастрофу. Замена типа привязанности была бы недостаточным условием, чтобы позволить им выстроить прочные связи с окружающими. Малейший стимул вызвал бы у них невероятное чувство испуга, с которым они могли бы справиться единственным способом — напав на агрессора.
В этих отношениях пол животного определяет ответную реакцию — эмоциональную и поведенческую. В случае утраты партнера активность — за счет внутренних ресурсов — быстрее восстанавливается у самок, тогда как самцы теряют контроль над своими импульсами. Когда и тем, и другим предлагают помощь извне, самки быстро успокаиваются, а самцы по-прежнему долго не могут справиться с переполняющими их эмоциями.
Наблюдения за млекопитающими показывают, что и другая схема тоже верна: гиперчувствительное животное, которое старается прилепиться к кроткой матери, не столь живо, по сравнению с другими, реагирует на происходящее вокруг, в результате чего развиваются способности к взаимодействию с членами стаи, то есть процесс социализации становится более интенсивным.
Итак, невозможно объяснить вышеназванный эффект лишь какой-то одной причиной и приписать всю его силу единственному детерминанту. Нельзя сказать: «Его уязвимость проистекает от слабой секреции серотонина». Но также нельзя утверждать, что «это животное в трудный период жизни сохраняет устойчивость, поскольку имеет к этому генетическую предрасположенность, основанную на выработке большого количества серотонина». Подобные эксперименты скорее побуждают нас думать, что совпадение генетических, эпигенетических, экологических и социальных детерминантов обусловливает единственный очевидный результат: реакцию на потерю. Млекопитающее с небольшим уровнем серотонина в крови, не склонное к играм и исследованию окружающего пространства, ведет мирное существование, если мать находится рядом, а окружение ведет себя стабильно. Совсем иное дело — разделение или потеря, в результате которых спокойное существование нарушается и повторное равновесие достигается с большим трудом. Случается так, что мать вскоре после родов умирает или пропадает в результате какого-либо несчастного случая. Вопреки ожиданиям, малыши не демонстрируют тревогу, поскольку у них еще не было времени выстроить связь с матерью и они не воспринимают ее исчезновение, как серьезную утрату. Эта ситуация, заведомо не предполагающая проявления активных эмоций, приводит к замедлению процессов метаболизма и сердечного ритма у малышей, которые имеют к этому почти биологическую предрасположенность. Позднее, когда им предлагают другую мать, они развиваются медленно, поскольку их организм научился медленнее реагировать на все происходящее вокруг[135]. Таким образом, характер выстраиваемой связи влияет на формирование биологических реакций, и если случается какое-либо происшествие, препятствующее развитию животного, то и характер этой связи делает этот организм более устойчивым[136].
Темперамент животных — смесь генетических и эпигенетических данных — определяет стратегию существования. Постепенно взаимодействие между организмом и тем, что его окружает, приводит к выработке устойчивости или препятствует его появлению. Значит, вы вправе полагать, что реакция людей (чьи межличностные связи зависят от особенностей организма, уклада, заведенного в семье, а также вербального выражения общественных и культурных принципов) — испуг или проявление смелости — имеют еще более однородный характер.
Персональная уязвимость зависит от эмоций окружения
Если не рассматривать человеческие существа, феномен резонанса может изменять то, что заложено генетически. Когда экспрессия одной особи в восприятии другой оказывается сильно преувеличена, одно и то же событие для обоих имеет разное значение. Случается, что питомец часто чересчур эмоционален, поскольку его гены плохо настроены на выработку протеина, являющегося переносчиком серотонина[137]. Данная биологическая слабость способствует выработке страха, но не является свидетельством грядущей катастрофы развития в мире людей, поскольку все зависит от того, какие отношения выстраивает окружение с ребенком, столь легко поддающимся испугу.
Многие матери смягчаются, если их ребенок плачет. Они испытывают невероятное удовольствие, стискивая его в объятиях и ощущая, как он успокаивается в ответ на нежность. Это материнское удовольствие, вызванное плачем малыша, дает женщине силу создать вокруг ребенка безопасное пространство. Прильнув к ней, ребенок учится тому, что это пространство безопасно. Однако события прошлой жизни порой вынуждают мать относиться к детскому плачу с агрессией: «Когда он плачет, то напоминает мне о мужчине, изнасиловавшем меня, — ведь в результате того случая и появился ребенок». В подобном контексте демонстрация ребенком тревоги не вызывает прилива нежности, а, напротив, будит в голове матери болезненные воспоминания. Ответы на соответствующую репрезентацию — жестокие или безнадежные. Несчастье матери трансформировалось в небезопасное окружающее пространство. Если у ребенка все в порядке с серотонином, он — в результате контакта со своей не внушающей чувства безопасности матерью, — как минимум, станет боязливым и будет рассчитывать лишь на собственные силы. Однако если уровень серотонина в его крови невысок, отсутствие безопасного пространства приведет к настоящей катастрофе детского развития.
Между уязвимой матерью и устойчивым ребенком может образоваться болезненная сверхпривязанность. Подобная транзакция встречается нередко и объясняет удивительное поведение тех детей, которые, начиная с восьми лет, принимают на себя заботу об уязвимом родителе, становясь родителями для собственных отцов и матерей[138]. Случается и наоборот: боязливый ребенок часто провоцирует возникновение между родителями болезненной сверхпривязанности. Случается даже, что история взаимоотношений родителей приобретает странное сходство с темпераментом ребенка: «Я могу любить лишь больное дитя, поскольку мне необходимо кому-то дарить свою заботу. Здоровый ребенок меня не интересует». Вспоминаю одного отца, мечтавшего иметь крошку дочь и нежно о ней заботиться. В восемь лет девочка думала только о футболе и хотела стать боксером, вызывая этим у отца жестокое разочарование.
Представьте сценарии возможных транзакций — они объясняют все. А различные траектории движения сообщают будущему развитию этих сценариев дополнительную вариативность. Мадам М. раздражала болезненная привязанность к ней ее маленького сына. «Постоянно под юбкой… подхалим… иди играть куда-нибудь еще…» — эти в прямом смысле отталкивающие фразы усиливали у ребенка, пытавшегося выразить свою привязанность то скуля, то ластясь к матери, чувство незащищенности. Так было до того дня, когда он сломал ногу. Теперь он воспринимался матерью иначе — забота о нем стала одной из насущных потребностей; мать теперь относилась к нему со столь же болезненной заботой, с которой прежде этот гиперчувствительный малыш относился к ней. Не было ни малейшего смысла сохранять дистанцию в отношениях. Даже напротив — между матерью и ребенком возникла вполне мирная связь.
Те, кто рассуждает, оперируя методом линейной причинности, рискуют сделать вывод, будто ребенку — чтобы мать полюбила его — нужно сломать ногу. Однако те, кто пытается размышлять системно, решат иначе: что именно совпадение факторов и приводит к формированию устойчивой связи. Тот, кто привык опираться на простые причинно-следственные связи, может сделать следующий вывод: «Скажите мне, откуда все это взялось… Договоритесь между собой…» Подобная диалектика обычно используется в медицине: жар — это симптом, который имеет различные причины возникновения, например активная пробежка, инфекция, обезвоживание или сильные эмоции. Страх, возникающий при самой незначительной тревоге, — эмоция того же рода. Если говорить о робости, то тревога обычно возникает в результате какой-нибудь встречи, когда, как кажется испытывающему робость, он не был на той высоте, которой ожидал от него собеседник. То есть этот собеседник способен управлять нами, плохо думать о нас и даже раздавить.
Робость — эмоция, ощущаемая телом и вызванная представлением о нашем «я» со стороны других. Потому-то можно полагать, что чувство стыда возникает только, когда развитие ребенка сообщает ему способность к эмпатии и способствует выработке представления о себе на фоне других: «Такие „социальные“ эмоции, как вина, стыд, смущение, появляются у ребенка, живущего в современном обществе, к трем годам и только после того, как ребенок начинает воспринимать себя как индивидуальность, находящуюся среди других индивидуальностей»[139].
Гиперчувствительный организм имеет больше возможностей усвоить эту робость, которая осложнит формирование связей. Однако если окружение создает вокруг него безопасную обстановку, чувствительность способствует формированию «сдержанных» связей, которые кое-кто, впрочем, считает удобными. Но если с таким ребенком случается травма, незащищенность провоцирует настоящую катастрофическую реакцию, психическую агонию.
Напротив, организм, генетически не склонный к переживаниям и при этом слабо защищенный в процессе развития, приобретает склонность стать уязвимым. Если с ним случится травма, он отреагирует на нее как на нечто душераздирающее. И тот же самый организм, поддержанный активными межличностными связями в первые месяцы жизни, не только окажется устойчивым к разрывам, но и легко восстановится, если окружение защитит его. Именно поэтому некоторые даже говорили о существовании «гена устойчивости»[140], хотя даже в этом случае необходимо, чтобы сформировавшиеся до момента наступления травматической ситуации межличностные связи усилили биологическую данность, позволив ребенку лучше преодолевать испытания. После разрыва необходимо, чтобы окружение предложило ему наставников, которые помогут вновь обрести психологическую устойчивость, окружат активной заботой травмированную душу, обезопасят ее бытие, предложат ребенку проект дальнейшего существования.
Подобный способ размышления исключает любую линейную причинно-следственную связь: генетическая предрасположенность не является чем-то незыблемым, травма отражается на истории жизни, но не обязательно определяет весь дальнейший путь человека.
Любовь как метод социализации
«Теория привязанностей» предлагает метод этологического наблюдения — мониторинг, основанный на вопросах из области клинической психологии и введении ряда экспериментальных данных: были выбраны 112 «робких» детей в возрасте пяти лет[141]. Родители и воспитатели должны были зафиксировать несколько случаев проявления робости: ребенок отводит глаза, опускает голову, закрывает лицо ладонями, прячется за спиной матери или под предметами мебели, уходит подальше от других детей. Статистически выверенный опросник демонстрирует суть формирующихся между детьми и их окружением связей и позволяет описать различные типы этих связей: безопасные, уклончивые, амбивалентные и неочевидные. Наконец, после года наблюдений, всех детей, которым теперь исполнилось шесть, еще раз опросили, добавив к прежнему материалу новый — различные вербальные и поведенческие действия, имеющие прямое отношение к взаимодействию с испытуемыми: взгляд в глаза, близость, прикосновения и игры.
Результаты были однозначными. Дети, чьи связи с окружающими людьми оказались безопасными, охотно шли на вербальный контакт и всем своим поведением выражали желание взаимодействовать. Они слушались взгляда воспитателя, играли с товарищами. Благодаря выстроенным эмоциональным связям, процесс обучения таких детей протекал довольно легко.
Дети с амбивалентными связями меньше готовы были взаимодействовать с окружающими, больше конфликтовали, — что было ожидаемо.
Дети, которых отнесли к группе «робких», крайне мало взаимодействовали с окружающими людьми и столь же редко конфликтовали, не проявляя ни малейшей инициативы. Мудрые не по годам, они были отодвинуты в сторону, держались поодаль от коллектива — и охотнее, чем дети-«уклонисты», ловили брошенные на них взгляды, соглашались поиграть или пообщаться.
Подобное проявление робости может развиться в чувство стыда, когда ребенок окажется способным совместить представления о самом себе с представлениями других. К четырем годам он думает почти следующее: «От взглядов других мне становится дурно. Мне кажется, что они злятся на меня, — это все из-за их пренебрежительного мнения обо мне. Я чувствую себя плохо, когда другие на меня смотрят».
Чтобы поразмышлять над этими странными доводами, облечь в логичную словесную форму чувство, будто «другие смотрят на меня пренебрежительно», нужно иметь доступ к межличностным связям. Это «перекрестное» чувство возникает задолго до слов. Как только другой вторгается в ментальный мир младенца, младенец — в возрасте двух-трех месяцев жизни — начинает бояться, чувствуя на себе чужой взгляд. Он отводит глаза и закрывается рукой, чтобы не видеть того, кто на него смотрит. Однако большинство детей «бесстыдно» выдерживают взгляд других, ничуть не смущаясь. Разумеется, они не испытывают чувство стыда только потому, что еще не научились соотносить взгляды и слова. Они еще не испытывают смущение, которое может возникнуть в голове другого от простого факта, что кто-то выдержал его взгляд. Взрослый говорящий смотрит на своего визави «мельком», стараясь не смутить, а визави (другой взрослый, воспринимающий информацию) — более пристально[142]. Но если эти двое не равны между собой, тогда говорящий, наоборот, смотрит на собеседника пристально, а тот избегает встречаться с говорящим взглядом — совсем как в армии, когда подчиненный обязан смотреть лишь прямо перед собой, или во время судебного заседания, когда обвиняемый смотрит в пол[143].
Соотнесение взглядов и слов — результат культурного влияния. Подросший ребенок спонтанно опускает взгляд, и тогда взрослый (если дело происходит на Западе) говорит ему: «Смотри на меня, когда я с тобой разговариваю»; это означает — он хочет, чтобы ребенок понял, кто из них двоих главный. В большинстве других культур взрослые соглашаются с тем, что ребенок отводит глаза, для них смотреть друг другу в глаза порой означает спорить, соперничать. Подобные сценарии межличностных отношений — до— и вневербальны, как в немом кино.
Мимика тоже участвует в этих бессловесных беседах. Вспоминаю одного ребенка из «Ассистанс публик», спавшего (в конце Второй мировой войны) на соломе возле ямы с нечистотами. Он был невероятно грязен, черен от зловонной жижи и мылся только тогда, когда уровень нечистот доходил до него. Он не страдал от этого, поскольку в те трудные годы семилетний мальчик был незаметным, кто бы стал на него смотреть? Говорить с ним? Но однажды появилась некая городская дама, которая решила, как тогда говорили, «взять шефство» над ребенком и забирать его из «Ассистанс…» по воскресеньям. Она любезно постаралась поскорей вымыть его и переодеть в чистое, но когда увидела, что там, под этим грязными лохмотьями, она не смогла скрыть гримасу отвращения. И вдруг ребенку стало стыдно того, что эта дама на него смотрит. Он впервые понял, что грязен и вонюч, — раньше, когда вокруг никого не было, он над этим даже не задумывался. И он ощутил враждебность по отношению к этой благородной даме, которая, желая помочь, только что унизила его. Ненависть, несправедливая в этом случае, может расцениваться как фактор защиты от стыда. Гиперчувствительный или испытывающий недостаток эмоциональных привязанностей ребенок не имел бы силы испытывать ненависть. Он отреагировал на происходящее с чувством безнадежного стыда. Он захотел бы «провалиться сквозь землю», спрятаться в воображаемой норе, чтобы только не видеть этот унизительный взгляд, гримасу отвращения. Ненависть стала его попыткой сохранить самоуважение, подавив стыд, однако не изменила неудачно выстроенную связь в лучшую сторону.
Ребенок, чья гиперчувствительность обусловлена генами, во время любой встречи испытывает страх, едва поддающийся контролю. Он прячет глаза, чтобы только не видеть того, кто на него смотрит, однако если раньше он обрел эмоциональную поддержку, которая теперь помогает ему преодолевать испуг, то он продолжает внимательно ловить чужие взгляды, заботится о своем поведении «на людях», заставляя себя соглашаться с другими, становится рассудительным конформистом, примерным учеником, впоследствии верным супругом, чутким и уравновешенным. Если вдруг он попадает в травмирующие обстоятельства, он болезненно переживает их, однако выработанный им стиль привязанностей, умение выстраивать их позволят ему вернуться на путь устойчивого развития; главное — чтобы окружение предоставило ему нескольких наставников, которые обеспечат психологическую защиту, помогут двигаться дальше.
Наша манера поведения еще долго хранит остатки былой робости, являющейся признаком стыда. Многие дети прячутся за спиной матери, когда появляется незнакомец; многие подростки боятся представиться — настолько они опасаются, что ими станут управлять; многие женщины прячут лицо в ладонях, когда им рассказывают дерзкие истории; и все мы, испытывая грусть, торопимся кинуться на постель и зарыться в подушку, чтобы никто не видел наши страдания.
Привязываются не к самому милому и не самому образованному, а к тому, кто обеспечивает нам безопасность
Едва мы рождаемся, как наши эмоциональные и поведенческие реакции перестают зависеть от какой-либо одной причины. Эмоциональная окраска того, что мы воспринимаем, связана с выражением эмоций теми людьми, которых мы любим. Страх няни пугает малыша, еще не знающего, что такое хорошо и плохо. Когда в первые месяцы жизни он замечает какой-либо предмет, страх или радость, выражаемые его матерью, служат поводом относиться к этому предмету, как к чему-то отталкивающему или притягательному. Ребенок отвечает на эту реакцию окружения стремлением исследовать или избегать предмет[144].
Однако малыши вовсе не являются пассивными реципиентами. Испытывающие недостаток серотонина, вздрагивающие, сверхэмоциональные (вокруг которых спокойные матери создают безопасное пространство), они в конце концов решают, что замеченный ими предмет — нечто забавное, побуждающее продолжить его исследование. Но если с матерью случается какая-то беда, тревожные малыши, никогда не ощущающие себя в безопасности, воспринимают тот же самый предмет со страхом, ошеломляющим и заставляющим паниковать.
Это замечание не претендует на объяснение закономерностей поведения — желания исследовать или страха перед предметом (явлением); их нельзя объяснить лишь генетической предрасположенностью. Мы не можем более рассуждать так, поскольку радость или страх, которые исходят от предмета, связаны с историей жизни матери.
Подобное замечание позволяет понять, почему «гордость притягивает, а стыд отталкивает»[145]. Когда ребенок постоянно одерживает маленькие победы: набрасывается на протягиваемую ему ложку с пюре, делает первые шаги, методично бросает в сливное отверстие маленькие камушки, эмоциональная реакция окружающих (восторженные восклицания) свидетельствует о том, что он совершил маленький подвиг, доставив им удовольствие. В этом случае его смелость и наша ответная реакция взаимно притягиваются, рождают связь. И наоборот, если любая попытка исследовать мир вызывает родительский гнев, если неудача приводит к отчаянию, ребенок начинает бояться взгляда тех, кто должен был защитить его.
Раз уж мы используем слово «смелость», чтобы охарактеризовать впечатления от маленькой победы, одержанной десятимесячным ребенком, почему бы не использовать и слово «стыд»? У этих слов есть скрытый смысл, который нам известен: так же как смелый ребенок стремится попасть на всеобщее обозрение, стыдящийся пытается скрыться в тени, спрятаться, провалиться сквозь землю. Подобная реакция избегания отодвигает его на периферию коллектива, изолирует от других, заставляет остро переживать неизбежные пре-вербальные запреты (нахмуренные брови, отстраненность, шепот «тссс-тссс», срывающийся с губ другого); он относится к этому, как к чему-то устрашающему. Мир взялся за стыдливого малыша, поэтому он испытывает страх при каждой встрече с людьми. Приобретенный, пре-вербальный стыд сообщает выстраиваемым ребенком связям периферийный характер, что тормозит его социализацию. В то время как смелый малыш помещает себя в центр детского коллектива или старается быть ближе к влиятельному взрослому, стыдливый держится на расстоянии от любого обмена жестами и словами, означающими эмоции.
Меньше участвуя в играх и обмене предметами (обрывки веревочек, кусочки пирожных), он плохо усваивает ритуалы межличностных отношений и чувствует себя управляемым смелыми малышами. Они заставляют его бояться, а он хочет быть таким, как они. Любое — поведенческое, эмоциональное или словесное — доказательство нормального развития ребенка у стыдящегося приобретает характер далекой и неясной цели — хрупкой, горькой и небезопасной. Малейшее событие рискует превратиться в невидимую травму.
Счастье и неосознанные стремления. Стыд и мораль
Отсутствие чувства стыда у маленьких детей, нисколько не озабоченных тем, как их воспринимают другие, вряд ли может омрачить их существование. «Малыш свободен от морали, он не обладает внутренним замедлителем своих импульсов, рассчитанных на получение удовольствия»[146], — утверждал Фрейд. Ощущая потребность или импульс, ребенок обращается к окружающим, не думая о том, какую реакцию вызовет. Начиная оценивать то, как его эмоциональные импульсы воспримут другие, дети знакомятся с чувством стыда, и это — исток морали! Превербальный стыд становится способом взаимодействия, когда малыш чувствует себя физически подчиненным другому. Вербальный стыд проявляется тогда, когда ребенок чувствует себя уничтоженным суждением другого, и с этого момента он больше не может позволить себе все что угодно! Внутренний тормоз изменяет характер управляющих его поведением импульсов, отныне ребенок должен иметь в виду существование чего-то невидимого, но ощутимого: ментального мира другого. Утратив немного былого нарциссизма и выстроив связи, ребенок учится вести себя, так чтобы иметь возможность защититься.
Еще до соприкосновения с рамками Закона, малыш узнает о существовании границ. Будучи малочувствительным к взглядам других, он не научится сдерживать свои импульсы на превербальной стадии — как не способен на это извращенец или психопат. Но если, наоборот, он оказывается слишком чувствительным, то он рискует признать превосходство мира другого и слишком замедлиться в своем развитии.
Следовательно, умеренное чувство стыда — доказательство правильного биологического созревания и развития реляционистских способностей. Сильный стыд будит чрезмерную чувствительность, которая граничит с тенденцией к деперсонализации — готовностью уступить свое место другому. Что касается полного отсутствия чувства стыда, то оно свидетельствует об остановке развития и неспособности представить мир другого человека подобным своему собственному.
Нейробиология гнева легко локализуема. Когда связь приобретает характер, провоцирующий эмоциональное кипение, можно наблюдать электрический и физиологический всплеск всех признаков тревоги. Сердце начинает биться учащенно, давление растет, сосуды расширяются, отчего мы краснеем, мозговые ритмы десинхронизируются, а количество вырабатываемого гормона стресса неимоверно возрастает. Одна из зон головного мозга вдруг принимается функционировать вызывающе энергично: мозговые миндалины становятся красными[147]. Радость, отвращение или печаль провоцируют выработку других гормонов и включают соседние мозговые отделы. Причина остается прежней: восприятие объекта и значение, которым этот объект обладает для нас в контексте истории нашей жизни, включают процесс органических преобразований. Когда мать грустит, какой бы ни была причина ее грусти, выражаемые ей эмоции обволакивают ребенка, подобно обедненному чувственному кокону, стимулирующему слабую мозговую активность и процессы функционирования нейроэндокринной системы. Материнская грусть искажает «естественное зеркало» малыша и наблюдаемые им там отражения[148]. Чувствуя себя менее защищенным, малыш старается нивелировать свое «я». Доверяя меньше, он ощущает превосходство других над собой.
Это ощущение изменяет биологические реакции: любой процесс восприятия порождает тревогу, любая встреча вызывает страдание. Измененный обеднением эмоциональной ниши организм создает представление о себе, лишенное какой-либо ценности.
Испытание стыдом является совпадением нескольких причин. Генетическая предрасположенность к стыду может быть скорректирована сенсорной нишей, возникающей в первые месяцы жизни. Взрослый может жестами или мимикой как поддержать, так и подавить малыша. Позднее, когда ребенок научится говорить, источники стыда могут быть иными — чувство самообесценивания, возникающее, когда он слышит разговоры членов семьи или окружающих, а также мифы и предубеждения, порождаемые культурной средой. Источник превербального стыда меняется, когда мать получает поддержку. Источник вербального стыда меняется, когда меняется отношение к предмету обсуждения.
У животных совпадение разнородных детерминантов может вызывать ощущение того, что ими управляют. У людей подобное слияние факторов способно породить ощущение самообесценивания. Данное различие закрепляется фактом, что результатом восприятия является какое-либо ощущение, тогда как чувство проистекает из эмоции, зародившейся в теле, но вызванной определенным типом репрезентации.
Нейробиология приобретенной робости
Нейрообразность позволяет нам утверждать, что, каким бы ни был источник страдания, физической боли или ментальной репрезентации, во всех случаях стимулируется один и тот же отдел мозга, который направляет телу одну и ту же неприятную информацию[149]. Неприятное физическое ощущение обладает адаптивной функцией, сравнимой со стрессом. Когда человек охвачен тревогой, с которой он не может справиться, ответной реакцией становится паника или резкий упадок сил. Но если ему не знакомо такое явление, как стресс, его онемевший организм воспринимает малейшую стимуляцию извне, как сигнал тревоги. Боль способствует созреванию — при условии, что организм научится ее переносить. Часто животное, подвергавшееся насилию в период своего развития, старается подчиниться своим собратьям при малейших признаках взаимодействия. Животное, никогда не подвергавшееся насилию, не имевшее причин учиться тормозить свои импульсы, легко демонстрирует свою агрессивность. В двух этих крайних случаях социализация (применим этот термин) не является благим делом. Животное, постоянно подвергающееся насилию, приспосабливается жить, подчиняясь другим. То же касается и человека, который вследствие такого подчинения постоянно пребывает в состоянии стресса и оказывается внизу социальной лестницы. Если животное никогда не подвергалось насилию и пытается демонстрировать агрессию при каждом удобном случае, то оно может быть побеждено более сильной особью; если же агрессию демонстрирует человек, то в итоге он окажется в одиночестве, вдали от остального коллектива, так и не научившись жить в нем. Подвергавшийся насилию находится в самом низу социальной лестницы, потому что он беспрекословно принял необходимость подчиняться; не подвергавшийся насилию оказывается на периферии коллектива из-за своей неспособности участвовать в ритуалах взаимодействия между членами этого коллектива.
У млекопитающих страх имеет воспитательное значение. Малыш, напуганный непонятным происшествием, вскакивает и прячется, ища защиту у матери, к которой он прижимается, поскольку мать олицетворяет для него безопасность. Это отчасти объясняет, почему котята и тигрята, вскормленные с помощью бутылки с соской (то есть лишенные матери), вырастая, становятся крайне агрессивными. Бывает, что животных отдают на вскармливание самкам кошек и собак[150]. Когда детеныш, отдавшись порыву, умудряется слишком сильно покусать свою приемную мать, она отвечает ему угрозой — издавая беспокойное рычание или отталкивая его. Наказанный (отвергнутый), но избежавший травмы малыш снова принимается играть, но теперь он понимает, где находится граница дозволенного: таким образом он научается не позволять себе все, что вздумается. Агрессивная мать подавляет малыша, тогда как небрежная мать, не испытывающая поведенческого страха, мешает ребенку быть в должной степени социализированным. Окружение (друзья в человеческом мире) играют в этом процессе эмоционального замедления роль часто более радикальную, чем мать. Мать лишь провоцирует детеныша (ребенка) на краткую эмоциональную ответную реакцию, тогда как окружение может втянуть его в настоящую драку.
Тигренок — не человеческий детеныш, и все же мы обнаруживаем у него тот же архаичным образом устроенный мозг, отвечающий за функции выживания (есть, пить, спать, защищаться и размножаться); те же механизмы тревоги (химические вещества, отвечающие за чувство тревоги или спокойствия); наблюдаем те же сценарии привязанности (которые стремимся развить сами) или отчаяния, сбивающего с ног. Эвристический эффект поведения животных, благодаря перечисленным гипотезам и методам, позволяет нам лучше понять, что происходит с человеческими существами. Потеря чувствительности на ранней стадии развития, обеднение этой ниши вследствие ухода (исчезновения) матери или ее постоянной депрессии, в результате чего слишком мало нейронов головного мозга оказываются задействованными, вызывают фронтальную атропию и практически полное прекращение выработки окситоцина[151]. Ребенок, растущий в такой обстановке, теряет радость жизни, возникающую под действием окситоцина, и становится эмоционально индифферентным.
В лабораторных условиях в ситуацию «социальной угрозы» были помещены генетически здоровые и выросшие в безопасной среде крысы[152]. Животные проявили себя по-разному. Часть крыс не справлялись с ситуацией, другие выглядели более уверенными. Затем всем животным была впрыснута в лапу небольшая доза формалина — вещества, вызывающего неприятные ощущения. Крысы, которые чувствовали себя уверенно, реагировали на инъекцию следующим образом: четыре-пять раз подряд встряхивали лапкой, а потом возвращались к своим обычным занятиям, как будто ничего не произошло. Те же, кто пережил серию неудач, трясли лапкой пятнадцать-двадцать раз и возвращались к своим занятиям, действуя более осмотрительно: старались избегать встреч с себе подобными и прекращали поиски еды, словно были травмированы.
Можно ли сказать, что здоровое животное, которое на своем жизненном пути сталкивается с постоянными неудачами, в конце концов начинает испытывать склонность к гиперальгии? Одна и та же концентрация гормона вызывает меньше боли у крепких животных, росших в безопасности, и больше страданий у них же, если животное вдруг ослабевает. Данная гипотеза базируется на высоком уровне холецистокинина (ХЦК) у всех живых существ, наблюдаемом в ситуации утраты защищенности[153]. Следовательно, одна и та же информация может вызывать реакции различной интенсивности — в зависимости от нюансов существования животного до момента испытания. Те, чье окружение создало благоприятную, безопасную обстановку, смогли быстро восстановиться после травмы, поскольку у этих особей загодя сформировался драгоценный фактор устойчивости. Если животные до получения травмы находились в изоляции, та же самая травма переносилась ими гораздо тяжелее, вплоть до утраты способности наслаждаться жизнью. Неудачные попытки выстроить связи порождают чувство «самоослабления». Подобное самовосприятие заставляет реагировать на любую поступающую извне информацию через призму гиперальгии: мир неразрывно связан с ощущением боли.
Совпадение всех этих факторов уязвимости объясняет, почему страдает «козел отпущения». Если особь — животное или человек — имеет генетическую предрасположенность к слабой выработке серотонина, если эта предрасположенность к гиперчувствительности омрачена проблемами родителей или воспитателей, если обстоятельства жизни постоянно заставляют оказываться в ситуации социальной неудачи, — тогда самое незначительное событие будет восприниматься болезненно. Если организм ослаблен излишком генетически обусловленной чувствительности, любой нейросигнал приводит к увеличению концентрации ХЦК, жадно поглощаемого лобными долями. Известно, что этот отдел мозга связан с процессом предвидения, а искажение, нарыв, опухоль подавляют способность прогнозировать. Небольшая лобная стимуляция холецистокинином вызывает упреждающую панику, которую можно назвать «страхом будущего» или даже «боязнью смерти». Длительные искажения реляционистского характера, связанные с увеличением концентрации ХЦК у человека, стимулируют лобные доли и вызывают чувство тревоги: «Я чувствую: что-то должно произойти». Развивающийся в подобных условиях ребенок учится воспринимать любую встречу как потенциально возможную угрозу, невыносимый сверхсигнал, репрезентацию тоскливой пустоты, против которой он защищается, стараясь увернуться от нее любой ценой. Подобный тип эмоциональных реакций, побуждающих ребенка «провалиться сквозь землю» и объясняющих, почему стыдящиеся оказываются в ситуации самоизоляции, испытывают патологическое одиночество, можно назвать «робостью», «страхом» или «стыдом». Мы же назовем его «прото-стыдом», поскольку на этой стадии развития эмоции ребенка пока еще не продуцируются рассказыванием.
Социализирующая функция физического страдания
Страдание выполняет социализирующую функцию: каким бы оно ни было, физическим или реляционистским, его порождает один и тот же отдел головного мозга (передняя поясная кора), отправляя телу неприятную информацию, корректирующую биологические реакции[154].
Чувствительное живое существо, обласканное или, наоборот, ощущающее себя недооцененным повторяющимися неудачами в выстраивании связей, в итоге начинает воспринимать любую встречу с оттенком страдания. Во время любого конфликта оно убегает, прячется, неподвижно замирает или, движимое страхом, нападает — и в итоге оказывается в самом низу социальной лестницы, вне коллектива, своего рода «козлом отпущения».
Люди, утверждающие, что боль имеет социализирующий эффект, сделали из этой теории средство воспитания. Они выдрессировали некоторых животных, а потом, уверенные, что воспитание мальчиков по сути своей не отличается от дрессировки диких зверей, стали сражаться за возможность дать им «лучшее» воспитание. Девочки подверглись влиянию другого предубеждения: не получив образования, они неизбежно должны были бы стать проститутками; достаточно заставить их стыдиться своего пола, и их можно подчинить, заведомо отведя им в супружеской паре и в коллективе второстепенную роль. Социальный порядок долгое время выстраивался посредством страдания и стыда, настолько явный воспитательный эффект имеют эти чувства.
Механическая мысль заключается в следующем: поскольку воспитываемые с применением силы мальчики и стыдливые девочки в конце концов занимают в обществе то незначительное место, которое им заранее отведено, достаточно просто избавить их от боли и стыда, чтобы они раскрылись и стали счастливыми.
Мы знаем, что ребенок, не испытывающий страха, не имеет необходимости привязываться к кому-либо[155]. Когда окружение ребенка стабильно, все обстоит замечательно, но в случае стресса ребенок не научится защищаться. Сверхзащита сделала его уязвимым. Конечно, чтобы ребенок почувствовал себя несчастным, достаточно постоянно проявлять по отношению к нему агрессию или лишить его чувства безопасности. И тогда, чтобы сделать его счастливым, достаточно избавить его от всякого страха. Он окрепнет, когда научится справляться со страхом благодаря присутствию рядом с ним кого-то из членов семьи. Когда безопасная связь учит ребенка владеть собой, он ощущает силу и спокойствие в душе: в связи с другим, при поддержке других он черпает силу для самозащиты.
Вызывающая эйфорию сверхзащита усиливает работу опиоидной системы эндокринных желез. Молодое животное, которому впрыскивают опиаты, в конце концов перестает исследовать окружающее пространство и взаимодействовать с другими особями[156]. Тигренок, выкормленный соской и постоянно окруженный людьми, восхищающимися его красотой и кошачьей грацией, оказывается в аналогичных условиях. Подобная ситуация стимулирует такую активную работу опиоидных желез, что животное теряет всякую необходимость бороться за выживание или учиться жить бок о бок с другими особями. Будучи самодостаточным, оно не приобретает ни ощущения границ, вырабатываемого молодыми особями во время ссор, ни навыков участия в ритуалах взаимодействия, являющимися необходимым условием для социализации. При малейшем ущемлении его интересов животное нападает!
Десоциализирующий эффект морального страдания
Люди могут испытывать болезненные ощущения в теле, вызванные метаболическими изменениями, которые в свою очередь могут быть спровоцированы физической болью, а также разрывом шаблона ментальной репрезентации[157]. Каким образом это знание используют, например, палачи? «Пытать — означает не просто причинить боль. Это значит заставить человека понять, что физическая боль будет невероятно долгой»[158]. Палачи быстро заметили, что электрический разряд, пропущенный через гениталии мужчины, способен причинить ему страдания. Они усиливают страдания, говоря: «Пережив шок, ты больше никогда не будешь мужчиной». Ожидание чего-то ужасного усиливает ощущение боли и растягивает состояние шока. После мучительного разряда пытаемый думает: «Теперь я умер как мужчина». Ощутив физическое страдание, затем он длительное время страдает от ужасных сомнений.
Когда пытали иракцев, им завязывали глаза: палач знал, что «самая худшая боль — та, которую испытываешь в темноте»[159].
Еще одна известная история. Женщина беспрестанно ждала, когда наступит момент страдания, приходящего к ней неведомо откуда. Она с тревогой прислушивалась к шуму шагов и голосам, запечатленным ее памятью, пыталась уловить тепло, исходящее от тела палача. Узница, признанная невиновной, вернулась домой, но больше не смогла чувствовать себя свободной, поскольку каждый вечер, когда звонил телефон, она слышала одно и то же: «Это я». Безликий голос палача заставлял ее все время находиться в состоянии мучительного ожидания. Она избавилась от телефона, но было слишком поздно: несчастье отпечаталось в ее памяти. При одном только воспоминании о перенесенной боли тело невольно начинало страдать.
Мы все так или иначе испытываем физические страдания, однако никогда не признаемся, что нас пытали, ведь естественная боль не ведет к обесчеловечиванию. Нам стало очень больно в результате несчастного случая, а вовсе не в результате попытки разрушить нашу личность. Каждый, кого пытали, был еще и унижаем, частично мертв, лишился значительной части своего былого человеческого достоинства, подвергся дегуманизации, стал призраком самого себя. Мочиться в присутствии мусульманина на Коран, заставлять его голодать, а затем кормить исключительно свининой означает создать представление о себе, заставляющее его стыдиться: «Я совершил худшее из всех преступлений: позволил осквернить Коран, не произнеся ни слова, и, чтобы не умереть, нарушил закон — ел свинину. Значит, я — недочеловек, я утратил достоинство быть настоящим мусульманином».
Многие из тех, кого пытали, согласились унизиться, чтобы избежать пытки электричеством. Они умоляли, от страха мочились под себя и иногда даже пытались соблазнить мучителя — а затем благодарили его за то, что он избавил их от пыток. Они даже испытывали чувство благодарности к тем, кто их унизил до состояния «самого ничтожного человека на земле». Выжив в подобной ситуации, они вернутся к жизни, сохранив в памяти представление о том, что они сами отвратительным образом согласились унизиться: «Я способствовал своему унижению». Мужчина-жертва чувствует себя виноватым в том, что нарушил закон («Я ел свинину»), женщина-жертва стыдится того, что пыталась разжалобить палача («Меня унижали»). Перечисленные приемы пытки породили в душе жертвы чувство стыда, нарушили целостность представлений о себе — с этим отныне предстоит жить. Каждый раз, вступая в повседневные интимные отношения, подвергнувшаяся пытке женщина будет чувствовать себя унижаемой, грязной. Внешне эти эмоции проявляются следующим образом: пугливый взгляд, опущенная голова, бормотание. Поведенческий профиль стыдящегося возникает как результат крушения собственного «я», расколотого действиями со стороны другого.
После такого события внутренний мир наполняется страданием. Любой перцептивный контакт провоцирует страдание, любая встреча заставляет относиться к себе, как к объекту, имеющему меньшую ценность, чем другой. Чтобы уменьшить страдание, следует избегать контакта «лицом к лицу», а если это возможно, стараться не думать о подобных контактах вообще. Так нам удастся страдать меньше, однако несколько месяцев спустя одиночество, которое становится чем-то вроде анальгетика, вызывает отчаяние, близкое к депрессии. Вне контекста, предполагающего связи с другими — связи, способные нас поддержать, — без осмысления того, зачем мы живем, укоренившийся в нас благодаря стечению обстоятельств стыд уничтожает основные факторы устойчивости. Тогда мы принимаемся размышлять, и этот процесс заполняет пустоту, которую создало вокруг нас стремление избежать выстраивания жалких связей. Начинается процесс беспрестанного пересмотра причин плохого самочувствия, что оживляет наше восприятие и делает его физически болезненным[160]. Необходимое благо — избегание стыда — приводит к длительному колдовству под названием «размышление». «Я думаю только о том, почему, находясь рядом, он старается раздавить меня?» «Почему она настолько унижает меня, что не стесняется смеяться в моем присутствии?» Подобная интерпретация сродни паранойе — сберегает остатки самоуважения, делая другого ответственным за наше несправедливое страдание. Однако эта закономерная защита провоцирует быстрый крах: некий человек, пытая и унизив, подверг нас процессу дегуманизации. Чтобы избежать мучительной встречи лицом к лицу, мы отгородились ото всех, однако воспоминания и размышления продолжают отдаваться болью в нашей душе. Иногда возмущение помогает сохранить остатки самоуважения, а гнев придает нам смелость взорваться: «Откуда столько высокомерия, столько несправедливости, столько презрения? Я не так ничтожен, как вы полагаете!» Бунт возвращает нам достоинство, ненависть придает нам храбрости.
Скатившись вниз, стыдящийся обретает страх когда-либо стать счастливым. Пусть эта фраза вас не удивляет: вы бы сами стыдились быть счастливым, узнав о смерти матери. И все же это происходит. Смерть матери, плохо обращавшейся с вами, провоцирует, скорее, ностальгию по неудачной связи, а смерть матери, давно страдавшей болезнью Альцгеймера, вызывает чувство утраты и радость освобождения одновременно. Именно это неприличное облегчение и вызывает стыд от ощущения счастья. Обстоятельства медленной и отложенной смерти трансформировали труд скорби в труд умирания. Когда неизбежная потеря дорогого существа ранит нас, мы испытываем болезненную печаль и одновременно постыдную радость.
Подобный феномен можно наблюдать, изучая примеры пыток и дегуманизации: «Страдание позволяет оценить всю тяжесть преступления, совершаемого палачом. Если по какому-то неблагоприятному стечению обстоятельств я вдруг стану счастливым, словно ничего не произошло, если я забуду, выброшу из памяти, это значит — я буду относиться к пытке, как обыкновенной ошибке, реабилитирующей агрессора. Но об этом не может быть и речи! Я должен страдать и явить это страдание, мне необходимо испытывать боль, чтобы таким образом обвинить агрессора и заставить его бояться. Полная мера моего страдания станет записной книжкой, в которой будут зафиксированы преступления палача».
Аватары морального страдания
В качестве примера устойчивого поведения часто вспоминают Примо Леви, но этот пример не кажется убедительным. Робкий от природы, привязанный к своему родительскому дому в Турине, как моллюск к раковине, сохраняя в памяти ужас случившегося, дабы убедительнее свидетельствовать, он впал в реваншизм: «Уничтожить человека сложно… но вам, немцам, это удалось»[161]. Однако Леви смог обрести в Аушвице классический опыт психологической защиты — уход в фантазии. «Когда я вернусь, меня встретит семья, приготовит горячий праздничный обед, и тогда я стану рассказывать». Этот сон наяву, в который он время от времени сбегал от действительности, чтобы защитить себя от страданий, которыми была пропитана реальность, приносил ему мгновения воображаемого счастья. А потом этот день наступил. После освобождения из лагеря он вернулся к семье и во время обеда, состоявшегося в честь воссоединения, начал свидетельствовать. Как и в своих фантазиях, он рассказал все. И тогда, вспоминает он, «между миром и мной опустился ледяной занавес»[162]. Любимые люди замолчали, опустили глаза и стали избегать взглядов Примо, настолько их смутил ужас услышанного — вот так, среди бела дня. «Сестра смотрит на меня, поднимается и молча уходит»[163]. Выживший, свидетельствующий о том, что с ним произошло, мгновенно заморозил все свои связи с близкими. Члены семьи, замолкали, выходили из-за стола, и он остался один, с памятью, исполненной неразделимого ужаса. В Италии и Франции его книга не продавалась. Никто не желал знать, сколь тяжким оказалось бремя, которое ему довелось тащить. Эйфория от Освобождения и наступившего мира заставили замолчать тех, кто вернулся. Несколько десятилетий спустя книгу Леви, наконец, перевели на немецкий. Он испытал чувство реванша, «как будто направил в головы немцам револьвер». Эта фраза свидетельствует, что он прожил послевоенные годы, испытывая горечь утраты семейных связей. Домашние отказались слушать его, потому что подобное свидетельство уничтожало эйфорию, вызванную наступлением мира. Бывший узник, несмотря на свое желание двигаться вперед, беспрестанно возвращался к пережитому кошмару. И даже обретенная в лагере устойчивость не смогла ему пригодиться.
Время все расставляет по местам. Если, как гласит стереотип, «со временем все проходит», это происходит оттого, что время дает близким возможность поддержать пережившего травму. Опытное изучение сложившейся ситуации позволяет выработать конкретную стратегию по ее преодолению.
Роды сопряжены с неизбежной болью — пускай сегодня психологическая подготовка, а иногда и медицинские препараты позволяют женщинам не терять голову от схваток. Существует и своего рода естественная подготовка к процессу родов, связанная с постулатом, что восприятие боли различается в зависимости от того, какой репрезентацией обладает боль, перенесенная раньше[164]. Исследователь обращался к роженицам с просьбой оценить силу боли, чтобы лучше понять эффективность обезболивания. Оценка делалась сразу после родов, пять дней спустя и еще раз — спустя три месяца. Ответ однозначный: со временем сила боли уменьшается. Кривая на графике стремится вниз, какими бы ни были обезболивающие препараты и число рожениц. То есть мы можем утверждать, что представление о пережитой боли постепенно ослабевает.
Вспоминаю молодую женщину, кричавшую от боли во время схваток. Она умоляла акушерок прекратить пытку, хотела вернуться домой. Несколько часов спустя, отдохнувшая, накрашенная, в окружении семьи (мужа и родителей), она, улыбаясь, уверяла: «Все прошло отлично, я нисколько не страдала!»
Как объяснить подобный диссонанс? Можно попытаться так: «Я видел ее страдающей, значит, теперь она попросту хочет выглядеть молодцом в глазах семьи». А можно и так: «Она корчилась от страданий, чтобы о ней заботились». Для того чтобы правильно интерпретировать результат, необходимо применить сравнительный метод. Этот метод оценки болевых ощущений был реализован после эпизодов люмбальных пункций: в этом случае кривая не стремилась вниз! Три месяца спустя больные вновь оценили силу пережитой боли — она оказалась такой же, как и в первый раз[165]. Но почему воспоминание о люмбальной пункции по-прежнему остается болезненным, тогда как воспоминания о родовой боли стираются? Волшебник, провоцирующий изменения представлений о боли, зовется «малыш». Эмоции супруга, присутствие родителей, поздравления друзей трансформируют болезненный кокон, в котором некоторое время находится роженица. Но главное — это присутствие малыша, возникшая прочная связь с ним, удовольствие и «безумная влюбленность ста первых дней», о которой пишет Винникотт, придают страданию смысл. Этот смысл и поддержка окружающих — вот ключевые понятия, способствующие выработке устойчивости. Благодаря им представление о боли с течением времени меняется. Жизнь входит в привычное русло, расцвеченная ощущением триумфальности родов, мыслью о поддержке, оказываемой окружением, и о том, что все было сделано ради маленького волшебника, — и оно того стоило!
Но оно того не стоило, если рассматривать случай Примо Леви. Стыдно. Стыдно выпить стакан воды в присутствии Рафаэле, не поделившись содержимым. Стыдно выжить благодаря собственной трусости. «Чувство вины отступило на второй план, чтобы вернуться после Освобождения»[166]. Сложность сделать так, чтобы тебя услышали, необходимость свидетельствовать и особенно рождение негационизма дезориентировали его. «Они снизошли до понимания… но разве это могло как-либо изменить случившееся?»[167]. Одиннадцатого апреля 1987 г., после сорока лет мучительных сражений, Примо Леви бросился в лестничный пролет третьего этажа родительского дома.
Стыд, возвращение в прошлое, вызванное необходимостью свидетельствовать рождение негационизма, сводящее на нет все его усилия: «Но разве это как-то могло изменить случившееся? Нет никакого смысла свидетельствовать» — именно эти фразы мешают кривой страдания устремиться вниз. Время ничего не расставило по местам.
Подобный крах можно понять, изучив феномен «отпечатка»[168]. Когда лицо близкого человека, обеспечивающего безопасную связь, запечатлевается в нашей памяти, то позже, если происходит какое-либо событие, нарушающее порядок вещей, мы вначале пытаемся вновь почувствовать себя в безопасности и только потом начинаем анализировать, почему насильник пытался овладеть нами, и, ответив на собственный вопрос, решить проблему. В нашем представлении об этом испытании есть место для гордости — если нам удается одержать победу. Напротив, когда наша память хранит воспоминания о катастрофе и никакой уверенности в собственной безопасности нет, то же самое событие вызывает травматический разрыв шаблона, становится свидетельством очередного краха. Внутренний образ — в который раз — разрушается.
В 1930-е гг. антрополог Жермен Тийон изучала обычаи берберов. Наблюдала за их поведением, мимикой, анализировала одежду, предметы быта, особенности перемещений и поняла некоторые нюансы психики и культуры аборигенов. Она очень полюбила этих молчаливых людей, окруживших ее своей заботой. Когда она примкнула к Сопротивлению, то вместе с участниками «Сети музея Человека» была арестована и отправлена в Равенсбрюк. Чтобы смело перенести утрату свободы, унижение и постоянный риск смерти, имея в памяти базу проверенных кодов безопасности, она продолжила свои исследования в лагере. Жермен фиксировала перемещения, мимику и жесты эсэсовцев и каждый вечер объясняла в бараке товарищам по несчастью то, что ей удалось понять. Такая же заключенная, Женевьев де Голль, рассказывает, насколько это поддерживало их[169]. Ежедневные беседы стали причиной возникновения дружеской приязни в абсолютно ужасном контексте. Смысл, который придавали кошмарным фактам наблюдения Жермен Тийон, позволили женщинам не сломаться в заключении. «Когда мы знаем, что нужно делать, враждебная сила не способна нас раздавить». Сразу после войны обе женщины, пережившие травму, оказались лицом к лицу с необходимостью строить будущее в социуме. Их собственные раны сделали их альтруистками, чувствительными к любому проявлению несправедливости и страданию. Представление о былом несчастье выглядело на графике, как кривая, постепенно спускающаяся вниз, — это произошло в тот момент, когда им пришлось вновь учиться жить среди людей. Этим женщинам никогда не было стыдно за время, проведенное в заключении.
Когда стыд внутри нас растет из-за чрезмерной генетической чувствительности, неудачных эмоциональных связей в прошлом, повторяющихся реляционистских неудач, бесполезно говорить о каких-либо межличностных отношениях. И тогда мы сами изолируем себя — чтобы меньше страдать от того, что мешает нам придать смысл произошедшему. Мы рискуем стать жертвами сложных теорий, допускающих жизненный порыв в абсолютной в пустыне смысла.
«Магия заключается в том, чтобы изменить природу болезненного чувства, придав ему оттенок чрезмерного благородства»[170]. Альфред де Мюссе, размышляя о Святом Страдании, писал: «Ничто не делает нас столь великими, как великая боль… самыми прекрасными оказываются самые исполненные отчаяния песни… Мне известны те бессмертные мотивы, которые есть не что иное, как чистые рыдания»[171]. Увенчанная славой жертва очаровательна — благодаря своему Святому Страданию.
Как превратить в Святое Страдание свой стыд, если он — не что иное, как внутренний позор? Мы делаем все, чтобы скрыть его, ибо выставить стыд напоказ означает лишь усилить его. Сложно сделать из стыда произведение искусства, картину блестящей наполеоновской эпопеи, кровавую поэзию, чудесное несчастье. Когда мы встречаем теоретика, объясняющего нам, что наш позор проистекает от другого и достаточно лишь сразиться за выход из тени на свет, как мы сразу же прилипаем к этому человеку, надеясь избавиться от стыда, отравляющего наш внутренний мир.
Жермен Тийон, гордясь, что выдержала испытание Равенсбрюком, смогла управлять своим возвращением в нормальную жизнь. Примо Леви, стыдясь того, что выжил в Аушвице, избрал участь свидетеля, рассказывавшего о пережитой травме, — до момента, когда негационизм превратил его страдания в нонсенс.
Глава 5 Краснея от стыда
Кто я для другого?
В детстве мы испытывали страх. Один-единственный взгляд взрослого незнакомца до такой степени внушал нам страх, что мы старались спрятаться, отводя глаза. Нам потребовалось несколько лет медленного формирования личности, чтобы затем мы испытали похожее волнение, но теперь уже по другому — психологическому — поводу: «Каким он воспринимает меня?» Эта мысль станет основной, когда мы будем оценивать то, как смотрит на нас другой, означая сложное чувство, которое мы зовем «стыдом». У насилия иная природа. Пока мы не способны вложить во взгляд другого его представление о нас, нам вполне достаточно того, что он просто видит нас, — пока речь не идет о каком-либо взаимодействии. Когда же мы научимся проникать внутрь другого, ловить малейшие детали, помогающие представить его ментальный мир, мы станем думать: «Кто я в его мире?» И этот простой вопрос лишает нас покоя.
Мы подчиняемся мысли, которую сами и порождаем, — что другой втягивает нас в межличностные отношения. В подростковом возрасте эта функция обострена более чем когда-либо. Взгляд другого становится жизненно важным, поскольку он определяет наше существование: «Желанен ли я? Какая женщина согласится быть с таким мужчиной, как я? Взгляните на мои уши, они смешные. Мне стыдно, когда вы их замечаете. Когда я прячу их, мне становится легче». В этот период жизни стыд может возникнуть на пустом месте.
С возрастом чувство стыда медленно рассеивается. Мы смиряемся с непосредственными условиями нашего существования и успокаиваемся. Быть может, мы начинаем придавать меньше значения взглядам других? Быть может, мы становимся менее зависимы от других, отнимая у них часть былой силы? Переставая быть тем, кем мы являемся в действительности, в итоге мы неплохо выходим из затруднения. Наконец-то мы можем сказать, кто мы такие (надо было бы написать: «Мы можем признаться, кто мы такие»). Когда мы чувствуем, что обрели согласие с самим собой, наш стыд рассеивается. Когда мы возносим других на вершину, унижение ощущается сильнее.
Подобная межличностная связь провоцирует столь мощное напряжение, что оно способно разорвать связи… как травма! Я даю другому власть, за которую позднее упрекну его, поскольку его присутствие для меня мучительно и контакт с ним унижает меня. Даже то, каким я его вижу, вызывает крах моих представлений о самом себе — и мне становится стыдно!
Однажды я был презираем политиком, чьего уважения и не ждал. Я улыбался. И даже думал, что мне было бы стыдно, если бы он продемонстрировал свое восхищение моей персоной. Чтобы я стал стыдиться себя самого, нужно, чтобы место другого оказалось выше, надо мной, и чтобы я ждал от него уважения. Необходимо, чтобы я поверил, что он думает обо мне следующее: я ничтожен; и эта мысль заставляла бы меня стыдиться. Стыдящийся не осознает, что другой может игнорировать его или даже уважать. Он страдает от разрыва образа, который читает во взгляде другого.
Итак, подростковый возраст — это период, когда фантазии на тему самого себя препятствуют дальнейшей самореализации. Величие подростковых стремлений часто контрастирует с этой последующей слабой самореализацией. Такое препятствие сродни интрапсихическому разрыву, осложняемому своеобразием сюжета: «Я так надеялся на себя, так радовался своим сновидениям, которые, едва я открывал глаза, исчезали, и я понимал, что ничего не сделал, чтобы воплотить их наяву».
Интрапсихический разрыв шаблона возникает под взглядом другого, даже если этот взгляд является плодом нашего воображения, пусть даже стыд невыразим: «Я бы хотел получить много дипломов. Моя мать сошла бы с ума от счастья, ведь ей самой пришлось бросить учебу. Она бы обожала меня, наша связь с ней стала бы идеальной». Подобное райское представление сталкивается с реальностью, и стыдящийся, раздавленный такой реальностью, принимается упрекать себя: «Я не сделал ничего, чтобы воплотить мои фантазии… возможно, это ее собственные фантазии… она внушила мне их». Интрапсихический разрыв сохраняется даже в том случае, если травма носит межличностный характер: «Я не соответствую собственным амбициям, которые могут вполне оказаться ее амбициями. Для меня ее любовь — тяжкий груз. Поскольку я не могу самореализоваться, она презирает меня, я в этом уверен».
Связь рвется в тот самый момент, когда ее можно было бы просто трансформировать. В этом случае развития эмоциональной связи не происходит. Возможно, ребенок становится легкоранимым из-за «недостатка нарциссизма». «Даже будучи совсем маленьким, он обладал невероятной чувствительностью. Никаких положительных впечатлений, — рассказывает мать, — у него не было чувства юмора. Когда его дразнили, он начинал плакать. Все воспринимал всерьез». Трансформация связи может быть нарушена и тем, что принятые в семье суровые отношения препятствуют обновлению представлений: «В семье без конца повторялось: мой отец — чудовище. Я стыдился его до того дня, когда обнаружил, что после моего рождения мать сбежала, а отец рано вышел на работу, чтобы поднимать меня; ему же пришлось стирать мои пеленки. Только покинув родительский дом, я смог взглянуть на отца по-другому».
Социальная оболочка имеет сильное влияние, но пророчество не всегда предопределяет судьбу
Смысл, приписываемый тем или иным событиям, проистекает из контекста и истории нашей жизни. Эмоциональная окраска различных событий в значительной степени проистекает от аффективных реакций окружения. Внутри нас отпечатывается смысл, который, по их мнению, имеет какое-нибудь событие. Мнение братьев и сестер, школьных товарищей, соседей по улице, социальные законы и культурные стереотипы — все это оказывает влияние на смысл, который мы вкладываем в события.
Семейная типология логическим образом порождает отсылки, связанные с историей семьи[172]. Дети из благополучных районов имеют намного больше возможностей получить хорошее образование и занять руководящие посты, чем те, кто живет в бедных кварталах. Несчастному ребенку скучно в школе. Результаты его слабой успеваемости порождают в нем чувство стыда, толкающее его назад и делающее более сложным процесс социализации. Однако эта статистическая истина не одно и то же, что и истина индивидуальная, поскольку мы можем констатировать в ряде случаев парадоксальный успех. Бывает, что неграмотные дети становятся блестящими писателями, а из бедных кварталов происходят выдающиеся мыслители. Подобные случаи устанавливают «границы возможных исследований»[173], поскольку почти всегда наблюдаемый эффект возникает вследствие совпадения детерминант. Попытки объяснить всё, назвав только одну причину, попахивают тоталитаризмом.
Подобный способ сбора информации позволяет говорить о том, что условия взросления ребенка среди неустойчивого окружения увеличивает возможность происшествий, делающих нас более уязвимыми. Однако сразу же стоит уточнить: это замечание вовсе не является констатацией фатальности. Если мы развиваемся, будучи уязвимыми, невозможно, чтобы мы ничего не предприняли: разве кто-то заставляет нас ничего не делать?
Оказавшись в неустойчивом окружении, где личность едва ли имеет право существовать, мы можем задаться вопросами:
— Чаще ли возникает риск травматизма в окружении людей, подверженных всевозможным катастрофам?
— Нужно ли выработать собственный стиль эмоциональных привязанностей, чтобы развиваться в окружении людей, выстроенном наподобие карточного домика?
— Выработка факторов устойчивости оказывается более сложной в том случае, когда наши воспитатели сами не отличаются уверенностью?[174]
Когда три миллиона лет назад на Земле появился Homo sapiens, само представление о неустойчивости отсутствовало, поскольку все условия человеческого существования в то время были крайне неустойчивыми. Настоящее чудо, что человек не исчез, подобно 90 % других живых существ. Мы, люди, спали на земле, умирали от холода и голода, нас поедали дикие звери, но мы все-таки выжили.
Неуверенность в будущем существовании стала постепенно уменьшаться, начиная с эпохи неолита — примерно десять тысяч лет назад, когда наши предки стали учиться управлять природой. С каждым техническим изобретением возможность выживания увеличивалась. В средневековой Европе только от двух до трех процентов от общего числа населения имело ту же продолжительность жизни, что и сегодняшний человек, — ибо только аристократы, состоятельные буржуа и некоторые священники жили в стабильных, комфортных условиях. До XIX в. каждый второй ребенок, родившийся в семье простолюдинов, умирал в течение первого года жизни[175]. Женщины старались произвести на свет как можно больше детей, прежде чем отходили в мир иной, в среднем, в возрасте тридцати шести лет от роду.
Мужчины жили дольше и умирали между пятьюдесятью пятью и шестьюдесятью годами. Целые деревни вымирали в результате войн, неурожаев и эпидемий. В подобных условиях брошенные дети, как правило, умирали, но некоторые из них сбивались в небольшие группы бродяг, пытавшиеся выжить, совершая различные преступления. Среди этих волчьих стай, остервенело цеплявшихся за жизнь, иногда появлялся какой-нибудь мальчик, начинавший заниматься торговлей, становившийся буржуа или даже королевским медиком[176].
Мы — потомки этих выживших, которым удалось преодолеть невероятно жестокие условия существования[177]. Я должен был бы написать «невообразимо жестокие», поскольку в обществе, где жестокость — норма, этим не принято возмущаться: люди сильнее стискивают зубы, вот и все. Чтобы жестокость обрела оттенок чего-то неприемлемого, необходимо иметь власть взглянуть на мир без насилия — а такое возможно разве что в некоторых современных социумах. Чтобы представление о неустойчивости заполнило наше сознание, необходимо рискнуть понадеяться на правильное существование — стабильное и достаточно комфортное.
Однако XX в. был исполнен жестокости. Чего стоят хотя бы технологии, давшие человеку невиданное могущество: различные виды вооружений, атомная энергия и главное — административный ресурс (самый жестокий, самый коварный), когда одна простая подпись может приговорить к уничтожению тысячи людей.
Стыд в некоторых социальных изолятах
И вот мы видим возникновение на планете социальных изолятов[178]. В одних местах технический прогресс поставлен на службу человека, а другие места — без природных богатств, передовых технологий, и там не соблюдаются права человека; в этих последних царит только жестокость. Сегодня на Земле насчитывается более пятидесяти миллионов беженцев, и 50 % из них — дети. В 59 вооруженных конфликтах 80 % жертв — женщины и дети, ибо те, кто воюет, обычно не носят униформу. Они атакуют, а потом прячутся в больницах и школах. Убивающие родителей не останавливаются и перед убийством детей: два миллиона убитых, шесть миллионов искалеченных, двенадцать миллионов бездомных детей[179], не считая того, что почти все выжившие страдают посттравматическим синдромом или расстройством личности. Подобные социальные изоляты встречаются и в богатых странах: 30 % американцев и 60 % южноамериканцев живут в условиях бедности, сравнимых со Средневековьем. В изолятах, где у людей не хватает средств на то, чтобы отправить детей в школу и оплачивать лечение, смертность женщин в триста раз выше, чем в промышленно развитых странах[180].
В новом контексте нарастающей глобализации отчетливо ощущается шаткость общего положения — особенно если иметь в виду существование развитой системы здравоохранения, совершенных средств обеспечения безопасности, а также великолепные возможности, которые есть у индивида в богатых странах. Когда все бедны поголовно, меньше думаешь о бедности — просто считаешь, что жизнь тяжела, и не более того. Но когда возникает неустойчивая и болезненная ситуация балансирования между солидным спокойствием соседа и твоей собственной бедностью, ясно ощущаешь несправедливость и унижение. И может быть даже, несправедливость оказывается не столь тяжкой, поскольку оставляет простор для возмущения, вербального протеста и демонстраций, тогда как унижение толкает к самоумалению, уходу, стыду, сдаче без боя… до того дня, когда эмоциональный взрыв охватывает абсолютно всех. Итак, если возмущение — это шаг к самоуважению, то унижение нивелирует социальные связи.
В изолятах, где родители испытывают стыд, эмоциональный кокон, в который обернуты их дети, обеднен: мало смеха, слов, мало событий, люди находятся друг от друга на расстоянии и не испытывают тепла по отношению к ближнему, на неподвижных лицах застыли плохо скрываемые эмоции. При выстраивании подобных связей родители едва ли могут защитить своих детей, а те не видят в них гарантию безопасности. В глазах детей напуганные родители постепенно начинают выглядеть, как угроза, к тому же взрослые неспособны побудить своих детей испытывать удовольствие от поисков и открытий. А поскольку дети не могут начинать жизнь в условиях, отличающихся от тех, в которых существуют их родители, то, не имея поддержки, они ощущают себя скверно и обвиняют в этом, разумеется, своих родителей! Лавина трудностей увлекает огромное число индивидов в пропасть травм. А вынужденная социальная поддержка превращается в источник дополнительного унижения: подростки знают, что папу поддерживал его педагог, а маму — психолог. Им кажется, что их родители не отличаются силой или беспристрастностью. Эмоциональный кокон, окружающий детей, обеднен вследствие социально-психологических трудностей. В таких семьях мало говорят и много кричат, не умея справляться с эмоциями. В этом случае дети защищаются, держась от взрослых на расстоянии: они чувствуют себя увереннее среди себе подобных, на улице. Они изобретают что-то вроде неоязыка, отличающегося от языка взрослых, и, защищаясь подобным образом, утрачивают наследие предков. И наоборот, передача ценностей от одного поколения к другому становится мощным фактором устойчивости[181]. Когда социальная катастрофа приводит к эмиграции и молодежь слушает рассказы своих переживших травму родителей о страдании и делает вывод о том, насколько они достойные люди, — такая семья лучше защищается и гораздо легче устремляется к развитию. Но если условия существования лишают детей возможности слышать рассказы представителей старших поколений, процент травм заметно возрастает.
Изгнание и стыд
В 1980 г. индейцы майя были изгнаны из Гватемалы генералом Риосом Монттом. Часть из них нашла убежище недалеко от Мехико, тогда как другая часть направилась к полуострову Юкатан. Несколько лет спустя, благодаря усилиям международных организаций, они вернулись домой. Коллективная реакция на катастрофу в разных группах была различной[182]. Южная группа, которой удалось устроиться неподалеку от границы, сохранила общение со стариками. В этой группе соблюдение ритуалов стало определенной эмоциональной поддержкой. Они собирались вместе, чтобы молиться, танцевать и делить трапезу. Они смогли сопоставить свое изгнание с мифологией майя — беспрестанно вспоминая мифы и истории своих семей. Вернувшись домой, они легко освоились в традиционной культуре — по сути, все той же, а если и изменившейся, то не намного. В этой культуре часто звучали мотивы изгнания, преследования со стороны военных, но при этом упоминалась мудрость предков и храбрость молодых. Подобное представление о себе породило своеобразную нарративную безопасность, в которой люди черпали силы и достоинство. Когда нюансы политики позволили индейцам вернуться к нормальной жизни, они с радостью и гордостью использовали такую возможность. Мифология майя обрела еще одну — новейшую — главу.
Северная группа, оторванная от корней и оказавшаяся в резервациях, не имея возможностей общения с родственниками, тоже выжила — однако эти индейцы не соблюдали ритуалы майя, которые должны были помочь им вернуться назад, не вспоминали мифы с целью найти в них символическое обоснование своего изгнания. Возвратившись домой, они, утратившие традиционные культурные связи, испытали шок, горечь, стали агрессивными. Число посттравматических случаев возросло, поскольку каждый индивид, не вписавшийся в новые социальные условия, потерял всякий смысл жизни; а при отсутствии этого смысла зачем вообще жить в коллективе?
Полученная травма, разрушив культурные связи между членами группы, сделала их похожими друг на друга в их одиночестве. Ведь традиции и ценности, составляющие культуру, становятся своеобразным нарративным остовом, помогающим каждому члену группы определить «своих» в коллективе, и бесценным фактором устойчивости.
Даже если корни, связывающие нас с родиной, обрублены, еще не все потеряно. Группа людей, переживших травму, еще может вернуться к нормальной жизни, если будет опираться на миф, восходящий к обломкам традиций. Индейские племена, обитавшие в Андах к северу от Лимы, были изгнаны оттуда герильеро «Сияющего пути». Первые, кто ушел из родных мест, обосновался в городских предместьях, тогда как остальные не смогли устроиться нигде, кроме как на скалистых землях вдали от города. Однако члены этой группы не страдали проявлениями посттравматического синдрома. Несмотря на свою невероятную бедность, они не утратили основ своей культуры. Мужчины, прежде занимавшиеся сельским хозяйством, ходившие за тяжелыми плугами на склонах Анд, стали каменщиками. Они спали на земле, на отдаленных стройплощадках, в еще мокрой от пота рабочей одежде, а по вечерам занимались, чтобы сдать экзамены и занять должность мелкого чиновника. Все заработанное они отдавали своим женщинам, управлявшим жизнью в деревнях. Женщины организовали школу, детский сад, медицинскую службу, следили за соблюдением законов и каждый вечер устраивали праздники, объединявшие всех жителей деревень. Дети участвовали в процессе формирования нового уклада: отправлялись на поиски воды, продавали кока-колу в пластиковых стаканчиках, выставляли напоказ свои рисунки и делились между собой своими бедами. Никакого стыда, ни малейшей горечи в этом сообществе бедняков не было и в помине. Только большой объем работы, солидарность, праздники и собрания, организуемые с целью решать проблемы, иногда сотрясавшие коллектив.
Три группы гонимых из родных мест индейцев — все бедные, все лишившиеся дома, преследуемые за верность своим традициям, плохо принятые в чужой стране, стали жить по-разному.
Группа сломленных и униженных так и не смогла перенести депортацию.
Вторая группа индейцев, сохранившая свою традиционную культуру, поддерживала и развивала ее, включая в свои истории рассказы о боли, которое причинило им изгнание.
Что касается индейцев из Лимы, полностью отрезанных от своих корней, им удалось изобрести новый стиль жизни. Культурный вираж, который смело можно сравнить с революцией, обязывает переосмыслить все: обычаи, традиции, мифы; вероятно, этот вираж был вызван особенностями приема, который — с уважением относясь к их корням — оказали им перуанцы[183].
Члены всех трех групп пережили многое: основной трудностью, носившей травматический характер, стала для изгнанников бессмыслица нового существования и ослабление связей с традиционной культурой. Эти люди были невероятно бедны: но не бедность стала для них источником унижения, а разрушение культурных основ, отсутствие возможностей мыслить коллективно и недостаток ритуалов, способных поддержать эмоциональные связи.
Аномия и мегаполис
Подобное ослабление связей и то, как утрачивает смысл происходящее, можно легко наблюдать и в индустриальных социумах. Улучшение средств коммуникации разрушает связи, делает их более точечными. В уже почти забытые времена крестьяне из провинции собирались, чтобы вместе вырубать ледяные бруски. Они складывали их в прохладных пещерах, а затем на рассвете взрослые при помощи детей грузили бруски на ослов, чтобы спуститься с гор и продать лед торговцам из Санари. Сегодня достаточно ткнуть пальцем в экран, и несколько часов спустя курьер привезет вам лед. Невероятный прогресс в области коммуникаций! И какое обеднение человеческих связей!
Все идет к тому, что скоро на Земле будет существовать 21 мегаполис, в каждом из которых будут проживать 20 миллионов человек. Как встретиться среди подобного столпотворения? Можно только пересекаться или случайно натыкаться друг на друга. Чтобы выстроить ритуал, необходимы встречи, договоренность по поводу значения жестов, определенные жертвы и слова, позволяющие идентифицировать «своих». Отсутствие совместных мероприятий и праздников делают группы аномичными (аномия характеризуется отсутствием социальных или моральных норм, сознательным отрицанием нори и стандартов членами социума). В подобном контексте видимость улучшения дает клановость: возникают иерархии, скоординированное движение к некоей общей цели, однако представители клана очень быстро начинают понимать, что созданная ими система нужна ради выгоды главы клана и его приближенных. Но слишком поздно — все подчинились! Когда система функционирует отлаженно, страдания или смерть чужаков едва удостаиваются оценки, что позволяет сказать следующее: в этом одинаковом мире индивид как таковой нивелируется самой клановой системой. Внутри клана все знают друг друга, знают, чего хотят, и часто начинают соперничать, желая понравиться вождю. Тот, кто находится за пределами клана, не считается человеком, он — лишь паяц, тень или муравей, назовите его, как вам будет угодно. В клановой культуре другого заставляют страдать, не испытывая при этом стыда, уничтожают его, не чувствуя никакой вины. Вне группы такое поведение, безусловно, аномично, но когда коллектив правильно структурирован, хорошо управляем и открыт переменам, он умеет поддерживать своих членов в минуты отчаяния[184].
В этом смысле иммиграция сродни социальному шансу: она дает возможность выбора между аномией, провоцирующей всплеск жестокости у индивидов, и кланом, который вербует новых членов и поддерживает формирование нового уклада жизни, хотя и превращает жестокость в закон.
Во Франции XIX в. спорили по поводу внутренних эмигрантов: бретонцев или овернцев, плохо говоривших по-французски и отличавшихся странными для других обычаями. В 1975 г. во Францию прибыло около одного миллиона человек. Ходили слухи, будто дети вновь прибывших страдают патологиями, не могут учиться в школе и часто совершают преступления. Так думали до момента, пока несколько скрупулезных исследований не позволили установить следующее: необходима сущая ерунда — налаживание связей, последовательно получаемое образование, «фактор шарнира»[185], чтобы сменить социальную траекторию движения этих детей и сориентировать их внутренний мир на перестройку с целью полнейшей адаптации в принявшей их стране. Стало ясно, что любые обобщения оскорбительны. Иммигранты не были ни замечательными, ни отвратительными, просто то, как их приняли, внушило им чувство стыда (или гордости), усталости (или мужества).
Иммиграция: социальный шанс или проблема?
Важную роль в процессе интеграции в новый социум играет возраст, в котором ребенок стал эмигрантом: в шесть лет и позднее он способен чувствовать себя оторванным от корней, поскольку уже начал говорить на родном языке, у него сформировалось определенное произношение, он усвоил обычаи своей страны и уже привык к знакомым пейзажам. Вынужденная иммиграция (бегство, страх пыток, нищета, отчаяние) имеет меньше шансов на успешную реализацию, чем та, что совершается по выбору, оставляя в душе юного фантазера приятные воспоминания о жизни в прекрасной далекой стране. Психологические трудности, испытываемые до момента эмиграции, делают иммиграцию еще болезненнее. Однако парадоксальным образом те, кто был счастлив в своем родном краю, без труда приспосабливаются к счастливой жизни в новых условиях.
Большую роль в процессе адаптации детей, а также достижения ими хороших результатов в школе играет радость родителей-иммигрантов[186]. Когда родители, прибыв в чужую страну, страдают от мысли о переселении, их дети тоже испытывают стыд. Принимающая сторона чувствует настроение вновь прибывших. Немцы приняли греков скорее радостно, тогда как в большей степени подверженные депрессии и агрессивно настроенные турки часто оказывались в изоляции. В каждой культуре закодировано выражение психического страдания: например, португальцы прячутся, чтобы страдать в одиночку, замыкаются в себе, стискивают зубы и пытаются не посвящать других в свои несчастья. А жители Антильских островов, напротив, ярко выражают собственные чувства[187], открыто радуются, если им радостно, а когда страдают, то буквально кричат об этом, пьют и дерутся. Типология (возможно, несколько поверхностная) приписывает ливанцам спокойствие, туркам — агрессивность, китайцам — умение быстро интегрироваться в новую среду (от чего, впрочем, они не испытывают удовлетворения), мексиканцам — хандру, а британцам — снисходительность. Исследования показывают, что каждый коллектив обладает своим собственным набором экспрессивных особенностей, которые более или менее сносно вписываются в рамки культуры, существующей в принимающей стране[188].
Названная типология, повторимся, поверхностна и меняется в зависимости от транзакций между двумя группами населения, носителями разной культуры. Поляки-католики, приглашенные во Францию в 1930-е гг. для работы в угольных шахтах, быстро ассимилировались с местным населением, несмотря на жестокое обращение с ними полицейских — малейший инцидент заканчивался депортацией из страны. Минимум психологических колебаний, минимум экстренной медицинской помощи, минимум стремления к совершению преступлений. Закончив рабочую неделю, требовавшую серьезных физических усилий и исключительной моральной устойчивости, поляки брали аккордеон и вовлекали всех местных жителей в участие в народных балах прямо на улице. Они конкурировали с предпочитавшими мандолину итальянцами — любителями играть канцонетты. Те же самые группы, прибыв в США, не завели обычай праздновать и танцевать; в стране, где связи между различными членами социума были сложнее, они оказались изолированными. Мужчины болели, ломались психологически, сбивались в банды преступников.
В послевоенной Франции польские евреи украдкой страдали и частенько посещали кабинеты психоаналитиков. Слабый уровень преступности в их среде, возможно, свидетельствовал о процессах торможения. Группа аналогичного происхождения, отправившаяся в США, быстро интегрировалась — без медицинской или психиатрической помощи, а о том, чтобы вступать в банды, не было и мысли.
Следовательно, одна и та же рана может порождать различные транзакции — в зависимости от социальных и культурных нюансов принимающей стороны: оптимистичные в той культуре, где солидарность служит фактором удобства, они вполне могут опускаться на дно и становиться преступниками, будучи изолированными от коренного населения и в условиях, когда клановость дает им в любых ситуациях необходимую защиту.
Китаец, эмигрирующий в США, становится членом китайско-американского сообщества, начавшего формироваться еще в XVII в. Окруженный теми, кто его понимает и социально защищенный, он испытывает постоянное стремление, не теряя связи с обычаями родной страны, добиться успеха и легко влиться в новое общество. Откуда же тогда берется горечь, которую демонстрируют китайские эмигранты, оказавшиеся в любой чужой стране? Становится ли присущая им солидарность, обеспечивающая безболезненную интеграцию, своего рода желанием влиться в серьезный, достаточно закрытый клан? Некоторые китайцы, прибывающие сегодня в Северную Европу, попадают в абсолютно новый для них мир. Их неплохо принимают, однако они теряются, оказываясь в новых климатических и языковых условиях, а также среди ритуалов и обычаев, непонятных им. Необходимость меняться угнетает вновь прибывших, изолирует их от местного населения и делает агрессивными, поскольку они чувствуют себя притесняемыми в этом неподдающемся расшифровке мире[189]. Не стоит говорить, что горечь ощущается долго. Но сегодня мы все чаще видим, как молодые китайцы посещают музеи, открывают для себя греческое искусство, итальянскую оперу и смеются в кино над тем же, что заставляет смеяться европейцев.
Таким образом, необходимо вести речь о причинно-следственных связях. Мы не можем более говорить, что популяция эмигрантов становится проблемой, когда их число превышает 10 % от коренного населения. Некоторые большие группы иностранцев развивают культуру принимающей стороны, когда транзакции между двумя группами населения облегчают их участие в социальной эволюции (они могут спасать культуру, спасающую их самих).
Случается, что некоторые группы организуются в изоляты, где индивидуумы выживают, сбившись в подобие клана. Чтобы не умереть, они подчиняются клановости, в которой нет ни намека на человечность, зато существует жесткая иерархия. Все, кто не наверху, становятся паяцами, людьми второго сорта. Подобная защита, необходимая, когда на группу нападают, портят индивидуумов, которые выбирают для себя подобную защиту.
Школа: ограничение свободы или освобождение?
Когда коллектив не имеет необходимости в столь болезненной защите, школа становится главным путем интеграции детей в новые условия существования. Но чтобы она стала этим путем, необходимо, чтобы взрослые привили интерес к школе своим детям. Чтобы семья — терпеливой мимикой, ободряющими улыбками и назидательными историями — внушила ребенку, что школу нужно посещать, если есть желание достичь успеха в обществе. Братья и сестры, друзья, живущие по соседству, должны разделять это мнение, а сама школа — не разочаровывать в этих ожиданиях. Когда ребенок испытывает постоянную эмоциональную, дружескую и интеллектуальную поддержку, мы можем констатировать, что «дети иммигрантов развиваются успешнее, чем дети местных жителей»[190].
Между детьми, спасенными школой, и теми, кто «спасся» от школы, существует разница, проистекающая из семейного уклада. Окружение должно сделать так, чтобы ребенку захотелось посещать школу. Если отец рассказывает о своем трудном детстве и подчеркивает, что школа помогла ему выжить, он указывает малышу на способ возможного освобождения. Когда мать подбадривает ребенка-школьника и сопровождает его по жизни, когда в семьях обсуждаются книги, будоражащие культуру, школа входит в дом и становится гранью повседневного существования. Такой способ жизни, возможно, более соответствует культуре, где школа благоприятствует появлению новых социальных групп.
Те коллективы, где родители игнорируют или презирают школьное образование, вызывают удивление. Дети в таких коллективах абсолютно одиноки. Когда я пишу слова «абсолютно одиноки», то хочу сказать, что эти дети остаются один на один со школой, пытаясь поверить, что та может стать для них путем к освобождению. Как бы не так!
Мой друг Эрик во время Второй мировой войны лишился семьи. Ему было шесть, когда его отвезли в деревню, в приемную семью. После нескольких лет отчаянного смущения и плачевных школьных результатов, ребенок обрел два фактора устойчивости: он окунулся в атмосферу исконно присущей крестьянам доброжелательности и получал поощрение со стороны месье Юбака, школьного учителя. В течение нескольких недель ребенок, измученный несчастьями, наконец-то успокоился: школа стала для него местом, где он переживал мгновения радости! Школу в то время посещали менее 3 % детей, это считалось едва ли не нормой, но приемная семья с удивлением и радостью обнаружила, что перед их ребенком открываются неожиданные перспективы. Позже Эрик получил грант на учебу в старшей школе и начал блестящую карьеру чиновника, занимающегося вопросами экологии. Сегодня все говорят о его интеллекте и умении работать. Но что стало бы с ним, если бы месье Юбак пренебрег им или его приемная семья предпочла бы отправить его работать в поле, как большинство мальчиков, его сверстников?
Самый известный пример — Альбер Камю, посвятивший свою Нобелевскую премию господину Луи Жермену, учителю, подарившему ему, ребенку, счастье чтения. Когда Камю рассказал о своем успехе матери (Нобелевская премия), та ответила ему, что его брюки помялись и что она готова их погладить; затем великий человек был раздет. Мать Камю ничего не знала о том, что такое Нобелевская премия, но эта неграмотная женщина старалась делать все, чтобы ее сын ходил в школу, когда вокруг все твердили, что ему пора уже обучаться какому-нибудь ремеслу, и Камю обожал ее[191]. Тахар Бенжеллун, марокканский писатель, тоже превозносил свою неграмотную мать. Он мягко просил ее немного рассказать о своей жизни, пока болезнь Альцгеймера не погасила ее сознание[192].
Сложнее понять, почему некоторые дети готовы с невероятным упорством продолжать ходить на уроки, несмотря на то что окружающие не поддерживают их в этом. Мунир вырос в бедности. Все, кто находился вокруг, были скупы на слова и не имели денег. Он убегал, дрался и воровал — до момента, когда его вновь возвращали в лоно семьи. Почему его педагог вдруг обратил на него внимание? Мунир неожиданно стал примерным учеником, наверстал упущенное и был отправлен в Париж — продолжать вожделенное обучение. И тогда в его голове случился разрыв шаблона! Он хорош собой, с ним стремятся дружить, его школьные успехи — замечательны, но каждый вечер ему звонила мать, чтобы сказать: это настоящее предательство — думать исключительно о себе. Он-де покинул семью и даже ни разу не сел в поезд, чтобы повидать своего братишку, только что оказавшегося в тюрьме! После этих слов Мунир никак не мог сосредоточиться. Получив возможность продолжать учебу в институте, он должен был чувствовать себя предателем в собственной семье. Как рассказать матери о коктейлях на вечеринках и беседах с начальниками производства? Как она отреагирует на это — она, которая после пятнадцатого числа каждого месяца не имеет ни гроша, чтобы что-либо покупать? Как рассказать брату об удовольствии от чтения, если тот ненавидит интеллектуалов? Тогда Мунир стал прогуливать занятия, рядиться в лохмотья, поглубже натянул кепку и опустил плечи, — зато он гордился своими корнями. Если бы он получил хорошее место, он бы стал стыдиться родственников, а недоучившись, испытывал стыд от того, что предал свои мечты. В обоих случаях он ощущал себя ничтожеством!
Хороший ученик — не обязательно герой, все зависит от смысла, который школа имеет для его семьи. Многие иммигранты признавались, что их единственное достоинство — сопротивление несчастьям, смелость и желание трудиться без жалоб. И правда, такой человек соглашается на любую работу и отдает все свои деньги жене. Он молча лелеет в себе свое страдание и гордится тем, что трудится на благо семьи. Многие итальянские, португальские или польские иммигранты, несмотря на богатство своих национальных культур, признают, что главное их достоинство — желание вкалывать на благо их близких. «Зубрят только девчонки и педики», — заявляют эти грубоватые мужчины, пиная книги ногами. Однако некоторые детишки, вопреки всему, учатся тайком и становятся преподавателями французского языка… к великой гордости своих отцов! Вот так чувство стыда быстро переходит в чувство гордости!
Эмоциональность и школьные перформансы
Лабильность чувств позволяет избежать бессознательного стремления к фигурам привязанности. В 1990-е гг. в Великобритании проживали две группы антильцев. Одни грустили по родным островам, испытывали ностальгию по климату и красотам своей страны: их дети представляли собой отряд безвольных тупиц или хулиганов. Другая группа была рада возможности начать новую жизнь в Великобритании: их дети не чувствовали себя подавленными, овладевали хорошими профессиями и в конце концов благополучно устроились в жизни[193]. Эмоциональная близость, привязанность, благодаря которой положительные эмоции распространялись между членами группы, помогали ощущать вкус к жизни. Меняясь в соответствии с эмоциональным контекстом, этот вкус менял смысл, которым обладали факты.
Ариэль удивляется вариативности своих школьных оценок[194]. Она была отличницей до той ночи 1942 г., когда отец разбудил ее, чтобы поручить заботам двух дам, которые отвезли девочку в «Детский приют Данфер-Рошро» в Париже. Оказавшись в «Ассистанс публик», она попала под влияние антисемитских настроений. Разговаривать в дортуарах было запрещено. Впрочем, это Ариэль и не удалось бы: соседки по кровати менялись почти каждый вечер. Она не понимала, почему отец бросил ее. В душе девочки поселился холод. Она больше не испытывала удовольствия от чтения, не имела сил сопротивляться, почти не двигалась и смирилась.
Когда она пошла на занятия, учительница вздохнула и произнесла: «Еще одна из „Ассистанс“…» В ее голосе не было умиления. Она даже не взглянула на ребенка. «Я ничего не понимала. Абсолютно… Ничего не откладывалось у меня в голове… — призналась позже Ариэль. — Мне было стыдно. Стыдно от того, что я не понимаю…»[195]
В сентябре 1945-го, по окончании войны, девочка вернулась в родную школу на улице Фоли-Мерикур. Мадемуазель Дюваль узнала ее и сказала: «В классе сейчас тридцать пять учениц. После облавы 16 июля 1942 года[196] их было только восемь, и все — не еврейки».
Когда Ариэль вновь обрела отца и школу, в которой она делала успехи, ее внутренняя жизнь возродилась. «Любопытно, что уже на первом уроке мне показалось, что я начала понимать… Может, это была не я?»[197] Почти сразу же Ариэль стала первой ученицей в классе.
Многие дети пережили подобный опыт. Будучи хорошими учениками (когда они чувствовали себя защищенными), они словно замерзали, если считали, что их отвергли. Даже если насилие в их отношении было неочевидным, оно обладало мощной разрушительной силой. Взрослый мог слышать, как учительница вздыхает: «Еще один из „Ассистанс“…», но его не задело бы так, что учительница не смотрит на него. В случае ребенка это «несмотрение» означает: «Я хочу, чтобы тебя не было в моем мире». Нелюбовь к этой школе стала формироваться под влиянием складывавшейся вокруг девочки эмоциональной атмосферы. И наоборот.
Культура людей, живущих по соседству, играет важную роль в понимании важности школьного образования. В районах, где всем правят наркотики, преступность становится своего рода адаптивной функцией, позволяя любому заниматься коммерцией. В таких местах школа не является синонимом «удовольствия, получаемого от размышлений», ступенью к последующей социализации или возможностью исправить ошибки родителей. В фавелах Сан-Паулу дети, решившие общаться с танцором или гитаристом, чтобы приготовить спектакль для соседей, очень скоро перестают быть отстающими в школе. Однако их презирают мальчишки, зарабатывающие за один вечер больше, чем их отцы за целый месяц[198]. Для таких детей школа — ничто; значение имеет только флирт со смертью. То, что они научились любить смерть, придает им экстраординарную смелость и сокращает их жизнь. Ну и пусть! Необразованные, признающие исключительно право сильного, они обожаемы другими ребятами и ловят на себе восторженные взгляды девчонок. Они не боятся взрослых, много зарабатывают и ярко вспыхивают перед смертью.
Подобная культура «живущих по соседству» способствовала возникновению нового феномена: исключению из нее бедных белых! Богатые белые уже несколько поколений подряд живут в красивых кварталах, а их дети посещают школы, дающие возможность получить хорошие профессии. В бедных кварталах, расположенных вокруг больших городов (как было замечено относительно недавно), дети иммигрантов (зачастую цветных) лучше адаптируются к местной обстановке, чем дети бедных белых из тех же кварталов. Сам факт — быть ребенком иммигранта — достаточно болезненный стимул, однако он придает смысл обучению в школе и силу гордиться собой. Вплоть до начала 1970-х гг. дети армян и евреев, в какой бы новой культурной среде они ни оказывались, демонстрировали впечатляющие школьные результаты — несмотря на материальные трудности. В 1980-е и позднее к ним присоединились азиаты и антильцы.
Бедные белые из этих же кварталов лишены аналогичных причин смиряться и страдать. Усилия, которые требует обучение в школе, не имеют для них того же значения, что и для иммигрантов, — ведь они родились в этой стране. Иммигрантская солидарность, позитивный настрой, необходимый для преодоления испытаний, успехи детей иммигрантов в школе — все это добавляет интеллектуальному и социальному краху белых бедняков оттенок дополнительного унижения. И тогда они сбиваются в крайне агрессивно настроенные и презирающие всех и вся банды, полагая, что, проявляя крайнее насилие, смогут отомстить за стыд, который испытывали, ощущая себя ничтожными, — они, подлинные хозяева!
Привязанность и школьное отречение
Иммиграция не является препятствием школьному обучению, даже напротив[199]. Многочисленные интеллектуалы часто воспитаны бедными, необразованными родителями, восторженное обожание которых они пронесли через всю жизнь, — как об этом рассказывают Камю и Тахар Бенжеллун. Главное препятствие учебе — процесс декультурации, протекающий в тех кварталах, где в почете архаичная жестокость и эротизация смерти. В подобном контексте переносимая, а главное — наблюдаемая своими глазами жестокость провоцирует неуправляемые эмоции, приводящие к травматическим разрывам. В культурах предместий почти 20 % неполных семей, где ребенка воспитывает бедная, заваленная работой мать, неспособны защитить своих детей. Более 30 % тех, кто долгое время сидит без работы, лишают детей возможности восхищаться отцами. Отсутствие культурных ритуалов — например, необходимости прилично одеться, чтобы пойти в кино с друзьями, или вступить в жаркие обсуждения, обычно возникающие после просмотра какого-либо спектакля, снижает саму возможность дружеских встреч. В таком социокультурном контексте коварно подкрадывающиеся, но явные травмы следуют чередой[200]. В сообществах, отказавшихся от ритуалов, чувство страха и депрессии возникает гораздо чаще, чем в бедных, но образованных группах[201].
В среде, где спасение возможно лишь благодаря образованию, неудачи в школе порождают отчаянный стыд. Жан-Люк умирал от стыда, потому что провалился на вступительных экзаменах в старшую школу. «Я — хуже, чем дерьмо», — говорил он мне, избегая смотреть в глаза. Но в культуре, не предполагающей других путей спасения, кроме как соблюдения семейных традиций, стыд возникает именно от осознания своего нежелания соблюдать эти традиции. В квартале Дерб Галлеф, Касабланка, принято гордиться собой, если посвящаешь себя семье. Там не стыдно продавать мелкие предметы, чтобы накормить родных. На нечетко очерченной территории живут примерно 20 тысяч человек — в основном внутренние иммигранты, выходцы из Беррешида и Деруа; там придумали спать на матрасах, которые кладут поверх досок, и торговать старыми книгами, часами и рыбой. Мужчины и женщины, попавшие в этот мир, гордятся тем, что посвящают работу своей семье[202]. «Я первый год изучаю право в Университете Хасана II и имею диплом бухгалтера Института Гете. Мой отец болен. У меня четверо младших братьев и три сестры. Я счастлив торговать мебелью» Или другое мнение: «Мой отец подарил мне эту лавочку. И было бы унизительно от нее отказаться. Я предпочитаю работать на рынке, а не в компании, куда я мог бы устроиться IT-специалистом».
Подобный вариант социализации не знает исключений: «Я работал в банке, имел диплом и носил галстук. И я часто ощущал тоску. Теперь я латаю автомобильные покрышки, у меня есть друзья, я беседую с ними, слушаю их рассказы и хорошо сплю».
В нескольких минутах ходьбы от рынка живут богатые и образованные европеизированные марокканцы. Личный успех помог каждому из них выстроить собственную судьбу, и если у них что-то не получается, они тоже умирают от стыда. В культуре, сформировавшейся в непосредственной близости от рынка, принято касаться друг друга руками, разговаривать и помогать друг другу. Понятие успеха принимает иные формы, отчего в свою очередь трансформируется и само чувство стыда.
Ситуация с еврейскими детьми, подвергавшимися преследованию во время войны, способна помочь нам понять, как особенности формирования социальной структуры могут поселить в душе ребенка чувство стыда или гордости.
Рассказы окружения и интимные чувства
Менее чем за три года гонений в Европе было убито 70 % всех взрослых евреев и 90 % детей[203]. За исключением Франции, где каждый третий взрослый (всего 76 тысяч) и каждый четвертый ребенок (11 400) были отправлены в Аушвиц и сожжены в печах. Парадоксально, что даже в представлении антисемитов-христиан требование носить на одежде желтую звезду выглядело шокирующим и вызывало ответный порыв солидарности — с движением «Банальность добра» и Еврейским Сопротивлением, которые занимались спасением людей. Сорок тысяч спрятанных от недоброжелателей и оказывавшихся в разных условиях детей требовали заботы. Меньшая часть попала в услужение к всевозможным тенардье, которые эксплуатировали и притесняли их, некоторые остались с родителями, но большинство выжили благодаря отваге крестьян, заботившихся об этих детях. Абсолютно всем детям ради спасения пришлось скрыть свое еврейское происхождение. Подобная социальная необходимость заронила в их головы сложное представление о себе: «Если я скажу, что я еврей, меня ждет смерть. Если не скажу, стану предателем». Стыд глубоко укоренился в их душах.
Это чувство было вызвано вариативностью повествования: дети слышали чужие слова, согласно которым все евреи — грязные, думают только о деньгах, что евреи составили заговор с целью обладания миром и что необходимо истреблять еврейских детей, прежде чем они начнут совершать преступления, которые обычно совершают евреи. Устами других они фактически были приговорены к «упреждающей» смерти… если бы они могли ответить! Но чтобы выжить, надо молчать. Легко! Есть лишь одно «но»: промолчав, они предавали тех, кто их любил; ответив, они приговаривали себя и их к смерти.
Подобные негативные реплики иногда высказывались даже теми, кто защищал евреев. Возникавшая между крестьянами и спрятанными ими детьми связь — нежная и грубая одновременно — существовала до момента, когда взрослый, вечно раздраженный нехваткой денег, объяснял экономический кризис «еще одним происком евреев». Иногда, напуганный жестокостью оккупационной армии, взрослый добавлял, что «война началась из-за евреев, и без них все было бы гораздо лучше!». В ответ на эту риторику дети не могли возразить, они знали, что еще слишком малы и приговорены молчать, к тому же им не хотелось вызвать злобу крестьянина, который их любит. Тогда они с иронией спрашивали: «Если бы ты увидел еврея, ты бы сразу узнал его, папочка, правда?»[204] Было в этом некоторое удовольствие — наблюдать за «папочкиным» промахом; эта своеобразная «дразнилка» убеждала ребенка в правильности выбранной модели поведения: кое о чем умолчать, чтобы жить в безопасности. Но это защищающее молчание порождало стыд: «Я боюсь рассказать о себе все, рассказать, кто я такой на самом деле. Мне немного стыдно, что меня любят другим. А таких, кто я есть на самом деле, не любят; значит, эта любовь не настоящая».
Подобная реляционистская стратегия, основанная на том, чтобы показать лишь часть себя, позволяет оставить в тени другую часть — опасную. Раздвоение личности приводит к тому, что одна часть становится реальностью («если расскажу — умру»), а другая ее отрицает (это не столь серьезно, как первое). Можно играть со смертью. Можно даже рассказать — так, что получится скрыться за словами. Достаточно рассказывать определенного рода истории.
Так все время поступают взрослые: говорят о том, чего не знают, произносят слова, которые повисают в воздухе, ничего не означая, — например, о том, что такое быть евреем. В годы войны закон вишистского правительства сделал евреев очень заметными, обязав их носить на одежде звезду. Не нашив ее, они рисковали быть арестованными во время одной из бесконечных полицейских «зачисток» улиц и общественных мест, а потом исчезнуть. Сделав нашивку, они были (бы) схвачены у себя дома, ночью, и… исчезли. То есть ребенок сначала осознавал, что его родители слишком выделяются на фоне других, а потом внезапно терял их. До момента исчезновения он успевал привыкнуть к родителям, пусть даже не гарантировавшим ему защиту. Да и потом он все равно продолжал любить их — исчезнувших и оставшихся только в его памяти.
Чрезмерная психологическая связь с пропавшими родителями, тем не менее, не облегчала формирование связи с приемными. «Если я полюблю этих людей, значит, я предам моих исчезнувших родителей», — думали многие сироты. Тем более что и в наступившее мирное время евреи продолжали быть видимыми или невидимыми. Большинство из них, прожив несколько столетий во Франции, к ортодоксальным евреям не относились и считали себя скорее французами, были и такие, кто с удивлением обнаруживал у себя еврейские корни только в момент ареста, но все выжившие имели причину прислушаться к словам публичного человека — Мендес-Франса, заявившего о своей принадлежности к еврейской нации: «Я хочу сказать, что я — еврей, но в действительности я не знаю, что означает „быть евреем“». Этой фразой он раскрыл свое происхождение, хотя раньше всегда заявлял о себе исключительно как о лишенном национальности политике. Появившаяся немного позднее в Европе строгая одежда правоверных, большие черные шляпы, белые рубашки без галстуков, косички над ушами тоже связаны с признанием евреями своих корней.
Дети, рожденные в определенной среде, привязываются к тем, кто занимается их воспитанием. День за днем они впитывают — как нечто само собой разумеющееся и доказывающее их еврейское происхождение — манеру одеваться, совместные молитвы и беседы. Совершающиеся у них на глазах ритуалы внушают им мысль о родовой принадлежности к группе тех, кто их любит. Разделенная с кем-то вера формирует общение, представления о мире, встречи дают реальную возможность выстраивать связи — во время коллективных трапез, выходов, семейных и религиозных праздников. Гордость от того, что твои родители живы, возможность любить их и восхищаться ими, истории, рассказанные в культурном контексте, и ценности коллектива — все это придает детям веру в себя и внушает самоуважение.
Спасенные (спрятанные) дети не могли ощутить это чувство принадлежности. Их родители умерли, и они плохо понимали, почему и куда те исчезли. Они даже не могли представить, какими были последние дни их родителей, настолько были защищены отрицанием невыносимого ужаса, который вызывает попытка представить это. Как можно представить отца и мать, идущих обнаженными по направлению к печи? Скорее, надо подумать о чем-то другом! Они не могли слышать истории о жизни родителей до их смерти — некому было их рассказывать. И поэтому они могли только одно: представлять родителей через обрывки истины: фотография здесь, намек там, переданная соседями квитанция на оплату жилья, доказывающая, что они когда-то жили в этом доме. Публичная дискуссия становится единственной молитвой за исчезнувших родителей и попыткой сорок лет спустя рассказать о том, что они дали увести себя на бойню, как бараны. И лишь спустя шестьдесят лет историки, порывшись в архивах, расскажут о том, что евреи сражались с нацистами в составе всех армий и участвовали во всех движениях Сопротивления[205].
Стыд, вызванный происхождением
В приемных семьях и учебных заведениях, где спасались эти дети, говорить о таких вещах было не принято. Надо было возвращать к жизни, идти вперед и, главное, не пережевывать свое прошлое. Воспитатели, защищавшие детей, превратили процесс отторжения в элемент неизбежной коллективной психологии, уничтожив драгоценную часть представлений человека о самом себе. «Я думаю только о том, как двигаться дальше, я не знаю, откуда иду, не знаю, как молиться за мою семью, мне неведомо, какие ценности я должен уважать, чтобы мои умершие родители полюбили меня. Мне стыдно за мое происхождение, стыдно, что я не такой, как все, стыдно, что мое происхождение обросло коростой. Вперед! Вперед! Вот единственный способ не чувствовать себя дурно. Если я хочу вернуться к жизни, я должен придумать себе будущее и отказаться от прошлого» — так думали спрятанные дети.
Те, кто окружен семьей, способной защитить, все детство демонстрируют свою любовь, пусть и без слов: одеваются как положено, чтобы показать, насколько они гордятся своей принадлежностью, молятся, как родители, чтобы разделить их веру; они живут в том же ментальном мире, что дает им ежедневно ощущать радость и блаженство.
Во время войны, чтобы не умереть, спрятанные дети должны были скрывать, что они евреи. После войны им пришлось скрывать, что их прятали, — чтобы и дальше жить, отказавшись от прошлого. Следовательно, они любили своих исчезнувших родителей украдкой. Они не могли говорить о своей любви, поскольку их новое окружение не было знакомо с их родителями и не могло внушить детям мысль перестать думать о них. Они использовали малейший знак, чтобы вернуться к воспоминаниям: «Не знаю, откуда у меня фото мамы. Наверное, его нашли в моей папке в картотеке „Ассистанс…“. На обороте, когда мне было семь, я написал: „Это — мама Иосифа“. Иосиф — это я, но я не рискнул написать „Фото моей мамочки“. Наверное, я неправильно произношу это слово. У меня не было возможности выучить, как оно произносится. Мне было два года, когда она исчезла. Когда я вырасту, у меня будет много ее фотографий, и я все их подпишу».
Иосиф спрятал коряво подписанную фотографию. В стене фермы он отыскал шатающийся камень, вытащил его и засунул в нишу коробочку с фото. Только он знал, где лежит его тайное сокровище, символизировавшее связь. Он часто думал о фотографии, иногда приходил взглянуть на нее, но никогда никому о ней не рассказывал. Он оставил в тени эту часть своей биографии, чтобы лучше явить на свет то, с чем проще всего было мириться другим. Однако благодаря сценарию «Спрятанное сокровище» и подписанному фото Иосиф стал учиться на режиссера… и стал им двадцать лет спустя.
Выбор прост: спасенные дети, которые всю жизнь прожили, скрывая прошлое, зарыли стыд в глубине собственных душ. Те же, кто, наоборот, был вынужден заполнить пустоту исчезновения признанием своих корней, выбрали более креативный путь. Они превратили страх бездны в удовольствие расшифровывать тайну. Когда эта тайна становилась предметом, интересовавшим их окружение, ребенок, получивший приют, чувствовал возможность выразить себя и что-то сделать со своей травмой. Превращение пустой могилы в произведение искусства (роман, фильм, эссе) позволяет жертве стать из предмета торга «плодом воображения»[206]. Превращение гусеницы в бабочку возможно лишь тогда, когда об этом говорят окружающие.
Когда после войны окружение стало использовать в повседневной речи слова «жид», «бошское отродье», «педик» или «негр», эмоциональная нагрузка этих слов формировала репрезентацию, позволяющую забыть про нанесенные травмы. Грубый, надменный дискурс не оставляет обществу возможности для диалога; поэтому евреи, немецкие дети, гомосексуалисты и черные умолкают. Единственный дискурс, распространяющийся на все культурное пространство, наполнен триумфальным сарказмом: «Мы принадлежим к расе благополучных, мы не евреи! Наши женщины не практикуют „горизонтальный коллаборационизм“, они чисты. Наша сексуальность — здоровая, наша кожа бела. Значит, у нас есть все основания выиграть войну».
Вынужденное молчание не мешает размышлять, однако не дает возможности поделиться опытом. Когда социальный дискурс настолько презрителен, а унижаемый не способен восстать, он думает только об одном: своей совести. Зачастую он находит способ приемлемого всеми культурного самовыражения: поэзия, пение, театр, роман, эссе или ирония. Необходимость молчать вынужденно становится произведением искусства.
Культурная атмосфера военного и послевоенного периода, помимо прочего, характеризуется двумя противоположными (по смыслу) типами дискурса: «попугайной болезнью» и «склепом поэтов». Пситтакизм — способ как можно быстрее выплевывать слова, убеждающие, будто мы что-то понимаем. Естественно, все наоборот, однако прозрачность произносимого влияет на непонимающих. Подобный культурный прием дает возможность создать иллюзию внятности и защититься от чувства вины. Я могу на всех парах выпалить какую-нибудь психологическую теорию, в которой ни слова не понимаю. Но если, потренировавшись, я сносно ее излагаю, вы будете впечатлены моей виртуозностью. Я доволен тем, что впечатлил вас.
Заставляющие стыдиться и их лингвистический камуфляж
Если мне не по себе от того, что я за небольшую премию от комиссариата выдал полицейским своего соседа-еврея[207], у меня — дабы я не испытывал чувства вины — появляется вполне закономерный интерес пересказывать теорию жидо-масонского заговора. Если меня беспокоит моя сексуальность, простое презрение, обращенное на педиков, заставляет меня поверить, что я не так ничтожен, как они. А если я ничего не сделал в жизни, мне достаточно насмехаться над негром-шимпанзе, чтобы занять более высокое место в общественной иерархии. Этот лингвистический камуфляж[208] защищает меня, им я могу маскировать свою незавидную реальность, не чувствуя никаких угрызений совести.
В послевоенные годы все рассказы строились таким образом. Чтобы не воскрешать в памяти невыносимые картины смерти — тела гражданских лиц, погибших во время бомбардировок, — достаточно было поговорить о «вражеских союзниках» или «неизбежных потерях». Чтобы не думать о женщине или ребенке, застреленных в голову, достаточно поскорее написать административный рапорт и витиевато обойти неудобные пункты. Канцелярский язык состоит из клише и позволяет избежать выражения эмоций[209]. Общие места или стереотипы нивелируют представления об ужасном. Но в этом случае выживший оказывается в окружении историй, защищающих агрессоров. Убийца старается не думать, чтобы не страдать, а переживший травму думает лишь о ней, но не может сказать вслух. Он даже не может свидетельствовать о чем-либо, если недоверчивое окружение насмехается над ним или снижает значение травмы с целью избавиться от чувства вины. «Изнасилованные женщины сами отчасти виноваты, не так ли? Любопытно, что евреев постоянно преследуют. Что они такого сделали, чтобы их преследовали? Что делают женщины такого, что их насилуют? Посмотрите-ка на таиландского премьер-министра, заявившего, что в инфляции виноваты евреи. Что касается чернокожих, то, сколько им не дай денег, они думают лишь о футболе и о том, как бы перерезать друг друга своими мачете».
Очутившись в таком вербальном контексте, униженный совершенно ясно понимает: молчать — означает найти легкое решение проблемы. Молчание становится инструментом адаптации, позволяющим существовать в обществе, проникнутом такими идеями, не раскрывая часть своей личности. Восставать в одиночку кажется абсурдным в сравнении с гигантскими размерами и мощью культурного стереотипа. Но всегда есть возможность, по крайней мере, высказать что-то вслух и талантливо превратить свою травму в культурное событие. История одного человека, поначалу вполне маргинальная, способна изменять коллективные представления.
Любая вера принимает вид системы образных, словесных, мифических представлений, а также предрассудков, формирующих коллективные проекты. Любая вера — это индуктор внутренних чувств индивидов, разделяющих одни и те же воззрения. Рассказываемая история вызывает эмоции и увлекает абсолютно всех. Фразы, унижающие негров и педиков, — словесный прием, позволяющий унижающим сохранить самоуважение. Однако чернокожие и гомосексуалисты, оказывающиеся героями этих историй, вопреки своему желанию вовлекаются в чужие представления — тех, кто над ними насмехается. Согласиться с услышанным или отреагировать? Унижаемый не всегда обладает подобной свободой. В конце Второй мировой войны матери-француженки, родившие от немецких солдат, также были вынуждены прятать своих детей. Малыши росли в исключительно драматичных условиях. Едва они родились, как крах нацистского режима вынудил их испытать на себе все беды отцов и матерей, им пришлось научиться молчать, чтобы не подвергаться издевкам. В первые же месяцы жизни изначальная эмоциональная связь была утрачена — из-за родительского стыда, возникшего по причине участия матери в порочащих связях, — матери, всегда мрачной, беспокойной, а иногда и отказывающейся от новорожденного, ведь он означал для нее совершенно понятное: «Из-за тебя я в опасности. Мне стыдно, поскольку твое присутствие демонстрирует людям мою причастность к тому, что они называют „горизонтальным коллаборационизмом“, я — всего лишь немецкая подстилка». В подобных историях любовь француженки к немецкому солдату становилась синонимом предательства. Преследуемая мать и отец, о котором нельзя говорить, стали поводом наложить вето на любые рассказы о корнях. Ни малейшего права знать свое постыдное происхождение! Прежде чем эти дети смогли заговорить, они были вынуждены расти в семьях, где эмоциональные связи были нарушены материнским несчастьем и табу на произнесение имени отца. Вместо отца — тошнотворное черное пятно, к которому нельзя прикасаться. У этих детей слишком поздно и трудно вырабатывалась устойчивость. Некоторым пришлось ждать 1990-х, чтобы (вначале художники, а потом писатели) рассказали об этой проблеме в своих произведениях, таким образом поместив ее в культурный контекст[210]. Виноваты ли эти дети? Действительно ли их родители — преступники? Изменившийся социальный контекст позволил заговорить историкам, рывшимся в архивах и искавшим свидетельства тех событий[211]. Они обрели устойчивость спустя пятьдесят лет — примерно тогда же, когда и еврейские дети, спрятанные во время войны.
Чернокожие и желтая звезда
Чернокожие не должны бояться взглядов других и слушать истории, которые рассказывают нечернокожие. Любопытно говорить «чернокожие» — как будто произносишь: «Голубоглазые любят классическую музыку и работать». Значение, приписываемое цвету, логично связано с историей цивилизации — той эпохой, когда «нечернокожие» располагали кораблями, оружием, технологиями и идеологиями, закреплявшими за ними все права. Но отнюдь не цвет является доказательством принадлежности к низшей расе, он просто отражает определенное социальное положение. Иметь черную кожу или голубые глаза — само по себе мило, но когда «чернокожий» означает «недочеловек», а «голубоглазый» — признак тех, кто вручил себе власть управлять, «черная кожа» становится своего рода стигматом представителей низшей расы, наглядно рассказывающим историю унижения раба или изнасилованного ребенка. И именно смысл рассказываемого вызывает стыд, а вовсе не сам факт наличия черной кожи — ведь ее владелец, быть может, является потомком какого-нибудь принца, плодом большой любви или просто титулованным человеком.
Многие чернокожие испытывают чувство стыда, ловя на себе взгляды других. Они даже разработали собственную иерархию оттенков черного цвета. Обесценивание образа приводит к появлению историй о черных — и остальных, не— или менее чернокожих: «Я страдаю, когда вижу, как на меня смотрят белые; поэтому я буду покупать продукты белого цвета и разобью термометр, чтобы увидеть, как ртуть белеет на моей коже». Чернокожий даже может размышлять так: «Я презираю белых, презирающих меня, и заставляю их узнать об этом». Ответ агрессией на агрессию — закономерная защита, она требует от униженных вести себя «зеркально». Чернокожие выбирают жизнь среди себе подобных, чтобы в минимальной степени ощущать присутствие белых. Однако сегодня многие чернокожие, подобно Нельсону Манделе, решаются продемонстрировать свое благородство — чтобы белые посмотрели на них иными глазами: «Взгляните, как я красив, силен и благороден. Я не проповедую месть, я расскажу вам, что вы заставили меня пережить». «Показать, не обвиняя. Важность рассказываемого оказывается важнее процесса говорения»[212]. В ЮАР многие белые, представшие перед Комиссией Истины и Примирения, плакали и признавались: «Я не отдавал себе отчет в том, что именно мы заставили их вытерпеть». Когда истории выглядят иначе, нежели раньше, меняется и сам смысл рассказываемого.
Если женщина говорит: «Муж видит во мне красавицу», она участвует в игре «эмоциональное зеркало», где каждый сравнивает себя с представлениями о нем другого, словно говоря: «Я чувствую себя желанной, поскольку он меня хочет. Блеск желания в его глазах заставляет меня взглянуть на саму себя иначе».
Бенжамену было одиннадцать, когда ему пришлось пришить на одежду еврейскую звезду. Он рассказывает: «Я топтался за дверью целый час, не решаясь выйти, а потом резко бросался на улицу, где меня ненавидели, презирали, поносили, толкали. Простой взгляд другого на „меня-со-звездой“ заставлял меня буквально исчезнуть от стыда… После Освобождения я захотел поменять имя, хотел, чтобы меня звали Дюпон, как всех вокруг. Другие больше не смогли бы — как мне казалось — видеть меня насквозь, я стал бы свободен».
И напротив, многие евреи, перед тем как выйти из дому, тщательно выряжались — как в воскресный день. Сейчас слово «выряжаться» почти исчезло из нашего обихода, и по воскресеньям мы больше не надеваем красивый костюм, платье, шляпу и белые перчатки. Еврейская семья «выряжалась» и прикрепляла на одежду звезды, а некоторые христиане, проходя мимо и желая засвидетельствовать им свое почтение, приподнимали головные уборы.
Простая тканевая нашивка меняет отношение окружающих к носящему ее и перестает выглядеть банальной. При ее наличии все становится опасным. «Доктор Шарль Майер был арестован, потому что носил свою звезду слишком высоко… Одна из дам воскликнула: „Это — знак торжества их дурной веры!!!“»[213] За то, что он «не так» пришил звезду, Шарль Майер был измучен пытками и убит. Элен Берр, знакомая доктора, ощутила, как меняется ее собственный внутренний мир от того, что меняются люди вокруг. Прогуливаясь с другом, она зашла в маленький сквер возле собора Нотр-Дам и присела на скамейку поболтать. Сторож яростно набросился на нее и оскорбил — ведь сидеть на скамейке сада евреям было запрещено.
Чернокожие, зоопарк и психиатрические лечебницы
Чернокожие тоже сталкивались с этим: в ЮАР и Соединенных Штатах. Они должны были стоять там, где сидеть им не положено, а в автобусах занимали места в задней части салона, тогда как белые садились спереди. В 1930-е гг. во Франции негритянские семьи помещали в зоопарках между жирафами и слонами[214]. Маленькие хорошо воспитанные парижане приходили посмотреть на негритянок, умиравших от стыда и отчаяния, когда они пытались кормить своего малыша. Сегодня стыд живет не в душах этих женщин, выставленных напоказ в зоопарке, но в самой культуре, сделавшей подобный шаг!
И ведь такой шаг рискнули сделать все культуры! Как только человек перестает вписываться в норму, остальные — «нормальные» — принимаются уничтожать его своим высокомерием, словно похожесть на других является основанием для унижения тех, кто отличается от остальных. Устрашающая власть «попугаев» время от времени дает возможность наслаждаться садистскими забавами, унижая дурака, сироту, негра, иностранца или животное из зоопарка. Вы не ошиблись! Существует родство между психиатрической лечебницей, зоопарком и негром в клетке. В письме императору Карлу V Кортес рассказывает о «мраморном замке правителя Монтесумы, богато украшенном яшмой, великолепными садами, где порхают птицы… с большими клетками для львов, тигров, волков, лис… которых заботливо охраняют триста слуг… В другом доме, — пишет Кортес, — живут карлики, горбуны и прочие уродцы… странные существа, у которых от рождения совершенно белесые тела, лица, волосы, ресницы и брови… У них тоже есть свои сторожа»[215]. Врожденное отсутствие пигментов, придающих коже определенный оттенок, помещает альбиносов в ситуацию, схожую с той, в которой оказались позднее чернокожие. При диктатуре «нормальности» считается нормальным сажать в клетку странных существ: жирафов, слонов, альбиносов и негритянок.
Некоторые итальянские князья эпохи Ренессанса держали в своих зверинцах негров, татар, мавров, и даже знаменитый Виктор — «дикий ребенок из Аверона» — оказался в Ботаническом саду и находился там до тех пор, пока им не заинтересовался доктор Итар, передавший его своей гувернантке, которая стала учить Виктора говорить[216]. В то же самое время в Америке цирк Барнема показывал зрителям медведей, тигров и краснокожих, а в гамбургском зоопарке Хагенбек разгуливали семьи лапландцев, нубийцев, калмыков, патагонцев и готтентотов.
Когда «нормальность» — биологическая особенность, никто не избегает ее, поскольку всякое человеческое существо имеет сахар в крови, примерно один грамм на литр. Когда «нормальность» является аксиологической характеристикой, ее все избегают, поскольку у каждого из нас — своя собственная история, и мы приписываем тому, что видим, свои значения, наделяя увиденное собственной ценностью. Но когда «нормальность» закреплена нормативами, стремление к комфорту позволяет нам слушаться главного и считать, что существует лишь одна правильная манера жить — его! (и наша — ведь мы ее отстаиваем). И безо всякого смущения мы сажаем в клетку — ради удовольствия доминантов и обучения детей — слона, негра или дурачка.
Точно также в XVIII–XIX вв. люди посещали с визитом лондонский Бедлам. Триста человек ежедневно платили пенни, чтобы пройтись по переходам над двором, где находились сумасшедшие, или перед дверями комнат, где можно было заговорить с «психами», посмеяться и ради развлечения бросить им бутылку с алкоголем. Когда культура развивается и для изучения становятся доступны ментальные миры животных, сумасшедших, негров и альбиносов, их уже неловко сажать в клетку. Поэтому несколько десятилетий спустя мы наблюдаем за очеловечиванием приютов и зоопарков! Мы больше не можем посадить в клетку чернокожего, избранного президентом Соединенных Штатов, и сомневаемся, стоит ли нам запирать пантеру или льва, способных угадывать наши жесты и позы.
Если меняется культурный контекст, вслед за ним меняется и самоощущение человека. Негритянка в зоопарке умирает от стыда и отчаяния. Но когда культура тоже начинается стыдиться делать подобное, негритянка становится женщиной — такой же, как и остальные (те, что с голубыми глазами, — да-да, именно так). «Обожающий негров болен не менее, чем тот, кто их проклинает», — говорит антильский психиатр Франц Фанон[217], который признается, что ему было стыдно быть чернокожим. Лишь став «дипломированным негром», закончив «белый» университет, лишь начав сражаться против расизма и колониализма, он смог забыть про клеймо позора. Он постарался отыскать достойные подражания образы чернокожих, что помогло бы ему подняться в собственных глазах. И разумеется, он нашел их. Во время каждой встречи он убеждался, что в деградации его образа виноваты исключительно предубеждения. Ежедневное уничижение толкает стыдливых искать спасительные образы, а иногда придает им и долгожданную смелость. «Речь идет о выходе из адской межпоколенческой западни, возникшей из-за того, что образ чернокожих со времен рабства был обесценен. Потому-то… организация рынка потомков бывших рабов стала главным фактором исцеления наших душ»[218].
Глава 6 Смешанная парочка: стыд и гордость
Семья — атом общества
Стыд ничему не служит. Но стыдящийся уговаривает себя, что стыд морален. Он считает себя стыдливым, поскольку сам уважает других и приписывает взглядам этих других определенную значимость. Начиная учить кого-то другого, он чувствует себя униженным. Так стыд становится оружием, силу которого стыдливый приписывает взгляду другого.
В Древней Греции чувство стыда управляло культурой. Этот непростой процесс позволил зародиться демократии и дал возможность любому свободному человеку право судить. С тех пор общественное мнение получило оружие социального контроля: стыд!
Бургундцы считали стыд «зловонным», что позволяло укреплять супружеские пары, ведь любая встреча на стороне воспринималась как серьезное преступление. В Виндеби женщину, изменившую мужу, бросали в болото, где торф консервировал ее тело. Еще сегодня встречаются случаи удушения тринадцатилетних беременных кожаным шнурком[219]. В некоторых недавно открытых цивилизациях (1951 г.), например в племени бария на острове Новая Гвинея[220], мужчинам, изменившим своим супругам, вспарывали животы и подвешивали их печень сушиться на столбах, установленных посреди деревенской площади. Галльско-римский император Мажориан принял закон, предписывавший обманутому мужу убивать на месте жену и ее любовника. Франки оказались еще более радикальными: они считали, что все потомство женщины, запятнавшей себя неверностью, включая детей и внуков, покрыто позором. Иногда той, которую сочли виновной, давали шанс, подвергая ее водяной ордалии. К ее шее привязывали камень и бросали в реку: если женщине удавалось поплыть, это становилось доказательством ее невиновности.
Чтобы жить в коллективе, супружеской чете совершенно необходимо быть непогрешимой. Инцест благодаря своей эндогамии, воспринимаемой как связь, основанная на теснейшем чувстве близости, может считаться менее серьезным преступлением, чем адюльтер[221]. В социуме тело рассматривается как полезный инструмент. Девственность женщин и жестокость мужчин становятся моральными характеристиками. Потому-то девственниц и выбирали жрицами в храмах, считая их почти богинями; если же им случалось отдаться хотя бы одному мужчине, они, таким образом, начинали расшатывать звенья все скрепляющей цепи. Иштар, Астарта и Анат, божества плодородия и любви, считались девами, хотя — согласно мифам — у всех этих «великих матерей» (Magna Mater) были любовники и по нескольку детей. В данном случае «быть девой» не означало оставаться непорочной, но служило характеристикой «незамужней женщины»[222]. Ни один мужчина, пусть даже божественной природы, не мог прикасаться к этим «девам», которые, тем не менее, могли рожать. Египетская богиня Нейт не нуждалась в мужчине, чтобы родить солнечный диск Ра. Артемида не принимала любовь, а Афина, с ее-то стрелами и щитом, не видела необходимости иметь рядом с собой мужчину-защитника. Чтобы остаться чистой и непорочной, Гера, жена Зевса, мать многочисленного семейства, каждый год купалась в источнике Кана — и таким образом вновь обретала девственность[223]. Сегодня в Неаполе, Бейруте или Вашингтоне девственную плеву восстанавливают хирурги, а вовсе не воды Каны; это значит, что старый принцип все еще действует: женщина до свадьбы формально должна оставаться чистой, нетронутой. Даже если у нее был с десяток любовников. Принцип «непорочности» избавляет женщин от сексуальных контактов, не одобренных коллективом, и в то же время женщина сама выбирает мужчину, который станет отцом ее ребенка. Следовательно, девственность — характеристика моральная! Отцы Церкви утверждали, что Ева была приспешницей сатаны, но не могли сказать то же самое о Марии — ей необходимо было оставаться девой. В том случае, если сексуальная мораль структурирует общество, девственность становится символом чистоты, а ее утрата расценивается как доказательство безнравственности, разложения, коллективного стыда. Женщины, выходящие замуж с порванной плевой, не укладываются в идеалы коллектива. Плева выступает анатомическим доказательством, что дети, родившиеся у той, что до брака была девственницей, будут любимы мужчиной, благодаря которому они появились в коллективе. Девственница и ее супруг пользуются почетом, тогда как та, что потеряла невинность до брака, объявляется предательницей, покрывает позором семью — всю целиком, и даже ее последующие поколения. Родившиеся вне брака дети ужасающим образом страдают от этой культурной репрезентации.
Плева как предмет социального дискурса
Плева — предмет социального дискурса, характеристика женской чистоты. Подчинившись правилам брака, она поддерживает мораль в семье; напротив, женщина «нечистая» заставляет своих родных стыдиться. В таком культурном контексте дефлорация, совершающаяся в первую брачную ночь, — это доказательство «правильного» морального облика женщины и силы мужчины, который сможет стать отцом. Утром всем гостям демонстрируются простыни с пятнами крови, и толпа принимается аплодировать той, которая, сохранив себя невинной для мужа, согласилась стать прочным звеном цепи — надежной участницей коллектива. Мужчина дается женщине, а женщина — обществу. Она может гордиться своей девственностью, утраченной в первую брачную ночь, — согласившись с тем, что коллектив посвятил ее чрево усилиям, направленным на дальнейшее выживание.
Чувство стыда или гордости, коренящееся в глубине души, зависит от культурного дискурса — иногда удивительно вариативного. Главное — это супружеская пара, маленькая ячейка общества и фабрика по производству детей. В подобном контексте секс — лишь средство структурирования группы и воспроизводства детей. Поэтому до IX–X вв. церемония бракосочетания совершалась у входа в церковь. Было достаточно того, что священник соединял руки жениха и невесты и соединял пару вслух. Лишь в XVII столетии и позднее брак стали заключать непосредственно в храме — там было заметно, беременна ли молодая[224]. Возможно, невеста даже гордилась тем, что ждет ребенка, и она даже представить не могла, что в Викторианскую эпоху подобная ситуация будет источником жесточайшего стыда.
До XVIII в. нотариально заверенный акт о заключении брака был важнее, чем религиозная церемония, — это и сейчас проходят в школе, изучая мольеровские пьесы. Социальное значение совершившегося было намного важнее, чем интимное соединение молодых. Вступая в сделку, женщина заверяла всех в том, что она девственна, а мужчина — что он обладает мужской силой. Даже государь не мог избегнуть этой необходимой гражданской и сексуальной процедуры. «Мужской орган короля не твердеет по причине грусти…» Однако король, у которого «не твердеет» член, не может воспроизвести потомство и передать свою власть. «Сексуальная слабость равнозначна потере трона»[225].
У египтян, античных греков, бургундов, новогвинейских бария чрево женщины и мужская эрекция считались собственностью государства или племени. Нерушимая чета представляла собой некое подобие социальной молекулы, необходимой для выживания всего коллектива. После того как пара образовывалась, ее сексуальная жизнь никоим образом не могла быть кодифицирована обществом. Но до вступления в брак был широко распространен процесс содомии, считавшийся актом, исполненным определенной морали, — ведь он позволял избежать дефлорации до замужества[226]. Позднее, в христианское Средневековье, когда сексуальная жизнь стала выступать в роли социального контракта, заключаемого двумя людьми, содомию сочли худшим из всех преступлений[227], своего рода сексуальным обманом, суть которого состояла в отказе зачинать и рожать детей. В сегодняшнем культурном контексте, где выживание коллектива дело намного более легкое, чрево женщины уже не принадлежит государству, но только ей самой, тогда как содомия все еще воспринимается как мошенничество, на которое — ради сексуальной игры — решаются некоторые партнеры.
В техногенном обществе, где религия сохраняет свою организующую и запретительную силу, как, например, в Марокко, тамошние молодые люди отделяются от своих семей достаточно поздно — поскольку им необходимо время, чтобы овладеть какой-нибудь профессией. Однако в богатых семьях, где созданы хорошие условия для обучения и воспитания детей, процесс пубертации наступает гораздо раньше. Пробуждение интереса к сексу наталкивается, тем не менее, на необходимость ждать — ведь браки, повторю, в целом заключаются поздно. Тогда «молодые придумывают способ, как обойти возникшее препятствие… и прибегают к сексуальным актам без проникновения… сохраняя плеву нетронутой… что, по сути, больше не означает „сохранения девственности“»[228]. Вступая в брак в возрасте двадцати пяти лет, женщины имеют девственную плеву и богатый сексуальный опыт.
Похожий феномен существует и в пуританском обществе США, где некоторые девушки из Дакоты участвуют в «балах чистоты», практикуя такое, что заставило бы умереть от стыда европейку, к моменту вступления в брак давно переставшую быть девственницей.
Когда насилие обладало оттенком морали
Чувство любви, испытываемое в браке, рассматриваемое на Западе как доказательство сексуальной морали и взаимоуважения супругов, долгое время считалось абсурдным. Римляне насмехались над влюбленным мужчиной, который, томясь рядом с красавицей, был не готов к решительному сражению. В многочисленных культурах супружеская любовь воспринималась как нечто непристойное: «Нет ничего более нечистого, чем любить собственную жену, питая к ней чувство, подобное тому, которое испытывают к любовнице»[229]. Во время провансальских «Судов любви» XIII в. дамы всенародно объявляли, что выходить замуж можно только за имя или состояние мужчины, а никак не по взаимному чувству, которое остается уделом любовников[230]. В подобных культурных контекстах заявление мужа о том, что он любит жену, и наоборот, показалось бы нам настолько смешным, что стыд заставил бы нас молчать. Единственные авантюры, которые могли в то время вернуть мужчине гордость, — это Красное и Черное, оружие и вера, шпага и сутана. Любая чувственная связь, любовь, испытываемая в браке, унижали бы достоинство человека и становились источником смущения.
Что касается проявлений эротизма в браке, то здесь тоже есть о чем поразмышлять! До начала XX в. жены, уставшие от постоянной заботы о ребенке, отправляли своих мужей в бордель — чтобы чувствовать себя спокойно. Мне приходилось разговаривать с девяностолетними дамами, которые признавались, что, когда оргазм внезапно настигал их в объятиях мужей… они испытывали стыд! «Совсем как женщина легкого поведения, — добавляли они. — Порядочная женщина делает это только из чувства долга». Невероятно, в какой степени культурный контекст и определенная структура социума могут вызывать в глубине наших душ реальное чувство стыда или гордости.
Мужчины также подчинены этим социоинтимным процессам, правда, мы не говорим о плеве или материнстве, а говорим о смелости, физической силе и оцениваем себя как дар, преподносимый кому-либо. Мужчина умирает от стыда, если не может работать, — это значит, что он не достаточно крепок, находчив или даже не готов постоять за себя. В эпоху, когда образуются сообщества, неравность базируется на физической силе и на поддержке коллектива.
Начиная со Средневековья, социальное доминирование аристократов опиралось на владение землями и строительство замков с использованием рабочих рук простолюдинов. Физическая сила, владение оружием и знание определенных кодов вежливого поведения позволяло богатым по нескольким жестам узнавать друг друга; и наоборот, оказываясь среди черни, необученной хорошим манерам, они оказывались в растерянности. После периода Ренессанса (XV–XVI вв.) социальное доминирование определялось обычаями, ритуалами, кроем одежды, умением охотиться и сражаться на дуэлях. Боязливый мужчина, не решающийся драться, не мог законным образом доказать, что достоин править. Многие предпочитали умереть на дуэли, чтобы только не умереть от стыда. Таким образом, для того чтобы править, опираясь на чувство стыда, достаточно изобрести какой-нибудь кодекс чести, который позволит удалить из сообщества тех, кто не вписывается в него. Чем ниже мы спускаемся по иерархической лестнице, тем больше наблюдаем стычек, где в дело идут кулаки, ноги и головы. Конформизм неравенства заставляет мужчин выбирать между почетом насилия и стыдом, вызванным отказом от этого насилия[231]. Мужчина, умевший сражаться на дуэлях или выяснять отношения с помощью кулаков, считался достойным, поскольку он был готов принести свою брутальность в помощь коллективу в трудной ситуации. Но когда коллектив больше не находится в состоянии опасности, та же самая жестокость утрачивает свою защитную функцию и становится разрушительницей семей и коллектива в целом.
Если мы больше не нуждаемся в жестокости, чтобы с ее помощью поддерживать социум, можем ли мы сказать, что материнство сохраняет свое социальное значение? В эпоху, когда мужчины формируют общество посредством кулаков, а женщины — чрева, любовь становится отдаленно похожей на розовую воду. Мы смеемся над влюбленным римлянином, сочувствуем сентиментальному приключению Элоизы и Абеляра, восхищаемся любовными заявлениями Данте, обращенными к Беатриче. Любовь, конечно, существовала, но присутствовала лишь в поэзии. Это сентиментальное второстепенное чувство могло бы стать самостоятельной культурной ценностью лишь при условии, если социум приведет себя в порядок. Женитьба унижала бы мужчину, а любовь — еще сильнее, поскольку она мешала приключениям на стороне. Еще недавно великий навигатор Табарли говорил, что только большая любовь могла бы помешать плаванию по морям. Он довольно поздно нашел себе женщину, которая стала сопровождать его в мореплаваниях, то есть ждал этой любви шестьдесят три года, и только в этом возрасте согласился на столь прекрасное сентиментальное приключение, признав, что пора остепениться.
Не так давно женщины согласились с возможностью жить благополучно. Новые условия существования позволяют им избегать окружения. В этом контексте брак и дети воспринимаются теперь как вмешательство в частную жизнь и даже как причина отчуждения[232]. Материнство меняет свой смысл: родить ребенка более не является актом, способствующим выживанию коллектива; теперь это — препятствие к самореализации. Святой Павел писал, что мы можем вступать в брак, если не способны на большее, Паскаль полагал, что жизнь в браке унижает мужчину, а Табарли утверждал, что только большая любовь может помешать его путешествиям. И эти мужчины сегодня передают эстафету женщинам, которые тоже полюбили свободу.
По-прежнему ли необходимо страдать?
Еще не так давно страдание было неотъемлемой частью существования: каждую зиму люди умирали от голода и холода, как до сих пор происходит в бедных, слабо развитых странах. Искусство переносить страдание также было частью кодекса чести. Мужчина не имел права избегать страдания, ведь с этим напрямую была связана его мужественность[233]. Он должен был страдать и молчать, малейшее сожаление покрыло бы его позором. Мужчины воспринимались как герои, когда спускались в шахту или спали прямо в спецовках на стройплощадках. Они гордились возможностью молча страдать и отдавать все заработанное супруге, управлявшей домашним хозяйством. Но для женщины подобная героизация не носила положительный оттенок, поскольку узаконивала власть мужчины: «Я страдаю ради тебя, отдаю тебе все, что заработал, это мой долг чести, а ты должна прислуживать мне за столом». Честь и мужественность считались тесно взаимосвязанными, и когда мужчина не был столь мускулист, чтобы грузить уголь в вагонетки, когда болезнь вдруг делала его слабым или когда употребление алкоголя ставило его вне общества, то семья умирала от стыда. В подобном суровом контексте, провоцирующем страдание, мужские мускулы и женская добродетель — суть адаптивные ценности. Мы молча страдаем и гордимся этим. Мы сохраняем себя для супруга, которого выбрал для нас социум, мы служим ему и гордимся этим. Однако когда — благодаря развитию технологий — окружение становится более терпимым к нам, честь превращается в нечто «старомодное», а мужественность приобретает смешной оттенок — мы говорим «мачо», тем самым выражая свое презрение.
Только представьте, что в идеальном социуме, в культуре, где царит мир и любой человек имеет невероятные возможности для развития и роста, нам не требуются никакие механизмы защиты семьи или коллектива. Дети, рождавшиеся на свет случайно или ради удовлетворения архаичной прихоти иметь ребенка, оказались бы в ситуации полного обеднения связей. Эмоциональная индифферентность, которая в подобной ситуации стала бы результатом воспитания, привела бы к появлению людей с чрезмерно развитым чувством нарциссизма, сосредоточенных лишь на самих себе.
Разумеется, реальность всегда сложнее, чем мы думаем, поскольку мы можем оценить лишь очень и очень небольшую ее часть, с которой мы соотносим выстраиваемые нами репрезентации. Невидимая часть может внушать нам страх или даже наносить травмы. Чтобы противостоять неведомой реальности, надо попытаться представить то, какова она у других, — те тысячи различных форм, возникновение которых зависят от культурных особенностей. Все они необходимы и часто оказываются дорогостоящими, но мы охотно платим эту цену, чтобы защитить себя.
Когда насилие направлено на внешнего врага, подчинение вождю становится более действенным. Мы направляем силы на уничтожение врага, устранение ледяной атмосферы, охоту на животных, которых боимся, а иногда и на то, чтобы приручить их; на то, чтобы победить соседний народ, посягающий на наши блага. Насилие, обращенное на внешнего врага, сочетается с подчинением вождю — именно так мы можем выжить. Мужчина, не готовый посвятить коллективу свою силу и брутальность, и женщина, не готовая предоставить в распоряжение мужчины свое чрево и прислуживать ему, достойны бесчестия. В подобном контексте архаической социализации преданность усиливает власть вождя, а он в свою очередь может рассчитывать на поддерживающих его людей. Если он победит, верная толпа разделит с ним эйфорию, а часть его славы достанется подданным. «Гордясь своим вождем, мы гордимся собой, но если вдруг он окажется не на высоте, мы пожертвуем им — чтобы не делить с ним его поражение». Эта стратегия предполагает, что любой лишенный верности своему правителю индивид способствует ослаблению коллектива — он должен быть изгнан, отвергнут, выброшен прочь, подвергнут пыткам или перевоспитан в соответствии с идеологическими установками. Стыд становится оружием сплоченных. Угрожая позором не желающему подчиниться, конформизм способствует приходу к власти того, кто подчинился.
Совокупность чувств — гордости подчинившегося и стремления обрушить всю жестокость на внешнего врага, узаконивает существование войска и объясняет, почему солдаты должны быть красивы, послушны и относиться к врагу с бешенством, которое подогревает в них командир. Дезертирство или простой отказ подчиниться — повод для позора; предатель должен быть изгнан прочь из коллектива, ослабленного его действиями. Нацисты говорили: «Стыдно быть слабым и не повиноваться, не иметь сил выстрелить в голову ребенку: тем самым мы рискуем оставить в живых будущего врага Гитлера»[234]. В Руанде хуту пользовались похожим аргументом, передавая по «Радио Тысячи холмов»: «Не жалейте детей. Если вы не будете их убивать, через несколько лет вы столкнетесь с ними, но тогда у них в руках будет оружие, обращенное против вас»[235]. «У меня не было сил пытать этого человека», — признается солдат, стоя перед военным трибуналом, который обвиняет его в том, что он не смог пыткой вырвать у врага местонахождение вражеского оружейного склада. Малодушие этого солдата стало причиной смерти его товарищей.
Когда подчинение придает силу
Чувство стыда или гордости зависит от того, какое место мы занимаем в коллективной репрезентации. Именно поэтому риторика играет здесь основополагающую роль. Мы клянемся в верности королю, президенту, главе нашей компании и даже властителю наших дум. Повиновение сакрализовано, мы горды тем, что подчиняемся тому, кто правит благодаря нашей верности. Именно поэтому вполне логично, что люди со всем тщанием повинуются приказам бредящего вождя. Нам было бы стыдно предать того, кто представляет наши интересы. Любое вероломство стало бы нашим отказом от самих себя. Эта риторика в конце концов превращается в семантическую систему идеологического контроля. Когда гусары Наполеона заплетали косички над висками, собирали в пучок волосы на затылке, чтобы казаться мужественнее, и носили облегающие штаны, стремясь подчеркнуть размеры своих гениталий, они следовали дословной риторике, социальному дискурсу, означающему буквально следующее: «Я подчиняюсь норме, правильно одеваюсь — именно так должен одеваться гусар, готовый следовать за своим командиром повсюду и даже погибнуть». Попробуйте сегодня, дорогой месье, заплести косички над висками, собрать волосы в пучок и прийти на работу в облегающих брюках. Вас встретит смущенное молчание коллег и два-три дружеских совета.
Социоинтимные ситуации, заставляющие нас испытывать то стыд, то гордость, совсем не редки. До 1970-х гг. дети, рожденные вне брака, «бастарды», как их называли, испытывали ужасный стыд от того, что сексуальная жизнь их матерей не была подчинена общественному благу. Сегодня почти 60 % детей рождаются вне брака, благополучно растут и развиваются. Они уверены в себе, потому что их матери не придают культурному контексту того значения, которое способно вызвать стыд, или, скорее, потому, что культурный контекст потерял это значение.
До начала Второй мировой войны считалось неприличным рожать в больницах, в окружении простых женщин, у которых не было достойной семьи. Домашние роды служили доказательством того, что мать в достаточной степени социализирована, а ее муж зарабатывает денег столько, сколько нужно, чтобы заплатить за это. Девушки стыдились, если не выходили замуж до двадцати пяти лет, замужние дамы испытывали стыд, если через год после вступления в брак у них все еще был плоский живот, равно как стыдились сетовать на трудности жизни. Если мужчина заканчивал жизнь самоубийством, его семья умирала от стыда, тогда как сегодня близкие мучаются от чувства вины.
До XIX в. на Западе не считалось постыдным оставлять детей чужим людям — эта практика была обычной. Тогда как передача малыша кормилице[236], которая пользовалась бутылочкой с соской, приравнивалась к детоубийству, и до сих пор так думают многие[237]. Во времена Империи были предприняты шаги, позволявшие отдать новорожденного в специальный приют, где у него был маленький шанс выжить. Ламартин, поэт-депутат, отстаивал возможность отказываться от детей, рожденных вне брака. Чтобы спасти честь семьи, он восхвалял «социальное родительство» — заботу государства о детях, рожденных без отцов[238].
Стыдно искать отца в кафе, стыдно предстать голой перед любовником, стыдно испытывать сексуальное наслаждение, стыдно, когда тебя разглядывают в гинекологическое зеркало — как будто переживаешь своего рода «медицинское изнасилование», стыдно вставлять свечи, стыдно болеть, стыдно испортить воздух — любые причины стыда, иногда заставляющие нас смеяться, проистекают из многообразия дискурсов, порожденных нашим окружением.
Насилие и театр чести
Культуры, в которых большое значение уделяется соблюдению кодекса чести, порождают ритуалы, неуважительное отношение к которым вызывает негодование. Проще умереть физической смертью, чем от стыда, поскольку выживание под презрительным взглядом другого становится ежесекундной пыткой: нет уж, лучше смерть!
Театр чести предполагает величественную осанку. Умение изящно одеваться, высокоморальное поведение, смелость и достоинство — все это роли, которые должны вызывать уважение окружающих. Недостаток чего-либо из перечисленного провоцирует разрыв шаблона, возникновение травмы. И должно наказываться смертью.
Подобное подчинение кодексу чести, где предпочтение отдается смерти, а не стыду, выступает отличным маркером культур, основывающихся на четкой иерархии. Если нищий оскорбляет принца, выходящего из кареты, его высочество, испытывая некоторое смущение, не вызывает того на дуэль. Мы не будем драться до смерти, если нам противостоит неравный. Аристократ не ждет уважения от бродяги. Слуга аристократа оттолкнет бродягу палкой, этого будет вполне достаточно. Но если человек, достойный своего имени, высмеивает благородного, не уважая заведенные правила, это неуважение заслуживает смертельной схватки, не так ли? Только равный или конкурент обладает властью ранить принца. Взгляд недочеловека не имеет значения, он лишен власти заставить аристократа устыдиться. Но когда шевалье Захер-Мазох, благородный поляк Гомбрович или французские аристократы «Ночи 4 августа» разрешают представителям простого народа судить себя, они начинают воспринимать простолюдинов как равных себе или, по крайней мере, как достойных собеседников.
В культурах, основанных на кодексах чести, жестокость всегда где-то рядом: насилие, обращенное на женщину, отдающую свое чрево мужчине, а не социуму, насилие по отношению к мужчине, отказывающемуся жертвовать жизнью ради защиты семьи, насилие, направленное на выпускников академии Сен-Сир, отказавшихся в Первую мировую снять под дулами пулеметов свои плюмажи и белые перчатки и расстрелянных ухмыляющимися немецкими солдатами. Эти курсанты гордились тем, что умирают подобным образом.
Когда культура принимает более цивилизованное обличие и может хотя бы на треть быть уверенной в собственной защищенности, кодекс чести теряет цену — оскорбленному человеку теперь нет нужды подвергать унижению того, кто его оскорбил, он может просто прибегнуть к защите полицейского или адвоката. В обществе, где действуют судебные институты, честь стоит меньше, чем возмущение жертвы. Но как только государственная система начинает слабеть, коллектив почти сразу же вновь возвращается к кодексу чести. В странах, где работа полиции недостаточно налажена или где полицейские коррумпированы, мужчины группируются, чтобы «вершить самосуд». Их попытки вершить правосудие часто влекут за собой ошибки и чреваты трагедиями, однако таким образом этим мужчинам удается избежать чувства стыда. Этими же принципами пользуется мафия, поэтому ее члены именуют свою организацию «благородным сообществом», где любой досадный промах и малейшая конкуренция «законным образом» наказываются смертью.
В обществе, где развиты дуэли, куртуазное поведение стало целью всей жизни, поскольку неверно употребленное слово могло повлечь за собой смерть. Необходимо было дождаться момента, когда сильное государство Людовика XIV запретит дуэли, на которых гибли французские, немецкие, русские дворяне. Сегодня на Западе происходит процесс упразднения военных судов. Вежливость теряет свою защитную функцию и приобретает реляционистский оттенок, мы более не рискуем жизнью, оскорбляя других непристойными жестами или грубыми словами. Выражения «сын шлюхи» или «твою мать» раздражают соперника, однако мы не рискуем получить в ответ смертельный выпад. Даже процесс героизации кого-либо в хорошо организованном обществе, где представители закона вмешиваются в ссоры отдельных индивидов, теряет свое значение. Сегодня «плохо воспитанные» подростки могут крушить общественный транспорт или хамить путешественникам, не получая никакого отпора. Еще двадцать лет назад люди, молча наблюдавшие за подобной ситуацией, умирали от стыда. Недавно на одного моего знакомого напали возле брюссельского вокзала Миди. Человек крепкий и не робкого десятка, он ударил агрессора и заставил того обратиться в бегство. Тогда его окружили свидетели, начав упрекать, что, вступив в драку, он-де поступил неправильно. Предыдущее поколение обвинило бы его, если бы он, напротив, решил уклониться от драки.
Честь — благородное чувство, скрепляющее коллектив и заставляющие индивида следовать дискурсу вождя, таким образом признавая творимую им жестокость. Слово «мужественность» характеризовало человека грубого, способного страдать молча, решительно сражаться за место под солнцем, с гордостью выступать в драку. Женская честь, смысл которой был в сохранении девственной плевы и верности мужу, давала силу почувствовать себя нужной коллективу. Хранимая ими духовность сопряжена с гордостью и позволяет преодолевать трудности повседневного существования. «Бог требует от меня соблюдения правил морали. Благодаря мне моя семья остается сплоченной».
Речь, само собой, идет о социоинтимном процессе, когда дискурс вызывает в душе субъекта чувство стыда или гордости, или и то и другое одновременно. Мы смогли изменить чувства, различающиеся в зависимости от культурных репрезентаций. Некоторые американские соискатели включают в свои приукрашенные резюме заведомо курьезные фразы типа «Должен сообщить, что ударил мужчину, оскорбившего мою жену»[239]. В северных штатах США главы компаний комментируют подобные фразы следующим образом: соискатель не управляет своими эмоциями. Напротив, большинство руководителей компаний, расположенных в южных штатах, говорят, что подобные фразы отличают человека чести, на которого можно положиться. Если вам однажды придется кого-нибудь убить, знайте: это преступление будет расценено как проявление слабости или, наоборот, силы — в зависимости от того, где именно вы живете.
Интересно, как соискатели отвечают на следующий вопрос: «Если пьяный мужчина толкнет вашу жену, какой вариант ответных действий вы выберете:
— объясните ему, что он поступил неправильно;
— молча толкнете его в ответ;
— ударите его кулаком в лицо».
Пятнадцать процентов мужчин, живущих на Юге, сочли нормальным ударить обидчика в ответ — против восьми процентов северян.
На вопрос: «Если мужчина попытается изнасиловать вашу шестнадцатилетнюю дочь, посчитаете ли вы нормальным всадить ему пулю в голову?» 50 % южан ответили, что испытали бы позор, не сделай они этого; и всего 20 %мужчин из северных штатов ответили «да»[240]. Когда государственная система ослабевает из-за того, что политики не умеют управлять или потому, что полицейские посты находятся слишком далеко друг от друга, люди прибегают к жестокости — этому вновь обретающему популярность фактору формирования архаичных социумов. Однако если социум правильно организован, политики грамотно управляют, а полиция всегда находится где-то поблизости, жестокость приобретает невыносимый оттенок социальной дезорганизации, и эмоционального травматизма.
Женщины интерпретируют физическое насилие так же, как и их партнеры-мужчины. Женщины гордятся агрессивностью своих собственных мужей: это отлично вписывается в контекст формирования архаического социума, но сразу же заставляет испытывать стыд, как только общество начинает идти по цивилизованному пути.
Подобный феномен легко наблюдать в мегаполисе. В центре городов, где процесс урбанизации упорядочен историей и богатством, любезность становится реляционистской ценностью. В то же самое время в фавелах, где наспех сделанные постройки почти громоздятся одна на другую, у обитателей нет времени выдумывать культурные ритуалы, а банальные межличностные отношения строятся на насилии: «Когда я ловлю на себе взгляд, который мне не нравится, я набрасываюсь на этого человека, нечего ему лезть на мою территорию»[241]. Мальчику, который рассуждает подобным образом, 12 лет, он весит 70 килограммов и занимается борьбой, поскольку она помогает ему найти применение своей жестокости. Контекст, противоречащий нормам и правилам, являющийся своеобразным «стилем» урбанизации, позволяет направить жестокость в определенное русло, но, разумеется, не дает возможности справиться с ней полностью и уж тем более обесценить ее. Даже напротив, подростки из этих кварталов обожают наблюдать за гордыми победителями уличных драк.
Когда реальность отличается от рассказа о ней
Поскольку психологический контекст играет важнейшую роль в том, какое чувство (стыда или гордости) вызовет у разных людей одно и то же событие, вероятно, можно повлиять на культуру, имея целью выйти из состояния стыда. Любопытно! Уместно ли сказать «выйти из стыда» — подобно тому, как выходят из норы или вылезают из укрытия, играя в прятки.
Почти все дети, спрятавшиеся, чтобы избежать смерти (евреи во время Второй мировой войны или тутси — жертвы руандийского геноцида), страдали от душевной пытки. Пытки не болью — обесчеловечиванием. Когда мы ломаем ногу, мы испытываем сильную боль, но мы не чувствуем себя ущербными — ведь нами занимаются, помогают перемещаться и просят рассказать, как все произошло. Спрятавшийся ребенок не испытывает боли, однако он беспрестанно страдает от болезненного представления о себе: «Ты стоишь меньше остальных… быть самим собой опасно, поскольку если ты скажешь, кто ты такой, то умрешь… Ты происходишь от родителей, семьи и народа, которых общество отвергло, их преследуют, и это преследование коснется и тебя, стоит тебе рассказать, кто ты на самом деле».
Подобные представления о себе, болезненные и вызывающие стыд, порождают поведенческие стратегии — дорогостоящие или же основанные на самобичевании, позволяющие искупить ошибки. Отказ от образа действий случается, если культурные стереотипы внушают нам: «Это нормально, что он незаметен и плохо учится в школе, — учитывая то, что с ним произошло». Даже успех может вызвать стыд. Порой случается, что успехи «спрятавшегося» ребенка унижают остальных детей, которые изо всех сил стараются добиться успеха, но не преуспевают — из-за того, что находятся в комфортных условиях. В такой ситуации выйти из стыда довольно сложно — ведь необходимо не только работать над собой, но надо научиться не унижать других, достигнув успеха. Соединение этих факторов может провести к выработке устойчивости.
«Мои бабушка и дедушка, мои дяди и тети… Я часто слышал, как они говорят между собой на идиш… Они дорожили этим языком и в то же время испытывали стыд, потому что он символизировал бедность, изгнание, ничтожность евреев по сравнению с другими народами Европы и вообще нечто бесполезное для их потомков… двойственное наследие, вызывающее одновременно чувство нежности и стыда… кроме того, это еще и тайный язык, поскольку они переходили на идиш тогда, когда не хотели, чтобы мы, дети, понимали их»[242].
Выход из стыда в подобной ситуации требует серьезной работы. Быть может, более действенным было бы сначала как-то повлиять на окружение? Стереотипное представление о том, что евреи позволили вести себя на бойню, как бараны, распространено по всему миру. Даже в Израиле сабры — евреи, родившиеся на территории этой страны, — одержали столько побед над арабскими войсками, что у них вошло в привычку с презрением относиться к европейским ашкенази, чей жир в Аушвице превращали в мыло. В 1950-е гг. они обращались к ним не иначе, как мыло. Это вызывало у выживших ощущение, что они — вещь: после того как немцы называли их словом Stück («кусок»), израильские соотечественники теперь именовали их «мылом». Стыд быть презираемыми заставил их бешено стремиться к поискам выхода из этого стыда. Исключительное мужество, подогретое презрением, заставляло этих людей постоянно, без устали трудиться. «Куски» стали университетскими преподавателями, промышленниками или известными артистами. Надо же, я только что употребил слово «известный»! Вся мудрость, которой только обладают слова, уместилась в три слога: «из-вест-ный» — а ведь именно это я пытался сформулировать на протяжении трех предыдущих страниц своего текста. Отныне эти люди могли существовать на глазах у других спокойно и без всякого стыда, потому что их больше не называли «кусками» или «мылом» — теперь они стали «известными»!
Чтобы изменить свой образ и слово, которым их называли, им пришлось прежде всего изменить собственные представления о себе. Несколько лет назад, роясь в архивах, историки обнаружили следы реальности, противоположной той, которую привыкли считать истинной. Вопреки сложившемуся стереотипу евреи сражались с нацистами во всех армиях мира и всех движениях Сопротивления. В Испании, в Интернациональной бригаде, в рядах которой сражался Хемингуэй, каждый третий солдат был евреем. Во Франции Иностранный маршевый полк практически полностью состоял из испанских республиканцев и недавних еврейских иммигрантов; уже в самом начале войны этот полк стал подобием Иностранного легиона. В отрядах Сопротивления евреи также были представлены в большом количестве: в подпольной сети, находившейся под прикрытием ОПД (Организация помощи детям), занимавшейся изготовлением фальшивых документов и организации побегов из лагерей. Вооруженное сопротивление французских евреев возникло позднее, поскольку они были лояльны к новой власти и не могли допустить мысли, что правительство страны готовит их уничтожение. Однако после облавы, в результате которой многие из них оказались на Вель-д'Ив, сомнений больше не осталось: пора браться за оружие. Отряды франтиреров и партизан принимали в свои ряды евреев-коммунистов и армян. Просвещенные израильтяне и члены ОСР (Организация сражающихся евреев) организовывали нападения на немецких солдат и офицеров. Восстание в варшавском гетто (апрель — май 1943 г.), где несколько сотен голодных, чудом выживших евреев противостояли трем тысячам солдат противника, вооруженным пушками, пулеметами и огнеметами, доказало, что немецкая армия не является несокрушимой, и это дало сигнал к действию всему европейскому движению Сопротивления.
В конце войны евреи, сражавшиеся в рядах советской и польской армий и, таким образом, участвовавшие в сокрушении нацизма, ожидали, что, когда они вернутся домой, их встретят, как героев. Однако их дома, квартиры, их ателье и лавки были заняты соседями. Именно это стало причиной нападения на евреев со стороны гражданского населения — я имею в виду послевоенные погромы на территории Литвы, Белоруссии, Украины и Словакии. Погром в Кёльце, Польша, 4 июля 1946 г. (спустя 16 месяцев после немецкой капитуляции) привел к переселению евреев в Западную Европу и Палестину — всего уехало 250 тысяч человек[243]; этот исход стал результатом действий воинствующих антисемитов. Евреи присоединились к своим «палестинским собратьям», называемым так до момента голосования ООН по вопросу о независимости двух государств — израильского и палестинского. «Палестинские собратья», разбившие немецко-арабские отряды Африканского корпуса Роммеля (40 тысяч человек из их числа влились во французские войска, и еще 30 тысяч — в ряды британской армии), встретили изгнанников враждебно.
В течение всей войны «евреи вовсе не шли на смерть послушно, как бараны»[244], напротив, они участвовали в любых возможных боях. Совсем другими изображают их в кинохронике: бесконечные конвои, шесть миллионов гражданских лиц, которых сдали собственные соседи. Но есть и другая хроника. Разве спрашивали солдат, бегущих в атаку, или участников Сопротивления, привязанных к столбу перед расстрелом, какую религию они исповедуют? А те, кто вел тайную войну, старались не попадать в объективы камер.
В сражениях на территории Северной Африки и на Ближнем Востоке еврейские отряды увенчали себя славой. Палестинские евреи сыграли столь выдающуюся роль в победе над немцами возле ливийского города Бир-Хакейма (1942 г.), что генерал Кёниг потребовал, чтобы их отряды шли не под сине-бело-красным французским флагом, а под собственным — бело-синим, со «звездой Давида». Во время войны за независимость 1948 г. этот гордый народ, неожиданно, в одночасье, повзрослевший, триумфально сражался с захватчиками. Кадры хроники, запечатлевшие те дни, стали для израильтян символом великого отпущения грехов. Красивые еврейские кавалеристы стремительно атакуют противника среди пламени. Или хорошенькие женщины с ружьями на плечах, они же — ведущие трактора через пустыню, чтобы сделать эти земли плодородными, в то время как злобные сирийцы бомбят хижины на склонах Голанских высот. Ни одной фотографии убитого, никакого документального подтверждения исхода палестинцев…
Эти свидетельства не лгут: в Европе и в самом деле бесконечные вереницы гражданских поднимались в вагоны для перевозки животных, которые затем направлялись в Аушвиц; израильтяне действительно одержали невероятные победы над пустыней и вражескими армиями соседних государств, однако, рассказав всему миру только часть правды, они тем самым оттенили другую ее часть: Сопротивление евреев в Европе и изгнание сотен тысяч невинных арабов; эти сюжеты вообще не были запечатлены, не стали частью репрезентации реальности. И поскольку наши чувства связаны непосредственно с нашими репрезентациями, сабры в Палестине испытывали великую гордость, а европейские евреи — великий стыд, в то время как ближневосточные арабы испытывали чувство великого унижения.
Бесстыдство
Но даже в условиях персональной или коллективной катастрофы всегда находятся индивиды, не испытывающие ни стыда, ни гордости. Способ их существования и манера воспринимать внешний вид реальности — «видеть вещи», как они говорят, — не вызывают у них никаких эмоций.
Иногда это безразличие обусловлено физиологическими свойствами, но чаще проистекает из бесконечных страданий морального характера, приводящих к тому, что у этих людей вырабатывается определенный механизм замалчивания собственной истории, что облегчает их физическую агонию. Среди них мало извращенцев, однако те, о ком мы все-таки узнаем, очаровывают нас полнейшим отсутствием эмоций. Они похожи на твердый кусок льда, а герои романов-нуар и фильмов ужасов, в которых рассказываются истории девиантного поведения, вызывают у нас приятную дрожь. (На деле бесконечный легион не испытывающих стыд пополняется извращенцами — теми сохраняющими спокойствие людьми, которые получают удовольствие от подчинения вождю.)
Некоторые из нас никогда не стыдились, поскольку относятся к мнению других с полнейшим безразличием. Нашим детям приходится дожить до четырех лет, чтобы обнаружить: внутренний мир других отличается от их собственного. Такой онтогенез, развивающаяся эмпатия делают нервную систему способной вычленять информацию из контекста, реагировать на стимуляции, оставляющие след в памяти и связанные с формированием будущих представлений о мире. Мозг будет успешно работать только в том случае, если эмоциональный фон, создаваемый окружением, позволит ребенку чувствовать себя в безопасности и даст ему толчок для дальнейшего движения[245]. Психотики с трудом воспринимают репрезентации окружающих, обычно не видя различия между ними. Поэтому они отвечают голосам, звучащим у них внутри, или мастурбируют на публике — так, словно вокруг никого. Те, чьи лобные доли оказываются поврежденными в результате автокатастрофы, и те, кто страдает слабоумием по причине того, что их мозг атрофировался из-за болезни, теряют возможность к эмпатии, поскольку утратили нейрологическую способность предвидеть, предугадывать то, что может произойти вскоре. Следовательно, они могут производить какое-либо действие, не думая об эффекте, которое оно вызовет в голове другого. Мозговой абсцесс, контузия или геморрагия разрушают миндалину мозжечка в глубине нижней части мозга, и больной, потеряв возможность реагировать эмоционально, абстрагируется от событий, не имеющих для него никакого значения. Как можно стыдиться, если другой для нас не существует, если наш изменившийся мозг делает нас более неспособным представлять себя в мире других? Мы реагируем только на то, что касается нас лично, и уже не способны выходить за пределы своего «я».
Подобные нейрологические нарушения не исключают, впрочем, влияния внешних разрушителей, приводящих к тем же результатам. Преклонный возраст упрощает восприятие времени — когда смерть становится все более реальным фактом, а не просто смутным, отдаленным событием, старики перестают сдерживаться, избавляются от необходимости вести себя так, как того требует социум. Они наконец-то могут высказать вслух то, что думают, — не принимая во внимание реакцию окружающих, без всякого стыда они будут говорить о том, что раньше всегда старались скрывать.
Меланхолия, которой охвачена душа больного, повторяющиеся депрессии изолируют субъекта и обедняют его эмоциональную среду; в течение нескольких недель может даже развиться атрофия правой височной доли[246]. Аффективные реакции затрудняются, поскольку традиционно отвечающая за возникновение эмоций височная доля более не функционирует, — и тогда стыд превращается в сущий пустяк, затихает: «В моем состоянии больше нечему стыдиться». Подобное признание, облегчающее страдания, предотвращает боль от борьбы за жизнь. Когда окружение не потакает желанию человека, впавшего в депрессию, смириться с ней, происходит достаточно быстрый перезапуск процесса обретения нейронной устойчивости, что дает возможность воздействовать на больного словом. Неразделенные эмоции разрушают мозг столь же эффективно, как и психическая травма, но если жизнь возвращается в свое привычное русло, возвращаются и эмоции, и тогда удовольствие от жизни ощущается одновременно с болью.
Утрата чувств оказывается особенно деструктивной в детский, наиболее эмоциональный период жизни. Когда реакции миндалины мозжечка не гармонизированы по причине испуга, возникающего параллельно чувству уверенности, приобретаемому в результате возникновения личной связи, ребенок не способен сделать из собственных эмоций то, что поможет укреплению этой связи. «Когда мне грустно, я знаю, что это пройдет», — говорит тот, кто уверен в безопасности выстроенной связи, но если утрата чувств приводит к безразличию, можно наблюдать явное отсутствие у ребенка чувства страха. Он не боится опасности, он не боится реакций других. Нейрообразность демонстрирует, что у изолированного ребенка миндалина мозжечка перестает реагировать. Почти лишенный эмоций, он готов чрезмерно рисковать[247]. Такой ребенок невнимателен к другим, не колеблясь, вступает в драку, готов воспользоваться благами других. Лишенный эмоциональных тормозов, в качестве которых выступает чужое мнение, он делает все, исходя лишь из собственного удовольствия, без стеснения и стыда.
Можно применять любые градации, описывая тех, кто нечувствителен к чужим взглядам, мало— и гиперчувствителен. Введение подобного, основанного на работе нейронов деления позволяет нам охарактеризовать различные манеры строить связи. Я знал молодых людей, которые, испытывая сексуальное желание, домогались всех встречных девушек или просто звонили, чтобы предложить им переспать, — абсолютно без каких-либо прелюдий. В большинстве своем девушки — забавляясь или испытывая шок — отказывались от предложений, правда, не все. Получая отказ, молодой человек спокойно набирал номер следующей. Подобная эмоциональная слабость создавала у партнеров обоюдное ощущение легкости и чувство свободы в виду отсутствия привязанностей. Получивший отказ никогда в дальнейшем не стеснялся женщин — он знал: достаточно одного слова, и они перестанут ему докучать. Эта эмоциональная «слабость» позволяла мужчинам никогда не терять лицо, никогда не испытывать стыда из-за резкого отказа.
Я знал и других юношей — относившихся к девушкам с пиететом. Они настолько обожали их, что считали недоступными. Уверенные в своей неспособности вызывать желание, они бежали прочь от тех, кого любили, поскольку были бы глубоко травмированы даже самым мягким отказом. Они предпочитали избегать любых встреч с объектом своих чувств, поскольку отказ вызвал бы у них неудержимое чувство стыда.
Мне приходилось видеть женщин, которые молча давали едва знакомым мужчинам свою визитную карточку, где от руки были записаны свободные часы. Другие женщины приходили в ярость и бежали в полицию, если какой-нибудь мужчина вдруг решал им улыбнуться.
Подобное удивительное многообразие реакций — начиная с максимально спокойного отношения к изнурительному стыду — возникает в процессе аффективного взросления, под влиянием сенсориальной среды, по-разному стимулирующей мозг в процессе его роста и развития.
Как только мозг сформировался, он уже менее спокойно начинает воспринимать реакции окружающих. Отношение к разным событиям зависит от внешних обстоятельств и от того, что со временем мозг становится менее пластичным. Как только индивид оказывается в шокирующей ситуации, он принимается изо всех сил приспосабливаться к ней, однако, преодолев определенную грань в развитии, подавленная психика не позволяет индивиду сохранить достоинство.
Когда Примо Леви прибыл в Аушвиц, он был изумлен увиденным. Очень скоро стыд, «испытываемый в начале заключения, был вытеснен необходимостью приспосабливаться ради выживания… те, кто слишком стыдился, быстро погибали… уходя в себя, отказываясь общаться с остальными, убежденные, что случившееся можно преодолеть в одиночку»[248].
Клошары переживают тот же процесс деперсонализации. Три этапа краха[249] — в начале социальный (потеря работы), затем психологический (одиночество) и, наконец, физический (грязные и больные, они оказываются на улице) — приводят к исчезновению чувства стыда. «Мы вышли за пределы любого стыда, мы скользим в сторону обесчеловечивания»[250].
Популяция «бесстыдных» крайне разнообразна. Среди них — доходяги, которых в лагерях смерти называли так потому, что они смирялись с собственной участью, вставали на колени в молитвенной позе, были близки к состоянию эмбриона и позволяли себе умереть. Подобный отказ от себя, утрата чувства стыда характерны для тех, кто пережил процесс дегуманизации и для кого взгляд со стороны ничего не значит. Но в лагере были и другие. Коммунисты, «свидетели Иеговы» и несколько представителей СХД (Студенческого христианского движения) сохранили солидарность. Они пытались организовывать побеги — взаимопомощь делала их страдание осмысленным. Только одно было важно для них — взгляды товарищей, позволявшие им сохранять человеческое достоинство. Они знали, что проиграли, что находятся в заключении, но не ощущали себя ни униженными, ни ущербными недочеловеками, поскольку они не разрешали охранявшим их солдатам смотреть на них именно так. Их эмпатия не распространялась на солдат СС, они не ставили себя на их место — просто не доверяли им; они поддерживали дружеские отношения, сохраняя в себе силы бунтовать: то есть они страдали, как люди!
Стыд испытываешь только тогда, когда желаешь сохранить гордость под взглядами тех, кому ты сам разрешил унижать себя. Дети до четырех лет не интересуются тем, во что верят взрослые[251]; депортированные в лагерь коммунисты противостояли фашистам, а потерявшие человеческое достоинство клошары утратили желание жить в социуме, находиться рядом с другими. Эти люди не испытывали стыда, несмотря на то что оказались в крайне унизительной ситуации. Ребенок не достаточно развит, чтобы испытывать стыд, воюющий не желает изучать ментальный мир своего врага, у клошара более нет сил думать о ком-либо другом. Необходим ли нам стыд, чтобы жить вместе? Станет ли его отсутствие показателем отсутствия солидарности, нашего безразличия по отношению к другим?
Мораль, извращения и извращенцы
Извращенцам не стыдно никогда — ведь для них другой попросту не существует, он, другой, — всего лишь паяц, созданный исключительно для того, чтобы они могли наслаждаться игрой с ним. XIX век был очарован извращениями — именно тогда социальный контекст придал цену самопожертвованию ради укрепления семьи и блага нации. Извращенцы нацелены лишь на «быстрое» удовольствие, а это ослабляет чувство солидарности. Они безнравственны, поскольку их развитие остановилось на детской стадии, и организуют свою манеру существования «в соответствии с догенитальным принципом, повинуясь частичным импульсам», — как объясняет Фрейд[252].
Стремление отказаться от собственного блага и принести его в жертву воспринималось в XIX в. Церковью и медициной как извращение[253]. Женщины производят на свет максимально возможное число детей, посвящают тело мужу и силы — семье. Мужчины — зарождающейся промышленности и нации. Из этих жертв рождается социальный порядок. В XXI в. представления о чести стали выглядеть иначе: мы больше не сражаемся на дуэлях, не тонем, стоя «солдатиком» на палубе, когда наш корабль погружается в воду, мы предпочитаем спасаться — это разумнее. В культуре новейшего времени цель родить ребенка, выкормить его и воспитать ставит перед выбором: быть женщиной или матерью[254]? Глупо заниматься другими в ущерб собственным интересам. Это — своего рода «ценности для недалеких», эмоциональное жульничество. Мужчины сегодня имеют полное право заниматься собой, тогда почему этого права лишены женщины? Естественное неравенство полов порождает социальную несправедливость. Тот факт, что женщина носит ребенка и в ее груди появляется молоко, становится препятствием на пути ее процветания. Жертвенность, имевшая высокую моральную цену в XIX в., оборачивается социальным мошенничеством в XXI столетии. Но почему тогда моральную ценность обретает нарциссизм, порождающий страдание окружающих и размежевание с коллективом?
Появление разных возможностей, связанных с воспитанием детей, позволяет выстроить такую образовательную систему, которая самым лучшим образом помогает родителям растить детей, минимально жертвуя собой. Многие страны, делавшие ставку на теорию привязанности, и ее правильное применение в вопросах воспитания достигли замечательных результатов[255]. Однако для того, чтобы изменить культурный контекст в этом направлении, необходимо, чтобы наши государственные деятели начали выстраивать новую политику в отношении детства.
До сегодняшнего дня структура наших обществ была скорее подчинена необходимости найти возможность обязательно наказать тех, кто выступает против самой идеи жизни в социуме. Любой ценой следить за выполнением законов! Рецепт прост: достаточно лишить исполнителя его привычных полномочий, избавить его от роли зубчатого колеса, вращающего социальную систему. И тогда он оказывается способным на самые худшие поступки, не испытывая ни стыда, ни чувства вины[256].
Наиболее иллюстративен в этом плане пример палача. Он не отвечает за решения, принимаемые судебной системой. Казня приговоренных к смерти, он лишь исполняет эти решения. Он вовсе не садист, наслаждающийся созерцанием чужой смерти, он просто работает. Но при этом он теряет способность к эмпатии: «Таков итог отделения от остального мира и ухода в мир, находящийся где-то в стороне»[257]. Когда человек по собственной прихоти убивает нескольких себе подобных, его считают опасным сумасшедшим, ведь он забирает жизни своих жертв во имя некоей идеи. Но когда он просто подчиняется решению судебной системы, выступающей в роли хранителя законов, о нем не говорят: «Он — убийца», для всех он — простой исполнитель. «Виновен вот этот, — заявляет палач, — он свернул шеи нескольким невинным. Я же не виноват, я убиваю по требованию общества. Делаю свою работу, вот и все». Примыкание к миру, стоящему особняком (к секте или группе политиков высшего звена) приводит к отмежеванию от остального мира.
Чаще всего движение в сторону другого происходит подспудно, без каких-либо внешних изменений. Давайте представим, что в 1939 г. одной служащей пражского ателье скажут: «В течение двадцати четырех часов ваша хозяйка будет казнена — без всяких причин. Пользуйтесь этим, устраивайтесь в ее кабинете и берите дело в свои руки. Скорее». Я убежден, что служащая возмутилась бы: «За кого вы меня принимаете? Это же воровство! Моя хозяйка ведет себя со мной очень корректно, ездит в Париж продавать платья, уверена во мне, и то, что она делает, приносит мне выгоду».
Несколько лет спустя полиция действительно арестовывает хозяйку. В течение нескольких месяцев ателье работало без руководителя, а потом новый закон позволил выкупить его по невероятной низкой цене — в рамках программы «ариизации» еврейского имущества. В 1945-м выжившая хозяйка вернулась домой. Любезная служащая показала ей документ на право владения собственностью, а потом неловко пригласила «к себе» на ужин, чтобы рассказать об ужасах войны и о пережитых страданиях. Та, что выжила, отведала превосходной еды — с «ариизированной» посуды, а затем отправилась ночевать в палатку — в устроенный поблизости лагерь[258].
В 1930-е гг. люди умерли бы от стыда при мысли о том, чтобы хозяин предприятия, на котором они работали, отправился в газовую камеру, — это-де даст возможность выкупить его дело и посуду. Однако несколько лет спустя «изменения условий жизни, ежедневная рутина, новые обычаи, новые органы власти… и прочие свидетельства „нормальности“ новых условий существования формировали у людей ощущение того, что все продолжается, как в добрые старые времена»[259]. Они не совершали ни преступлений, ни ошибок — все, что они теперь делали, было разрешено законом. «Никаких причин стыдиться, — подумала бывшая служащая ателье. — Я даже пригласила к себе на ужин бывшую хозяйку».
Во время краха нацизма в 1945 г. крушение социальных устоев «разрешило» солдатам насиловать немецких женщин. Русские полагали, что это не слишком серьезное преступление, если вспомнить о двадцати миллионах убитых и городах, стертых с лица земли на Востоке. Французские солдаты тоже занимались этим, не думая, что совершают преступление. Вернувшись домой, ни один из этих солдат не испытывал ни чувства вины, ни стыда от того, что совершил недостойный поступок. Когда мы повинуемся распоряжению властей, безумному закону или сексуальному импульсу — на войне, где акт, связанный с насилием, имеет безусловный вес, индивид, утративший чувство ответственности, становится простой «шестеренкой» в системе. Не существует более никаких индивидуальных тормозов, если мы должны повиноваться распоряжениям власти, на которую возлагается вся ответственность, или когда социальный кризис упраздняет законные и естественные системы. Невозможно ощущать эмпатию, рассуждая следующим образом: «Я разрешаю себе абсолютно все». В начале процесса социализации эмпатия распространяется лишь на близких людей — относящихся к клану или армейскому подразделению. Закон существует лишь внутри группы, прочие не воспринимаются как человеческие существа — следовательно, нет преступления в том, чтобы изнасиловать женщину из чужой страны, которая благодаря своему рождению связана с несчастьем, обрушившимся на нас.
Не существует чувства стыда, если другой не смотрит на нас.
Сила носочков. Вместо заключения
«Мы — марионетки наших историй»[260]. Чувство стыда или гордости, изнуряющее наше тело или облегчающее душу, проистекает из наших представлений о самих себе. Слову «представление» я придаю и некий театральный смысл. Мы все — комедианты на сцене, драматурги и актеры одновременно. Эмоции, вызванные представлением, которое мы играем в своем театре, зависит от важности того, что мы доверяем зрителю. Когда зал пуст, мы не испытываем ни гордости, ни стыда — лишь немного тоски, вот и все. Что еще сказать? Немой ничем не рискует, слепой не страдает от чужих взглядов, но ведь люди живут не так.
Мои чувства зависят от того, как вы отреагируете на мою игру. Играть драму собственного существования перед пустым залом не имеет смысла, однако эта игра доставляет нам ликование, если нам аплодируют, или, напротив, вызывает у нас отчаяние, если зрители свистят.
Часто нечто подобное разыгрывается за обеденным столом, в театре нашей повседневной жизни. Стыдящийся хотел бы просто, в двух-трех словах, поведать о своем нищем детстве. И вдруг кто-то сидящий рядом заключает: «То, что вы нам тут рассказываете, — настоящая история Козетты!» Все начинают смеяться. Представление окончено. Молчание. Зал пуст, но — если говорить объективно — еда все-таки была неплохо приготовлена.
Зрителю нет нужды существовать в реальности. Стыдящемуся достаточно представить реальность или просто вспомнить — и вот он уже начинает слышать голос, клевещущий на всех и вся. Когда стыд оказывается бессловесным, изнутри нас рвется критика, она становится самоцелью, и ее сила не является предметом сделки. Но если переживший травму, играя, выводит на сцену ту драму, которая унизила его, чувство презрения, отравляющее его душу, смягчается. Следует отметить, что, разыгрывая стыд перед публикой, он отдается чужим взглядам. Но к чему вообще произносить слово «отдаваться»? Не сообщит ли нашим противникам силу, которая станет оружием, обращенным против нас, простой факт рассказа о той драме, которую мы пережили?
Мать Жюльена обожала своего «птенчика». «Птенчиком» его назвал я. Он играл в футбол в команде таких же «птенчиков» из Форкалькье. Счастье этой женщины заключалось в необходимости быть хорошей матерью. Ей было приятно заниматься семьей, готовить еду, чтобы накормить своих «голодных мальчиков», гладить одежду, в которой они выглядели превосходно. Футбол ее не интересовал, однако она испытывала удовольствие, когда видела своего «птенчика» на поле, безупречно одетого (в форму деревенской команды — желто-голубую футболку и белые шорты). Через несколько минут после начала игры она вдруг переставала ощущать гордость — едва замечала, что носочки ее «птенчика» испачканы грязью. И, стремясь сделать свой маленький клан совершенно счастливым, она быстро выскакивала на поле и передавала мальчишке чистые носки. Во время этой демонстрации материнской привязанности ее «птенчик» умирал от стыда!
Его убивала не любовь, а пьеса о самопожертвовании, разыгрываемая матерью. Она унижала ребенка, заставляя его быть «птенчиком», тогда как он считал себя орлом! История с чистыми носочками превращала его в «маменькиного сынка», и, глядя на него, десятилетние язвительные сверстники просто умирали от смеха.
Стыд заставлял ребенка морщиться и отталкивать собственную мать. Разочарованная, травмированная, она решила, что мальчик ее разлюбил, — в то время как он грубо отталкивал ее только, чтобы не испытывать унижение.
Эта женщина думала о благополучии своих близких: «Я бы все отдала, чтобы он был счастлив», — однако демонстрация самопожертвования поселила в душе ребенка чувство стыда. Аффективные противоречия нередко встречаются в семьях, где привязанность превращает носочки в способ ранить тех, кого мы любим.
Я спрашиваю себя, имели ли эти носочки подобную власть в эпоху, когда наше общество состояло из крестьян и рабочих? Помню Маргерит, испольщицу из Пондора, которая в 1944 г., то есть в конце войны, управляя фермой, ежедневно раздавала задания десятку своих рабочих. Каждый вечер за ужином она молча сидела с краю стола. Она представляла себя отцом всех этих крестьян — отцом, в образе которого присутствуют наполеоновские черты: «Именно такому человеку общество доверило заботу об остальных».
В подобной структуре повседневности, подчиняющейся императивам сельского хозяйства, необходим руководитель, который сможет направлять коллектив, решать вопросы, связанные со сбором урожая и все остальные проблемы. Физическая сила, невосприимчивость к боли становятся в этом контексте основными ценностями. Дети тоже работали на ферме: они носили воду из колодцев и загоняли стада домой с пастбищ. В их обязанности входило также разувать мужчин, вернувшихся с поля. Мне следовало бы написать «стаскивать с них сабо», поскольку в то время (время наших родителей и бабушек-дедушек) кожаной обуви было очень мало. Многие носили деревянные сабо и, чтобы избежать появления волдырей, оборачивали ноги соломой. Каждый вечер солома разбухала от влаги и пота, и дети должны были стягивать эти сабо, ведь сами мужчины не могли снять их без посторонней помощи.
В техногенном обществе, где люди тесно связаны друг с другом, носочки ровным счетом ничего не означают. Мысль о том, чтобы вынести чистые носки своему «птенчику» на поле во время игры в футбол, больше не придет в голову ни одной матери. Чтобы они совершили этот «милый поступок», чреватый для ребенка травмой, необходимо, чтобы культурные ценности вновь изменились. Общество крестьян и рабочих нуждается в вожде, которому можно доверить власть и перестройку коллектива таким образом, чтобы тот смог лучше соответствовать сельскохозяйственным и промышленным императивам.
В техногенном, пропитанном условностями мире манера строить конфликтные отношения с теми, кого мы любим, к кому привязаны, вызвана проявлениями Эдипова комплекса. Когда семья хорошо структурирована, миф делает из отца своеобразного домашнего короля, а мать в этом случае становится подобием «идола привязанности», и, конечно, она сексуально неприкосновенна. Этот маленький мир абсолютно прозрачен, в нем царит порядок. Но этот порядок может быть нарушен исчезновением Эдипа, когда отец столь далек от нас, что мы лишь смутно осознаем его существование; а не зная, кто наша мать, мы рискуем вступить с ней в связь! Худшее из всех преступлений — инцест — есть результат этого эмоционального беспорядка. «Я должен был понять, что это — моя мать, — произносит Эдип, выкалывая себе глаза. — Но чтобы я мог узнать ее, необходимо вначале было узнать, кто мой отец, необходимо, чтобы мне его назвали!»
Социум, в котором мы теперь живем, уже практически лишен деления на крестьян и рабочих. Каждое утро отец и мать покидают ребенка, отводя его в школу, и его занятия там лишены всякой сексуальной специфики. Это справедливо для общества, где третьеразрядный сектор стал главным. Каждый вечер родители, вновь соединяясь с ребенком, начинают рассказывать новый миф, влияющий на детское сознание: «Твой отец больше не король, кормящий семью, он — подкаблучник, „помощник матери“ (если такое выражение вам больше нравится)». Отец должен согласовывать свои действия с матерью — это облегчит правильное развитие новых индивидов. Любая помеха на пути каждого члена этой семьи будет сурово осуждаться.
Таким образом, Эдип все больше и больше становится похож на Нарцисса, не находите?
Во времена крестьян, рабочих и буржуа душевное страдание очень часто порождало конфликты отцов и детей. Дети не желали жить по законам, которым следовали их отцы, а женщины, чтобы сохранить моральный облик, должны были подчиняться мужчинам. Общество требовало от отцов представлять внутри семьи государственную власть и следить за исполнением законов. Эта власть не всегда была привилегией, ведь она была связана с необходимостью гордо умирать в траншеях, страдать в глубине шахт и задыхаться от силикоза. Такой ценой соблюдалось выполнение законов и функционирование ментальных шаблонов — ценой нервного истощения, возникавшего, если психический конфликт переходил предел компромисса между желанием и самозащитой, приспособленной к нуждам семьи.
В новых условиях, когда общество предлагает индивиду огромный выбор персональных авантюр и путей развития, любая помеха выглядит, как нечто несправедливое, любой провал попытки самореализации становится травмой нарциссического характера. Технический и культурный прогресс, меняя мифы, не так давно превратили чувство стыда в залог будущего страдания.
Вот почему сегодня наша нарциссическая культура делает из носочков предмет, обладающий властью вызывать у нас чувство стыда.
Примечания
1
Фели Пасторелло-Буади. Межличностная коммуникация. Беседы с отцом, Джузеппе де Ла Рокетте. 17 августа 2009 г.
(обратно)2
Там же.
(обратно)3
Там же.
(обратно)4
Браунинг К. Р. Обычные люди. 101-й резервный батальон полиции. Лондон: Harper Collins; фр. перевод: Париж: Taillandier, 1992, 2007.
(обратно)5
Пробст Б. Свидетельство. В кн.: Браунинг К. Р. Обычные люди. Париж: Taillandier, 2007, с. 85.
(обратно)6
Здесь — кусок мяса. (нем.)
(обратно)7
Мальро А. Антимемуары. Париж: Gallimard, 1967, с. 13.
(обратно)8
Семелен Ж. Иду туда, где я — посторонний. Париж: Seuil, 2007.
(обратно)9
Риме Б. Разделение эмоций в социуме. Париж: PUF, 2005.
(обратно)10
Льюис М. Возникновение человеческих эмоций. В кн.: Льюис М., Хэйленд Дж. М. Справочник эмоций. Нью-Йорк: Guilford Press, 2000, с. 265–280.
(обратно)11
Сиккон А., Ферран А. Стыд, чувство вины и травматизм. Париж: Dunod, 2009.
(обратно)12
Сен-Ману А. Социальное разделение эмоций и адаптивное поведение подростков; докторская дисс. Париж, 1998, с. 235. Также в кн.: Риме Б. Разделение эмоций в социуме, с. 208.
(обратно)13
Скотто Ди Веттимо Д. Существовать и выжить в состоянии стыда. Гренобль: Presse Universitaire de Grenoble, 2006, с. 233.
(обратно)14
Фрейд З. Влечения и их судьба. Париж: Gallimard (1915), 1952.
(обратно)15
Ожьен Р. Аморален ли стыд? Париж: Bayard, 2002, с. 9.
(обратно)16
Сартр Ж. -П. Бытие и Ничто. Париж: Gallimard, 1943, с. 275–276.
(обратно)17
Ожьен Р. Аморален ли стыд? — с. 45.
(обратно)18
Баэза Б., Мерсье К. От необходимости взгляда со стороны к стремлению находиться на виду. Интерес к формату «брифинг — дебрифинг» в вопросах ограничения и терапевтического воздержания в поливалентной реанимации. Тулон, июнь 2009 г. (дипломная университетская работа).
(обратно)19
Гомбрович В. Воспоминания о Польше. Париж: Gallimard, Folio, 1984, с. 10.
(обратно)20
Мишель Б. Захер-Мазох. Париж: Robert Laffon, 1989, с. 18.
(обратно)21
Там же, с. 81.
(обратно)22
Леви П. Человек ли это? Париж: Julliard, 1987.
(обратно)23
Риме Б., Мескита Б., Филиппо П., Бока С. Вне эмоционального события: шесть исследований процесса обмена эмоциями в социуме // Познание и эмоция, 1991, № 5 (5/6), с. 435–465.
(обратно)24
Гольжак В., де. Источники стыда. Париж: Desclée de Brouwer, 1996, с. 230.
(обратно)25
Абрам Н., Торок М. Скорлупа и ядро. Париж: Flammarion, 1978; Цирюльник Б. Шепот призраков. Париж: Odile Jacob, 2003.
(обратно)26
Лелай Л., Боур П., Бласко К., Цирюльник Б. Материалы семинара «Спорт и устойчивость». Париж, октябрь 2009 г.
(обратно)27
Гольжак В., де. Источники стыда, с. 255
(обратно)28
Блок-Дано Е. Роми Шнайдер, биография. Париж: Grasset, 2007, с. 56.
(обратно)29
Там же, с 87.
(обратно)30
Сикровски П. Родится виноватым, родится жертвой. Париж: Maren Sell et Cie, 1987, с. 39, 41, 44.
(обратно)31
Кеворкян Р. Геноцид армян. Париж: Odile Jacob, 2006, с. 221.
(обратно)32
Лаклеф-Фельдман М. «Прячущиеся дети», семинар в Тель-Авиве, март 2008 г. См. также: Матрилокальность у жителей Антильских островов: эволюция // Национальный журнал по виктимологии, 2008 (июль), т. 6, № 4.
(обратно)33
Сиккон А., Ферран А. Стыд, чувство вины и травматизм, 103.
(обратно)34
Ионеско С., Жаке М. М., Лот К. Защитные механизмы. Теория и клиника. Париж: Nathan Université, 1997, с. 247.
(обратно)35
Лиггезоло Ж., Тише С., де. Устойчивость. (Воз)родиться после травмы. Париж: In Press Éditions, 2004.
(обратно)36
Фрейд З. Семейная история неврозов (1909). В кн.: Невроз, психоз, извращение. Париж: PUF 1974, с. 157–160.
(обратно)37
Фр. Robinet — «водопроводный кран». — Примеч. пер.
(обратно)38
Палаш А. Я люблю тебя, дочка, я тебя бросаю. Иерусалим: Elkana, 2009, с. 29–30.
(обратно)39
Льюис М. Подвергая себя стыду. Нью-Йорк: The Free Press, 1992.
(обратно)40
Дюпре Э. Патология воображаемого и впечатлительность. Париж: Payot, 1936.
(обратно)41
Цирюльник Б. Я употребляю воображаемое, как наркотик. Théâtre Marseille-Toulon, 2006.
(обратно)42
Амьель-Лебигр Ф., Гоньалон-Николе М. Между здоровьем и болезнью. Париж: PUF, 1993.
(обратно)43
Лагаш Д. Сублимация и ценности. В кн.: От фантазии к сублимации. Собр. соч. Париж: PUF, 1962–1984, т. 5, с. 1–72.
(обратно)44
Жане П. Неврозы и навязчивые идеи; т. 1–2. Париж: Société Pierre Janet, 1990.
(обратно)45
Дюран Г., предисл. П. Аше. Незаменимая ложь. Париж: Armand Colin, 1999, с. 10.
(обратно)46
Цирюльник Б. Говоря о любви. Лондон: Penguin Books, 2007, с. 67.
(обратно)47
Рикер П. Время и рассказ, т. 2. Париж: Seuil, 1983.
(обратно)48
Шувье Б. Фанатики. Париж: Odile Jacob, 2009, с. 149–150.
(обратно)49
Жильбер П., Прайс Дж. С., Аллан С. Социальное сопоставление, социальная привлекательность и эволюция: как они могут быть связаны? // Новые идеи в психологии, 1995, № 13, с. 149–165.
(обратно)50
Тиссерон С. Стыд. Психоанализ социальных связей. Париж: Dunod, 1992, с. 46.
(обратно)51
Берсани Л. Переосмыслить идентичность. Париж Odile Jacob, 1998, с. 137–152.
(обратно)52
Жене Ж. Дневник вора (1949). Париж: Gallimard, 1982.
(обратно)53
Предисловие П. Аше в кн.: Дюран Г. Незаменимая ложь, с. 104.
(обратно)54
Видал Ж. -М. Разум (Теория разума). В кн.: Узель Д., Эммануэлли К., Можьо Ф. Словарь детской и подростковой психопатологии, с. 250–252.
(обратно)55
Гольс Б. Существовать. Париж: PUF, 1990.
(обратно)56
Стерн Д. Межличностный мир младенцев. Париж: PUF, 1985.
(обратно)57
Если Вы хотите открыть для себя симпатичный ислам, см.: Шебель М. Манифест ислама просвещенных. Париж: Hachette Littératures, 2004.
(обратно)58
Малатеста-Мафаи К. З., Дорваль Б. Языковое влияние и социальный порядок. В. кн.: Гуннар М., Маратцос М. Детская психология и симпозиум в Миннесоте. Хиллсдейл: Erlbaum, 1992, т. 25, с. 139–178.
(обратно)59
Мартен Ж. -П. Книга стыда. Париж: Seuil, 2006, с. 76.
(обратно)60
Браун Г. У., Харрис Т. Д., Хипворт К. Потеря, унижение и захват как стратегия поведения женщин, переживших депрессию: сравнение пациентов и непациентов. В кн.: Психология медицины, 1995, с. 7–21.
(обратно)61
Шор А. Н. Опыт раннего стыда и развитие детского мозга. В кн.: Жилбер П., Эндрюс Б. Стыд. Нью-Йорк: Oxford University Press, 1998, с. 57–72.
(обратно)62
Ференци С. Психоанализ неврозов, возникающих в военное время. Париж: Payot, 1918, т. III, с. 26–43.
(обратно)63
Шодер С. Травматизм, художественная деятельность и устойчивость. При поддержке HDR, Париж-VIII, 8 июня 2009 г.
(обратно)64
Сиккон А., Ферран А. Стыд, чувство вины и травматизм, с. 28.
(обратно)65
Бенгози П. Разносчик стыда и содержимое генеалогических, семейных или общественных ячеек в семейной терапии // Журнал психотерапии и групповой психоаналитики, 1995, № 22, с. 81–94.
(обратно)66
Абрам Н., Торок М. Скорлупа и ядро.
(обратно)67
Сиккон А., Ферран А. Стыд, чувство вины и травматизм, с. 8.
(обратно)68
Гау П. Жизнь Фрейда. Париж: Hachette, 1991, с. 16–17.
(обратно)69
Херманн И. Сыновний инстинкт (1943). Париж: Denoël, 1972, с. 39.
(обратно)70
Боулби Дж. Привязанность. Париж: PUF, 1978.
(обратно)71
Тиссерон С. Стыд. Психоанализ социальных связей.
(обратно)72
Гольжак В., де. Источники стыда.
(обратно)73
Скотто Ди Веттимо Д. Существовать и выжить в состоянии стыда, с. 164.
(обратно)74
Килборн Б. Лилипутские фантазии и чувство стыда. Париж: Le Coq-Heron, 1992, с. 46.
(обратно)75
Баруди Ж., Дантаньян М. Травматизм и колебания привязанности. Université Toulon-Sud, 19 июня 2010 г.
(обратно)76
Пьеррюмбер Б. Внутренняя модель действия. В кн.: Узель Д., Эммануэлли К., Можьо Ф. Словарь детской и подростковой психопатологии, с. 422.
(обратно)77
Горвуд П. События жизни и депрессии. В кн.: Градация жизненных событий в психиатрии. Париж: Messon, 2004, с. 109.
(обратно)78
Ферран А. Стыд и влияние // Французский психоаналитический журнал, 2004, № 5, с 97–104.
(обратно)79
Хардер Д. У. Оценка стыда и чувства вины в межличностных связях и склонность к «стыду — чувству вины» в психопатологии. В кн.: Тэнгни Дж. П., Фишер К. У. Неловкие эмоции: психология стыда, чувства вины, смущения и гордости. Нью-Йорк: The Guildford Press, 1995, с. 368–392.
(обратно)80
Розенблюм Р. Можно ли умереть, но не сказать? — с. 113–139.
(обратно)81
Льюис М. Подвергая себя стыду.
(обратно)82
Бенгози П. Социальная и коммуникативная устойчивость: научиться прощать. Здоровье человека. Сен-Дени: IMPES, 2003.
(обратно)83
Шамалидис М. Блеск и нищета чемпионов. Попытки самоидентификации мужчин в профессиональном спорте. Университетская книга, Брюссель; а также материалы семинара «Спорт и устойчивость» (Париж: Eurosport, 7 июня 2010 г.).
(обратно)84
Дюфур М. -А., Надо Л., Бертран К. Факторы устойчивости у жертв сексуальных домогательств: состояние вопроса // Ребенок — жертва домогательства и пренебрежения. 2000, т. 24, № 6, с. 781–797.
(обратно)85
Булэ А. Письмо члена Ассоциации Помощи детям — жертвам насилия, 2009 (октябрь), № 40.
(обратно)86
Карр А., Фланаган Э., Дули Б., Фицпатрик М., Фланаган-Ховард Р., Шелвин М., Тьирни К., Уайт М., Дэйли М., Иган Дж. Психологические портреты выживших после сексуальных домогательств в учебных заведениях в сравнении с различными формами связей, выстроенными ими во взрослом возрасте // Связи человека и его развитие; 2009 (март), т. 11, № 2, с. 183–201.
(обратно)87
Раттер М. Психологические эффекты раннего школьного развития. В кн.: Маршалл П. Дж., Фокс Н. А. Развитие социальной вовлеченности: нейробиологические перспективы. Нью-Йорк — Оксфорд: Oxford University Press, 2006, с. 355–391.
(обратно)88
Цирюльник Б., Делаж М., Блен М. -Н., Бурсе С., Дюпэи А. Изменения характера связей после периода первой любви // Медико-психологические анналы, 2007, № 167, с. 154–161.
(обратно)89
Райт Дж., Фридрик У. Н., Кир М., Тиболт К., Пьеррон А., Люссье И., Сабурен С. Исследование случаев насилия над детьми во французском Квебеке и поведения их матерей. Реализация стандартного оценочного протокола // Насилие и пренебрежение в отношении ребенка, 1998, № 22, с. 9–23.
(обратно)90
Стевенс И., Дени К. Ребенок, родитель, преподаватель: общее в историях сексуального насилия // Психологический журнал, 2009 (февраль), № 264.
(обратно)91
Морроу С. Л., Смит М. Л. Чем обусловлена способность «выжить и справиться» у женщин, переживших сексуальное насилие в детстве // Журнал консультативной психологии, 1995, № 42, с. 24–33.
(обратно)92
Вариа Р., Абидин Р. Р., Дасс П. Восприятие насилия: воздействие на взрослого психологических и социальных корректировок // Насилие и пренебрежение в отношении ребенка, 1996, № 20, с. 511–526.
(обратно)93
Пероне В. Полоса препятствий. Корнель // Психологический журнал, декабрь 2009 г.
(обратно)94
Там же.
(обратно)95
Тише К., де. Материалы семинара. Лаборатории Ardix. Париж, декабрь 2008 г.
(обратно)96
Дюпере А. Черная ткань. Париж: Points Seuil, 2002. Родители погибли в автокатастрофе, когда Энни было восемь лет.
(обратно)97
Кастиони Н. Солнце на исходе ночи. Париж: Albin Michel, 1998, с. 123.
(обратно)98
Там же, с. 204.
(обратно)99
Пероне В. Полоса препятствий. Корнель.
(обратно)100
Рот С., Ньюман Э. Процесс преодоления взрослыми инцестуальных связей. Измерение и последствия лечения и наблюдения // Журнал наблюдений за случаями межличностного насилия, 1993, № 8, с. 363–377.
(обратно)101
Дебликер Э., Дебликер Б. Невыносимая тоска. Париж: Le Cherche-Midi, 2007, с. 49.
(обратно)102
Селано М. П. Модель развития у жертвы атрибуции ответственности за сексуальное насилие // Журнал наблюдений за случаями межличностного насилия, 1992, № 7, с. 57–69.
(обратно)103
Скапарелли С., Ким С. Критерий устойчивости и факторы, взаимодействующие с устойчивостью у девочек, переживших сексуальное насилие // Насилие и пренебрежение в отношении ребенка, 1995, № 19, с. 1171–1182.
(обратно)104
Чанди Дж. М., Блум Р. У., Резник М. Д. Случаи сексуального насилия по отношению к девушкам-подросткам. Риск и защитные факторы // Журнал наблюдений за случаями межличностного насилия, 1996, № 11, с. 503–518.
(обратно)105
Льютар К., Зелано Л. Исследование устойчивости: интегративный обзор. В кн.: Устойчивость и приспосабливаемость к состоянию уязвимости в контексте происшествий с участием детей. Кембридж: Cambridge University Press, 2003, с. 510–550.
(обратно)106
Худж Дж., Тайзард Б. Общественные и семейные связи у подростков из экс-институциональной среды // Журнал детской психологии и психиатрии, 1989, № 30, с. 77–97.
(обратно)107
Кастиони Н. Солнце на исходе ночи, с. 30.
(обратно)108
Голд С. Р., Майлан Л. Д., Майалл А., Джонсон А. Э. Перекрестный анализ перечня травматических симптомов // Журнал наблюдений за случаями межличностного насилия, 1994, № 9, с. 12–26.
(обратно)109
Риме Б. Разделение эмоций в социуме.
(обратно)110
Бэйтман А., Фонаги П. Лечение расстройств личности, основанное на принципе «ментализации». Нью-Йорк: Oxford University Press, 2006.
(обратно)111
Теста М., Миллер Б. А., Даунс У. Р., Пэнк Д. Модерирование социальной поддержки детей, переживших сексуальное насилие // Жестокость и жертвы, 1992, № 7, с. 173–186.
(обратно)112
Чаффин М., Верри Дж. Н., Дикман Р. Как дети школьного возраста справляются с сексуальным насилием. Стресс от домогательства и четыре стратегии его преодоления // Насилие и пренебрежение в отношении ребенка, 1997, № 21, с. 227–246.
(обратно)113
Макнолти К., Уордл Дж. Проявление у взрослых последствий сексуального насилия, пережитого в детском возрасте // Насилие и пренебрежение в отношении ребенка, 1994, № 18, с. 549–555.
(обратно)114
Макмиллен К., Райдаут Г., Зуравин К. Можно ли извлечь преимущества из историй сексуального насилия над детьми? // Журнал консультативной и клинической психологии, 1995, № 63, с. 1027–1042.
(обратно)115
Уайетт Г. Э., Ньюкомб Б., Риердейл М., Нотграсс К. Сексуальное насилие и секс по обоюдному согласию. В кн.: Шаблоны психологического развития женщин и его результаты. Newbury Park, 1993.
(обратно)116
Брайер Дж. Н., Элиотт Д. М. Непосредственные и отдаленные последствия сексуального насилия над детьми // Будущее детей, 1994, № 4(2), с. 54.
(обратно)117
Абимана Э., Этье Л. С., Пето Д., Тусиньян М. Психопатология ребенка и подростка. Монреаль: Gaëtan Morin, 1999, с. 628.
(обратно)118
Клейн Ж. -П. Как без насилия вылечить изнасилованных детей // Сексология, 2007 (ноябрь), № 29.
(обратно)119
Кендалл-Тэкетт К. А., Уильямс Л. М., Финкельхор Д. Воздействие сексуального насилия на детей. Обзор и сумма недавних эмпирических исследований // Психологический бюллетень, 1993, № 113, с. 164–180.
(обратно)120
Скапарелли С. Стресс и преодоление последствий сексуального насилия над детьми. Теоретический и эмпирический обзор // Психологический бюллетень, 1994, № 116, с. 1–23.
(обратно)121
Бенгози П. Психиатрия без границ. Unversité de Toulon-Sud, март 2009 г.
(обратно)122
Райт Дж., Люссье И., Сабурен С., Пьеррон А. Сексуальное домогательство в отношении ребенка. Монреаль: Gaëtan Morin, 1999, с. 627.
(обратно)123
Раттер М., Квинтон Д., Хилл Дж. Последствия институционального воспитания детей, проявляющиеся во взрослом возрасте: сравнения представителей мужского и женского пола. В кн.: Робинс А., Раттер М. Искренний и неискренний путь взросления. Нью-Йорк: Cambridge University Press, 1990, с. 135–157.
(обратно)124
Цирюльник Б. Говорить о любви на краю бездны. Париж: Odile Jacob, 2004, с. 150–156.
(обратно)125
Карр А., Фланаган Э., Дули Б., Фицпатрик М., Фланаган-Ховард Р., Хьюлин М., Тьирни К., Уайл М., Дейли М., Иган Дж. Психологические портреты выживших после сексуальных домогательств в учебных заведениях в сравнении с различными формами связей, выстроенных ими во взрослом возрасте, с. 185.
(обратно)126
Валентайн Р., Фейнауэр Л. Факторы устойчивости у женщин, переживших сексуальное насилие в детстве // Американский журнал семейной терапии, 1993, т. 21, № 3.
(обратно)127
О'Салливан К. М. Связи между воспитанниками и воспитателями детских учреждений и выработка фактора устойчивости у детей алкоголиков // Ежеквартальный журнал «Динамика развития наркомании в семьях», 1991, № 4(11), с. 46–59.
(обратно)128
Суоми С. Дж. Привязанность у макак-резус. В кн.: Кэссиди Дж., Шейвер П. Дневник наблюдений за привязанностью. Нью-Йорк: The Guilford Press, 1999, с. 181–197.
(обратно)129
Бергман К. М. Отношения «брат — брат» и «мать — дитя» у макак-резус, живущих в естественной среде Огайо-Сантьяго // Поведение животных, 1992, № 44, с. 247–258.
(обратно)130
Суоми С. Дж., Ливайн С. Психобиология последствий травмы в разрезе нескольких поколений. Результаты исследований животных. В кн.: Даниели И. Международный справочник, посвященный наследственному травматизму, Нью-Йорк: Plenium Press, 1998, с. 623–637.
(обратно)131
Хайгли Дж. Д., Суоми С. Дж. Лайнола М. Алкоголизм 2-го типа у обезьян-приматов. Взаимосвязь уменьшения социальной компетентности и чрезмерной агрессии с низким уровнем концентрации CSF-HIAA // Алкоголизм: клинические и экспериментальные исследования, 1996, № 20 с. 643–650.
(обратно)132
Чемпу М., Хайгли Дж. Д., Суоми С. Дж. Поведенческие и физиологические характеристики индийских и китайских макак-резус. Наблюдение за младенцами индийского гибрида макак-резус // Физиология развития, 1997, № 31, с. 49–63.
(обратно)133
Эндрюс М. У., Розенблюм Л. А. Безопасность детских связей остается инвариантной или низкой — под влиянием окружения // Детское развитие, 1991, № 62, с. 686–693.
(обратно)134
Суоми С. Дж., Ливайн С. Психобиология последствий травмы в разрезе нескольких поколений. Результаты исследований животных, с. 622–637.
(обратно)135
Хоффер М. А. Скрытые регуляторы. Введение в новое осмысление феноменов привязанности, разделения и утраты. В кн.: Голдберг С., Мьюр Р., Керр Дж. Теория привязанности: социальные, эволюционные и клинические перспективы. Хиллсдейл: The Analytic Press, 1995, с. 203–232.
(обратно)136
Фини Дж. А. Введение в изучение шаблонов здоровых и нездоровых привязанностей // Здоровое развитие ребенка, 2000, № 26, с. 277–288; Гудини А. Психосоматика и развитие. В кн.: Грин А., Варела Ф., Стюарт Дж. Психоанализ и наука жизни. Париж: Eshel, 1995.
(обратно)137
Леш Л. П., Мейер Дж., Глац К., Флудж Г., Хини А., Хебебрэнд Дж., Клаук Дж., Поутска А., Поутска Ф., Бенгель Д., Мосснер Р., Ридерер П., Хейлс А. Переносчик гена 5 HT (5 HTTLPR) и эволюционные перспективы: альтернативные вариации аллелизма переносчика гена серотонина у человека // Нейрохимический журнал, 1997, № 6, с. 2621–2624.
(обратно)138
Бриш К. Х. Лечение нарушений привязанности. Нью-Йорк: The Guilford Press, 2002, с. 244–245.
(обратно)139
Лебретон Д. Повседневные страсти. Париж: Armand Colin, 1998, с. 139.
(обратно)140
Тусиньян М. Влияние детства. В кн.: Социальные и культурные корни психологических расстройств. Париж: PUF, 1992, с. 113–134.
(обратно)141
Райделл А. М., Болин Г., Торелл Л. Б. Привязанность детей к родителям и застенчивость как предикторы в отношениях с воспитателями. Компетенции работников дошкольных учреждений // Привязанность и развитие человека, 2005, № 7(2), с. 187–204.
(обратно)142
Конье Ж., Кербра-Ореккиони К. Описать беседу. Лион: Presses Universitaires de Lyon, 1987.
(обратно)143
Моррис Д. Ключ к толкованию жестов. Париж: Grasset, 1997, с. 73.
(обратно)144
Эмде Р. Н. Социальные референтные исследования. Неопределенность, «я» и поиск значения. В кн.: Фейман Р. Социальная привязанность и выстраивание реальности в детском возрасте. Нью-Йорк: Plenium Press, 1992, с. 72–94.
(обратно)145
Натансон Д. Л. Стыд и гордость. Аффективный секс и рождение личности. Нью-Йорк; Лондон: W. W. Norton and company, 1992, с. 187.
(обратно)146
Фрейд З. Новое введение в психоанализ (1933). Париж: Gallimard, 1984, с. 87.
(обратно)147
Касиопо Дж. Т., Клейн О. Дж., Бернтсон Г. К., Хаттфилд Э. Психофизиология эмоций. В кн.: Льюис М., Хэйленд Дж. М. Справочник эмоций, с. 119–142.
(обратно)148
Троник Э. З., Кон И. Ф. Схема «ребенок — мать»: взаимодействие лицом к лицу. Роль возрастных и гендерных различий в процессе координации; возникновение ложной координации // Детское развитие, 1989, № 60, с. 85–92. См. также: Баруди Ж. Привязанность и семейные системы. Université Toulon-Sud, 19 июня 2010 г. (дипломная работа).
(обратно)149
Сингер Т., Сеймур Б., О'Доэрти Дж., Кауб Х., Долан Р. Дж., Фрит К. Д. Эмпатия к боли, вызванная аффективными (несенсорными) компонентами // Наука, т. 303, 20 февраля 2004 г.; Цирюльник Б. Тело и душа. Париж: Odile Jacob, 2006.
(обратно)150
Бомсель М. -К., Цирюльник Б. Так ли уж сильно мы отличаемся от детенышей животных? // Дикая природа, 2009 (июнь), № 250.
(обратно)151
Окситоцин — гормон, вырабатываемый железами гипофиза. Способствует сокращению матки и процессу лактации. Его уровень у женщин повышается после сексуального контакта или какого-либо иного приятного события.
(обратно)152
Андре Дж., Зеу Б., Пол М., Сесслин Ф., Бенолайел Дж. Дж., Беккер К. Участие холицистокинина в выработке чувства беспокойства. Индуцированная гиперальгия у самцов крыс. Поведенческие и биохимические исследования // Нейробиологический журнал, 2005, № 25 (35), с. 7896–7904.
(обратно)153
Панксепп Дж. Аффективная неврология. Основы человеческих и животных эмоций. Нью-Йорк: Oxford University Press, 1998, с. 11, 206–222.
(обратно)154
Джордж М. С., Кеттер А., Кимбрелл Т. А., Спир А. М., Лобербраум Дж., Либерейтос К., Нахас З., Пост Р. Нейрообразный подход к изучению эмоций. В кн.: Бород Дж. К. Нейропсихология эмоций. Нью-Йорк: Oxford University Press, 2000, с. 106–128.
(обратно)155
Панксепп Дж. Аффективная неврология. Основы человеческих и животных эмоций, с. 11, 276–277.
(обратно)156
Там же.
(обратно)157
Данцигер У., Уиллер Дж. К. Болезненное напряжение как уникальный опыт переживания боли пациентом с врожденной болевой нечувствительностью // Наука, 2003 (октябрь), с. 302.
(обратно)158
Сирони Ф. Материалы семинара. Лаборатории Ardix. Париж, март 2009 г.
(обратно)159
Адлер А. Смысл жизни. Париж: Payot, 1991.
(обратно)160
Панксепп Дж. Там же, с. 33.
(обратно)161
Амсаллем Д. Примо Леви в зеркале своих работ. Лион: Editions du Cosmogone, 2001, с. 26.
(обратно)162
Гельдерлин Ф. Поэмы безумия Гельдерлина. Париж: Gallimard, 1963.
(обратно)163
Леви П. Человек ли это? — с. 76.
(обратно)164
Робинсон Дж. О., Розен М., Ревилл С., Дэвид Х., col1_1 Самоуправляемые петидины, вводимые внутривенно и внутримышечно // Анестезия, 1980, № 35, с. 763–770.
(обратно)165
Баддели А. Человеческая память. Теория и практика. Гренобль: Presses Universitaires de Grenoble, 1003, с. 410.
(обратно)166
Анисимов М. Примо Леви. Париж: J. -C. Lattès, 1996, с. 12.
(обратно)167
Там же, с. 574.
(обратно)168
Боулби Дж. Привязанность, с. 233–239.
(обратно)169
Голль Ж., де. Прошедшая сквозь ночь. Париж: Seuil, 1998.
(обратно)170
Жувен Р. Волшебный мозг. Париж: Odile Jacob, 2009, с. 133.
(обратно)171
Мюссе А., де. Майская ночь. Цит. по: Жувен Р. Волшебный мозг, с. 134.
(обратно)172
Лаэ У., Буррик Д. Устойчивость у школьников: между участью и предназначением. В кн.: Цирюльник Б., Пуртуа Ж. -П. Школа и устойчивость. Париж: Odile Jacob, 2007, с. 105–126.
(обратно)173
Гайе Д. Парадоксальный успех и парадоксальный провал. В кн.: Цирюльник Б., Пуртуа Ж. -П. Школа и устойчивость, с. 43.
(обратно)174
Зауш — Годрон К. Неустойчивость. Тулуза: Erès; Пядь, 2006, № 60.
(обратно)175
Жорлан Ж. Заботливое общество. Уничтожение питомцев. Париж: Gallimard, 2010, с. 129–147.
(обратно)176
Леруа-Ладюри Э. Век Платтера. 1499–1622. Т. 1: Нищий и профессор. Париж: Fayard, 1995.
(обратно)177
Джанфранческо А. Литература устойчивости? Эссе об определении. В кн.: Мансио М. Устойчивость. Сопротивляться и строить себя. Женева: Médecine et Hygiène, 2001, с. 21–32.
(обратно)178
Здесь: группы, изолированные от основной части социума. — Примеч. пер.
(обратно)179
ЮНИСЕФ. Положение детей в современном мире. Специальный выпуск, 2009.
(обратно)180
Там же, с. 7.
(обратно)181
Эреншафт Э., Тусиньян М. Иммиграция и устойчивость. В кн.: Сэм Д. А., Бери Дж. У. Психологическое окультуривание. Кембридж: Cambridge University Press, 2006, с. 469–483.
(обратно)182
Руссо К., Моралес М., Фоксен П. Возвращаясь домой: стратегии памяти, присущие молодому поколению индейцев майя, вернувшихся в Гватемалу, как коммуникативная культура // Медицина и психиатрия, 2001, № 25, с. 135–158.
(обратно)183
Мари-Франс Катела; группа, обосновавшаяся в Монтеррее, к северо-западу от Лимы. НПО ЦРПСП (Центр развития и психосоциальной помощи) поддерживает там проект «Дом знаний».
(обратно)184
Гарланд Дж. Понятная травма. Лондон, Нью-Йорк: Karmel, 2002, с. 197.
(обратно)185
Бибо Г., Сабатье К., Корен Э., Тусиньян М. Исследования ментального здоровья англосаксонского общества. Тенденции, границы и тупиковые направления // Ментальное здоровье жителей Квебека, 1989, № 14, с. 103–120.
(обратно)186
Бибо Г., Ша-Ип А. М., Локк М., Руссо К., Стерлен К. Ментальное здоровье и его лики. Будни многонационального Квебека. Монреаль: Gaëtan Morin, 1992.
(обратно)187
Фомбон Э. Психопатология детей, родившихся на Антильских островах: эпидемиологический подход // Медицинская психология, 1987, № 19, с. 103–105.
(обратно)188
Сабатье К. Культура, иммиграция и ментальное здоровье детей. Монреаль: Gaëtan Morin, 1999, с. 533.
(обратно)189
Бейзер М., Дион Р., Готовец А., Хайман А., Ву Н. Иммигрант и беженцы в Канаде // Канадский психологический журнал, 1995, № 40, с. 67–72.
(обратно)190
Сабатье К., Ольвек М. Школьные успехи детей-иммигрантов: опытное изучение семейных условий воспитания // Национальный журнал семейного воспитания, 2000, т. 4, № 1.
(обратно)191
Лензини Ж. Альбер Камю; Лензини Ж. Последние дни жизни Альбера Камю. Арль: Acte Sud, 2009.
(обратно)192
Бенжеллун Т. О моей матери. Париж: Gallimard, 2008.
(обратно)193
Майнд К. К., Майнд Р., Мусиси С. Некоторые аспекты описания системы привязанностей, выстраиваемых молодыми людьми: транскультурная перспектива. В кн.: Энтони Э. Дж., Чайлэнд К. Дети среди суматохи: завтрашние родители. Нью-Йорк: John Wiley, 1982; фр. Перевод: Париж: PUF, 1985, с. 263–284.
(обратно)194
Палаш А. Я люблю тебя, дочка, я тебя бросаю.
(обратно)195
Там же, с. 141.
(обратно)196
В июле 1942 г. тринадцать тысяч парижских евреев были отправлены в концентрационные лагеря; обратно вернулись около сотни выживших. — Примеч. пер.
(обратно)197
Палаш А. Я люблю тебя, дочка, я тебя бросаю.
(обратно)198
О'Доннел Д. А. Шаб-Стоун М. Э., Мьюид А. З. Различные измерения феномена устойчивости у городских подростков в атмосфере постоянной жестокости // Развитие ребенка, 2002, т. 73, № 4, с. 1265–1282; Цирюльник Б. Вмешательство в жизнь фавел Сан-Паулу.
(обратно)199
Вале Л. -А., Кай Ж. -П. Иностранные ученики и дети иммигрантов во французской школе и коллеже // Материалы по образованию и воспитанию, 1996, с. 67.
(обратно)200
Марселла А., Уондерсман А., Кантор Д. Психология и городские инициативы. Профессиональные и научные возможности и вызовы // Американский психолог, 1998, № 53, с. 621–623.
(обратно)201
Аттар Б. К., Геррен Г., Толан П. Х. Неудобное соседство, жизнь, наполненная стрессовыми событиями, и корректировки в среде учащихся городских начальных школ // Журнал клинической психологии, 1994, № 23, с. 391–400.
(обратно)202
Халиль Дж. ДжутияДерб Галлеф. Устойчивость избранных // Экономия, 2008, № 2, с. 68–79.
(обратно)203
Бенсуссан Г. Европа. Страсть к геноцидам. Париж: Mille et Une Nuits, 2009.
(обратно)204
«Старик и мальчик», фильм Клода Берри (1967) с Мишелем Симоном в главной роли, основанный на собственных воспоминаниях актера.
(обратно)205
Ассоциация друзей Центральной комиссии по делам детей. Евреи, сражавшиеся во Франции в 1940–1945 гг. Париж: AACCE, 2009; Гийон И. М., Лабори П. Память и История: Сопротивление. Тулуза: Privat, 1995.
(обратно)206
Клейн Ж. -П. Как без насилия вылечить изнасилованных детей // Сексология, 2007 (ноябрь), № 29.
(обратно)207
Левертовски К. Дети Муассака (1939–1945). Париж: Flammarion, 2008.
(обратно)208
Бретон П. Отказывающиеся. Париж: La Découverte, 2009, с. 139.
(обратно)209
Арендт Х. Бегство в Иерусалим. Париж: Gallimard, 1997, с. 85.
(обратно)210
Ленорман Г. Я родился в двадцать лет. Париж: Calmann-Lévy.
(обратно)211
Вирджили Ф. Бошское отродье. Дети войны во Франции. В кн.: К. Эрикссон и Э. Симонсен. Дети Второй мировой. Нью-Йорк: Bêrg, 2005.
(обратно)212
Гарапон А. Преступления, за которые нельзя ни наказать, ни простить. Париж: Odile Jacob, 2002, с. 211.
(обратно)213
Берр Э. Дневник 1942–1944. Париж: Tallandier/Points, 2009, с. 65.
(обратно)214
Тюрам Л. Мои черные звезды. От Люси до Барака Обамы. Париж: Philippe Rey, 2010.
(обратно)215
Элленбергер А. Зоологический сад и психиатрическая лечебница. В кн.: Брион А., Эй А. Животная психиатрия. Париж: Desclée de Brouwer, 1964, с. 560–568.
(обратно)216
Мальсон Л. Дикие дети. Париж: 10/18, 2009.
(обратно)217
Фанон Ф. Черная кожа, белые маски. Париж: Seuil, 1961.
(обратно)218
«Марш потомков рабов», организованный супружеской парой Румана, 1998.
(обратно)219
Ариес П., Дюби Г. История частной жизни. Париж: Seuil, т. 1, 1985, с. 457.
(обратно)220
Годилье М. Производство больших людей. Париж: Fayard, 1996.
(обратно)221
Ариес П., Дюби Г. История частной жизни, т. 1, с. 454–455.
(обратно)222
Квентин Ф. Одержимость девственностью // Мир религий, 2010 (январь — февраль), № 39-бис.
(обратно)223
Хардинг Э. Женские тайны. Париж: Payot, 2001.
(обратно)224
Ариес П. Нерушимые узы брака. В кн.: Ариес П., Бежен А. Запад и сексуальность. Париж: Point-Seuil, 1982, с. 164–165.
(обратно)225
Рок А. Первый секс. Мутация и кризис мужской идентичности. Париж: Hachette-Littératures, 2000, с. 24.
(обратно)226
Линдисфармен Н. Стыд и культура. Антропологическая перспектива. В кн.: Гилберт П., Эндрюс Б. Стыд, с. 254.
(обратно)227
Вигарелло Ж. История насилия в XVI–XX вв. Париж: Seuil, 1998, с. 42.
(обратно)228
Кадири Н., Беррада С. Учебник сексуального воспитания. Касабланка: Le Fennec, 2009, с. 15–16.
(обратно)229
Ариес П. Любовь в браке. В кн.: Ариес П., Бежен А. Запад и сексуальность, с. 142.
(обратно)230
Лафит-Усса Ж. Трудабур и Суд любви. Париж: PUF, 1971.
(обратно)231
Ариес П., Дюби Г. История частной жизни, т. 3, с. 9.
(обратно)232
Бадинтэ Э. Конфликт. Жена и мать. Париж: Flammarion, 2010.
(обратно)233
Гилмор Д. Д. Мужественность и Дело. Культурные концепции маскулинности. Нью-Хейвен: Yale University Press, 1990, с. 224.
(обратно)234
Браунинг К. Р. Обычные люди. Париж: Tallandier, 2007.
(обратно)235
«Линия фронта», фильм Жана-Кристофа Клотца, 2010.
(обратно)236
Жорлан Ж. Заботливое общество, 2010.
(обратно)237
Турс А. Забытые. Дети, подвергавшиеся грубому отношению во Франции и благодаря Франции. Париж: Seuil, 2010.
(обратно)238
Ариес П., Дюби Ж. История частной жизни, т. 4, с. 267.
(обратно)239
Коэн Д., Нисбет Р. Э. Полевые эксперименты по исследованию культуры чести. Роль образовательных инстанций в развитии чувства жестокости // Бюллетень личностной и социальной психологии, 1997, № 23, с. 1188–1199.
(обратно)240
Коэн Д., Нисбет Р. Э. Самозащита и культура чести. Объяснение жестокости южан // Бюллетень личностной и социальной психологии, 1994, № 20, с. 551–567.
(обратно)241
Берже М. Зачем понижать возраст уголовной ответственности? // Психомедиа, 2009, № 20.
(обратно)242
Шабон М. Клуб полицейских, разговаривающих на идиш. Париж: Robert Laffont, 2009. См. также: Интервью с Дидье Жакобом / «Новый Обс», 28 мая — 3 июня 2009 г.
(обратно)243
Бенсуссан Г., Дрейфуз Ж. М., Уссон Э., Котек Ж. Словарь Шоа. Париж: Larousse, 2009, с. 409.
(обратно)244
Кристьенн О. Еврейское Сопротивление во Франции. Париж: AACCE, 2009, с. 32.
(обратно)245
Бертоз А., Жорлан Ж. Эмпатия. Париж: Odile Jacob, 2004; Цирюльник Б. Из плоти и души. Париж: Odile Jacob, 2006, с. 144–186.
(обратно)246
Шор А. Н. Человек бессознательный: Развитие правого полушария и его роль в раннем возникновении эмоций. В кн.: Грин В. Эмоциональное развитие с позиций психоанализа. Теория привязанностей и неврология. Нью-Йорк: Brunner-Routledge, 2003.
(обратно)247
Стерзер П. Рожденный быть преступником? Как факторы раннего взросления связаны с криминальным поведением // Американский психиатрический журнал, 2009, № 167, с. 1–3.
(обратно)248
Сиккон А., Ферран А. Стыд, чувство вины и травматизм, с. 18.
(обратно)249
Деклерк П. Потерпевшие кораблекрушение. Среди парижских клошаров. Париж: Plon, 2001.
(обратно)250
Эммануэли К. Материалы семинара. Лаборатории Ardix. Париж, 4 февраля 2009 г.
(обратно)251
Бишоф-Келер Д. Развитие эмпатии у детей. В кн.: Лэмб М. Э., Келлер Г. Развитие ребенка. Хиллсдейл: Erlbaum, 1991, с. 245–273.
(обратно)252
Фарук М. Извращение. В кн.: Бренно П. Словарь человеческой сексуальности. Бордо: L'Esprit de Temps, 2004.
(обратно)253
Крафт-Эбинг Р., фон. Половая психопатия (1886). Париж: Payot, 1969.
(обратно)254
Бадинтэ Э. Конфликт. Жена и мать.
(обратно)255
Роббер П. Финляндия: образовательная модель, пригодная и для Франции? Секреты успеха. Париж: ESF, 2008.
(обратно)256
Жуль Р. -В., Бовуа Ж. -Л. Подчинение по обоюдному согласию. Париж: PUF, 2009.
(обратно)257
Сирони Ф. Механизмы разрушения другого. В кн.: Бертоз А., Жорлан Ж. Эмпатия, цит. соч., с. 235.
(обратно)258
Эпштейн Г.Дети Холокоста. Баскервилль, Лондон: Penguin Books, 1988.
(обратно)259
Вельзер А. Кризис: наступающий шок // Le Monde, 8–9 февраля 2009 г.
(обратно)260
Тантэм Д. Эмоция и хаос стыда. В кн.: Жилбер П., Эндрюс Б. Стыд, с. 171.
(обратно)






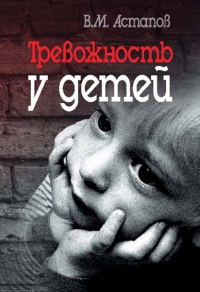



Комментарии к книге «О стыде. Умереть, но не сказать», Борис Цирюльник
Всего 0 комментариев