Екатерина Семеновна Калмыкова Опыты исследования личной истории: Научно-психологический и клинический подходы. Выпуск 4
Предисловие
Как сердцу высказать себя? Другому как понять тебя? Поймет ли он, чем ты живешь?Данное предисловие предполагает ввести читателя в область живых, не претендующих на неизменность и неопровержимость повествований, посвященных проблемам понимания людьми друг друга и человеком – самого себя.
Что может лучше всего передать суть того, что один человек имеет сообщить другому: слова, звуки, мимика, жесты, телодвижения, позы? Все вместе, наверное, потому что в отдельности эти способы дают человеку весьма ограниченную возможность предъявить то, что он переживает в данную минуту. Понятно, что история коммуникации между людьми уходит корнями в далекую древность: зарождению речи предшествовал обмен доречевыми знаками, а последнему, в свою очередь, – обмен инстинктивно производимыми звуками и жестами. Развитие цивилизации в области разнообразнейших средств связи завело человечество чрезвычайно далеко, но не отменило главного: во-первых, потребности в установлении отношений с другими людьми, и во-вторых, неосуществимости этой потребности в желаемом объеме. Эти два факта являются первопричиной бесчисленных коллизий, в которые вовлечен и отдельно взятый человек, и целые группы людей. Человеческие отношения не только составляют объект изучения многих отраслей науки, но и служат источником вдохновения для несчетных поколений поэтов, драматургов, художников. Поиск закономерностей развития отношений, который в контексте наук и искусств осуществляется по-разному, преследует одну и ту же цель: найти оптимальную стратегию поведения, жизни, которая позволила бы минимизировать страдание и максимизировать творческую отдачу.
Удивительно, но именно среди литераторов мы находим того, кто попытался поверить алгеброй гармонию и вывести «таблицу умножения» человеческих отношений. Это был французский писатель, театровед и литературовед Жорж Польти, в конце XIX в. предложивший концепцию, согласно которой мировая литература может быть сведена к ограниченному количеству сюжетов, а именно – 36[1]. Вот некоторые сюжеты из его списка: мольба; спасение; месть, преследующая преступление; жертва кого-либо; бунт; загадка; ненависть между близкими; безумие; невольное кровосмешение; соперничество неравных; жертва близким; честолюбие; потеря близких и т. д. Эта концепция до сих пор не была опровергнута, хотя и вызывает возражения у многих литературоведов; если же смотреть на нее глазами психолога и психоаналитика, то бросается в глаза поразительное сходство множества индивидуальных историй жизни с тем или иным из перечисленных сценариев.
Если говорить не о профессиональном литературном изложении, которое является неоднократно обработанной, отредактированной и отшлифованной версией некоего события, а о спонтанных повествованиях людей о своей и чужой жизни, с которыми мы имеем дело в повседневном общении, то внимательный собеседник иногда может сделать очень интересные наблюдения о закономерностях построения такого повествования. Например, вы выслушали рассказ своего друга о только что происшедшем с ним необычайном случае сразу после события, а затем, спустя недели или месяцы, в разговоре опять зашла речь об этом происшествии; скорей всего, вы заметите изменения в изложении фактов, деталей и даже смыслов происшедшего. Такие трансформации изложения связаны не с дефектами памяти, а в первую очередь с тем, что З. Фрейд обозначил как nachträglichkeit – изменением видения событий жизни (как своей, так и чужой) под воздействием накапливаемого опыта. Это явление принадлежит к числу неотъемлемых свойств психики и позволяет человеку осуществлять непрерывное переосмысление хода своей жизни, отвергать устаревшие смыслы и конструировать новые.
Повествование человека о себе, находящееся в фокусе моего внимания как практикующего психоаналитика, занимает центральное место и в предлагаемых читателю статьях. Эти работы были написаны в разные годы, но их объединяет общая направленность на понимание текста и проникновение за его поверхность в поисках смысла и причинности жизни человека. В своей работе на протяжении многих лет я пыталась подойти к этому предмету с разных сторон: с позиций научного анализа, применяя количественные и качественные методы изучения механизмов порождения и функционирования повествования (нарратива) в контексте межличностного взаимодействия, и с позиций психоаналитического дискурса, позволяющего обнаруживать причинно-следственные связи и прослеживать процессы индивидуального смыслообразования.
В силу этого часть статей (Исследование нарративов пациента; Нарратив в психотерапии; Рефлексивный процесс и его отражение в дискурсе; Качество привязанности как фактор устойчивости к психической травме) представляет собой изложение результатов эмпирических исследований, проведенных, в том числе, вместе с коллегами, которые являются не только соавторами, но и друзьями. Прочие статьи (Анализ в кредит; Реконструкция; Ментализация) написаны в классическом жанре «single case study», т. е. посвящены описанию динамики отдельных психоаналитических случаев. Работа «Исследование психотерапии за рубежом» предлагает читателю ознакомиться с обзором изучения закономерностей межличностного взаимодействия в особом контексте – в ходе психотерапии, который предоставляет обширный материал для анализа, но ограничивает исследователей вследствие невоспроизводимости результатов и затруднительности использования формализованных методов.
Если рассматривать написанные мною работы как нарративы, т. е. как повествования о том, что я делала и о чем размышляла на протяжении последних лет, то необходимо отметить важную особенность письменного повествования: будучи однажды написано, оно больше не поддается изменению (не считая тех случаев, когда автор сознательно берется за пересмотр концепций вследствие развития своих теоретических воззрений, как это, например, происходило в жизни Фрейда). Если бы мне сейчас довелось писать на те же самые темы, описывать те же самые результаты исследований или итоги психоаналитической работы, то мой рассказ был бы, скорей всего, иным – но все же не настолько, чтобы я и сейчас не могла подписаться под своими работами прежних лет.
Декабрь, 2011
Москва
Изучение психотерапии за рубежом: история, современное состояние
Кому и зачем нужны исследования психотерапии
Главная цель всякого психотерапевтического лечения заключается в том, чтобы помочь пациентам внести необходимые изменения в свою жизнь. Каким образом это можно сделать? Ответ на поставленный вопрос каждое направление психотерапии дает в терминах собственных понятий. Успешность или эффективность психотерапии оценивается в зависимости от того, насколько стойкими и в широком смысле благотворными для пациента оказываются эти изменения; оптимальными будут те психотерапевтические меры, которые обеспечивают стойкий, продолжительный позитивный эффект. Разумеется, всякая психотерапевтическая школа убеждена, что предлагаемый именно ею способ помогать пациентам является оптимальным, предоставляя сомневающимся проверить это на собственном опыте.
В настоящее время известно и осуществляется на практике около 400 разновидностей психотерапии для взрослых пациентов и примерно 200 – для детей и подростков (Kazdin, 1994); описано около 300 психологических синдромов или констелляций симптомов, для лечения которых рекомендуется та или иная форма терапии. Если поставить задачу эмпирическим путем установить, какие виды психотерапии или их сочетания оптимальны для лечения одного расстройства, то придется опробовать астрономическое количество сочетаний, приблизительно равное 2400. Соответственно, чтобы получить возможное количество сочетаний для лечения всех описанных синдромов, это число надо будет умножить еще на 300. Такие занятия комбинаторикой должны убедить читателя, что научно обоснованное изучение психотерапии не пустая игра изощренного ума, а жизненная необходимость, обусловленная, с одной стороны, многообразием форм и проявлений расстройств и способов их лечения, а с другой – стремлением к нахождению наилучшего решения в каждом конкретном случае.
Изучение психотерапии ставит перед собой две основные задачи: во-первых, поиск эмпирического обоснования психологических методов лечения, т. е. выяснение, что является полезным, для кого, при каких обстоятельствах; во-вторых, описание и постижение механизмов изменений, т. е. как психотерапия в целом и различные ее разновидности в частности достигают позитивного эффекта. Разумеется, обе эти задачи взаимосвязаны: осуществление первой зависит от достижений в решении второй, причем именно вторая задача является наиболее захватывающей и увлекательной. Понимание механизмов психотерапии требует также и объяснения того, каким образом соотносятся терапевтические транзакции между пациентом и терапевтом с реальными изменениями в жизни пациента вне приемной психотерапевта. У. Стайлз, Д. Шапиро и Р. Эллиот (Stiles et al., 1986) описывают «парадокс эквивалентности», т. е. приблизительно равнозначной эффективности лечений, в которых складываются, по всей видимости, существенно различающиеся отношения между пациентом и психотерапевтом. До тех пор, пока этот парадокс не будет разрешен, понимание механизмов лечения останется весьма ограниченным.
Попытаемся обрисовать в общих чертах историю развития исследований в психотерапии; прежде всего проанализировать изучение психодинамической индивидуальной психотерапии взрослых пациентов в амбулаторных условиях. Будет показано, как на протяжении десятилетий происходило постепенное смещение фокуса исследовательского интереса с одних задач на другие. Более детально рассматривается проблема эффективности психотерапии и основные результаты ее изучения, представленные в литературе на сегодняшний день. Последняя часть статьи посвящена различным подходам и методам изучения процесса психотерапевтического взаимодействия, в частности, методике «Структурный анализ социального поведения» (SASB) Л. Бенджамин (Benjamin, 1974) и возможностям, которые она открывает для построения модели психотерапевтического процесса. К сожалению, практически все работы, посвященные изучению психотерапии, осуществляются за рубежом; в силу этого и наш труд является обзором зарубежных исследований психотерапии.
История исследований психодинамической психотерапии
С самого начала исследования психотерапии были направлены на решение как прикладных задач, в первую очередь, выяснение эффективности психотерапевтического воздействия, так и чисто фундаментальных – на обеспечение научной валидизации психотерапевтического процесса и его результатов. С течением времени фокус исследовательского интереса смещался с одной задачи («Приносит ли психотерапия какую-либо пользу?») на другие: «Кому какая психотерапия помогает?», «Как работает та или иная форма психотерапии?» В соответствии с исследовательскими задачами можно выделить несколько этапов в изучении психотерапии (Kaechele, 1992; Kaechele, Strauss, 1998). При этом необходимо иметь в виду, что хотя выделяемые фазы хронологически следуют одна за другой, фактически их нельзя привязать к одному исследовательскому направлению или какой-либо школе психотерапии. Их следует, скорее, понимать как эпохи в развитии исследований, причем на разных этапах то одно, то другое психотерапевтическое направление проявляло высокую степень активности и достигало наиболее интересных результатов.
Самыми первыми исследованиями, относящимися к предварительному этапу или «нулевому циклу» изучения психотерапии, можно считать описания отдельных клинических случаев. В XIX в. это был излюбленный психиатрами методологический подход: детально описанный клинический материал был одним из самых надежных способов передачи и обсуждения своего опыта. З. Фрейд продолжил эту традицию, однако в наши дни широкого увлечения сциентизмом данный метод подвергается весьма суровой критике. Д. Спенс (Spence, 1993) сформулировал основные черты психоаналитического исследования отдельных случаев, которые не соответствуют канонам научной объективности: описание случая представляет собой скорее беллетризованное захватывающее повествование, нежели научное сообщение; автор клинического описания ссылается исключительно на собственный опыт, который не поддается верификации, при этом, разумеется, чрезвычайно велика субъективность представлений и интерпретации материала; описываемый случай никоим образом не может рассматриваться как репрезентативный, поскольку для подобных целей авторы склонны выбирать примеры, чем-либо выделяющиеся из общего ряда; и т. д. Тем не менее, трудно представить себе историю психоанализа и психотерапии вообще и исследований психотерапии в частности без клинических описаний Фрейда, служащих своего рода прообразом современной методологии изучения отдельного случая (single case study). Фактически и по сей день имеется достаточно сторонников описаний отдельных случаев, которые видят в них источник нового знания о том, как талантливым клиницистам удается находить новые решения сложных проблем. Следует ли считать, что это тоже исследования? По крайней мере, необходимо не упускать из виду ряд позитивных сторон, присущих изучению отдельных случаев.
1. Тщательное изучение единичного случая может вызвать сомнения относительно всей теории в целом и тем самым привести к ее пересмотру, дополнению, усовершенствованию, и т. п.
2. В ходе анализа отдельного случая может родиться эвристически ценная методика, которая окажется применимой и для изучения психотерапии в рамках более строгого эмпирического исследования.
3. Изучение отдельного случая дает возможность досконально проанализировать ряд редко встречающихся, но важных феноменов.
4. Изучение отдельного случая может быть организовано таким образом, что полученная информация окажется достаточно объективированной и достоверной.
5. Анализ единичного случая – это одно из вспомогательных средств, благодаря которым теоретический «скелет» более успешно «обрастает плотью», и теоретические принципы обретают реальное прикладное звучание.
Следующая фаза развития исследований (ее можно считать первой в действительно научном изучении психотерапии) началась приблизительно в 1930-е годы в русле психоанализа и достигла максимальной интенсивности и успеха в 1950–1970-е годы. Точкой отсчета здесь служат материалы Берлинского психоаналитического института, в которых приведены катамнестические данные за десятилетний период работы (Fenichel, 1930); затем появляются и другие аналогичные отчеты: Лондонского (Jones, 1936) и Чикагского (за пятилетний период – Alexander, 1937) институтов. На данном этапе первостепенное значение имел вопрос об эффективности психотерапии вообще, независимо от конкретной ее формы, диагноза пациентов и т. п. В 1952 г. была опубликована обзорная статья Г. Айзенка (Eysenck, 1952), в которой обосновывался в высшей степени критический тезис о том, что психотерапевтическое лечение ведет к успеху столь же часто, сколь часто пациенты поправляются безо всякой помощи психотерапевта. Айзенк на основе сравнения данных об излечении пациентов и статистических материалов о так называемой спонтанной ремиссии показал, что 67 %, т. е. две трети людей, страдающих от эмоциональных нарушений, практически избавляются от них в течение двух лет, тогда как психотерапия (например, психоанализ) требует иногда более длительного времени, не говоря уже о финансовых и прочих затратах. Эта статья по разным причинам вызвала огромный резонанс и в конечном итоге подтолкнула и психотерапевтов, и исследователей к более тщательному и спланированному изучению результатов психотерапии.
Вскоре вышли из печати и другие работы, в некоторых из них также шла речь о магических «двух третях» пациентов с улучшением состояния. Интересно отметить, что среди пациентов, относящихся к «одной трети» («не улучшивших свое состояние»), достаточно редко упоминались те, у которых в результате психотерапии наблюдалось ухудшение, т. е. симптомы, с которыми пациент обратился за психотерапевтической помощью, в результате лечения не только не исчезли, а скорее усилились или же сменились другими, не менее мучительными. Систематическое исследование этой проблемы было впервые предпринято А. Бергином (Bergin, 1971).
В этот же период К. Роджерс (Rogers, 1957) проводит свои исследования, которые стали переходным звеном между исследованиями результатов и непосредственно процесса психотерапии. Роджерс считается пионером аудиозаписи психотерапевтических сеансов. Он искал и пробовал различные методы, чтобы надежно зафиксировать позитивный результат психотерапии. Одним из таких методов стала широко известная методика Q-сортировки, позволившая Роджерсу показать, например, позитивные изменения, произошедшие в представлении о себе у его пациентов.
На второй фазе развития исследований центральной становится проблема связи между процессом и результатом психотерапии. В этот же период уделяется большое внимание развитию сравнительных исследований результатов воздействия различных психотерапевтических подходов.
В американском городе Топека на базе Меннингеровской клиники в 1950-е годы было разработано, а затем и проведено самое трудоемкое и ресурсоемкое из всех имеющихся на сегодня исследований психотерапии; завершающий отчет по этому проекту представлен в работе Р. Валлерстайна (Wallerstein, 1986). В основу данного исследования был положен методологический принцип, вытекающий из предшествующего хода изучения психотерапии: «Исходя из теоретических соображений, мы считаем, что процесс и результаты психотерапии необходимым образом связаны между собой и что эмпирическое исследование, которое позволит дать ответы на многие вопросы, должно уделять одинаковое внимание обеим сторонам. В любом исследовании, направленном на изучение результатов, должны быть сформулированы критерии улучшения, которые в свою очередь должны ориентироваться на характер заболевания и процесс изменения» (Wallerstein, 1956, p. 233).
Еще одно методологически важное положение Меннингеровского проекта заключалось в том, что исследование проводилось в естественных условиях, т. е. таким образом, чтобы оказывать минимальное воздействие на протекание клинического процесса (а лучше всего – вообще никакого). Согласно этому положению, пациенты были направлены для прохождения той или иной терапии не в случайном порядке, а в соответствии с клиническими показаниями. 22 пациента проходили клинический психоанализ, 20 – психоаналитическую психотерапию, причем из всех 42 человек 22 в течение какого-то времени лечились стационарно, а остальные – только амбулаторно (из этого можно сделать вывод о тяжести заболеваний пациентов). Для обследования пациентов в начале и в конце терапии, а также по прошествии определенного времени после окончания лечения использовались различные методы, в том числе подробная клиническая оценка квалифицированными экспертами (психотерапевтами и психоаналитиками) каждого случая.
Основные результаты этого исследования сформулированы О. Кернбергом (Kernberg et al., 1972) и Р. Валлерстайном (Wallerstein, 1986). Кернберг утверждал, что для всего спектра психоаналитически ориентированной психотерапии прогностически хорошим показателем является сила Эго пациента, независимо от компетентности терапевта; при меньшей силе Эго обследуемого исход лечения не зависит от того, на что делается акцент, на интерпретативную или на поддерживающую сторону психотерапии, – в любом случае успех терапии незначительный. Клинически тщательная проработка результатов исследования позволила Валлерстайну более дифференцированно проинтерпретировать результаты: в целом можно утверждать, что во всех 42 случаях психотерапия содержала больше поддерживающих компонентов, нежели предполагалось исходно, и что эти компоненты сыграли большую роль в обеспечении успеха терапии.
В методологическом отношении важным итогом Меннингеровского исследования стало обнаружение того факта, что даже количественные результаты изучения психотерапии неоднозначны сами по себе: как теоретики, так и клиницисты, стремясь найти подтверждение своей любимой идеи, при анализе одних и тех же данных могут прийти к разным выводам.
Третья фаза исследований психотерапии преодолевает тенденцию к групповым и статистическим подходам, к искусственно построенным экспериментальным условиям и вновь обращается к натуралистическим методам, сохраняя при этом стремление к контролю над процессуальными факторами, которые также подлежат изучению. В центр внимания исследователей попадают взаимоотношения, складывающиеся в ходе терапии между пациентом и психотерапевтом. Один из участников Меннингеровского проекта, Л. Люборски в 1968 г. начал собственное исследование, Пенсильванский проект, подробный отчет о котором вышел спустя двадцать лет (Luborsky et al., 1988). В ходе этого исследования оценивались прогностические показатели эффективности психотерапии. Было обследовано 73 пациента, проходивших экспрессивно-поддерживающую психотерапию (длительностью от 8 до 264 сеансов), причем все сеансы были записаны на аудиокассеты.
Результаты изучения подтвердили ожидания относительно прогностических факторов успешности психотерапии. Лучшими стали показатели: а) психологического здоровья (по шкале HSRS), б) эмоциональной свободы, в) сверхконтроля, г) сходства между пациентом и терапевтом. Тем самым снова подтвердилось положение о том, что для психодинамической психотерапии исходный уровень душевного здоровья пациента – наиболее надежный прогностический признак успешности. Как свидетельствует таблица 1, состояние большинства пациентов, прошедших хотя бы несколько сеансов психотерапии, улучшилось.
Базовые личностные паттерны изменяются в результате психотерапии, однако и после терапии центральный паттерн взаимодействия сохраняет свою конфигурацию в большей степени благодаря незначительному изменению структуры, обозначаемой как желание, при заметном изменении структур реакция другого и реакция субъекта. Лишь немногие заканчивают психотерапию в худшем психологическом состоянии, чем до лечения.
В целом результаты исследования вновь подтвердили вывод о том, что степень сохранности душевного здоровья пациентов является статистически значимым прогностическим показателем будущего успеха психотерапии, что, разумеется, ограничивает возможности любого типа психотерапии.
Таблица 1
Наиболее общие итоги пенсильванского проекта (n=72)
Люборски, однако, не остановился на воспроизведении уже известных фактов. Он также показал, что межличностное взаимодействие между пациентом и терапевтом в психоаналитической ситуации непременно должны включать факторы, благотворно воздействующие на процесс излечения. Еще в рамках Меннингеровского исследования он выделил восемь лечебных факторов психотерапии (Luborsky, Schimek, 1964).
1. Опыт переживания «помогающих» отношений.
2. Способность терапевта понимать пациента и реагировать (эмоционально откликаться).
3. Возрастающее самопонимание пациента.
4. Уменьшение степени «навязчивости» межличностных конфликтов.
5. Способность пациента интернализировать достигнутое в психотерапии.
6. Обретение пациентом большей терпимости по отношению к мыслям и чувствам других людей.
7. Мотивация пациента к изменению себя.
8. Способность терапевта предложить ясную, разумную и действенную технику.
В Пенсильванском исследовании в числе прочих методов применялся разработанный Люборски метод выявления центральной конфликтной темы отношений (метод CCRT). Было показано, что в успешных случаях терапии конфликтные отношения пациента утрачивают свой центральный характер, особенно если интерпретативная работа направлена на анализ этих отношений. Это, в свою очередь, влечет за собой снижение интенсивности симптоматики. Тем самым Люборски получил подтверждение одного из центральных пунктов теории психодинамической психотерапии о связи межличностных конфликтов и невротической симптоматики.
В целом в 70-е годы интерес исследователей, как уже отмечалось, сосредоточивался на изучении конфигураций отношений пациента в терапии и вне ее; при этом делались попытки выделения различных структурных единиц отношений (уже упомянутый центральный паттерн отношений Люборски, конфигурации отношений М. Хоровица (Horowitz, 1979), структуры сознания Х. Даля (Dahl, 1988) и др. Наряду с ориентированным на структуру отношений подходом в этот период разрабатывается подход, ориентированный на понимании процесса формирования отношений (Gill, Hoffman, 1982; Weiss, Sampson, 1986). Кроме того, развиваются методы микроанализа невербальных аспектов психотерапевтического взаимодействия; так, например, работы Р. Краузе (Krause, 1988; Krause, Luetolf, 1988) по изучению тонких мимических взаимодействий между пациентом и терапевтом открывают путь к эмпирически обоснованному пониманию процессов переноса – контрпереноса. Сотрудничество психотерапевтов и лингвистов позволяет проводить дискурс-анализ протоколов психотерапевтических сеансов, благодаря чему понятийный аппарат лингвистики переносится в область терапевтического диалога, открывая тем самым возможность более осознанного использования вербальных и паравербальных средств взаимодействия в клинической работе (Flader et al., 1982).
Исследования эффективности психотерапии
Общий эффект психотерапии
Исследования результатов психотерапии – это одна из тех областей, где полученные данные допускают множественное толкование, во многом обусловленное методом сбора материала и понятиями, посредством которых данные интерпретируются. Наиболее объективными считаются результаты, полученные путем метаанализа отдельных исследований. Первые метаисследования, направленные на подтверждение благоприятного воздействия психотерапии через сравнение результатов применения различных психотерапевтических техник, показали, что в среднем те, кто прошел психотерапию, чувствуют себя лучше, чем 80 % из выборки не проходивших психотерапию (Handbook…, 1994). Эти данные, однако, не противоречат тому факту, что у отдельных пациентов в результате психотерапии может наступить ухудшение. Таким образом, можно сказать, что хотя метаанализ, претендуя на относительную объективность, в действительности приводит к противоречивым заключениям, все же он позволяет однозначно говорить о наличии психотерапевтического эффекта по сравнению с отсутствием лечения. К настоящему моменту почти не осталось сомнений, что психотерапия в целом оказывает благотворное воздействие на пациентов, хотя признается также, что не совсем удается достичь желаемых позитивных изменений.
Позитивные изменения при отсутствии лечения
Если психотерапия является эффективной, то изменения, вызываемые ею, должны быть более значительными, чем те, которые могут возникнуть сами по себе, – так называемая спонтанная ремиссия. Вопрос, который поднял Айзенк в 1952 г. (Eysenck, 1952), поставил под сомнение саму ценность психотерапии как вида лечения, а его вывод послужил стимулом к проведению множества исследований, в ходе которых постепенно вырабатывалась современная методология изучения эффективности психотерапии. К сожалению, в большинстве ранних эмпирических работ не применялась, например, такая методология исследований, согласно которой в случайном порядке одних пациентов распределяют в группу тех, кто будет получать психотерапевтическое лечение, а других – в контрольную группу. В результате оказывается невозможным достоверно сравнить состояние пациентов, проходивших и не проходивших лечение. Последовавшие после сенсационной работы Айзенка исследования, основанные на метаанализе той же литературы, которую использовал он, а также и других источников, свидетельствует о том, что реальные показатели улучшения в отсутствие психотерапии были существенно ниже, чем указывает Айзенк. Исследования А. Бергина и М. Ламберта, например, показали, что величина спонтанной ремиссии у невротических пациентов равняется приблизительно 40 % (Bergin, Lambert, 1978). В другом исследовании (Howard et al., 1986), проведенном на материале метаанализа отдельных работ, в которых в сумме представлены данные по 2431 пациенту, собранные в течение тридцати лет, была выявлена стабильная закономерность, отражающая взаимосвязь между количеством психотерапевтических сеансов, полученных пациентом, и степенью улучшения его состояния (см. рисунок 1).
Рис. 1. Взаимосвязь улучшения в процессе психотерапии от количества сеансов
В исследованиях с применением плацебо обнаружено, что самочувствие пациентов, получивших плацебо, улучшается в большей степени, чем лиц из контрольной группы, не получивших никакой терапии, но те, кто прошел психотерапию, демонстрируют еще большее улучшение своего состояния. В любой психотерапии присутствуют внимание, уважение, поддержка, которые оказываются важным лечебным фактором; разумеется, имеются достаточно убедительные свидетельства того, что результаты даже короткого психотерапевтического вмешательства могут быть стойкими и продолжительными. Так, Р. Нихолсон и Дж. Берман (Nicholson, Berman, 1983) на материале метаанализа 67 исследований эффективности психотерапии приходят к выводу, что на начальных этапах возникает заметное улучшение, которое на последующих стадиях возрастает, и сохраняется также спустя длительное время после окончания лечения.
Следующий вопрос, заслуживающий подробного рассмотрения: какая же психотерапевтическая техника оказывается наиболее эффективной? В настоящее время в психотерапии наблюдается тенденция к эклектизму или интеграции различных технических и теоретических подходов в единый общий подход к лечению, для которого не характерно четкое следование какому-либо строгому правилу, выработанному той или иной школой. Тем не менее, сохраняется тенденция различать в психотерапии два течения: с одной стороны, это школы и направления, связанные с психодинамическими и гуманистическими теориями, а с другой – с поведенческими, когнитивными, экспериментально-психологическими теориями и подходами. Это разделение отражается не только на применяемых техниках, но и на программах обучения психотерапевтов (акцент на анализе клинических случаев, личном опыте, штудировании теоретических работ или же на научных принципах, сборе экспериментальных данных, «технологиях» терапевтических воздействий). Что касается эффективности обоих этих течений, то недавние сравнительные исследования различных авторов показали, что психотерапевтическая действенность многочисленных разновидностей лечения приблизительно одинакова. Хотя эти исследования проводились традиционными методами, применение более современной методологии метаанализа данных принесло в целом те же результаты (Bergin, Lambert, 1978; Beutler, 1979; Goldstein, Stein, 1976; Kellner, 1975; Luborsky et al., 1975; Nicholson, Berman, 1983; Rachman, Wilson, 1980; Shapiro D. A., Shapiro D., 1982).
Например, в так называемом Шеффилдском проекте (Shapiro, Firth, 1987) когнитивно-бихевиоральная терапия (обозначенная термином «предписывающая»), включающая техники релаксации и совладания с тревогой, рациональное переструктурирование и тренинг социальных навыков, сопоставлялась с терапией, ориентированной на отношения (обозначенной как «эксплоративная»). Клиентами были рабочие и служащие, страдавшие от невротической депрессии или тревоги. В исследовании использовался «перекрестный» экспериментальный дизайн, согласно которому каждая пара «терапевт – пациент» работала по 8 недель (1 сессия в неделю) в одном терапевтическом жанре, после чего ровно столько же времени – в другом жанре терапии. Такой формат позволяет с высокой степенью надежности контролировать переменные, связанные с личностью пациента и терапевта, благодаря чему возникает возможность оценить эффект терапевтического воздействия. Результаты показали небольшое преимущество «предписывающей» психотерапии по опросникам, оценивающим выраженность симптомов, и по стандартизованному психиатрическому интервью, однако из тридцати случаев лишь в семи различия в эффективности оказались статистически значимыми.
В целом многочисленные отдельные исследования и результаты метаанализа приводят к заключению, что различные техники психосоциальной терапии оказываются приблизительно равными по эффективности. Незначительное преимущество когнитивно-бихевиоральных подходов, которое обнаруживается в большинстве подобных работ, можно объяснить, например, тем, что методы измерения эффективности фиксируют в первую очередь поведенческие изменения у пациентов, а не количество или качество инсайтов, пережитых ими в ходе терапии. Еще одно возможное объяснение: подавляющее большинство подобных исследований проводится психотерапевтами, которые придерживаются именно когнитивно-бихевиоральной ориентации, поэтому неудивительно, что результаты интерпретируются в пользу «родного» направления.
Однако более интригующим итогом исследований представляется именно обнаруженная незначительность различий в эффективности психотерапевтических школ, столь разных по своим теоретическим и методическим основаниям. Для объяснения этого факта предлагается три альтернативных гипотезы.
1. Различные виды психотерапии достигают сходных целей посредством разных процессов.
2. В действительности наблюдаются различные исходы терапии, которые, однако, не улавливаются применяемыми исследовательскими стратегиями.
3. Различные виды терапии включают в себя определенные общие для всех компоненты, которые оказывают лечебное воздействие, хотя и не занимают центрального места в присущем данной школе теоретическом обосновании психотерапевтического изменения.
В настоящее время ни одну из этих трех гипотез невозможно полностью ни доказать, ни опровергнуть. Пожалуй, наибольшее число сторонников собрала третья альтернатива, предполагающая наличие общих факторов, присущих всякому психотерапевтическому подходу. К ним в первую очередь относятся: теплота и поддержка, внимание к пациенту, надежность психотерапевта, некоторая доля суггестии, ожидание улучшения и запрос на улучшение. Среди общих факторов наиболее исследованы так называемые «необходимые и достаточные условия» личностного изменения пациента, выявленные в рамках клиентоцентрированного подхода (Rogers, 1957): эмпатия, позитивное отношение, ненавязчивая теплота и конгруэнтность (подлинность) психотерапевта. Практически все школы психотерапии признают, что данные характеристики отношения терапевта к пациенту выступают факторами эффективного лечения и являются фундаментальными в построении терапевтического альянса. М. Лэмберт и А. Бергин (Lambert, Bergin, 1994) предлагают следующий перечень общих факторов, сгруппированных в три категории (поддержка, научение, действие), связанных с успешным исходом психотерапии (таблица 2).
Таблица 2
Факторы, обусловливающие успешность психотерапии
В последнее время все более очевидно, что определенные личностные качества пациента играют существенную роль в формировании терапевтических отношений и влияют на исход терапии. Х. Страпп (Strupp, 1980а, в, c, d) сообщает о четырех сериях исследований, в каждом из которых два пациента проходили краткосрочную терапию у одного и того же психотерапевта, причем один из пациентов демонстрировал значительный прогресс, а терапия второго была оценена как неудачная. Эти сообщения являются частью обширного исследования с использованием различных методов измерения эффективности психотерапии и анализа взаимодействий между пациентом и терапевтом. В упомянутых случаях пациентами были студенты колледжа (мужчины), страдавшие от тревожности, депрессии, социальной отстраненности. Все терапевты, принимавшие участие в исследовании, обладали высоко развитыми профессиональными навыками, однако межличностные отношения с каждым из двух пациентов оказывались весьма различными. В восьми полученных отчетах (по два от каждого терапевта) пациент, достигший значительного успеха, характеризовался как более ориентированный на построение значимых отношений с терапевтом и действительно сумевший это сделать, тогда как «неуспешный» пациент не сформировал отношений с терапевтом и был склонен взаимодействовать на более поверхностном уровне.
Благодаря исследовательскому дизайну вклад психотерапевта в обоих случаях можно было считать более или менее константным, что позволяло приписать различия в результатах терапии переменным, привнесенным пациентами. Сюда можно отнести такие факторы, как организация Эго пациента, зрелость, мотивация, способность активно включиться в предлагаемый межличностный процесс. Страпп подчеркивает, что опыт прошлых межличностных отношений пациента играет важную роль для достижения им значимых изменений в ходе терапевтического взаимодействия. К сходным результатам приходят также Л. Люборски (Luborsky et al., 1979), Д. Кросс и П. Шихэн (Cross, Sheehan, 1982), К. Моррис и К. Сакермэн (Morris, Suckerman, 1974а, b, 1975) и др.
В последние годы проявляется тенденция не столько к сопоставлению эффективности различных психотерапевтических направлений в целом, сколько к рассмотрению возможного воздействия конкретной терапевтической техники на конкретное психическое нарушение независимо от исходного общетеоретического направления. В результате этих исследований, с одной стороны, подтверждается ведущая роль «неспецифичных» компонентов психотерапии, а с другой – удается обнаружить некоторые специфичные факторы (например, в случае лечения депрессии в контексте когнитивнобихевиорального направления важным становится новый способ описания проблемы, предлагаемый терапевтом, а также постоянная «обратная связь» от терапевта к пациенту относительно продвижения последнего).
В целом изучение эффективности психотерапии позволяет прийти к ряду выводов, имеющих значение для ее теории и практики, а также для дальнейшего развития исследований.
1. Многие из изученных видов психотерапии оказывают очевидное влияние на различные типы пациентов, причем это влияние не только статистически значимо, но и клинически эффективно. Психотерапия способствует снятию симптомов, ускоряя естественный процесс выздоровления и обеспечивая расширение набора доступных пациенту стратегий совладания с жизненными трудностями.
2. Результаты психотерапии, как правило, оказываются достаточно пролонгированными. Хотя некоторые проблемы, например, наркотическая зависимость, имеют тенденцию возникать снова и снова, многие из новообразований, достигнутых в ходе психотерапии, сохраняются в течение длительных периодов времени.
Это объясняется отчасти тем, что многие виды психотерапии направлены на создание постоянно функционирующих изменений, а не исключительно на снятие симптомов.
3. Различия в эффективности тех или иных форм психотерапии значительно менее выражены, чем можно было бы ожидать: когнитивно-бихевиоральные техники демонстрируют некоторое превосходство над традиционными методами вербальной терапии применительно к определенным типам психических расстройств, но это нельзя считать закономерностью. Длительность психотерапевтического лечения также может быть весьма непродолжительна для определенного типа проблем, тогда как ряд проблем и расстройств не поддается краткосрочной психотерапии.
4. Несмотря на то, что отдельные психотерапевтические направления сохраняют своеобразие и свойственную им специфику взаимодействия с пациентом, многие психотерапевты в настоящее время используют эклектический подход. С одной стороны, этот факт отражает естественную ответную реакцию на эмпирические данные и отвергает существовавшую прежде установку на строгое соблюдение правил и требований определенной школы. С другой стороны, это позволяет максимально гибко приспосабливать ту или иную технику к запросам и нуждам пациента, его личностным особенностям и объективным обстоятельствам проведения психотерапии.
5. Межличностные, социальные и эмоциональные факторы, являющиеся одинаково значимыми для всех видов психотерапии, по-видимому, выступают важными детерминантами улучшений состояния пациентов. При этом со всей очевидностью обнаруживается тот факт, что помогать людям справляться с депрессией, тревогой, чувством неадекватности, внутренними конфликтами, строить более живые отношения с окружающими и открывать для себя новые направления в жизни можно лишь в контексте доверительных, теплых отношений. Дальнейшие исследования должны фокусироваться не столько на детерминантах отношений, общих для всех видов психотерапии, сколько на специфическом значении конкретных интеракций между пациентом и терапевтом.
6. И наконец, необходимо иметь в виду, что за усредненными показателями улучшения состояния пациентов в результате психотерапии скрываются весьма существенные индивидуальные различия. Одной из детерминант этих различий является личность самого психотерапевта, еще одной – личность пациента; совершенно очевидно, что не всем можно помочь и не все психотерапевты эффективно работают с любым пациентом. Из этого следует, что есть потребность в более тщательном анализе взаимосвязи между процессом и результатом психотерапии, основывающемся не только на клинических суждениях, но и на систематическом сборе эмпирических данных.
Методы изучения психотерапевтического взаимодействия
Методы исследования психотерапевтического процесса в целом и – более узко – психотерапевтического взаимодействия можно классифицировать в соответствии со следующими категориями измерений: методы прямого – непрямого измерения; фокус анализа; перспектива анализа; изучаемый аспект процесса, тип шкалирования, теоретическая ориентация (Lambert, Hill, 1994). Прямые методы кодируют или оценивают поведение в ходе реальных сессий или их записей (транскрипты, аудио– или видеозаписи); это обычно делают эксперты или судьи. Непрямые методы – это опросники, заполняемые, как правило, сразу после сеанса непосредственными участниками терапевтического процесса и характеризующие их состояние в ходе сеанса.
Фокусов анализа может быть три: пациент, терапевт, диадное взаимодействие. Под перспективой анализа понимается точка зрения, позволяющая описывать психотерапевтический процесс – терапевта, пациента или же «независимого» эксперта. Раньше предполагалось, что эксперты могут судить о процессе терапии объективно, поскольку они не задействованы в нем лично. В настоящее время нет сомнений в том, что эксперты могут быть не менее пристрастны, чем непосредственные участники взаимодействия, однако их пристрастия не обусловлены включенностью в процесс.
Р. Эллиот (Elliott, 1991) предлагает различать четыре аспекта процесса взаимодействия: содержание (что именно говорится); действия (какого рода действие осуществляется – вопрос, просьба и т. д., т. е. характер речевого акта); стиль/состояние (как именно говорится, например, эмпатически, осуждающе и т. д.); качество (насколько хорошо нечто говорится или делается).
При шкалировании используются чаще всего шкалы типа ликертовских: пяти-, семи– или девятибалльные. Другой способ описания – категориальная кодировка, когда все данные квалифицируются в соответствии с некоей системой категорий. Наконец, время от времени применяется Q-сортировка, при которой эксперты оценивают психотерапевтический процесс в категориях, распределенных по оценочной шкале. Теоретическая ориентация, в рамках которой создавался метод исследования, может существенно ограничивать возможности его применения для каких-либо других видов психотерапии. Здесь важно учитывать методологический принцип конгруэнтности «проблема – лечение – результат»: вразумительность исследования психотерапии определяется изоморфизмом или конгруэнтностью наших понятий относительно клинической проблемы, процесса терапевтического изменения и клинического результата (Strupp et al., 1988, p. 7).
Наиболее полные описания имеющихся на сегодня методов исследования психотерапевтического процесса представлены в сборниках под редакцией Л. Гринберга и У. Пинсофа (The psychotherapeutic process…, 1986), а также в работах Д. Кислера (Kiesler, 1973) и Р. Рассела (Russell, 1987). В нашей статье мы коснемся лишь одного из них, направленного на анализ взаимодействий между психотерапевтом и пациентом. Это разработанный Л. Бенджамин метод САСП – структурный анализ социального поведения (по-английски SASB – Structural Analysis of Social Behavior), который широко используется для изучения интеракций между пациентом и психотерапевтом в индивидуальной и семейной психотерапии (Benjamin, 1974).
САСП основывается на так называемой циркулярной модели социального поведения, предложенной Т. Лири и получившей дальнейшее развитие в трудах Д. Кислера (Kiesler, 1983). Согласно этой модели, все межличностное поведение можно описать в рамках одной плоскости, на которой задаются две оси: ось аффилиации (любовь – ненависть) и взаимозависимости (независимость – контроль). Модель Л. Бенджамин предлагает различать три плоскости вместо одной в соответствии с фокусом внимания интеракции: любая интеракция либо может быть направлена на партнера (транзитивный фокус), либо является ответной реакцией на предшествующую интеракцию партнера (интранзитивный фокус), либо может выражать состояние собственного Я субъекта (интроективный фокус).
Межличностная теория, на которой базируется САСП, восходит к Г. Салливану (Sullivan, 1953). Согласно его точке зрения, личностная концепция Я вытекает из тех оценок, которые индивидуум получает в течение своей жизни со стороны значимых для него людей. Тем самым личность понимается как результирующая субъективно интернализированных прошлых отношений, которая постоянно формируется. На этой базе Бенджамин разработала единую динамическую модель межличностного взаимодействия и интрапсихических функций, включающую в себя сензитивную и в то же время удобную технологию соответствующих измерений. Для прогнозирования индивидуального поведения она стремится в первую очередь понять мироощущение субъекта.
Структурный анализ социального поведения (САСП) выходит за грань плоскостных циркулярных моделей, различая в каждом коммуникативном акте с помощью разных фокусировок (с точки зрения действующего лица) три плоскости межличностного взаимодействия: транзитивную (активную), нетранзитивную (реактивную) и интроективную. Благодаря различению трех плоскостей межличностного взаимодействия, в особенности активного (транзитивного) и реактивного (интранзитивного) фокусов, т. е. в зависимости от направленности коммуникативных действий, метод САСП решает хроническую проблему простых циркулярных моделей. В них, например, стремление доминировать над другими людьми противоположно желанию подчиняться, при этом оба качества – активность и реактивность – оказываются на одном и том же полюсе контрольного измерения. Лишь различение коммуникативной направленности (фокуса), вводимое в САСП, позволяет избежать смешения активного и реактивного измерений человеческого общения, благодаря чему теперь можно сформулировать дифференцированные транзактные концепции комплиментарности, антитезы и т. д.
САСП – это не простой «тест», а система, с помощью которой можно моделировать и анализировать межличностные трансакции, непосредственно увязывая их с Я-концепцией рассматриваемого человека, поэтому она особенно подходит для описания и понимания текущих терапевтических процессов. С точки зрения теории общения принято различать аспекты содержания и отношения в отдельном коммуникативном акте. САСП в принципе подходит для анализа обоих аспектов, однако в основном его применяют при изучении аспекта построения отношения, отвечая на вопрос: «Кто, как и к кому относится и как тот, в свою очередь, на это реагирует?»
Ориентация на процесс построения отношений означает, что методика должна выявлять и кодировать межличностные интеракции между участниками. Кодирование таких интеракций по САСП производится феноменологически по наблюдаемым проявлениям, не допуская спекулятивных теоретических заключений о неосознаваемой «сути происходящего», которая якобы раскрывается в определенной сцене. Благодаря этому при правильном понимании и применении метод САСП оказывается нейтральным по отношению к отдельным психотерапевтическим школам и именно поэтому предлагает им универсальный язык общения. Психоаналитики и поведенческие терапевты могут таким образом обмениваться мнениями с научной точностью без необходимости делать скидку на неприемлемые теоретические предпосылки позиций оппонента. Это означает, что применение САСП позволяет осуществить методологический принцип конгруэнтности «проблемы – лечения – результата», обеспечивающий релевантность, валидность и сопоставимость получаемых данных.
Особенно продуктивным оказывается этот метод при изучении различных составляющих психотерапевтического процесса. Так, в исследовании У. Генри, Т. Шлахта и Х. Страппа (Henry et al., 1986) было показано, что один и тот же психотерапевт, выстраивая различные межличностные отношения с тем или иным пациентом, может достичь успеха или потерпеть неудачу в терапии в целом; факт, что межличностный процесс коррелирует с успешностью терапии, подтвердился для различных психотерапевтических направлений. В успешных случаях психотерапевт проявляет по отношению к пациенту больше аффилиативного контроля и аффилиативной автономии и существенно меньше враждебного контроля; пациент же демонстрирует в большей степени дружескую дифференциацию и в меньшей – враждебную сепарацию по отношению к психотерапевту. Далее, для успешных случаев характерна большая позитивная комплиментарность взаимодействий психотерапевта и пациента, когда оба участника коммуникации действуют в дружеской манере, и значительно меньшая негативная комплиментарность (один дружелюбен, другой враждебен), чем для неуспешных случаев.
САСП, благодаря плоскости интроекта, т. е. структуры, содержащей комплекс представлений о себе и средства саморегуляции, дает возможность также анализировать внутриличностную динамику пациента в связи с текущим интерперсональным процессом. С теоретической точки зрения именно изменение интроекта по направлению к большей адаптированности позволяет пациенту прийти к разрешению «проблемы» и детерминирует успех психотерапии. Можно ожидать, что интернализация позитивного межличностного процесса обеспечит позитивное же изменение интроекта пациента, и наоборот; эта гипотеза также была подтверждена в другом исследовании (Henry et al., 1990).
Более обобщенное представление о возможностях изучения психотерапевтического процесса, предоставляемых методом САСП, сформулировано в работе У. Генри: САСП позволяет операционализировать психодинамические конструкты и понятия таким образом, что они становятся доступными для исследования в рамках принципа конгруэнтности «проблема – лечение – результат» (Henry, 1996). Это открывает путь к сопоставлению различных видов психотерапии, построению интегративной модели психотерапии и в конечном итоге к пониманию механизмов изменений пациентов, возрастанию эффективности и успешности психотерапевтического воздействия в целом.
Мы надеемся, наш краткий обзор исследований в психотерапии позволит читателю прийти к заключению, что психотерапевтическая деятельность в целом становится предметом изучения фундаментальной науки – психологии, клинической психологии, психолингвистики. В то же время в среде психотерапевтов-клиницистов исследовательская работа часто воспринимается как нечто чуждое самому искусству психотерапии, гармонию которого невозможно «поверить алгеброй». Подобное отношение к научному исследованию достойно сожаления. Остается надеяться, что большая информированность о проводимых исследованиях поможет изменить сложившийся стереотип.
Литература
Alexander F. Five year report of the Chicago Institute for Psychoanalysis, 1932–1937. Chicago: Institute of Psychoanalysis, 1937.
Benjamin L. S. Structural analysis of social behavior // Psychological Review. 1974. V. 81. P. 392–425.
Bergin A. The evaluation of therapeutic outcomes // Handbook of psychotherapy and behavior change / S. L. Garfield, A. E. Bergin (eds). NY: Wiley, 1971. P. 217–270.
Bergin A.E., Lambert M.I. The evaluation of therapeutic outcomes // Handbook of psychotherapy and behavior change: An Empirical Analysis / S. L. Garfield, A. E. Bergin (eds). 2nd ed. NY: Wiley, 1978. P. 139–189.
Beutler L. E. Toward specific psychological therapies for specific conditions // J. of Consulting and Clin. Psychology. 1979. V. 47. P. 882–892.
Cross D. G., Sheehan P. W. Secondary therapist variables operationg in short-term insight-oriented and behavior therapy // British J. of Medical Psychology. 1982. V. 55. P. 275–284.
Dahl H. Frames of mind // Psychoanalytic process research strategies / H. Dahl, H. Kaechele, H. Thomae (eds). NY, 1988. P. 51–66.
Elliott R. Five dimensions of therapy process // Psychotherapy Research. 1991. V. 1. P. 92–103.
Eysenck H. The effects of psychotherapy: an evaluation // J. of Consult. Psychology. 1952. V. 16. P. 319–324.
Fenichel O. Statistischer Bericht ueber die therapeutische Taetigkeit 1920–1930 // Zehn Jahre Berliner Psychoanalytisches Institut, Poliklinik und Lehranstalt / S. Rado, O. Fenichel, U. Mueller-Braunschweig (Hg.). Wien: Int. Psa. Verl., 1930. S. 13–19.
Flader D., Grodzicki W. D., Schroeter K. Psychoanalyse als Gespraech, Interaktionsanalytische Untersuchungen ueber Therapie und Supervision. Frankfurt/M.: Suhrkamp, 1982.
Gill M. M., Hoffman I. S. Analysis of transference. V. II. Studies of nine audio-recorded psychoanalytic sessions. NY: Intern. Univ. Press, 1982.
Goldstein A. P., Stein N. Prescriptive psychotherapies. NY: Pergamon, 1976.
Handbook of psychotherapy and behavioral change / A. E. Bergin, S. L. Garfield (eds). 4th ed. NY: Wiley, 1994.
Henry W. P. Structural Analysis of Social Behavior as a Common Metric for Programmatic Psychopathology and Psychotherapy Research // J. of Consulting and Clin. Psychology. 1996. V. 64. № 6. P. 1263–1275.
Henry W. P., Schacht T. E., Strupp H. H. Patient and therapist introject, interpersonal process and differential psychotherapy outcome // J. of Consulting and Clin. Psychology. 1990. V. 58. P. 768–774.
Henry W.P., Schacht T.E., Strupp H.H. Structural Analysis of Social Behavior: Application to a study of interpersonal process in differential psychotherapeutic outcome // J. of Consulting and Clin. Psychology. 1986. V. 54. P. 27–31.
Horowitz M. Z. States of mind: Analysis of change in psychotherapy. NY– London, 1979.
Howard H. I., Kopte S. M., Krause M. S., Orlinsky D. E. The dose-effect relationship in psychotherapy // Amer. Psychologist. 1986. V. 41. P. 159–164.
Jones E. Report of the Clinic Work. London: London Clinic of Psychoanalysis, 1936.
Kaechele H. Psychoanalytische Psychotherapieforschung // Psyche. 1992. Bd. 46. № 3. S. 259–285.
Kaechele H., Strauss B. M. Approaches and Methods in Psychotherapy Research or Do we need Empirically Validated // Supported Treatments. Montevideo, 1998.
Kazdin A. Methodology, design, and evaluation in psychotherapy research // Handbook of psychotherapy and behavioral change / A. E. Bergin, S. L. Garfield (eds). 4th ed. NY: Wiley, 1994. P. 19–71.
Kellner R. Psychotherapy in psychosomatic disorders: A survey of controlled outcome studies // Archives of General Psychiatry. 1975. V. 35. P. 1021–1028.
Kernberg O. F., Bursteine E. D., Coyne L. et al. Psychotherapy and psychoanalysis. Final report of the Menninger Foundation // Bull. of Menninger Clin. 1972. V. 36. P. 3–275.
Kiesler D. The process of psychotherapy. Chicago: Aldine, 1973.
Kiesler D. The 1982 interpersonal circle: A taxonomy for complimentarity in human transactions // Psychol. Rev. 1983. V. 90. № 3. P. 185–214.
Krause R. Eine Taxonomie der Affekte und ihre Anwendung auf das Verstaendnis der «fruehen» Stoerungen // Psychotherapy and Medical Psychology. 1988. V. 38. P. 77–86.
Krause R., Luetolf P. Facial Indicators of transference processes within psychoanalytic treatment / H. Dahl et al. (eds). NY, 1988. P. 241–256.
Lambert M., Bergin A. The effectiveness of psychotherapy // Handbook of psychotherapy and behavioral change / A. E. Bergin, S. L. Garfield (eds). 4th ed. NY: Wiley, 1994. P. 143–189.
Lambert M., Hill C. Assessing psychotherapy outcomes and processes // Handbook of psychotherapy and behavioral change / A. E. Bergin, S. L. Garfield (eds). 4th ed. NY: Wiley, 1994. P. 72–113.
Luborsky L., Bachrach H., Graff H., Pulver S., Christoph P. Preconditions and consequences of transference interpretations: A clinical– quantitative investigation // J. of Nervous and Mental Disease. 1979. V. 167. P. 391–401.
Luborsky L., Schimek J. Psychoanalytic theories of therapeutic and developmental change: implications for assessment // Personality change / P. Worche, N. Byrne (eds). NY: Wiley, 1964.
Luborsky L., Singer B., Luborsky L. Comparative studies of psychotherapy // Archives of General Psychiatry. 1975. V. 32. P. 995–1008.
Luborsky L., Crits-Christoph P., Mintz J., Auerbach A. Who Will Benefit From Psychotherapy. NY: Basic Books, 1988.
Morris R. J., Suckerman K. R. Morris and Suckerman reply // J. of Consulting and Clin. Psychology. 1975. V. 43. P. 585–586.
Morris R. J., Suckerman K. R. The importance of therapeutic relationships in systematic desensitization // J. of Consulting and Clin. Psychology. 1974. V. 42. P. 148–156.
Morris R. J., Suckerman K. R. Therapist warmth as a factor in automated systematic desensitization // J. of Consulting and Clin. Psychology. 1974. V. 42. P. 244–250.
Nicholson R. A., Berman J. S. Is follow-up necessary in evaluating psychotherapy? // Psychological Bulletin. 1983. V. 93. P. 261–278.
Rachman S., Wilson G. T. The effect of psychological therapy: Second enlarged edition. NY: Pergamon, 1980.
Rogers C. R. The necessary and sufficient conditions of therapeutic personality change // J. of Consulting Psychology. 1957. V. 21. P. 95–103.
Russell R. Language in psychotherapy: Strategies of discovery. NY: Plenum, 1987.
Shapiro D., Firth J. Prescriptive versus exploratory psychotherapy. Outcomes of the Sheffield Psychotherapy Project // British J. of Psychiatry. 1987. V. 151. P. 790–799.
Shapiro D. A., Shapiro D. Meta-analysis of comparative theory outcome studies: A replication and refinement // Psychological Bulletin. 1982.V. 92. P. 581–604.
Spence D. Traditional case studies and prescriptions for improving them // Psychodynamic treatment research. A handbook for clinical practice / N. Miller et al. (eds). NY: Wiley, 1993.
Stiles W. B., Shapiro D. A., Elliott R. Are all psychotherapies equivalent? // Amer. Psychologist. 1986. V. 41. P. 165–180.
Strupp H.H. Success and failure in time-limited psychotherapy: A systematic comparison of two cases-comparison 1 // Archives of General Psychiatry. 1980. V. 37. P. 595–603a.
Strupp H.H. Success and failure in time-limited psychotherapy: A systematic comparison of two cases-comparison 2 // Archives of General Psychiatry. 1980. V. 37. P. 708–716b.
Strupp H.H. Success and failure in time-limited psychotherapy: A systematic comparison of two cases-comparison 4 // Archives of General Psychiatry. 1980. V. 37. P. 974–945c.
Strupp H. H. Success and failure in time-limited psychotherapy: With special reference to the performance of a lay counselor // Archives of General Psychiatry. 1980. V. 37. P. 831–841d.
Strupp H., Schacht T., Henry W. Problem-Treatment-Outcome congruence: A principle whose time has come // Psychoanalytic process research strategies / H. Dahl, H. Kaechele, H. Thomae (eds). NY, 1988. P. 1–14.
Sullivan H. S. The interpersonal theory of psychiatry. NY: Norton, 1953. The psychotherapeutic process: A research handbook / L. Greenberg, W. Pinsof (eds). NY: Guilford, 1986.
Wallerstein R. S. Forty-two lives in treatment: A study of psychoanalysis and psychotherapy. NY: Guilford, 1986.
Wallerstein R. S., Robbins L., Sargent H., Luborsky L. The psychotherapy Research Project of the Menninger Foundation: Rationale, Method and Sample Use. First Report // Bull. of Menninger Clin. 1956. V. 20. P. 221–278.
Weiss J. B., Sampson H. The psychoanalytic process: theory clinical observation and empirical research. NY: Guilford, 1986.
Нарратив в психотерапии: рассказы пациентов о личной истории
Предпринятое исследование – наш первый шаг в изучении функции нарративов в психотерапевтическом процессе посредством анализа их содержательных и формальных характеристик. В ходе предварительных исследований проанализированы многочисленные труды, посвященные проблеме рассказывания историй в процессе психотерапии, конструирования и реконструирования личной истории пациентов, а также проведен анализ многих психотерапевтических сеансов: под разным углом зрения, с использованием различных методик[2]. Оба эти направления позволили сформулировать собственный подход и понимание нарратива как специфической формы психотерапевтического дискурса.
Человек, проживая свою жизнь, конструирует ее историю, личную «повесть временных лет». То, какой будет эта повесть, зависит от многих условий и обстоятельств, часть которых сложилась еще до его рождения, а другие – в детстве или более позднем возрасте. Родителям (или тем, кто их заменяет) принадлежит важнейшая роль в этом процессе на протяжении первых лет после рождения; впоследствии в написании «личной истории» начинают участвовать другие значимые люди. Каждое новое событие жизни ретроспективно получает некую интерпретацию, которая обусловлена предшествующим ходом событий. Таким образом составляется своего рода цепочка, состоящая из похожих друг на друга звеньев. Если суть такой интерпретации положительна, человек воспринимает ход своей жизни как последовательность успешных решений и достигнутых целей, невзирая на случайные неудачи и препятствия. Если же исходная интерпретация негативна, то восприятие жизни оказывается окрашено пессимистически, независимо от того, насколько в действительности человек успешен в своих действиях. Пример с двумя актерами, один из которых утверждал, что зал был наполовину полон, а другой – что наполовину пуст, дает представление об этом фундаментальном различии в интерпретации одного и того же события.
В ходе индивидуальной психотерапии происходит осмысление и переработка личной истории пациента через диалог с психотерапевтом (Schafer, 1992). Под «переработкой биографии» не следует понимать «переписывание» истории, изображенное Оруэллом в его антиутопии «1984», когда на групповых фотографиях благодаря работе ножниц и клею исчезали одни персонажи и появлялись другие. Состав исторических действующих лиц остается прежним, меняется лишь отношение к ним и событиям, в которых они принимали участие. Невозможно отменить ни один эпизод, но можно придать ему новый смысл. В результате трагические события, ранее непереносимо болезненные, займут свое место в представлениях пациента о его истории жизни, перестанут причинять боль. Схематически процесс психотерапии можно представить себе следующим образом: пациент рассказывает психотерапевту истории из своей жизни, прошлой и настоящей, участниками которых могут быть его родственники, друзья, коллеги и т. д.[3] Затем они вместе обсуждают эти истории более или менее подробно, с большей или меньшей степенью участия обоих собеседников. В результате у пациента постепенно возникает новое видение этих историй, причем не только в интеллектуальном, но и в эмоциональном плане. Благодаря этому и осуществляется изменение в психотерапии: пациент приходит к более целостному и оптимистическому восприятию своей жизни и самого себя.
Таким образом, совершенно очевидно, что рассказывание пациентом историй из своей жизни является необходимым условием успеха психотерапии. Но вот что неочевидно: все ли истории, рассказываемые пациентом, одинаково продуктивны с точки зрения возможности возникновений инсайта? В литературе часто встречаются замечания, что рассказывание историй «из жизни» представляет собой проявление психологических защит пациента, т. е. его сопротивления процессу изменения и психотерапии в целом (Wiedemann, 1986). Можно предположить, что пациенты рассказывают разные по психотерапевтической эффективности истории: одни необходимы для развертывания продуктивного процесса, ведущего к возникновению инсайта, другие же, напротив, тормозят его.
Следующий вопрос, ответ на который также неоднозначен: что именно в рассказывании историй оказывает положительное воздействие на переживания пациента и способствует возникновению инсайта: сам процесс рассказывания или же последующее обсуждение в ходе психотерапевтического сеанса? Иными словами, почему история, которой пациент, возможно, уже делился со своими друзьями, будучи рассказана психотерапевту, ведет к возникновению инсайта? Наиболее правдоподобно предположение, что психотерапевт реагирует на рассказ иначе, чем близкие и друзья пациента, именно это и обусловливает терапевтический эффект. В то же время, вероятно, важную роль играет и форма рассказа, т. е. как пациент преподносит происшедшее с ним, какие именно выразительные средства использует для описания своих действий и переживаний, пересказывая собственную историю.
Еще один вопрос, также не получивший пока окончательного решения: являются ли истории данного пациента вариациями какого-то одного сюжета, или истории разных пациентов – это лишь варианты одного и того же «классического» сюжета[4], или же у каждого человека есть несколько различных сюжетных мотивов, универсальных для всего человечества[5], или глубоко индивидуальных, приобретенных в ходе онтогенеза.
К числу самых животрепещущих в исследованиях по психотерапии относится вопрос о том, какова степень соответствия между историями, которые рассказывает пациент, и его реальным поведением как вне терапии, так и при взаимодействии с психотерапевтом. Согласно классической точке зрения, взаимодействие с психотерапевтом должно во многом совпадать с тем, как пациент ведет себя в общении с другими людьми, и, следовательно, с его рассказами об этом общении. С другой стороны, рассказывание истории как особая деятельность также имеет определенный коммуникативный смысл (прагматический аспект нарратива), который необязательно должен совпадать с содержательной стороной рассказа (Quasthoff, 1980).
Предпринятое нами исследование основано на представлении о том, что нарративы являются средством организации и соотнесения личного опыта субъекта (Russel, Broek, 1989). В этом смысле они действительно отражают некие внутренние структуры и эмоциональные состояния рассказчика. Но поскольку нарративы рассказываются в ходе диалога, они оказываются встроенными в структуру взаимодействия в целом и функционируют как эквивалент речевого акта: просьбы, отказа и т. п. (Labov, Fanshel, 1977). Иначе говоря, нарративы рассказываются с целью оказать на слушателя некое воздействие и вызвать у него отклик – ментальную реакцию или реакцию на поведенческом уровне (Quasthoff, 1980). Кроме того, одной из важнейших функций нарратива является самопредъявление (self-presentation) рассказчика в ходе разговора. В результате процесс организации и соотнесения личного опыта рассказчика подвергается многочисленным искажениям вследствие его актуальных целей взаимодействия, действия защитных механизмов, механизмов социальной желательности и т. п.
Реальный «наивный» слушатель рассказа, как правило, не различает эти аспекты нарратива и реагирует на них недифференцированно. Однако психотерапевт не является таким «наивным» слушателем: его умение различать «что говорится» и «как говорится» относится к числу базовых, поэтому любой рассказ пациента он анализирует как минимум с этих двух точек зрения. Соответственно, ответная реакция психотерапевта является следствием его решения подчеркнуть тот или иной аспект, представленный в рассказе; иногда оказывается необходимо отреагировать не на отдельные аспекты, а на повествование в целом.
В исследованиях по психотерапии нарративы, рассказываемые пациентом, привлекают все больше внимания; в первую очередь это касается изучения психоаналитической психотерапии. В последнее десятилетие в психоаналитической литературе часто можно встретить призыв интерпретировать историю жизни пациента, рассказываемую в ходе психотерапевтических сеансов, именно как нарратив (Polkinghorne, 1991; Schafer, 1992; Spence, 1982; Wyaff, 1986). Использование этого понятия оказывается продуктивным при столкновении с проблемой достоверности рассказов пациента: с момента становления психоанализа стоял вопрос о том, действительно ли те или иные события в жизни пациента имели место[6], или же, что более вероятно, рассказы пациентов следует понимать как одну из возможных субъективных версий происходивших событий, своего рода «субъективную правду», которая отлична от «объективной правды» (если таковая вообще существует). Эта последняя точка зрения, базирующаяся на концепции социального конструктивизма, становится все более распространенной среди исследователей психоанализа и практикующих аналитиков.
Такой подход к исследованию историй пациента нуждается в однозначном способе обнаружения нарративов в контексте психотерапевтического дискурса, т. е. четкого определения нарратива. Анализ литературы по данной проблеме показывает, что в работах многих исследователей термин «нарратив» понимается различно, а именно как: а) рассказ пациента о событиях жизни, пересказывание сновидения, фантазий (Boothe, 1994; Bucci, 1993, 1995; Luborsky, Crits-Christoph, 1991; и др.); б) тематически единая сюжетная линия, охватывающая весь жизненный путь человека (Russel, Broek, 1989; Schafer, 1992); в) один из модусов психотерапевтического дискурса (Wiedemann, 1986). При этом выяснилось, что имеются значительные расхождения в понимании сути нарратива и его характерных признаков. Кроме того, очевидно также отсутствие какого бы то ни было однозначного определения нарратива, которое позволило бы отличать его от «не-нарратива».
Наше исследование исходит из прагматического подхода к теории дискурса, согласно которому контекст играет решающую роль в порождении значения (Brown, Yule, 1983). Применительно к нарративу это означает, что рассказывание истории не только осуществляется в определенном контексте, но и организовано в соответствии с характерными чертами этого контекста. Из этого следует, что рассказы пациента в рамках психотерапевтического сеанса в той или иной мере детерминированы данными рамками, т. е. отношениями «психотерапевт – пациент», задающими модус взаимодействия для обоих участников диалога.
В лингвистических исследованиях классическим считается определение устного нарратива, предложенное Лабовым и Валецки (Labov, Waletzky, 1967); это определение получило дальнейшее развитие в работе Лабова и Фэншела (Labov, Fanshel, 1977), посвященной непосредственно психотерапевтическому дискурсу. Согласно этому определению, нарратив рассматривается как «один из способов репрезентации прошлого опыта при помощи последовательности упорядоченных предложений, которые передают временную последовательность событий посредством этой упорядоченности… Одним из наиболее общих способов введения нарратива является формулирование общей пропозиции, которую должен проиллюстрировать нарратив <…> они функционируют как эквиваленты единичных речевых актов, таких, как ответ, высказывание просьбы, претензии и т. п. Нарративы иногда вводятся при помощи структурного средства, названного нами резюме <…> каждый нарратив обычно начинается с указания времени, места, действующих лиц и поведенческих характеристик ситуации…» (Labov, Fanshel, 1977, p. 47). Необходимыми лингвистическими признаками нарратива являются: наличие придаточных предложений, соответствующих временной последовательности событий, отнесенность повествования к прошедшему времени и наличие определенных структурных компонентов. К последним относятся: а) ориентировка – описание места, времени действия, персонажей; б) осложнение или конфликт – возникновение препятствия; в) оценка – выражение авторского отношения к происходящему; г) разрешение – устранение препятствия; д) кода – завершение повествования и возврат в «здесь-и-теперь».
Такое деление на составляющие вызывает справедливую критику со стороны многих исследователей, прежде всего потому, что в реальном дискурсе крайне редко можно встретить нарратив, в котором действительно выражены все пять частей. У. Квастхоф (Quasthoff, 1980) недостатком данного деления считает тот факт, что выделяемые части относятся к разным сторонам нарратива: ориентировочная и оценочная части – к прагматическому аспекту, а оставшиеся три (конфликт, разрешение, кода) – к семантическому. Она же предлагает вместо конфликта и разрешения ввести критерий неожиданности, когда запланированный ход событий внезапно (с точки зрения рассказчика) нарушается непредвиденными обстоятельствами и требует осуществления незапланированных действий. Кроме того, Квастхоф различает нарративы, в которых сам рассказчик является главным действующим лицом (актантом), и повествования о событиях, где рассказчик был всего лишь наблюдателем. Мы полагаем, что для психотерапевтического дискурса это различение очень важно, поскольку основная задача пациента в ходе психотерапии – рассказывать о себе истории, где он сам является актантом, и, соответственно, появление историй второго типа может свидетельствовать о действии сопротивления или механизмов защиты.
В более поздних работах (Ehlich, 1983; Hartog, 1994) предлагается различать нарратив в узком и широком смыслах слова: а) повествование вообще как процесс порождения историй, рассказов, описаний и т. п.; б) нарратив как конкретную, четко очерченную форму повествования, существующую наряду с другими, – так называемыми «отчетом», «описанием», «изображением». Отличительной чертой нарратива в узком смысле О. Людвиг (Ludwig, 1984, S. 45) предлагает считать наличие конфликта (осложнения) и его разрешения; прагматический аспект нарратива состоит в том, чтобы слушатель мог «как бы» принять участие в происходивших событиях. Иначе говоря, рассказывание истории направлено на то, чтобы вовлечь слушателя эмоционально, сделать сочувствующим наблюдателем или «соучастником» событий. Другую прагматическую задачу решает рассказчик, предлагая своему слушателю «отчет», который построен таким образом, чтобы предоставить слушателю информацию, необходимую для оценки или принятия решения по какому-либо вопросу (Rehbein, 1984).
Разнообразие подходов и пониманий нарратива заставляет усомниться в том, что это понятие можно операционализировать. Не случайно Р. Водак (Wodak, 1986) указывает, что нарративы в строгом смысле слова едва ли встречаются в повседневном общении, поэтому нет смысла искать некую единственную форму нарратива. Тем не менее, на наш взгляд, упомянутые подходы имеют нечто общее, а именно: во всех определениях нарратива прямо или косвенно отмечается изменение состояния персонажа (актанта) и/или ситуации в конце повествования по сравнению с его началом. Иными словами, нарратив в узком смысле слова в семантическом аспекте предполагает необходимость какой-то динамики состояний, внешней или внутренней, что является результатом некой деятельности персонажей, тогда как другие повествовательные формы (например, описание) не требуют непременной активности действующих лиц и осуществления изменений.
Исходя из этих соображений, мы предлагаем следующее операциональное определение нарратива. Данное повествование можно считать нарративным в случае, если выполняются следующие семантические критерии.
1. Репрезентация в рамках рассказываемой истории временной последовательности событий, включающей какие-либо действия актанта, ментальные и/или физические, которые ведут к некоему изменению его собственного состояния или состояния его окружения (ситуации, других действующих лиц). Такие действия могут принимать форму а) «осложнения и разрешения» или б) «нарушения плана»; при этом «изменения состояния» включают в себя изменения физического или ментального состояния, перемещения в пространственном и социальном континууме и т. п. актанта и других действующих лиц.
2. Отчетливое и конкретное указание на место и время действия, а также на действующих лиц.
Соответственно, маркерами нарратива в тексте являются: а) «резюме», предшествующее изложению нарратива; б) «кода», возвращающая слушателя от повествования к настоящему времени; в) прямая речь действующих лиц нарратива.
Формулируя данное операциональное определение нарратива, мы остаемся в рамках его традиционного понимания как сообщения о происшедших событиях, в котором установки, оценки и эмоциональные реакции рассказчика кажутся отодвинутыми на второй план. Иной подход, центром внимания которого является аффективно-оценочное отношение рассказчика к сообщаемому, предложен в работе Дж. Герхардт и Ч. Стинсона (Gerhardt, Stinson, 1994). Они опираются на концепцию Л. Полани (L. Polanyi, 1989), согласно которой всякий рассказ уникален потому, что его автор в своем повествовании неизбежно предъявляет определенную точку зрения на мир, предлагая слушателю принять и разделить ее. Герхардт и Стинсон разрабатывают понятие «объяснения» (account), которое представляет собой лингвистическое средство, используемое при оценивании какого-либо действия; оно призвано объяснить поведение или происшествия, когда события развиваются нежелательным, «неправильным», неудовлетворительным образом (L. Polanyi, 1989, p. 160). Иначе говоря, «объяснение» должно выявить значение, которое данное действие, происшествие или поведение имеет для субъекта. Такой тип дискурса авторы считают типичным именно для психотерапевтического взаимодействия, причем «объяснение» используют и терапевт, и пациент.
Действительно, сам факт обращения пациента к психотерапевту уже означает, что в его жизни происходят нежелательные события, разрешить которые он надеется с помощью понимания – т. е. объяснения – их причин и целей. Разумеется, пациент располагает неким исходным объяснением, которое, однако, оказывается неудовлетворительным с точки зрения возможностей изменения ситуации. Следует отметить, что он далеко не всегда в состоянии вербализовать свое понимание/объяснение. Основной же способ предъявления пациента – это сообщение неких историй из жизни, включающих имплицитно или эксплицитно его оценки и базовые установки. В то же время на основе анализа литературы по исследованию нарратива, проведенного нами, можно утверждать, что нарратив, а точнее, его прагматический аспект (согласно У. Квастхоф) содержит «объяснения», т. е. аффективно-оценочный компонент, позволяющий, с одной стороны, вовлечь слушателя эмоционально, а с другой – передать собственные оценки и интерпретации рассказчика. Иными словами, «объяснение» является составной частью нарратива, которая более или менее очевидна и развернута в зависимости от рефлексивной способности пациента, степени доверительности его отношений с терапевтом, эмоциональной увлеченности рассказчика своим повествованием и т. п.
Таким образом, мы предполагаем, что наше определение нарратива позволит достоверно выявить именно те фрагменты психотерапевтического взаимодействия, которые передают сообщение пациента о конкретных историях его жизни, прошлого и настоящего, с оценками и аффективными установками по отношению к этим историям и действующим лицам. Анализ данных фрагментов при помощи контент-аналитических методов должен прояснить функции нарратива в психотерапевтическом дискурсе и дать ответ на некоторые вопросы.
Эмпирическое исследование роли нарративов в психотерапевтическом процессе имеет целью сопоставление эвристических возможностей предлагаемого нами определения нарратива с другими «нарративоподобными» единицами анализа текста, а именно с эпизодами взаимодействия (ЭВ), выделяемыми Л. Люборски. Как известно, он предлагает выводить центральный конфликтный паттерн на основе несложных статистических процедур, где компоненты, обнаруженные в ЭВ, обладают равными весами, так как все ЭВ считаются равноценными (Luborsky, Crits-Christoph, 1991). Мы предполагаем, что ЭВ в действительности неоднородны по своей структуре и функциям в психотерапевтическом процессе, поэтому необходим дифференцированный подход к их анализу.
В методе CCRT ЭВ определяется как рассказ о каком-либо взаимодействии пациента с окружающими, удовлетворяющий следующим требованиям: а) единство места, времени и объекта, с которым взаимодействует пациент; это означает, что границы ЭВ задаются сменой места, времени и объекта (например, если пациент рассказывает о своем взаимодействии с одним и тем же человеком, но в разное время, то эти истории будут идентифицироваться как различные ЭВ); б) наличие всех трех компонентов CCRT в пределах одного эпизода, т. е. желания (Ж), реакции объекта (РО) и реакции субъекта (PC). Из данного определения очевидно, что ЭВ могут также оказаться нарративами, однако это не обязательно для квалификации рассказа как ЭВ; соответственно, и нарратив может подпасть под определение ЭВ. Следовательно, возможны четыре типа текста, встречающегося в протоколах психотерапевтических сеансов: а) нарратив, не являющийся ЭВ; б) нарратив, одновременно являющийся ЭВ; в) ЭВ, не являющийся нарративом; г) остальной текст (диалогические фрагменты, описания и «отчеты», любые повествования, не удовлетворяющие критериям нарратива и ЭВ). Мы предположили, что рассказы пациента, удовлетворяющие критериям нарратива, должны отличаться от других типов повествования, в частности ЭВ, по своей роли в психотерапевтическом процессе, а именно: а) нарративы содержат более личностно значимую информацию; б) в коммуникативном отношении нарратив обладает большими возможностями передачи эмоционального состояния и стимуляции ответной реакции слушателя.
Для проверки этих предположений было проведено эмпирическое исследование протоколов психотерапевтических бесед.
Методика
Материалом для исследования послужили:
1. Протоколы короткой (28 сеансов, условное название случая – «Патриция») психодинамической психотерапии, предоставленные авторами проекта по изучению сознательных и бессознательных психических процессов (Bucci, 1993). Пациентка в ходе терапии продемонстрировала значительное улучшение субъективного состояния и объективных показателей (диагноз – патологическое переживание горя). Для анализа были выбраны 10 протоколов (сеансы № 5, 8–14, 17, 23); таким образом, вторая четверть терапевтического процесса включена в наше исследование полностью, а из остальных трех четвертей было выбрано по одному сеансу. Сеансы 8–14 включают так называемый «ключевой сеанс» (Boothe, 1994; Ehlich, 1983; Erzaehlen…, 1984).
2. Протоколы короткой (30 сеансов, условное название случая – «Студент») психодинамической психотерапии, предоставленные банком данных Ульмского университета (Mergenthaler, Kaechele, 1988). Пациент в ходе психотерапии продемонстрировал некоторое улучшение состояния и снижение интенсивности симптоматики (невроз навязчивости). Проанализированы 10 протоколов (№ 5, 10, 15–19, 21, 23, 26). «Ключевым» был сеанс 20, когда пациент привел свою подругу и разговор происходил втроем. Поэтому данный сеанс мы не анализировали.
Методы исследования
1. Контент-анализ, использующийся при выявлении нарративов, удовлетворяющих выдвинутому операциональному критерию.
2. Метод CCRT (Калмыкова, 1994). CCRT относится к числу контент-аналитических методов; базой данных для него служат истории о взаимодействии (главным образом с родителями и другими значимыми фигурами, включая психотерапевта), которые пациенты спонтанно рассказывают в ходе психотерапевтических сеансов. Специально обученный эксперт читает полный протокол сеанса и локализует в нем так называемые эпизоды взаимодействия (ЭВ); затем другой эксперт прочитывает только эти эпизоды и идентифицирует в них три компонента: «желания» (Ж), «реакции объекта» (РО) и «реакции субъекта» (PC). Следующий этап анализа материала – поиск тематических последовательностей трех компонентов. Просмотр всех эпизодов позволяет найти наиболее приемлемый уровень обобщения полученных единичных категорий. Затем подсчитывается частота встречаемости трех компонентов и составляется центральный паттерн взаимоотношений пациента из наиболее часто называемых им компонентов Ж, РО, PC. Таким образом, метод CCRT представляет собой процесс обобщения манифестного содержания на некотором оптимальном уровне абстрагирования.
3. Компьютеризованный анализ текста при помощи программы TAS/C (Mergenthaler, 1996) в целях измерения референтной активности.
Референтная активность – термин, который ввела В. Буччи (Brown, 1983; Buccu, 1995) для обозначения активного взаимодействия двух различных уровней хранения и переработки человеком информации – символического (т. е. вербального) и субсимволического. Согласно теории множественного кода, разрабатываемой Буччи, у человека имеется три уровня (и, соответственно, три кода) хранения информации, в том числе об эмоциях (эмоциональных схемах), переживаниях и т. п. В ходе психотерапевтического сеанса вербальная система человека (символический уровень) связывается с образами, представлениями, невербализованными фантазиями и т. д. В результате эмоциональные схемы активируются и становятся предметом обсуждения в психотерапевтическом диалоге. Фаза высокой референтной активности соответствует моменту активации эмоциональной схемы и проявляется феноменологически как особая форма дискурса; ей присущи такие характеристики, как ясность, образность, конкретность и специфичность изложения. Предполагается, что активация эмоциональной схемы (и, соответственно, пик референтной активности) происходит в процессе рассказывания историй, воспоминаний, сновидений и т. п.
Исходно референтная активность определялась на основе суждений экспертов, которые прочитывали текст, делили его на единицы и оценивали каждую единицу по всем четырем параметрам. В последние годы разработана компьютерная методика определения референтной активности текстов на английском и немецком языках. Эта методика основана на частотности определенных слов-маркеров в текстах, которые были оценены экспертами как имеющие высокую референтную активность (Boothe, 1994; Bucci, 1995). Именно данный метод мы использовали в своем исследовании.
Процедура исследования. Две выборки (по 10 сеансов каждая) были проанализированы с точки зрения выявления нарративов и ЭВ независимыми экспертами. Первую выборку («Патриция») оценивал один и тот же эксперт методом и CCRT, и контент-анализа в целях выявления нарративов. Вторую выборку («Студент») оценивали три независимых эксперта: первый проводил идентификацию ЭВ, а второй и третий независимо друг от друга, пользуясь операциональным критерием, выявляли нарративы. Коэффициент согласованности (к) экспертов для второй выборки не подсчитывался, так как нарративов было обнаружено мало, и совпадение экспертных оценок оказалось полным.
Гипотезы
1. Компьютерная референтная активность (КРА) будет более высокой в тех фрагментах протокола психотерапевтического сеанса, где пациент рассказывает нарратив.
2. ЭВ, не являющиеся нарративами, не отличаются по показателям КРА от остального текста.
3. ЭВ, которые одновременно являются нарративами, отличаются от остальных ЭВ по следующим показателям: а) объект, с которым взаимодействует пациент, будет более значимым в первом случае; б) ЭВ, являющиеся нарративами, должны быть конкретными и относиться к прошлому; в) ЭВ, являющиеся нарративами, содержат желания (компонент Ж), совпадающие с желанием центрального паттерна взаимодействия.
Результаты и их обсуждение
В выборке «Патриция» выявлено 82 ЭВ, из них 49 удовлетворяли критериям нарратива, а 33 – нет. Кроме того, было обнаружено значительное число нарративов, не попадающих под определение ЭВ, – всего 31. В выборке «Студент» выявлено 64 ЭВ[7]; из них 22 – одновременно удовлетворяют критерию нарратива, 42 не являются таковыми, 6 – «чистые» нарративы.
Результаты статистической обработки данных компьютеризованного контент-анализа, полученные для обеих выборок, представлены в таблицах 1–3.
Согласно данным таблицы 1, фрагменты текста, содержащие нарративы и не имеющие их, значимо отличаются друг от друга по показателю КРА, причем референтная активность существенно выше в обеих выборках в тех фрагментах, которые удовлетворяют требованиям нарратива. Следовательно, подтверждаются гипотезы
Таблица 1
Средние значения КРА для различных типов текста и анализ вариативности переменных
Таблица 2
Распределение различных типов ЭВ (для выборки «Патриция»)
Таблица 3
Распределение кластеров желание для ЭВ различного типа (для выборки «Патриция»)
Примечание: Содержание кластеров желание:
1. Утверждать себя и быть независимым.
2. Противостоять другим, обижать и контролировать других.
3. «Чтобы другие меня контролировали и обижали, не быть ответственным».
4. Быть дистанцированным и избегать столкновений.
5. Быть близким к другим, принимать других.
6. «Чтобы меня любили и понимали».
7. Чувствовать себя хорошим, здоровым.
8. Добиваться успеха и помогать другим.
1 и 2 о том, что нарративы отличаются от остального текста более высокой референтной активностью.
Как видно из таблицы 2, НА+ЭВ+ чаще являются конкретными и отнесены в прошлое пациента, чем НА – ЭВ+, что подтверждает гипотезу 3б. Однако оказалось, что субъективная значимость для пациента «другого» в ЭВ не проявляется как форма дискурса: не обнаружено существенного различия в распределении ЭВ со «значимыми другими» независимо от того, является ли ЭВ нарративом или нет. Иными словами, повествование не превращается автоматически в нарратив, если речь в нем идет о «значимом другом». Таким образом, вопреки нашим ожиданиям гипотеза 3а не подтверждается.
Результаты применения метода CCRT обрабатывались при помощи специальной программы ЕХАКТ, разработанной Д. Покорны в Ульмском университете; наиболее высокочастотными кластерами компонента желание оказались кластеры: 8 («добиваться успеха и помогать другим»), 4 («быть дистанцированным и избегать столкновений»), 5 («быть близким к другим, принимать других»). В таблице 3 представлено распределение кластеров желание по эпизодам взаимодействия, являющимся и не являющимся нарративами. Критерий χ2 (хи-квадрат) позволяет утверждать, что только распределение двух кластеров – 4 и 8 – между разными типами ЭВ оказывается достоверно неравномерным, тогда как кластер 5 распределен в высшей степени равномерно.
Важно отметить, что в кластерах 4 и 8 для данной пациентки наибольший вес имели следующие желания: 4 – «не проявлять свои чувства», 8 – «быть хорошей, поступать правильно». На основе применения метода CCRT ее внутренний конфликт можно было бы сформулировать как невозможность проявить свои чувства и при этом сохранить положительный образ Я.
Из исследований данного случая, проведенных в рамках проекта по изучению сознательных и бессознательных психических процессов (Horowitz et al., 1993), известно, что причиной обращения пациентки за психотерапевтической помощью стала ее неспособность пережить горе, связанное с внезапной гибелью мужа в авиакатастрофе, и невозможность построить отношения с другим мужчиной. Сопоставляя эти данные с наиболее частотными кластерами желаний CCRT, мы убеждаемся в том, что они являются центральными в формировании симптома и психического расстройства пациентки в целом. Иначе говоря, благодаря исследованиям М. Хоровица и его сотрудников можно убедиться в том, что кластеры 4 и 8 действительно отражают центральный конфликт пациентки. Следовательно, получает подтверждение гипотеза 3 в.
Результаты, полученные в данном исследовании, позволяют считать, что высокая референтная активность пациентов является индикатором определенного типа психотерапевтического дискурса, а именно нарративного процесса. Это означает, что для выявления с высокой степенью вероятности в текстах протоколов фрагментов, содержащих нарративы, можно применять компьютеризованный метод измерения референтной активности, который позволит существенно экономить усилия и время. В настоящее время эта методика используется для английского и немецкого языков. Что касается возможностей ее использования для протоколов на русском языке, разработка и апробация соответствующего «словаря» слов – маркеров для компьютеризованного анализа текстов – задача ближайшего будущего.
Нарратив рассказывается с высокой референтной активностью. Поэтому можно развить далее предположение о том, что нарратив как форма дискурса обладает особыми коммуникативными характеристиками, а именно: стимулирует референтную активность в слушателе, т. е. вызывает определенную ответную реакцию, основанную на идентификации с рассказчиком. Это означает, что благодаря нарративу психотерапевт может проникнуть во внутренний мир пациента, оставаясь одновременно наблюдателем-слушателем. Следовательно, для достижения взаимопонимания пациент должен рассказывать конкретные, драматизированные, развернутые во времени истории.
Данное исследование выявило также, что в этих драматизированных историях отражается и центральный внутренний конфликт человека, т. е. его основные стремления и опасения. Наверное, нас не должно удивлять, что свои важнейшие фрустрирующие и вдохновляющие переживания человек передает именно посредством нарратива, используя его выразительные возможности для нужд как внутриличностных – отреагирования аффекта, структурирования собственного опыта, – так и межличностных – установления более глубокого взаимопонимания, оказания непосредственного воздействия на слушателя и включения его в свою жизнь.
Заключение
Каков же научный и прикладной смысл полученных результатов? В ходе психотерапевтического процесса огромное значение имеет своевременность и уместность комментариев, которые делает психотерапевт. Опытный специалист, как правило, интуитивно выбирает оптимальный момент для терапевтического вмешательства. Ни в одном учебнике по психотерапии не найти конкретных указаний, когда и что следует говорить. Начинающему психотерапевту трудно решить, в какой момент ему следует высказаться. Если бы удалось разработать всестороннюю модель психотерапевтического процесса, то процесс обучения психотерапии можно было бы существенно облегчить. Компьютеризованные методы контент-анализа предназначены для разработки такой модели (Мергенталер, 1997), которая, с одной стороны, позволит глубже понять внутри– и межличностные процессы, происходящие в ходе психотерапевтического диалога, а с другой – даст возможность усовершенствовать методы обучения психотерапии и уменьшить число неизбежных ошибок и промахов начинающих терапевтов.
Подводя итог и возвращаясь к теоретической части статьи, мы можем констатировать, что не все рассказы пациентов равнозначны в плане продуктивного развития психотерапевтического процесса. В нашем исследовании это проявилось весьма отчетливо: Патриция с самого начала рассказывает много нарративов: она умеет это делать и достигает существенного улучшения; Студент научается рассказывать нарративы слишком поздно, после «ключевого», 20-го, сеанса и его терапевтическое изменение оставляет желать лучшего. Следовательно, не будет ошибкой сказать, что для эффективного психотерапевтического процесса важно, чтобы пациент умел рассказывать нарративы, а терапевт мог своевременно реагировать на них.
Литература
Калмыкова Е.С. Об одном методе анализа индивидуального сознания // Психол. журнал. 1994. Т. 15. № 3. С. 28–41.
Мергенталер Э. Паттерны изменений в психотерапевтическом процессе // Иностранная психология. 1997. № 9. С. 46–58.
Юнг К. Г. Психология бессознательного. М.: Канон, 1994.
Boothe B. Der Patient als Erzaehler in der Psychotherapie. Göttingen, 1994.
Brown G., Yule G. Discourse analysis. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1983.
Bucci W. A multiple code model of the “good hour”; Theory and research. Charles Fisher Memorial lecture at the New York Psychoanalytic Society. April 11, 1995.
Bucci W. The Development of emotional meaning in free assosiation: A multiple code theory // Hierarchical concepts in psychoanalysis / A. Wilson, J. Gedo (eds). NY: Guilford, 1993. P. 3–47.
Ehlich К. Alltaegliches Erzaehlen // Erzaehlen fuer Kinder – Erzaehien von Gott / W. Sanders, K. Wegenast (Hg.). Stuttgart, 1983. S. 128–150.
Erzaehlen in der Schule / К. Ehlich (Hg.). Tuebingen, 1984.
Gerhardt J., Stinson C. The nature of therapeutic discourse: Accounts of the self // J. of Narrative and Life History. 1994. V. 4. P. 151–191.
Hartog J. Die Methode des Zentralen Beziehungs-Konflikt-Themas (ZBKT): eine linguistische Kritik // Medizinische Kommunikation – Diskurspraxis, Diskursethik, Diskursanalyse / A. Redder, I. Wiese (Hg.). Darmstadt, Westdeutscher Verlag. 1994. S. 306–326.
Horowitz M. J., Stinson C. H., Friedhandler В., Milbrath C., Redington D. J., Ewert M. Pathological grief: An intensive case study // Psychiatry. 1993. V. 56. P. 356–374.
Labov W., Fanshel D. Therapeutic discourse. Psychotherapy as conversation. NY: Acad. Press, 1977.
Labov W., Waletzky J. Narrative Analysis: Oral versions of personal expe-rience//Essays on the verbal and visual arts / J. Helm (ed.). Seattle etc: Univ. of Washington Press, 1967. P. 12–44.
Luborsky L., Crits-Christoph P. Understanding Transference. NY: Basic Books, 1991.
Ludwig O. Berichten und Erzaehlen. Variationen eines Musters / K. Ehlich (Hg.). 1984. S. 38–54.
Mergenthaler E. Emotions-Abstraction Patterns in verbatim protocols: A new way of describing psychotherapeutic processes // J. of Consulting and Clin. Psychol. 1996. V. 64 (6). P. 1306–1315.
Mergenthaler E., Kaechele H. The Ulm Textbank management system: A tool for psychotherapy research // Psychoanalytic process research strategy / H. Dahl, H. Kaechele, H. Thomae (eds). Berlin, 1988. P. 242–251.
Polanyi L. Telling the American story: A structural and cultural work. NY: Basic Books, 1989.
Polkinghorne D. E. Narrative and self-concept // J. of Narrative and Life History. 1991. V. I. P. 41–68.
Psychoanalytic process research strategy / H. Dahl, H. Kaechele, H. Thomae (eds). Berlin, 1988.
Quasthoff U. M. Erzaehlen in Gespraechen. Tuebingen: Narr, 1980.
Rehbein J. Beschreiben, Berichten und Erzaehlen / K. Ehlich (Hg.). 1984. S. 67–124.
Russel R. L., van den Broek P. A Cognitive-Developmental Account of Storytelling in Child Psychotherapy // Cognitive Development and Child Psychotherapy / S. R. Shirk (ed.). NY – L.: Plenum Press, 1989.
Schafer R. Retelling a life: Narration and dialogue in psychoanalysis. NY, 1992.
Spence D. P. Narrative truth and historical truth: Meaning and interpretation in psychoanalysis. NY: Norton, 1982.
Wiedemann P. M. Don’t tell any stories. Theories and discoveries concerning story-telling in me therapeutic setting // Poetics. 1986. V. 15. P. 43–55.
Wodak R. Tales from Vienna Woods. Sociolinguistic and psycholinguistic considerations on narrative analysis // Poetics. 1986. V. 15. P. 153–182.
Wyatt F. The narrative in psychoanalysis: Psychoanalytic notes on Storytelling, listening, and interpreting // Narrative psychology: The storied nature of human conduct / T. Sarbin (ed.). NY; Praeger, 1986. P. 193–210.
Анализ нарративов пациента: CCRT и дискурс-анализ
Цель данной работы – сопоставить два подхода к исследованию психотерапевтическою процесса с точки зрения валидности результатов: метод выявления центральной конфликтной темы, предложенный Люборски, и дискурс-аналитический подход к анализу психотерапевтического диалога, как он представлен в классической работе Лабова и Фэншела (Labov, Fanshel, 1977).
Метод центральной конфликтной темы отношений (Калмыкова, 1994) по замыслу автора должен был улавливать повторяющийся паттерн взаимо действия (Luborsky et al., 1991а, p. 167). При этом понятие «интернализованный конфликтный паттерн отношений» мыслится как релевантное классическому фрейдовскому понятию «перенос» и, следовательно, может служить операциональной мерой последнего или хотя бы некоторых его аспектов. Было показано, что многие наблюдения над феноменом переноса (или «трансферентным шаблоном» – transference template), сделанные в свое время Фрейдом, согласуются с результатами, полученными методом CCRT (Luborsky et al., 1991а). Но, тем не менее, трансферентный шаблон представляет собой более глубоко лежащую структуру, и центральный паттерн отношений не претендует на столь же важное место; являясь производным от трансферентного шаблона, как и те нарративы, в которых он выявляется (там же, p. 176). Данное положение Люборски не подлежит сомнению, однако представляет собой обобщение очень высокого порядка; совершенно неясно, каким же образом на основе CCRT мы можем прийти к надежным выводам относительно трансферентного шаблона или личностной схемы (Person Schemas…, 1991).
Метод CCRT относится к числу контент-аналитических методов; базой данных для него служат нарративы (рассказы, истории) о взаимодействии (главным образом с родителями и другими значимыми фигурами, включая психотерапевта), которые пациенты спонтанно рассказывают в ходе психотерапевтических сеансов. Специально обученный эксперт читает транскрипт (полный протокол) сеанса и локализует в нем так называемые эпизоды взаимодействия; затем другой эксперт прочитывает только эти эпизоды и идентифицирует в них три компонента: желания, реакции объекта и реакции субъекта (Luborsky, 1991). Эпизоды, касающиеся психотерапевта, могут выступать как: а) рассказ пациента о про шлом взаимодействии; б) разыгрывание (enactment) взаимодействия здесь-и-теперь; важно подчеркнуть, что «разыгрывания» квалифицируются как эпизоды взаимодействия, в которых «пациент инициирует эпизод, задавая терапевту провокационный вопрос, на который тот отвечает нетерапевтически» (Luborsky, Crits-Christoph, 1990, р. 17). Оба типа эпизодов взаимодействия с психотерапевтом учитываются на следующем этапе анализа материала – при поиске тематических последовательностей всех трех компонентов. Просмотр всех эпизодов позволяет найти наиболее приемлемый уро вень обобщения полученных единичных категорий. Затем подсчитывается частота встречаемости всех трех типов компонентов и составляется центральный паттерн взаимоотношений пациента из наиболее часто встречаемых компонентов: желаний, реакций объекта, реакций субъекта. Таким образом, метод CCRT представляет собой процесс обобщения явного содержания на некотором оптимальном уровне абстрагирования. Метод CCRT опирается на несколько основополагающих допущений. Эти допущения принимаются исследователями на веру, подобно постулатам; они предопределяют не только процедуру вывода, но и получаемые в конечном итоге результаты, т. е. центральную конфликтную тему взаимоотношений. Л. Люборски формулирует свои допущения следующим образом.
Прежде всего предполагается, что центральный паттерн отношений можно вывести из содержания нарративов и эпизодов, разыгрываемых в ходе сеанса. Второе допущение касается двух классов компонентов, подлежащих экспертной оценке, а именно желаний (соответствующих влечениям в классической терминологии) и последствий (реакций другого, т. е. объекта, и реакций Я, т. е. субъекта), что соответствует так называемым функциям Эго. В-третьих, большая частота встречаемости компонента указывает на большую степень его «цeнтpaльнocти» в паттерне взаимодействия и, соответственно, в личностной схеме в целом, а также на его большую интенсивность. Четвертое допущение предписывает экспертам оставаться в рамках «слабого или умеренного уровней выводов» (level of inference), т. е. в тех случаях, когда компоненты представлены в неявном виде (имплицитно), не делать слишком широких и смелых обобщений. Наконец, в пятом допущении речь идет о том, что центральный паттерн отношений является относительно стабильным во времени (Luborsky, Crits-Christoph, 1990, p. 177–178).
На основе этих допущений, предполагает автор методики CCRT, возможно выявление трансферентного паттерна или, по крайней мере, каких-то его аспектов; предполагается также, что этот выявленный паттерн будет бессознательным. Однако эмпирические исследования показали, что только в отдельных случаях центральная конфликтная тема взаимоотношений является в значительной сте пени неосознаваемой; более распространены случаи лишь отчасти неосознаваемых паттернов (Luborsky, Crits-Christoph, 1990). В этой связи в недавних исследованиях были предложены несколько дополнительных принципов, позволяющих опознавать и выводить соответствующие бессознательные аспекты центрального паттерна отношений, как, например: желание, противоположное наиболее часто выраженному, отражает бессознательный конфликт; или представления, противоположные сознательно отрицаемым, также являются компонентом бессознательного конфликта, и т. п. (Luborsky, 1991, р. 179).
Таким образом, методика Люборски предполагает, что частично неосознаваемый паттерн, выявляемый при помощи стандартной про цедуры CCRT, тесно связан с бессознательными аспектами трансферентной структуры, и его можно рассматривать как релевантное операциональное понятие. Следовательно, тем самым предполагается также, что в явном содержании нарратива можно обнаружить пря мое выражение внутренних бессознательных процессов. Другое «имплицитное» допущение можно сформулировать следующим образом: метод центральной конфликтной темы взаимоотношений применим как к нарративам, так и к реально «разыгрываемым» взаимодействиям, т. е. паттерн, выявляемый в нарративах, близок к реальным интеракциям между терапевтом и пациентом, происходящим во время сеанса.
Таковы эксплицитные и имплицитные допущения метода центральной конфликтной темы взаимоотношений. К настоящему моменту осуществлен ряд исследований, направленных на дальнейшее развитие метода и в некоторой степени критических по отношению к нему, в которых, однако, исходные допущения не подвергаются сомнению (см., напр., Albani, 1992, 1994; Albani et al., 1992). Процедура проведения CCRT становится все более изощренной, надежность, как предполагается, возрастает, но принципиальный вопрос «А что же все-таки измеряется посредством этого метода?» по-прежнему остается без ответа. Поэтому представляется целесообразным рассмотреть более пристально те допущения, на которых построен метод, а также представления о языке и коммуникации, заложенные в его основание, в надежде, что это позволит пролить свет на данный вопрос.
Прежде всего следует отметить, что допущения, сделанные Люборски, представляют собой связующее звено для этих двух понятий: трансферентный шаблон и наиболее частую конфликтную тему, т. е. глубокую бессознательную структуру и поверхностную видимую миру структуру нарратива. Ни одну деталь или звено этого построения нельзя изъять, не разрушив всю конструкцию, поэтому приходится принимать все допущения без исключения, однако центральная роль принадлежит принципу частотности. Предполагается, что частотный критерий достаточно валиден, чтобы выявлять и опи сывать внутриличностную схему; тем не менее, в лингвистике, дискурс-анализе, нарративистике этот критерий подвергается критике с разных позиций. Ниже будет показано, что применительно к темам нарративов, рассказываемых пациентом в ходе сеанса, данный частотный критерий оказывается несостоятельным.
Позволим себе напомнить читателю несколько положений относительно нарратива, общепринятых для большинства современных исследований. Нарратив занимает одно из центральных мест в ряде областей гуманитарных наук, изучающих, как человек обретает, кодирует, трансформирует и передает знания о самом себе и мире (White, 1980). Общепризнано, что нарратив имеет относительно сложно организованную структуру. Наиболее широко известно описание структуры нарратива, данное в работе Лабова и Валецки «Анализ нарратива» (Labov, Waletzky, 1967), которая по сей день является классической в области нарративистики. Как показано в этой работе, всякий нарратив включает в себя: а) резюме; б) ориентировоч ный раздел, информирующий слушателя (читателя) о ситуации в общем и целом; в) раздел, повествующий о развитии событий; г) раздел, содержащий оценочные суждения; д) информацию о разрешении ситуации; е) и, как правило, коду, являющуюся маркером окончания нарратива и возвращения слушателя в актуальный диалог. Порождение и функционирование нарратива изучаются лингвистикой и психолингвистикой с различных позиций, включая контент-аналитический метод. Контент-анализ в общих чертах определяется как процесс объективного и систематического исследования социальной реальности, в ходе которого на основе внешне проявленного контекста исследователь делает вывод о непроявленном содержании (Merten, 1983). Непроявленный контекст включает в себя коммуникатора, реципиента и ситуацию взаимодействия в целом, поэтому, чтобы сделать вывод об этом контексте, исследователь должен исходить из какой-либо модели коммуникации. Известны две конкурирующие модели. Одна из них предложена Ч. Осгудом (Osgood, 1959) – так называемая репрезентационная модель, а вторая – инструментальная, которую предложил Маль (Маhl, 1959). Противоречия между двумя моделями имеют мультидисциплинарный характер и проявляются на разных теоретических уровнях. В области психолингвистики репрезентационная модель выдвигает идею «изоморфизма» между внутренними установками личности и определенными элементами ее высказываний; иными словами, предполагается существование четких параллелей между эмоциональными состояниями и лексическими единицами. Это означает, что установки и внутренние состояния коммуникатора легко и надежно можно вывести из явленного содержания. Инструменталь ная модель коммуникации подчеркивает полифункциональную природу высказываний и, в частности, их прагматический аспект, утверждая, что этот аспект нельзя вывести непосредственно из явного содержания текста. Дальнейшее развитие этого положения представлено в так называемой теории речевых актов (speech acts), в которой каждое высказывание рассматривается как некое речевое действие, мотивированное сознательным или неосознанным намерением говорящего вызвать определенную реакцию у слушателя. Таким образом, встает вопрос не только планомерности и интенциональности в коммуникации, но и функционального значения высказываний.
В области психоаналитического подхода расхождение этих двух моделей проявляется, как показали исследования психотерапии Mount Zion group, через противопоставление двух теорий аналитической терапии, одна из которых основывается на ранней гипотезе Фрейда об «автоматическом функционировании», а другая – на гипотезе о бессознательном высшем психическом функционировании (Weiss, Sampson, 1986). Репрезентационная модель применительно к психоаналитическому процессу предполагает, что желания (или любые другие эмоциональные реакции), выражаемые пациентом в нарративах по отношению к другим людям, при сутствуют также и в актуальной терапевтической ситуации по отношению к терапевту, и, рассказывая нарратив, пациент стремится удовлетворить эти бессознательные влечения. Это предположение буквально соответствует гипотезе об автоматическом функционировании, согласно которой психическая жизнь и поведение человека детерминируются автоматическим, не координированным взаимодействием инстинктивных влечений, направленных на поиск удовлетворения, и механизмами защиты Эго, выполня ющими функцию контроля. Пациент обращается к терапевту в поисках удовлетворения своих бессознательных инстинктивных влечений и пытается реализовать свои пристрастия, невзирая на реально существующую ситуацию.
С другой стороны, идея целенаправленного взаимодействия, планирования и преднамеренности в ходе коммуникации проявляется в области психоанализа как гипотеза о бессознательном высшем психическом функцио нировании. Она предполагает, что человек в состоянии осуществлять бессознательный контроль за множеством своих действий и бессознательно фор мировать планы, также бессознательно оценивать опасность или безопасность и принимать решения относительно того, какие психические содержания следует придержать, а какие реализовывать. Пациент приходит на терапевтический сеанс не как пассивная жертва психических сил, инстинктивных влечений и защит, а как активный участник, способный самостоятельно оценивать обстоятельства и бессознательно создавать планы. Как указал Вайсс, большинство аналитиков в наши дни принимают обе концепции, и автоматического, и высшего регулирования, однако гипотеза об автоматическом функционировании все еще оказывает большее влияние на мышление практикующих терапевтов (Weiss, Sampson, 1986, р. 6).
Анализ допущений – постулатов метода CCRT подтверждает последнее положение Вайсса и Сэмпсона: действительно, если вновь обратиться к «явным» и имплицитным допущениям, перечисленным выше, становится очевидно, что они основаны на репрезентационной модели коммуникации. Согласно теории автоматического функционирования, чем чаще встречается какое-либо желание в нарративах пациента, тем более важным и «центральным» оно является («явное» допущение 3), а содержание нарративов пациента в целом соответствует реальному «разыгрыванию» (имплицитное допущение 2). Поскольку репрезентационная модель предполагает, что прагматический аспект любого высказывания можно непосредственно вывести из его содержания, то вполне достаточно будет проанализировать лишь это содержание, чтобы выявить интернализованный паттерн взаимодействия пациента (имплицитное допущение 1). Более того, при этом нет необходимости учитывать тот контекст, в котором рассказывается данный нарратив («явное» допущение 1). Некоторые исследователи идут в этом направлении еще дальше, предлагая преднамеренно не принимать в расчет контекст порожде ния нарратива, чтобы структура взаимоотношений, лежащая в его основе, стала еще более выпуклой (Dahlbender, Kaechele, 1994).
В самом деле, нарративы представляют собой средство организации и соотнесения личного опыта (Russell, 1989; Bruner, 1986). В этом смысле они действительно отражают некие внутренние структуры и эмоциональные состояния рассказчика. Но поскольку нарративы рассказываются в ходе диалога, они оказываются встроены в структуру взаимодействия в целом и функционируют как эквивалент какого-либо речевого акта: просьбы, отказа и т. п. (Labov, Fanshel, 1977). Иначе говоря, нарративы рассказываются с целью оказать на слушателя некое воздействие и вызвать у него отклик – ментальную реакцию или реакцию на поведенческом уровне (Quasthoff, 1980). Кроме того, одной из важнейших функций нар ратива является самопредъявление (self-presentation) рассказчика в ходе разговора. В результате процесс организации и соотнесения личного опыта рассказчика подвергается многочисленным искажениям под влиянием актуальных целей взаимодействия, защитных механизмов, механизмов социальной желательности и т. п. Это положение приводит нас к заключению, что невозможно сделать вывод относительно глубинных внутренних структур на основе одного только явного содержания и тематического анализа нарративов при полном игнорировании коммуникативного контекста их возникновения.
Интерпретация разговора как взаимодействия (Goffman, 1971) является неотъемлемой частью дискурс-аналитического подхода, целью которого становится воссоздание систематических связей между поверхностны ми речевыми элементами и глубинными коммуникативными структурами (Ehlich, Rehbein, 1979; Hartog, 1994). Дискурс – очень широкое понятие, включающее в себя все формы устного взаимодействия и тексты разного рода. Оно не ограничено рамками текста или диалога, это, скорее, некое сложное коммуникативное событие, которое можно трактовать как серию концентрических контекстов (Labov, Fanshel, 1977), включающую также нелингвистические факторы, например, коммуникативный, культурный и социальный контекст, контекст общих сведений о мире и т. д., т. е. все то, что необходимо для понимания текста (Handbook…, 1985).
«Термин „дискурс-анализ“ используется как родовое понятие для всех тех исследований, которые обращаются к языку в его социальном и когнитивном контексте» (Potter, Wetherell, 1987, р. 6). В целом дискурс-анализ представляет собой обширную и неоднозначно определяемую сферу исследований, к настоящему моменту существует несколько дефиниций предмета исследования[8]; все они, однако, сходятся в том, что дискурс-анализ изучает «язык в действии» («language in use»). Соответственно, имеется ряд положений, общих для большинства работ: а) язык всегда функционирует в рамках некоего контекста; б) язык чувствителен к контексту; в) язык всегда коммуникативен; г) язык предназначен для общения (Schiffrin, 1987). Эти положения предопределяют способ анализа текстов и, в частности, нарративов с учетом роли контекста; применительно к анализу нарративов пациента важнейшим контекстом будет именно контекст взаимодействия с терапевтом.
Нарратив в дискурс-аналитическом подходе интерпретируется как целенаправленный речевой акт; это означает, что наряду с явным содержанием в нарративе заключена и коммуникативная функция. Исследования показали, что функциональное объяснение нарративов необходимо соотносить с коммуникативными намерениями рассказчика, которые невозможно вывести непосредственно из содержания рассказа (Quasthoff, 1980).
Тем не менее, метод CCRT основывается на том, что намерения и желания пациента, выведенные более или менее непосредственно (на «слабом» или «умеренном» уровне их выраженности) из явного содер жания его нарративов, должны совпадать с намерениями, лежащими в основе его реальных взаимодействий с терапевтом. Насколько нам известно, это утверждение еще не подвергалось эмпирической проверке, т. е. не проводилось сравнения между рассказанными паттернами и реальными взаимодействиями с терапевтом в ходе терапевтических сеансов. Нами проведено такое сравнение на материале нескольких сеансов, предшествующих перерывам в терапии или следующих сразу за этими перерывами (так называемые «break-ses sions»)[9], для пациента, описанного в «Руководстве по психоанализу» (Thomae, Kaechele, 1988) как Артур И[10]. В своем анализе реальных взаимодействий мы исходили из варианта дискурс-анализа, разработанного Лабовым и Фэншелом (Labov, Fanshel, 1977); следует отметить, что нас интересовал язык лишь постольку, поскольку речевая продукция отражает паттерны взаимодействия коммуникатора. Эта задача предопределяет акценты и пробелы в нашем анализе, отличном от лингвистической процедуры дискурс-анализа.
Пациент Артур И., около 50 лет, страдал тяжелой формой невроза навязчивости в течение почти тридцати лет, когда он решил в четвертый раз обратиться за психотерапевтической помощью, и эта четвертая попытка оказалась удачной. На протяжении всей своей жизни пациент отчаянно старался преодолеть навязчивые идеи и страхи: он боялся, что может окончить жизнь в тюрьме или в тюремной психиатрической больнице после того, как совершит убийство или сексуальное преступление. Однако, несмотря на сильную тревогу о возможном совершении убийств и защитные ритуалы, принявшие форму навязчивых мыслей и действий, он был очень успешен в своей профессиональной деятельности и мог скрывать свои переживания от окружающих, так что даже ближайшие родственники не знали, что он страдает от приступов тревоги и навязчивых идей. Брак пациента был стабильным, двое детей являлись предметом его неустанных забот.
Прежние попытки психотерапевтического лечения, включая длительную психоаналитическую терапию и классический психоанализ продолжительностью около 500 часов, обеспечили определенную стабильность состояния пациента, вследствие чего он мог работать и занимать высокое служебное положение, не обращаясь к терапевту, но навязчивые мысли лишь изредка покидали его. Один только вид какого-нибудь красного предмета, свистящий шум или звучание определенных гласных могли повергнуть его в глубокую тревогу и одновременно породить навязчивое желание избегать всего этого. Смертельная болезнь младшего брата привела к ухудшению его состояния и решению вновь обратиться к психоаналитику; этот последний психоанализ продолжался более восьми лет и включал 562 сеанса.
В данной работе мы предлагаем фрагмент анализа этого случая, а именно три перерыва в терапии на протяжении первого года; соответственно, это сеансы 17 и 18, 28 и 29, а также 62.
В пер вый год терапия осуществлялась три раза в неделю. В этих пяти сеансах методом CCRT выявлен 41 эпизод взаимодействия, среди них 24 эпизода с терапевтом, семь эпизодов «с самим собой» (т. е. роль объекта исполняет Я пациента) и десять эпизодов с другими людьми (в том числе пять эпизодов с больным братом).
Как мы видим, пациент демонстрирует высокий процент эпизодов с терапевтом: 58 % по сравнению с 16 % аналогичных эпизо дов, выявленных в краткосрочной терапии (см.: Dahlbender et al., 1992). Это означает, что желания пациента по отношению к терапевту были предметом диалога на сеансах до и после перерывов.
Компоненты и их частота встречаемости (по убывающей) выявленные в 41 эпизоде, представлены в таблице 1.
Как видно из таблицы 1, в нарративах пациента количество желаний преобладает над количеством реакций объекта. Наиболее частое желание – «иметь близкие отношения, которые помогали бы сохранять стабильность, или иметь объект, обеспечивающий безопасность» – встречается 21 раз. Следующее по частоте желание противоположно: «быть уверенным в себе, независимым» (встречается десять раз). И третье по частоте – «быть совершенным, быть хорошим, поступать правильно, помогать другим» – встречается семь раз. Все прочие желания встречаются один или два раза.
Самая частая реакция объекта – негативная: «отвергают меня, покидают меня» (17 раз). Три наиболее частых реакции субъекта также отрицательны: «чувствую неопределенность и беспомощность» (16), «чувствую тревогу, полон иррациональных страхов» (15), «разочарован» (10).
Соответственно, центральная конфликтная тема взаимоотношений Артура, составленная как последовательность из наиболее высокочастотных компонентов, выглядит следующим образом:
• желание: иметь объект, обеспечивающий безопасность;
• реакция объекта: отвергает и покидает меня;
• реакция субъекта: чувствую разочарование, беспомощность, тревогу, возникает симптом страха.
Таблица 1
Компоненты CCRT и частота их встречаемости
Этот паттерн очень стабилен и обнаруживается во всех сеансах до и после перерывов на протяжении первого года терапии. Однако является ли он действительно центральным паттерном отношений? Если мы сравним желания пациента по отношению к терапевту и к другим людям, то заметим, что они почти не пересекаются (таблица 2).
Аналитик занимает особое место в окружении пациента и является единственным человеком, от которого пациент ожидает обеспечения безопасности и поддержки. В отношениях с другими сам Артур становится человеком, который обеспечивает помощь и поддержку.
Десять эпизодов взаимодействия осуществляются с другими объектами – братом, женой, начальником; таким образом, Артур рассказывает и о своих отношениях с другими значимыми людьми. Поэтому мы вправе полагать, что эти десять эпизодов отражают репрезентативные паттерны взаимодействия со значимыми другими, типичные для пациента. Согласно методологии CCRT, десяти эпизодов достаточно для выявления центрального паттерна взаимоотношений. Соответственно по частотному принципу этот паттерн можно сформулировать следующим образом:
• желание: быть совершенным, быть хорошим, помогать другим;
• реакция объекта: зависимы, нуждаются в помощи;
• реакция субъекта: а) позитивная: оказывает поддержку; б) негативная: тревога из-за ощущения неадекватности или недостаточности оказанной помощи.
Таблица 2
Сравнение желаний по отношению к аналитику и к другим объектам
С точки зрения центральной конфликтной темы взаимоотношений было бы трудно объяснить тот факт, что паттерн взаимодействия со значимыми другими вне терапии столь разительно отличает ся от паттерна отношений с терапевтом. С позиций психодинамического подхода мы могли бы предложить две гипотезы.
1. Желаниe «помогать другим» можно понимать как инверсию центрального желания «иметь объект, обеспечивающий безопасность». Это означало бы, что желание «помогать другим» является реактивным образованием и выполняет защитную функцию, а именно позволя ет преодолеть разочарование от того, что другие отвергают пациента.
2. Желание «помогать другим» является результатом позитив ной идентификации с терапевтом (или родительской фигурой) и его силой. Эти две гипотезы противоречат друг другу, но в рамках контент-анализа нарративов пациента мы не имеем возможности выяснить, какая из них верна.
Что касается формулирования не полностью осознаваемых конфликтов пациента, то в случае Артура отсутствует строгий и отчетливый критерий, который позволил бы однозначно определить, являются ли два самых частых желания полюсами этого конфликта. С одной стороны, можно предположить, согласно положениям Люборски о возможности выявить не вполне осознаваемые конфликты, что два желания – «иметь объект, обеспечивающий безопасность» и «быть уверенным в себе и независимым» – являются полюсами внутреннего конфликта «автономия – зависимость». С другой стороны, вполне резонно полагать, что желание «быть уверенным в себе и независимым» представляет собой противовес невротическим аспектам желания «иметь обеспечивающий безопасность объект». Другими словами, эти два противоположных желания могут быть не полюсами внутреннего конфликта, а скорее попыткой совладания. Но мы не можем прийти к окончательному решению этого вопроса без тщательного анализа психотерапевтического дискурса, без исследования того, как эти желания выражаются пациентом и каково их коммуникативное значение в диалоге с аналитиком.
Как пример решения подобных задач мы предлагаем результаты нашего дискурс-аналитического исследования одного из указанных выше сеансов, а именно 17-го сеанса, имевшего место перед первым перерывом в терапии. Перерыв был связан с отпуском терапевта, его продолжительность составляла две недели.
Главной темой этого сеанса стала борьба пациента за получение от психоаналитика рецепта. На самом первом, консультативном, сеансе, происшедшем до того, как началась собственно психоаналитическая работа, аналитик в виде исключения и вопреки правилам работы выписал пациенту рецепт на бензодиазепиновый пре парат, поскольку пациент пребывал в крайней тревоге и нуждался в эмоциональной поддержке. Это лекарство должно было помочь ему пережить рождественские праздники. Выписывая пациенту этот рецепт, терапевт тем самым дал ему почувствовать, что пациент может ему доверять и, следовательно, намеренно стимулировал развитие позитивного переноса. Однако во избежание формирования лекарственной зависимости пациент никогда не принимал более двух таблеток в неделю. Данная информация необходима для правильно го понимания происходящего во время сеанса.
В терминах CCRT в этом сеансе обнаружено девять эпизодов взаимодействия, из них четыре с терапевтом, два с братом, один с начальником и два «с самим собой». В семи эпизодах проходит доминирующая тема или, по крайней мере, ее отдельные компоненты: пациент выражает желание иметь объект, обеспечивающий безопасность; терапевт покидает его и отвергает его просьбы; пациент чувствует себя беспомощным, тревожным, возникает симптом иррационального страха.
«Поверхностную» последовательность вербальной коммуникации в ходе 17-го сеанса можно разделить на десять тематических единиц в соответствии с изменениями в предмете или предметной отнесен ности диалога.
1. Артур спрашивает о возможности психофармакологического лечения своей болезни, и аналитик предоставляет ему определенную информацию об этом.
2. Пациент рассказывает о том, как прошли для него последние несколько дней, и выражает страх, что лекарства не хватит на все время отсутствия терапевта, а аналитик интерпретирует это как попытку оказать на него давление с целью получения рецепта.
3. После короткой паузы Артур рассказывает о том, что красная краска на рекламном щите, которую он увидел по дороге к терапевту, вызвала у него тревогу. Этот нарратив он приводит как пример эмоциональных трудностей, переживаемых им в последние несколько дней, и как пример ситуации, в которой он чувствует соблазн принять лекарство. Аналитик связывает эту ситуацию с травматической ситуацией из детства пациента, когда тот ощущал себя беспомощным.
4. Артур принимает эту интерпретацию своего поведения как состояния беспомощности и тут же рассказывает новую историю о том, как он устал от постоянных просьб, потому что больной брат попросил Артура отвезти его в больницу.
5. Пациент ожидает, что ситуация в больнице также вызовет у него желание принять лекарство, и выражает неуверенность относительно того, стоит ли его принимать.
6. Аналитик интерпретирует эту ситуацию как демонстрацию того факта, что Артур является уже не беспомощным ребенком, а сильным мужчиной. Пациент соглашается, что он действительно хо чет быть сильным, но сам себе кажется несчастным, будучи вынужден в пятьдесят лет обсуждать проблемы, идущие из раннего детства.
7. Пациент возвращается к проблеме стабильности своего состояния и выражает разочарование оттого, что полностью утратил стабильность, которую ощущал еще час назад, и сомневается в поступательном ходе психоанализа, поскольку сейчас он совершенно расстроен и встревожен.
8. Аналитик снова интерпретирует это эмоциональное состояние как попытку воздействовать на него, чтобы получить рецепт на лексотанил, и призывает пациента к прямой конфронтации.
9. В ходе этой конфронтации аналитик сначала отвергает просьбу пациента, но затем, после того, как пациент открыто выражает свое разочарование и критику в адрес аналитика, последний все же выписывает рецепт.
10. Аналитик комментирует победу пациента, указывая, что прямое столкновение приносит больше пользы, чем опосредованная борьба. В качестве подтверждения этого заявления Артур рассказывает историю о том, как он справился с конфликтной ситуацией в отношениях с начальником.
Эти тематические единицы описывают самый поверхностный уровень коммуникации и дают лишь самое общее представление о рамках, в которых проходит взаимодействие. Следующий и наиболее сложный шаг в дискурс-анализе – это обнаружение действий, осуществляемых посредством высказываний. Сложность этого шага обусловлена отсутствием однозначного соответствия между высказываниями и реализуемыми с их помощью действиями.
Поскольку мы намереваемся интерпретировать терапевтическую беседу как взаимодействие, мы должны проанализировать высказывания с точки зрения намерений говорящего, т. е. как именно говорящий предполагал воздействовать на слушателя, какую реакцию хотел вызвать, и т. п. Вслед за Лабовым и Фэншелом (Labov, Fanshel, 1977) мы определяем взаимодействие как действие, которое влияет на отношения между субъектом и другими людьми в непосредственном общении (изменяет их или поддерживает). Эти отношения развиваются по определенным направлениям, которые можно обозначить как власть (взаимозависимость) и аффилиация (Benjamin, 1974). В центре нашего внимания находятся те аспекты взаимодействия, которые имеют отношение к статусу участников коммуникации, их правам и обязанностям, и изменения социальной организации общения, т. е. тех позиций, которые пациент принимает на себя и приписывает терапевту.
Существует относительно достоверная система межличностных ожиданий, позволяющих нам понимать интенциональность речевых актов (Quasthoff, 1980). Каждая часть диалога представляет собой либо некое утверждение, либо объяснение, содержит вопрос, или просьбу, или критическое замечание, и т. д. Посредством каждого из этих актов так или иначе детерминируются взаимоотношения участников общения; другими словами, каждое высказывание можно рассматривать по меньшей мере в двух аспектах, причем независи мых друг от друга, – содержательном и коммуникативном (Watzlawick et al., 1969).
Чтобы выявить детерминацию отношений посредством высказываний, необходимо реконструировать имплицитную коммуникацию, которая осуществляется в форме скрытых психологических и социальных пропозиций (Labov, Fanshel, 1977). Эти пропозиции постоянно воспроизводятся в ходе беседы и иногда выражены непосредственно в содержании, но чаще лишь подразумеваются более или менее косвенно. Важной частью пропозиций являются правила взаимодействия, регулирующие ста тус участников и их права и обязанности по отношению друг к другу.
Таким образом, исходным пунктом нашего анализа взаимодействия должно быть прояснение правил, регулирующих отношения между Артуром и его аналитиком. В данном случае правила можно сформулировать в виде следующих пропозиций: а) аналитик в какой-то мере несет ответственность за стабильность состояния пациента; б) тяжесть заболевания пациента дает ему право требовать особого отношения со стороны аналитика. Эти правила ни разу не были сформулированы вслух, однако их оказалось возможным вывести на основе неоднократно повторяющихся в ходе анализа следующих ситуаций взаимодействия: а) пациент получает лекарство каждый раз, когда в этом нуждается; б) пациент получает дополнительный сеанс, если его состояние ухудшается; в) пациенту позволяется звонить терапевту во время отпуска, и т. п. Допуская все это, аналитик намеренно нарушает правило абстинентности. Поскольку пациент уже проходил однажды долговременную терапию и психоанализ, причем его рабочий альянс с прежним аналитиком был отмечен недоверием, нынешний аналитик стремился избежать дополнительной фрустрации для пациента, опровергнуть его патологические убеждения и тем самым избежать ошибок, имевших место в первом анализе. Согласно своей рабочей модели аналитик стремился к формированию у пациента позитивного переноса и к обеспечению наиболее благоприятных условий для разрешения конфликтов; эти условия должны были помочь пациенту переключиться с пассивного страдания на активные действия (Thomae, Kaechele, 1988; Thomae, 1990). Вместе с этими целями аналитик принял на себя дополнительные обязательства по отношению к пациенту и дал последнему право предъявлять особые требования к аналитику и критиковать его, если нынешний аналитик будет действовать так же, как прежний.
Еще несколько пропозиций, связанных с вышеназванными, опи сывают статусные позиции обоих участников коммуникации: а) Артур слаб и беспомощен; б) аналитик обладает силой; в) сила и жестокость – одно и то же; г) аналитик не должен быть жесто ким. Эти пропозиции отражают также систему патологических убеждений пациента и сформулированы нами на основе анализа сеансов до и после перерывов и сообщений самого аналитика (Thomae, Kaechele, 1988).
С точки зрения интеракций весь сеанс может быть поделен на семь сегментов разной длины. Сегментация основывается на явных изменениях позиции пациента по отношению к терапевту. Ниже приведены высказывания пациента, сигнализирующие о смене позиции. Мы дадим краткую эмпирическую иллюстрацию дискурсанализа в действии, используя эти высказывания-маркеры. Наша иллюстрация является по необходимости схематичной, поскольку полный и последовательный дискурс-анализ основывается на детальной и сложной интерпретации исследуемого материала. Однако мы сможем показать, как дискурс-аналитический подход можно применять для понимания содержания происходящего диалога.
Последовательность сегментов-интеракций на 17-м сеансе:
1. А что, если я с моей болезнью обращусь к пси… к врачу, который больше лечит медикаментами?
2. Я, собственно говоря, и сам уже думал, что это невозможно.
3. Я боюсь, что мне не хватит таблеток, пока вы будете в отъезде… Это меня страшно беспокоит… Последние дни меня все время пугала красная краска… Это меня совершенно выбило из равновесия…
4. Теперь я вижу, что вы ничуть не отличаетесь от доктора Р. Тот мне вообще никакого лекарства не давал, но чтобы так? Сначала все прекрасно, пожалуйста, а потом вдруг – нет, и вообще, мол, «позаботься сам о том, чтобы обойтись без таблеток».
5. Я себя чувствую сейчас так, как если бы я опять выиграл поединок.
6. Конечно, куда больше смысла имеет решать реальные проблемы… Сегодня, например, у нас на фирме было важное совещание, и один из моих шефов напал на меня с критикой, а я при этом очень активно защищался.
7. Кто знает, смог бы я это шесть недель назад. Я думаю, нет.
Покажем на примерах, как определяются смены позиций. 1. «А что, если я с моей болезнью обращусь к пси… к врачу, который больше лечит медикаментами?» Пациент начинает сеанс с того, что бросает вызов аналитику, подвергая сомнению его ком петентность, но затем тут же опровергает сам себя (сегменты 1 и 2 входят в первую тематическую единицу). Согласно определению Лабова и Фэншела, «вызовом является всякая ссылка (путем прямого утверждения или косвенного намека) на такую ситуацию, которая, в случае истинности, понижала бы статус другого» (Labov, Fanshel, 1977, с. 64). Посредством такого запроса на получение информации о возможности психофармакологического лечения его болезни Артур, по сути, задает вопрос, в состоянии ли аналитик обеспечить ему лечение на самом высоком на сегодня уровне медицины. Тем самым пациент хочет установить, каковы пределы могущества аналитика (отсюда пропозиция «аналитик обладает силой») и выяснить вероятность существования других специалистов, которые владеют еще «большей силой» в отношении его болезни.
После того, как терапевт дает ему ответ, Артур замечает:
2. «Я, собственно говоря, и сам уже думал, что это невозможно».
Отрицая серьезность своих сомнений, Артур опровергает, отменяет свой вызов.
Сегмент 3 занимает три четверти часа и охватывает тематические единицы со 2-й по 7-ю. Центральная конфликтная тема взаимоотношений проявляется в нарративах, рассказанных в этом сегменте. Пациент сообщает о том, как проходила его жизнь в последние несколько дней, и рассказывает, в общей сложности, семь различных эпизодов, в которых рисует себя как крайне беспомощного, неуверенного и полного иррациональных страхов. Эти семь эпизодов взаимодействия имеют одно и то же интеракционное значение и указывают на возрастание напряжения у пациента по отношению к терапевту. Рассмотрим этот сегмент более подробно.
Он начинается со следующего эпизода взаимодействия с терапевтом:
В течение последних двух дней я чувствовал себя довольно-таки стабильно, э-э (вздыхает), но тем не менее, – это очень странно, я – хотя я в последний раз принял эту таблетку в воскресенье? Да, правильно, в воскресенье, но меня все время мучает страх, что мне этих таблеток – у меня их, кажется, еще штук 13 осталось, я точно не помню – не хватит, пока вы будете в отъезде. И… это меня страшно беспокоит.
Первый эпизод в явном виде содержит лишь реакцию объекта и реакцию субъекта: аналитик уезжает в отпуск и покидает его (негативная реакция объекта), пациента это нервирует, и он боится, что ему не хватит лекарства (негативная реакция субъекта).
Это утверждение подразумевает, что когда терапевт покинет его, его стабильность окажется под угрозой, может случиться, что симптомы усилятся, и ему понадобится больше лекарства, чем обычно. Тем самым пациент указывает, что перерыв в терапии из-за отпуска терапевта вызывает у него неудовольствие. Иными словами, он не хочет, чтобы терапевт покидал его (желание 1).
Если теперь обратиться к коммуникативным аспектам этого эпизода, то можно заметить следующее. В этом эпизоде пациент демонстрирует свою потребность (его стабильность под угрозой) и это, согласно правилам данной терапии (пропозиции 1 и 2), накладывает на аналитика некоторые обязательства: помочь пациенту, сделать что-то для укрепления стабильности, а именно выписать ему дополнительный рецепт; таким образом, высказывание пациента содержит косвенную просьбу о помощи (желание 2)[11].
Но в данном речевом акте содержится еще несколько скрытых интенций. Пресловутый рецепт представляет собой не столько реальную помощь, сколько является свидетельством «доброты» аналитика. В действительности пациент не нуждается в этом рецепте, во время этого двухнедельного перерыва он принял лишь полторы таблетки. Все это лишь проверка взаимоотношений с терапевтом: пациент хочет увидеть, насколько он на самом деле значим для терапевта, насколько заботливо относится к нему терапевт, т. е., другими словами, это проверка пропозиции «терапевт не должен быть жестоким» (желание 3).
Более того, пациент хочет, чтобы терапевт действовал вопреки аналитическому правилу. Оно, несомненно, известно Артуру, посколь ку он не является новичком в психоанализе, проработав около 500 часов с другим аналитиком. Артур не осмеливается высказать свою просьбу прямо, поскольку ожидает, что она будет отвергнута. Интер претация аналитика показывает, что он сразу же понял этот нарратив как косвенную просьбу о дополнительном рецепте. Но поскольку аналитик не сказал ни «да», ни «нет» о том, даст ли он рецепт, пациент пытается достичь своей цели непрямым путем. Ради победы в этой борьбе в последующих нарративах данного сегмента пациент аггравирует свой симптом и, следовательно, усиливает давление на терапевта. Отсюда мы можем выделить еще два желания, а именно: с одной стороны, «оказать влияние на терапевта» или «контролировать отно шения с терапевтом» (желание 4), а с другой – «избежать прямой конфронтации» (желание 5).
В своих интерпретациях терапевт подвергает сомнению главную пропозицию пациента («Артур – слабый и беспомощный») и тем самым отклоняет его просьбу. Пациент принимает эти интерпретации, по крайней мере, частично, но затем рассказывает еще один сюжет как пример своей беспомощности и таким способом вновь возвращается к своей просьбе. Аргументация посредством нарративов позволяет пациенту избежать прямой конфронтации с аналитиком и в то же время блокирует все интерпретации последнего.
Этот пример показывает, что явленное содержание высказываний может быть весьма далеким от коммуникативного аспекта.
Видно также, что одно и то же высказывание может осуществлять несколько речевых актов одновременно. Обозначенная тема беспомощности и желание получить помощь проходят через весь сеанс и становятся все более и более очевидными от нарратива к нарративу. Но вместе с этим усиливается давление на терапевта и проступает другой, скрытый паттерн взаимодействия: желание «контролировать отношения, утверждать себя»; негативная реакция объекта – «сопротивляется»; позитивная реакция субъекта – «усиливает давление на терапевта».
Обратимся теперь к четвертому сегменту. Он, по-видимому, является кульминацией сеанса. В ходе неявного противодействия терапевт призывает пациента перейти к открытой конфронтации. На первый взгляд, это взаимодействие является «разыгрыванием» центрального конфликтного паттерна пациента: Артур просит терапевта дать ему дополнительный рецепт, а терапевт вначале отказывает. На самом деле эта просьба имеет более сложную структуру: пациент расставляет терапевту ловушку, поскольку, если терапевт даст рецепт, это будет означать, что он считает Артура слишком слабым и неспособным пережить перерыв без дополнительной поддержки. Таким образом, пропозиция «Артур – слабый и беспомощный» получит признание и подтверждение. Если же терапевт откажется дать рецепт, это будет означать, что сильный, но жестокий терапевт не поддается влиянию Артура, который опять-таки оказывается беспомощным. Что бы терапевт ни сделал, все его интерпретации в ходе этого часа, направленные на то, чтобы показать Артура не беспомощным, будут сведены на нет. Но аналитик находит компромисс. Сначала он отказывается дать рецепт, объясняя это тем, что он не видит причины, по которой пациент нуждается в этом рецепте. Но пациент реагирует на это взрывом обвинений: 4. «Теперь я вижу, что вы ничуть не отличаетесь от доктора Р. Тот мне вообще никакою лекарства не давал, но чтобы так? Сначала все прекрасно, пожалуйста, а потом вдруг – нет, и вообще, мол, «позаботься сам о том, чтобы обойтись без таблеток». Он сравнивает теперешнего аналитика с предыдущим и заявляет, что первый еще более непредсказуем. После этого аналитик изменяет свое решение и говорит, что нет смысла и далее отказывать в выписывании рецепта, если разочарование, возникающее у пациента, столь велико, и он выпишет рецепт, хотя и уверен, что пациент в нем не нуждается.
Почему упрек пациента заставил аналитика изменить решение? Артур начинает с того, что аналитик кажется ему похожим на предыдущего, который не старался оказывать поддержку. Это утверждение влечет за собой дальнейшую критику, поскольку предыдущий аналитик никогда не давал Артуру надежды на то, что он будет поддерживать его стабильность иначе, нежели аналитической работой. Поэтому Артур усиливает свой вызов аналитику, заявляя, что тот не в состоянии выполнить свои обязанности («Терапевт берет на себя некоторую ответственность за стабильность пациента» – пер вая пропозиция), а потому еще меньше заслуживает доверия, чем предыдущий аналитик.
Артур идет еще дальше и показывает, что терапевт нарушает еще одно обязательство – «аналитик не должен быть жестоким»: «Сначала все прекрасно, пожалуйста, а потом вдруг – нет, и вообще, мол, «позаботься сам о том, чтобы обойтись без таблеток». Артур при этом цитирует аналитика, не дословно, но тот смысл, который он усмотрел в высказываниях последнего. Таким образом, пациент выражает достаточно сильную критику в адрес терапевта: что тот не выполняет должным образом принятые обязательства, работу и даже злоупотребляет своей силой. Эта ситуация становится угрожающей для позитивного переноса и ставит терапевта наравне с жестокими и властными фигурами из детства пациента. К тому же она подтверждает патологическое убеждение пациента в том, что «сила и жестокость – одно и то же». В результате мы видим, что у аналитика были все причины выписать дополнительный рецепт[12].
После своей победы Артур осознает скрытую линию своих действий и признает, что этот час прошел в борьбе, в которой он победил:
«Я себя чувствую сейчас так, как если бы я опять выиграл поединок».
Артур добился победы в битве с сильным аналитиком. Хотелось бы подчеркнуть, что пациент признает, что это не первая его победа: он победил опять. Этот эпизод вскрывает новую пропозицию: «Артур – сильный», не совместимую с уже известной «Артур – слабый и беспомощный». Если вспомнить, что «сила и жестокость – одно и то же», то станет понятно, почему Артур избегает позиции «сильного».
6. «Конечно, куда больше смысла имеет решать реальные проблемы… Сегодня, например, у нас на фирме было важное совещание, и один из моих шефов напал на меня с критикой, а я при этом очень активно защищался». После своего успеха пациент приводит нарратив с совершенно иной темой: он рассказывает о конфронтации с начальником и рисует себя не как беспомощно го ребенка, а как компетентного мужчину, который может посто ять за себя. Он вводит этот рассказ, подтверждая комментарий аналитика примером того, как он справляется с реальными кон фликтами. Артур заявляет:
«Конечно, куда больше смысла имеет решать реальные проблемы… Сегодня, например, у нас на фирме было важное совещание…» и т. д. Пауза показывает, что Артур ищет подходящий пример, чтобы проиллюстрировать и обосновать свой тезис. Совещание на фирме приводится как недавний, но отнюдь не редкий случай. Поэтому можно полагать, что oн рассказывает о своем обычном способе решения конфликтов.
Однако в ходе этого нарратива он внезапно изменяет свою позицию: 7. «Кто знает, смог бы я это шесть недель назад. Я думаю, нет» (анализ начался шесть недель назад). Тем самым он устанавливает неявную причинную связь между двумя пропозициями: «Артур уже не беспомощный», потому что «аналитик – сильный» и, следовательно, приписывает свой успех аналитику. Таким образом он восстанавливает иерархические отношения с терапевтом, которые оказались под угрозой из-за его победы. Совершенно очевидно, что он чувствует себя неуютно в этой сильной позиции и спешит сменить ее. Теоретически можно предположить, что пугающие следствия обладания силой («сила и жестокость – одно и то же») еще более непереносимы для Артура, чем унизительное состояние беспомощности. Потребность в подчинении, проявляющаяся в этом действии, носит, по-видимому, защитный характер.
Ход взаимодействия на протяжении данного сеанса можно было бы схематически изобразить следующим образом (см. рисунок 1).
Слова в кружках означают различные позиции, которые пациент принимает и приписывает терапевту по ходу взаимодействия. Вна чале пациент демонстрирует беспомощность, чтобы доказать правомерность своей просьбы о дополнительной поддержке. На более глубоком уровне он действует как манипулятор, который оказывает давление на терапевта и таким путем выигрывает. Во время этого взаимодействия он принимает явно зависимое по отношению к терапевту положение, но фактически эта интеракция подразумевает сильную позицию (Person Schemas…, 1991). Но как только пациент осознает свою силу, он начинает чувствовать тревогу, и происходит защитный сдвиг позиции: он принимает роль прилежного ученика, что означает опять-таки подчиненное положение в иерархии.
Pиc. 1. Паттерны взаимодействия пациента с аналитиком
На рисунке 1 можно увидеть два паттерна взаимодействия. Во-первых, двухуровневое взаимодействие, которое занимает три четверти сеанса, а во-вторых, строгую последовательность интеракций, в которой пациент вначале нарушает иерархию (позиция «триумфатора»), а затем немедленно восстанавливает ее (позиция «прилежного ученика»). Эти паттерны взаимодействия обнаруживаются во всех сеансах до и после перерывов на протяжении первого года терапии. В ходе дальнейшего анализа тема беспомощности полностью исчезает. Но второй паттерн взаимодействия появляется вновь и вновь во всех сеансах до и после перерывов до самого конца терапии.
Итак, как мы убедились, наиболее высокочастотная тема беспомощности, которая служит основой для формулирования центральной конфликтной темы взаимоотношений, представляет собой лишь поверхностный уровень коммуникации. Но, тем не менее, желание иметь обеспечивающий безопасность объект, порожденное глубинной структурой, которую Люборски вслед за М. Хоровицем называет «личностная схема» (Luborsky, 1991а, р. 176), действительно весьма существенно для данного пациента. Следующий вопрос касается кон фликта, лежащего за этим центральным желанием. В действительности Артур вовсе не беспомощен: вопреки своим рассказам, он в состоянии постоять за себя. Тогда к чему же он в реальности стремится и какого рода безопасность может обеспечить ему терапевт?
Центральное желание иметь объект, обеспечивающий безопасность, ведет к формированию парадоксальных отношений, где беспомощность является силой и средством контроля над ситуацией. На 17-м сеансе пациент проверяет две пропозиции, касающиеся терапевта: «терапевт – сильный» и «терапевт не должен быть жестоким». Эти пропозиции некоторым образом отражают те два условия, при которых терапевт мог бы исполнять роль объекта, обеспечивающего безопасность. Потребность пациента занимать подчиненную позицию, когда сильный терапевт контролирует и ограничивает его, находит свое выражение, в частности, в установлении причинной связи в коде последнего нарратива. Она же и проливает свет на то, каковы должны быть два вышеупомянутых условия: Артур может расти и развиваться, находясь в тени авторитетного терапевта, который должен определять границы его роста; Артуру нельзя становиться таким же сильным, как терапевт. Таким образом, желание иметь объект, обеспечивающий безопасность, имеет два аспекта: с одной стороны, получение поддержки, с другой – поддержание безопасных границ. Поэтому центральное желание, провоцируемое перерывом, на более высоком уровне абстракции оказывается связано скорее с конфликтом между всемогуществом и бессилием.
Итак, мы видим, что наиболее частая и, следовательно, главная явная тема нарративов, обнаруживаемая методом CCRT, существенно отличается от реального паттерна взаимодействия, воспроизводимого во время сеанса. В то же время тема всемогущества (обнаруженная в пятом сегменте) появляется лишь однажды, но для понимания внутренней динамики пациента имеет не меньшее значение, чем самая частая. Это противоречит двум основным допущениям метода CCRT, а именно: а) что большая частота компонента указывает на большую «центральность» в паттерне взаимоотношений и, соответственно, в личностной схеме, а также на большую его интенсивность; б) что паттерны, проявляющиеся в нарративах, сходны с реальными интеракциями, происходящими между пациентом и терапевтом во время сеансов. Эти допущения имеют количественную природу, они задают способ, посредством которого из явного содержания текста можно вывести контекстуальные значения на основе количественного подхода. Мы попытались сочетать два метода – количественный (CCRT) и качественный (дискурс-анализ); опыт такого рода, несомненно, имеет смысл, поскольку, как указывает К. Р. Хоу (Howe, 1988), эти два подхода пересекаются: количествен ный анализ ведет к качественным рассуждениям, а качественный анализ часто нуждается в количественных методах.
Наиболее частые темы психотерапевтического диалога являются исходным пунктом клинических выводов, но далеко не единственным, потому что помимо этого клиницисты используют как свой личный опыт, так и контртрансферентные чувства; в реальной терапевтической практике основа для вывода всегда включает более широкий контекст. Мы полагаем, что исследовательская стратегия, если она направлена на валидизацию и верификацию клинических теорий и интерпретаций, должна не ограничивать область оснований для вывода, а искать пути их объективации.
Наиболее простой и очевидный способ объективации при помощи частотного критерия не в силах уловить «трансферентный шаблон»; одним из возможных путей к выявлению реальной связи между заявленными темами и глубинными структурами представляется анализ реальных взаимодействий, происходящих во время психотерапевтических сеансов и отраженных в протоколах. Можно надеяться, наше исследование отдельного случая показало, что чтения и интерпретации информации, содержащейся в тексте, недостаточно, необходимо также анализировать, каким образом эта информация подается и кто стоит за высказываниями и умолчаниями партнеров.
Литература
Калмыкова Е.С. Об одном методе анализа индивидуального сознания // Психологический журнал. 1994. № 3. С. 28–41.
Томэ Х., Кэхеле Х. Современный психоанализ. М.: Прогресс, 1996. Т. 1. Теория; Т. 2. Практика.
Albani С. Vom ZBKT zum ZBM. Eine methodenkritische Einzelfallstudie zur Erfassung von repetitiven Mustern und Uebertragung mit der ZB-KT-Methode. Med. Dissertation. Universitaet Leipzig, 1992.
Albani C. Eine methodenkritische Einzelfallstudie mit der Methode des Zentralen Beziehungs-Konflikt-Themas (ZBKT) // Medizinische Kommunikation / A. Redder, I. Wiese (eds). Westdeutscher Verlag, Opladen, 1994. P. 289–306.
Albani C., Pokorny D., Dahlbender R. W., Kaechele H. Vom Zentralen Beziehungs-Konflikt-Thema (ZBKT) zu Zentralen Beziehunzsmustern (ZBM). Eine methodenkritische Weiterentwicklung der Methode des «Zentralen Beziehungs-Konflikt-Themas» // Psychotherapie, Psychosomatik und medizinische Psychologie. 1992. № 44. P. 89–98.
Benjamin L. S. Structural Analysis of Social Behavior // Psycholog ical Review. 1974. V. 81 (5). P. 392–425. Brown G., Yule G. Discourse Analysis. Cambridge: Cambridge University Press, 1983. Brunner J. Actual Minds, Possible Worlds. Cambridge, MA: Harvard Univ. Press, 1986.
Dahlbender R. W., Kaechele H. Qualitative-quantifizierende Analyse internalisierter Beziehungsrnuster // Qualitative Psychotherapieforschung / H. Faller & Frommer (eds). Grundlagen und Methoden. 1994. P. 228–245.
Ehlich K., Rehbein J. Sprachliche Handlungsmuster // Interpretative Verfahren in den Sozial– und Textwissenschaften / H.-G. Soeffner (ed.). Stuttgart: Metzler, 1979. P. 243–273.
Goffman E. Relations in Public. NY: Basic Books, 1971.
Handbook of Discourse Analysis / T. A. Van Dijk (ed.). London: Academic Press, 1985. V. 1–4.
Hartog J. Die Methode des Zentralen Beziehungs-Konflikt-Themas (ZBKT): eine linguistische Kritik // Medizinische Kommunikation / A. Redder, I. Wiese (eds). Westdeutscher Verlag, Opladen, 1994. P. 306–326.
Howe K. R. Against the Quantitative-qualitative Incompatibility Thesis or Dogmas Die Hard // Educational Researcher. 1988. V. 17 (8). P. 10–16.
Labov W., Fanshel D. Therapeutic Discourse. Psychotherapy as Conversation. NY: Acad. Press, 1977.
Labov W., Waletzky J. Narrative Analysis: Oral Versions of Personal Experience // Essays on the Verbal and Visual Arts / J. Helm (ed.). Seattle etc.: University of Washington Press, 1967. P. 12–44.
Luborsky L., Crits-Christoph P. Understanding Transference. NY: Basic Books, 1990.
Luborsky L., Crits-Christoph P., Friedman S.H., Mark D., Schaffler P. Freud’s Transference Template Compared with the Core Conflictual Relationship Theme (CCRT): Illustrations by the Two Specimen Cases // Person Schemas and Maladap tive Interpersonal Patterns / M. Horowitz (ed.). Chicago & London: University of Chicago Press, 1991.
Mahl G. F. Exploring Emotional States by Content Analysis // Trends in Content Analysis / I. de S. Pool (ed.). Urbana: University of Illinois Press, 1959. P. 89–130.
Merten K. Inhaltsanalyse. Einfuehrung in Theorie, Methode und Praxis. Opladen: Westdeutscher Verlag, 1983.
Osgood C. E. The Representational Model and Relevant Research Methods // Trends in Content Analysis / I. de S. Pool (ed.). Urbana: University of Illinois Press, 1959. P. 33–88.
Person Schemas and Maladaptive Interpersonal Patterns / M. Horowitz (ed.). Chicago & London: University of Chicago press, 1991.
Potter J., Wetherell M. Discourse and Social Psychology. London etc.: Sage Publications, 1987.
Quasthoff U. M. Erzaehlen in Gespraechen. Tuebingen: Narr., 1980.
Russell R. L., van den Broek P. A Cognitive-Developmental Account of Storytelling in Child Psychotherapy // Cognitive Development and Child Psychotherapy / S. R. Shirk (ed.). NY – London: Plenum Press, 1989. P. 19–52.
Rickman J. On the Criteria for the Termination of an Analysis // International Journal of Psychoanalysis. 1950. V. 31. P. 31–201.
Schiffrin D. Discourse Markers. Cambridge: Cambridge University Press.; NY: Melbourne, 1987.
Stubbs M. Discourse Analysis. Oxford: Blackwell, 1983.
Thomae H., Kaechele H. Psychoanalytic Practice. Clinical Studies. Berlin etc.: Springer Verlag, 1988. V. 2.
Watzlawick P., Beavin J.R., Lackson D.D. Menschliche Kommunikation. Bern: Huber, 1969.
Weiss J., Sampson H. The Psychoanalytic Process. NY: The Guilford Press, 1986.
White H. The Value of Narrativity in the Representation of Reality // Critical Inquiry, 1980. V. 7. P. 5–28.
Качество привязанности как фактор устойчивости к психической травме
Данная работа посвящена изучению взаимосвязи качества привязанности личности к значимым другим и устойчивости к психотравмирующим воздействиям. Интерес современной психологической науки к изучению ранних детских привязанностей и их роли в функционировании психики взрослого побуждает задаться вопросом, имеющим как теоретическое, так и прикладное значение: оказывает ли опыт ранних отношений с родителями и другими близкими людьми влияние на способность взрослого человека эффективно противостоять стрессогенным и психотравмирующим воздействиям? Каким образом взаимодействуют мотивационные структуры, обеспечивающие социальную активность индивида, с его защитными структурами? Как и вследствие чего происходит сбой в работе структур психологической защиты? Что позволяет индивиду возвращаться к стабильному психическому функционированию?
Эти вопросы отчасти позволяет прояснить теория привязанности, предложенная Дж. Боулби и развиваемая его последователями. Мы полагаем, что использование этой теории в исследовании психической травмы позволяет обратиться к межличностным истокам индивидуальной реакции на травматизацию и стресс. В настоящей статье сначала излагаются психодинамические и когнитивистские концепции психической травмы, а затем концепции исследований привязанности у взрослых людей, проводимых в русле теории привязанности Дж. Боулби. После этого мы изложим собственные, основанные на эмпирических данных, представления о взаимодействии ментальных репрезентаций личности относительно привязанности со структурами, обеспечивающими устойчивость психики в психотравмирующей ситуации.
В связи с тем, что в современной социальной ситуации угроза психотравмирующих воздействий неуклонно возрастает, повышаются социальные требования к психической устойчивости индивида. Наиболее травмирующими психику факторами принято считать участие в военных действиях, ситуации физического и сексуального насилия, техногенные и природные катастрофы, тяжелые заболевания. Патологические изменения психики, возникающие под воздействием травматического опыта, могут приводить к развитию посттравматического стрессового расстройства (ПТСР), которое характеризуется развитием у пациента трех основных симптомов: а) повторное переживание травмы (навязчивые образы, мысли, ощущения, ночные кошмары); б) избегание соответствующих стимулов (мыслей, ощущений, действий, связанных с травмой, частичная или полная амнезия важных аспектов травмы, эмоциональное онемение (numbing), отчужденность от окружающих); в) устойчивые проявления повышенного возбуждения (нарушение сна, трудности концентрации внимания, раздражительность, сверхнастороженность, усиленные реакции испуга).
Однако развитие выраженной психопатологической реакции не является необходимым следствием травматического опыта: эпидемиологические исследования свидетельствуют, что лишь у части лиц, подвергшихся травматизации, возникает ПТСР. Многие люди, пережившие травматогенное событие той или иной степени тяжести, демонстрируют в течение ограниченного периода времени стертую посттравматическую симптоматику и/или так называемые вторичные симптомы ПТСР: повышенную тревожность, депрессию, склонность к формированию зависимого поведения, психосоматические расстройства. Вероятность возникновения ПТСР детерминируется, с одной стороны, тяжестью травматического события (а также его неожиданностью, неконтролируемостью), а с другой – психологическими и психосоциальными характеристиками лиц, перенесших травматизацию (преморбидные черты, возраст, социальные условия жизни и т. п.).
Современные психодинамические и когнитивистские взгляды на психическую травму
В современном психоаналитическом сообществе при обсуждении понятия травмы рассматриваются следующие ее аспекты (Sandler, 1991): а) наличие внешнего события, субъективно переживаемого индивидом как травматическое; б) психопатологические последствия травматического события, возникающие немедленно, а также отсроченные, включающие ограничения функционирования Эго, нарушения объектных отношений, психосоматические расстройства, аффективные нарушения и т. п.; в) усиление подверженности будущей травматизации вследствие пережитого травматического события; г) травма как причина любой психопатологии и, следовательно, фокус психотерапевтической техники. Наше исследование сосредоточено прежде всего на первых двух аспектах понятия травмы.
Как известно, Фрейдом была предложена «энергетическая» концепция психической травмы, трактуемой как воздействие чрезмерной силы стимула, пробивающего стимульный барьер. В настоящее время «энергетическое» понимание травмы все чаще заменяется на «информационное»; понятие «информация» обозначает как когнитивные, так и эмоциональные переживания и элементы восприятия, имеющие внешнюю и/или внутреннюю природу (Horowitz, 1986; Lazarus, 1966). Данный подход предполагает, что информационная перегрузка повергает человека в состояние постоянного стресса до тех пор, пока информация не пройдет соответствующую переработку. При этом информация, подверженная влиянию психологических защитных механизмов, навязчивым образом воспроизводится в памяти (флешбэки); эмоции, которым в постстрессовом состоянии принадлежит важная роль, являются реакцией на когнитивный конфликт и одновременно мотивами защитного, контролирующего и совладающего поведения.
Вследствие травматического опыта у индивида актуализируется конфликт между старым и новым образами Я, который порождает сильные негативные эмоции; чтобы избавиться от них, человек пытается не думать о травме и ее реальных и возможных последствиях, в результате чего травматические восприятия оказываются недостаточно переработанными. Тем не менее, вся информация сохраняется в памяти, причем в достаточно активном состоянии, вызывая непроизвольные воспоминания; однако как только переработка этой информации будет завершена, представления о травматическом событии из активной памяти стираются (Horowitz, 1986; Horowitz, Becker, 1972).
В концепции психической травмы Р. Яноф-Бульман (Janoff-Bulman, 1998) также когнитивистской, предполагается, что основой внутреннего мира человека являются базисные убеждения относительно сущности мира внешнего. Согласно данной теории, большинство людей конструируют собственный опыт через призму внутренних убеждений а) о доброжелательности окружающего мира, б) о его справедливости, в) о ценности и значимости собственного Я.
Результаты исследований показали, что базисные убеждения значимо различаются по выборкам респондентов «с травмой» и «без травмы» в анамнезе, причем травмирующие события по-разному влияют на различные убеждения.
Становление базисных убеждений происходит в раннем детстве через взаимодействие со значимым взрослым. Первые впечатления ребенка о мире и о себе складываются еще на довербальном уровне. Опираясь на теорию объектных отношений, Яноф-Бульман утверждает, что наиболее важным моментом в становлении базисных убеждений является реакция взрослого на крик ребенка. Уже в возрасте около семи месяцев ребенок начинает структурировать собственный опыт, создавая глубинные убеждения о доброжелательности, справедливости окружающего мира, а также о собственном Я, как достойном любви и заботы.
Базисные убеждения обеспечивают ребенка чувством защищенности и доверия к миру, а в дальнейшем – ощущением собственной неуязвимости. Имплицитная концепция большинства взрослых здоровых людей приблизительно такова: «В этом мире хорошего гораздо больше, чем плохого. Если что-то плохое и случается, то это бывает, в основном, с теми людьми, которые делают что-то не так. Я хороший человек, следовательно, я могу чувствовать себя защищенным от бед. Ничего плохого со мной не может случиться». Речь идет о так называемых позитивных иллюзиях (иллюзия неуязвимости, иллюзия контроля, нереалистический оптимизм), выявленных в исследованиях Тэйлора (Taylor, 1983), который показал, что хорошо адаптированным людям свойственно переоценивать вероятность возникновения положительных ситуаций в жизни и недооценивать вероятность отрицательных. Данное утверждение легко подтверждается тем, что очень часто из уст жертв психических травм можно услышать признание: «Я никогда не мог подумать, что это может случиться со мной».
Базисные убеждения, касающиеся позитивного Я-образа, доброжелательности окружающего мира и справедливых отношений между Я и окружающим миром, наиболее сильно подвергаются влиянию психической травмы. В одночасье индивид сталкивается с ужасом, порождаемым окружающим миром, а также с собственной уязвимостью и беспомощностью. Здесь Яноф-Бульман проводит аналогию с теорией Т. Куна о структуре научных революций (Кун, 1977). Подобно тому, как главенствующая на данный момент в науке теория находит множественные подтверждения эмпирическими данными, базисные убеждения, существующие у индивида в относительно благоприятной жизненной ситуации, подкрепляются реальными событиями. В определенный момент в науке происходит революция (смена парадигмы), в этот период вдруг начинают появляться факты, не укладывающиеся в рамки существующей теории, – происходит «взрыв», старая теория рушится, и на ее месте возникает новая. По сходной схеме происходит разрушение базисных убеждений: существовавшая ранее уверенность в собственной защищенности и неуязвимости оказывается иллюзией, повергающей личность в состояние дезинтеграции (Janoff-Bulman, 1998).
В случае успешного совладания с травмой базисные убеждения качественно отличаются от «дотравматических». Их восстановление происходит не полностью, а только до определенного уровня, на котором человек свободен от иллюзии неуязвимости. Картина мира индивида, пережившего психическую травму и успешно совладавшего с ней, примерно такова: «Мир доброжелателен и справедлив ко мне. Я обладаю правом выбора. Но так бывает не всегда». Индивид начинает воспринимать действительность в форме, максимально приближенной к реальной, по-новому оценивая собственную жизнь и окружающий мир.
Концепция Яноф-Бульман, опираясь прежде всего на когнитивные структуры психики, решающую роль в формировании этих структур приписывает взаимодействию ребенка со взрослым в первые годы и месяцы жизни. Фундаментальное для нее понятие «базисные убеждения», введенное А. Беком (Beck, 1983), во многом совпадает с понятием «генерализованные репрезентации о взаимодействии» Д. Стерна (Stern, 1985), а также с термином «схема Я – Другой» М. Хоровица (Horowitz, 1991) и с понятием «внутренняя рабочая модель» Дж. Боулби (Bowlby, 1969, 1973, 1980). Тем самым в концепции психической травмы Яноф-Бульман определенным образом смыкаются когнитивистские и современные психодинамические представления о ключевых детерминантах психического развития. У истоков же современных психоаналитических работ, раскрывающих центральное значение межличностного взаимодействия в психическом развитии, стояли исследования Дж. Боулби.
Теория привязанности: межличностные факторы стрессоустойчивости и защитные процессы
Джон Боулби, английский психиатр и психоаналитик, сформулировал свою теорию привязанности в 1960-е годы (Bowlby, 1969, 1973) В отличие от традиционного психоаналитическго подхода, предполагающего приоритетную роль сознательных и бессознательных фантазий в протекании психической жизни ребенка, Боулби сосредоточил свое внимание на переживании детьми таких реальных событий, как сепарация и утрата близких. В настоящее время широко распространенным является представление о мотивационном аспекте привязанности как необходимом условии возникновения социальных отношений.
Теория привязанности считает потребность в близких эмоциональных отношениях специфически человеческой, подчеркивая центральную роль отношений в развитии личности от начала до конца (Bowlby, 1969, 1973, 1980). Эта потребность присутствует уже у новорожденного и сохраняется до конца жизни, составляя один из базовых элементов человеческого выживания. В младенчестве и детстве привязанность ребенка к родителям является залогом получения заботы и крова; соответственно, задача родителей – обеспечивать эту заботу своему ребенку.
Отношения привязанности, согласно Боулби, регулируются поведенческой мотивационной системой, которая развивается в младенчестве и объединяет человека с другими приматами. Эта система отслеживает пространственную близость и психологическую доступность «более сильного и мудрого» человека – объекта привязанности – и регулирует поведение привязанности по отношению к этому объекту. Пока индивид чувствует себя комфортно и объект привязанности обеспечивает ему надежную защиту, индивид в состоянии развивать исследовательское поведение, или игру, или другие виды социальной активности. Когда индивид испуган, его исследовательские цели заменяются поиском спасения и уверенности у объекта привязанности, особенно если этот индивид – маленький ребенок. Таким образом, привязанность становится наиболее заметной в условиях воспринимаемой угрозы. Поиск защиты у объекта привязанности должен обеспечивать потомству большую вероятность выживания.
«Теперь уже ясно, что не только маленькие дети, но и люди всех возрастов бывают наиболее счастливы и могут максимально развернуть свои таланты, когда они уверены, что позади них есть кто-то, кому они доверяют и кто непременно придет на помощь, если возникнут какие-то трудности. Тот, кому доверяют, обеспечивает безопасный тыл, на основе которого человек может действовать» (Bowlby, 1973, р. 359).
То, каким образом привязанность может выполнять свою защитную функцию, зависит от качества взаимодействия между индивидом и его объектом привязанности. За пределами периода младенчества отношения привязанности начинают управляться ментальными рабочими моделями, которые ребенок конструирует из своего опыта общения с главнейшими фигурами своего окружения в середине первого года жизни[13], используя свое поведение привязанности и реакции значимого другого. Эти «внутренние рабочие модели» (Bowlby, 1969, 1973, 1980) выступают как «операбельные» модели своего Я и партнера на основе общей истории отношений. Они служат для регуляции, интерпретации и предсказания поведения, мыслей и чувств значимого другого и самого индивида. При условии надлежащего пересмотра в соответствии с изменениями окружения и собственного развития рабочие модели позволяют осуществлять рефлексию и общение по поводу прошлых и будущих ситуаций и отношений привязанности, таким образом облегчая формирование общих планов регуляции близости и разрешения конфликтов в отношениях. Индивид, который может рассчитывать на отклик, поддержку и защиту со стороны своего объекта привязанности, способен свободно уделять внимание другим заботам, таким как исследовательская деятельность и/или взаимодействие с другими.
Неотъемлемым атрибутом внутренней рабочей модели является ее пространственно-временная структура причинно-следственных отношений между событиями, действиями, объектами, целями и репрезентациями. Таким образом, внутренняя модель описывает отношения между различными аспектами действительности.
«В рабочей модели мира, сформированной индивидом, ключевым моментом являются его представления о том, кто выступает в качестве объектов привязанности, где их можно найти и каких реакций от них можно ожидать. Аналогично в рабочей модели своего Я, выстраиваемой индивидом, ключевым моментом является его представление о том, насколько приемлем или неприемлем он сам в глазах его объектов привязанности. На основе структуры этих комплиментарных моделей возникают прогнозы, которые делает индивид относительно того, насколько доступны и отзывчивы будут его объекты привязанности, если он обратится к ним за поддержкой. И с точки зрения теперь уже продвинутой теории от структуры этих моделей зависит также, будет ли он уверен, что его объекты привязанности в общем доступны для него или же он будет более или менее опасаться, что они окажутся недоступны – случайно, скорее всего, или же большую часть времени» (Bowlby, 1973, p. 203).
Термин «надежность» в рамках теории привязанности описывает уверенность индивида любого возраста – младенца, ребенка, взрослого – в том, что защищающая и поддерживающая фигура будет доступна и досягаема. При этом Боулби утверждал, что чувство надежности у ребенка нарушается, если рабочие модели как самого ребенка, так и его родителей не приводятся в соответствие с его физическим, социальным и когнитивным развитием.
Несмотря на требование изменчивости, предъявляемое к рабочей модели, она не подвергается непрерывному изменению; более того, в нее изначально, в ходе процесса ассимиляции (по Пиаже) «встроено» определенное сопротивление изменениям. Представления, сложившиеся на основе предшествующих взаимодействий, регулируют восприятие вновь поступающего опыта. Благодаря этому случайные промахи матери в осуществлении сензитивного поведения по отношению к потребностям ребенка не подорвут его доверия к ее эмоциональной доступности и откликаемости. С другой стороны, способы восприятия и осмысления отношений постепенно становятся автоматизированными и недоступными непосредственному осознанию; при этом наблюдается «выигрыш» в скорости реагирования с одновременным снижением гибкости и, соответственно, эффективности приспособления. Наконец, оба партнера по взаимодействию имеют тенденцию взаимно приспосабливаться к паттернам друг друга, так что когда один из них демонстрирует некие изменения, второй, по крайней мере, сначала склонен игнорировать или отвергать эти изменения. Это продолжается до тех пор, пока один из партнеров не приходит к заключению, что старая модель больше не срабатывает.
Рабочая модель может оставаться эмоционально стабильной, однако ребенок, располагающий на протяжении какого-то периода времени моделью надежной привязанности, может демонстрировать и другие паттерны поведения привязанности. Аффективные изменения в его рабочей модели могут происходить, например, в результате того, что изначально поддерживающий и эмпатичный родитель оказывается в состоянии стресса или депрессии в результате каких-либо резких изменений в его жизни (например, потери работы). И наоборот, если условия жизни родителя улучшаются, так что родитель может более сензитивно откликаться на потребности ребенка, ребенок может пересмотреть свою модель привязанности. В действительности индивид чаще всего располагает не одним, а несколькими паттернами поведения привязанности, актуализирующимися под влиянием различных внешних и внутренних обстоятельств.
Рабочая модель называется рабочей, поскольку она является основой, на которой разворачивается поведение привязанности, и потому, что она в принципе поддается пересмотру и изменению. Боулби предпочел эту метафору другим схожим терминам – «карта» или «образ», так как слова «рабочая» и «модель» предполагают возможность осуществления индивидом операций с ментальными репрезентациями с целью формирования прогнозов. Модель привязанности содержит стабильные постулаты относительно роли родителей и ребенка (т. е. обоих партнеров) во взаимодействии. Боулби (Bowlby, 1973) и Мэйн (Main, Solomon, 1990; Main, 1991) полагают, что в условиях стресса и противоречивой информации необходима специальная стратегия переработки этой информации. Такая стратегия должна обеспечивать психологическую защиту в рамках рабочей модели индивида. Она может включать избегание значимого другого в ситуации стресса, колебание между двумя противоположными позициями (например, «ребенок хороший – родитель плохой» и «ребенок плохой – родитель хороший»), принятие позиции родителя при отрицании собственных переживаний и т. п. (Bowlby, 1973).
Защитные процессы играют большую роль в формировании рабочей модели. Боулби переформулировал традиционную психодинамическую концепцию защитных механизмов в терминах информационных процессов и когнитивной психологии: защитное селективное отвержение информации направлено на отсев тех восприятий, чувств и мыслей, которые могли бы вызвать невыносимую тревогу и психологическое страдание. Таким образом, защиты выполняют адаптивную функцию в данный момент времени, однако в перспективе они препятствуют адекватному изменению рабочей модели в соответствии с изменившимися обстоятельствами. Степень, в которой информация исключается из сознания, может варьироваться. Исследования процедуральной («я знаю, как…»), семантической («я знаю, что …») и эпизодической («я помню, когда…») систем памяти (Tulving, 1972) позволили Боулби предположить, что защитное исключение информации из сознания может облегчаться помещением противоречивой информации в различные системы памяти. Пациенты часто дают восторженные описания вызывающих восхищение качеств своих родителей (семантическая память), которые противоречат последующим сообщениям о реальном поведении родителей (эпизодическая память).
Боулби считал, что дети особенно склонны к защитному исключению информации в двух ситуациях: а) когда поведение привязанности ребенка активировано, но не встречает удовлетворения со стороны объектов привязанности (родителей), а наказывается или высмеивается ими; б) когда ребенок узнает про родителей то, что родители не хотят, чтобы он знал, и могут наказать его, если он будет считать это правдой. Например, если один из родителей совершил суицид или суицидальную попытку и ребенка стремятся держать в неведении относительно этого факта, несмотря на то, что ему что-то известно; в таком случае ребенку не остается ничего другого, кроме как отрицать свой собственный опыт, присоединяясь к семейному «мифу», который ему навязывают взрослые.
В результате подобной защиты ребенок может оказаться в ситуации, когда ему приходится иметь дело с двумя несовместимыми рабочими моделями себя и значимого другого: сознательно принимаемой, основанной на ложной информации, и недоступной сознанию, но отражающей реальный опыт ребенка. В некоторых случаях ребенок может исключить из сознания только собственно персону значимого другого, по отношению к которому он испытывает враждебные чувства, и заменить его менее значимым человеком из своего окружения, осуществляя тем самым так называемое «смещение аффекта». Или же перенаправить гнев на самого себя – такая защитная операция характерна для депрессивного склада характера.
Систематическое описание переживаний привязанности в детстве позволяет сконструировать теорию привязанности, охватывающую весь жизненный цикл человека (Ainsworth, Bowlby, 1991). Поскольку ранние привязанности, по-видимому, влияют на формирование отношений во взрослом возрасте, возрастает интерес к представлениям взрослых о своих привязанностях. Таким образом, теория привязанности и концепция «внутренней рабочей модели» Боулби, обладая незаурядной эвристической ценностью, продолжают стимулировать и питать исследовательский интерес к постижению закономерностей функционирования мира, свойственных ментальной репрезентации взрослого человека. Большинство исследований взрослой привязанности основываются на предположении, что существует параллель между индивидуальными различиями паттернов и репрезентаций привязанности у взрослых и детей. Боулби предполагал, что паттерны привязанности у взрослых могут меняться под влиянием новых отношений и развития новых мыслительных операций (формальных). В целом все исследователи сходятся в том, что система репрезентаций и паттернов привязанности взрослых, будучи глубоко индивидуализированной, базируется на трех источниках: ранние взаимоотношения с родителями, отношения (в первую очередь романтические) со сверстниками в подростковом возрасте, актуальные отношения привязанности во взрослом состоянии.
Методы исследования привязанности у взрослых
Теория привязанности Дж. Боулби послужила источником многочисленных исследований, направленных на выяснение природы отношений привязанности, их формирования в детском возрасте, развития и функционирования на протяжении всего жизненного цикла человека (обзор см. Solomon., George, 1999; Crowell et al., 1999; Hesse, 1999). Начало этим исследованиям было положено работами М. Эйнсворт, сотрудницы Дж. Боулби (см.: Смирнова, 1995). В результате ее исследований были выявлены следующие типы привязанности детей к матерям (Ainsworth et al., 1978): избегающий, надежный, амбивалентный, дезорганизованный. Валидность и устойчивость этой классификации были подтверждены на популяциях США и Западной Европы. Были разработаны методы, позволяющие изучать поведение привязанности более старших детей, проведены разнообразные лонгитюдные исследования и т. п. (Solomon, George, 1999).
Принципиально новый этап в исследовании привязанности представляют собой работы М. Мэйн и ее сотрудников, связывающие поведенческие стратегии детей с ментальными репрезентациями их родителей (Main et al., 1985; Main, 1995). В начале 1980-х годов Мэйн предложила использовать нарратив для оценки привязанности, исходя из того, что ментальные процессы различаются столь же очевидно, как и поведенческие и что те и другие отражаются в языке (Main et al., 1985). М. Мэйн с сотрудниками разработала полуструктурированное интервью для взрослых людей, содержащее вопросы, касающиеся их детского опыта привязанности к значимым другим и того значения, которое они в настоящее время приписывают этому детскому опыту. В основу этого метода легли следующие идеи, почерпнутые из теории привязанности Боулби: а) рабочие модели привязанности функционируют, по крайней мере, частично, неосознанно; б) рабочие модели базируются на реальном опыте взаимодействия ребенка; в) рабочая модель начинается формироваться уже на первом году жизни ребенка; г) представления ребенка о привязанности детерминируют его поведение и аффективную оценку опыта; д) мышление на уровне формальных операций позволяет индивиду наблюдать и оценивать данную систему отношений и, следовательно, модель может быть изменена при неизменности реального опыта.
В соответствии с описанными выше положениями было разработано полуструктурированное «Интервью о привязанностях для взрослых» (Adult Attachment Interview, AAI), в котором респонденту задавали общие вопросы о том, как он представляет свои отношения с родителями (или замещавшими их людьми) в детстве; просили вспомнить повседневные эпизоды взаимоотношений с ними, в которых, как ожидалось, должна быть активирована потребность в привязанности (ситуации разлуки, болезни и т. п.); предлагали рассказать о переживаниях, связанных с утратой кого-либо из близких; и наконец, просили описать влияние, которое поведение родителей имело для развития личности респондента. Интервью записывалось на аудио– или видеокассеты и транскрибировалось. Получаемый материал подвергался дискурс-анализу в соответствии с определенными правилами.
В 1985 г. вышла в свет работа Мэйн, Каплан и Кэссиди (Main et al., 1985), в которой сообщалось, что классификация представлений о привязанности родителей на основе оценки AAI значимо коррелирует с типами поведения их детей в «ситуации чужого», полученными при обследовании пятью годами раньше. Спустя 18 месяцев было проведено новое исследование тех же детей и родителей, которое дало аналогичные результаты. Само интервью было при этом проверено с точки зрения его психометрических свойств. Система оценки на протяжении последующих 15 лет претерпела некоторые изменения и была усовершенствована, однако руководство к исследованию до сих пор не опубликовано, и обучение экспертов возможно лишь в непосредственном контакте с создателями метода.
Общие же принципы анализа вербальных транскриптов по М. Мэйн предполагают, что эксперты пользуются несколькими системами оценки: оценка родительского поведения со слов респондента, оценка ментальных репрезентаций респондента, а также оценка когерентности дискурса. Для оценки родительского поведения, отдельно отца и матери, используются следующие категории: любящее, отвергающее, пренебрегающее, вовлеченное, доминантное. Для оценки ментальных репрезентаций используются категории: идеализация, настойчивое отсутствие воспоминаний, активный гнев, умаление достоинств, страх утраты, метакогнитивный мониторинг и пассивность речи. Оценка когерентности дискурса основывается на правилах Грайса (Grice, 1975). Высокая когерентность отмечается в случаях, когда нарратив характеризуется: а) наличием хорошего качества (правдоподобностью, непротиворечивостью, логичностью); б) определенным количеством (нарратив достаточно развернут, но не чрезмерен, содержащаяся в нем информация позволяет эксперту понять изложенное); в) релевантностью (нарратив содержит ответ на заданный вопрос; г) определенной манерой изложения (респондент использует индивидуально окрашенный, лексически богатый язык, а не жаргон и «штампы»).
На основе экспертных оценок респондентов относят к одному из основных типов репрезентаций привязанности: «автономному» (надежному) или ненадежным – «дистанцированному» и «тревожному». Эти три категории корреспондируют с тремя типами привязанности у детей, выявленными М. Эйнсворт («надежный», «избегающий» или «амбивалентный»). Те респонденты, которые были классифицированы на основе AAI как «автономные», характеризуются сбалансированным представлением о своих ранних отношениях, ценят привязанность и придают большое значение отношениям привязанности в формировании их личности. В ходе интервью они ведут себя достаточно открыто, независимо от того, насколько тяжело им обсуждать тот или иной материал. В интервью излагаются когерентные, правдоподобные сообщения о поведении родителей респондентов. Хотя их сообщения о детстве не обязательно включают нарративы только о любящем поведении родителей, в целом оно воспринимается как любящее и подтверждается конкретными воспоминаниями
Два ненадежных паттерна репрезентаций привязанности коррелируют с некогерентным способом изложения: оценка, которую дают респонденты своим отношениям с родителями, не соответствует тем конкретным эпизодам, которые они сообщают. Отсутствуют или почти отсутствуют подтверждения того, что родители выполняли функцию «надежной гавани»; в дискурсе заметны проявления ограниченной готовности к исследованию и ощущается определенная ригидность респондентов. «Дистанцированные» респонденты демонстрируют дискомфорт в связи с темой интервью, отрицают влияние ранних отношений на свое развитие, испытывают значительные сложности в припоминании конкретных ситуаций и часто идеализируют свой детский опыт. «Тревожные» респонденты демонстрируют спутанность или существенные колебания в отношении раннего опыта, описания взаимоотношений с родителями отмечены пассивностью или агрессией, родители предстают как не любящие, но интенсивно вовлеченные в отношения вплоть до обращения ролей, когда ребенок был вынужден отдавать предпочтение потребностям родителей в ущерб своим собственным. Изложение детских воспоминаний у таких респондентов часто перемежается с сообщениями о событиях недавнего прошлого, об актуальных отношениях с родителями, наполненными, как правило, агрессией и обидами.
Четвертый тип репрезентаций – дезорганизованный, – выявленный М. Мэйн, связан с неспособностью респондентов в ходе интервью адекватно обсуждать смерть и утрату близких людей: например, они могут серьезно высказывать убеждение, что умерший продолжает жить, или что его убили детские фантазии респондента. В обсуждении остальных тем такие респонденты демонстрируют второй или третий тип репрезентаций привязанности.
Оценка AAI в соответствии с разработанными М. Мэйн и Р. Голдвин критериями требует специально обученных высококвалифицированных экспертов[14]. В настоящее время, однако, разработаны и другие способы экспертной оценки интервью о репрезентациях привязанности, которые также базируются на принципах дискурсанализа, но не предъявляют столь высоких требований к обучению экспертов. Один из таких методов – метод прототипов – предложен П. Пилконисом (Pilkonis, 1988). «Метод прототипов» был использован в нашем исследовании для оценки материалов, полученных методом AAI (Калмыкова и др., 2002). Это единственное в отечественной психологии на момент написания статьи исследование типов привязанности с помощью AAI.
«Метод прототипов» состоит из интервью об отношениях (клинического интервью для сбора данных) и экспертной оценки, которая разделяется на две части: а) указания на стратегию привязанности и б) оценка прототипов привязанности.
Собранная в ходе интервью информация должна позволить квалифицировать тип репрезентаций привязанности респондента посредством оценки прототипов. В интервью должно быть получено прототипическое самоописание респондента, которое охватывает поведенческие проявления привязанности к различным людям в конденсированной форме и содержит важнейшие аспекты, относящиеся к прошлому и настоящему, а именно:
• чувства и установки по отношению другим и самому себе;
• потребность в близости, страх близости;
• уважение со стороны других и значение других людей;
• представления о том, как другие воспринимают респондента;
• желанный характер отношений с другими;
• значение зависимости и независимости;
• мера «вовлеченности» и готовность демонстрировать другим свои потребности;
• доверие или недоверие по отношению к другим;
• чувства и поведение в ситуации разлуки;
• способность отграничивать себя от других;
• общее значение дружбы и отношений и готовность брать на себя обязанности по отношению к другим;
• описание значимых других.
Записанное на магнитофон интервью оценивается независимыми обученными экспертами. Эксперты ориентируются сначала на глобальные характеристики четырех типов репрезентаций привязанности (автономная, тревожная, дистанцированная, смешанная)[15], чтобы затем на следующем этапе проверить, в какой мере респондент демонстрирует признаки семи специфических прототипических стилей привязанности. Выделяется 7 прототипов привязанности:
Надежный
Прототип 1: автономный
Ненадежно-тревожный
Прототип 2: чрезмерно-зависимый
Прототип 3: устанавливающий нестабильные отношения
Прототип 4: обсессивно-заботливый
Ненадежно-дистанцированный
Прототип 5: обсессивно-самодостаточный
Прототип 6: чрезмерно стремящийся к автономии
Прототип 7: эмоционально-непривязанный
После прослушивания записи интервью эксперт должен сначала убедиться, имеются ли общие указания на присутствие критериев надежной и/или ненадежной привязанности, и затем осуществить предварительное отнесение респондента к одной из категорий (шаг первый). Для этого используются базовые положения, которые являются общепринятыми в исследованиях взрослой привязанности. В ААI по Мэйн и Голдвин (Main, Goldwin, 1994) систематически и контент-аналитически исследуются критерии когерентности в изложении личного опыта привязанности. Затем (шаг второй) эксперт должен проверить, какие признаки специфических стратегий привязанности имеются в наличии, и ответить на вопросы предлагаемого опросника, составленного по прототипам привязанности.
Решающим при оценке является значение, которое респондент приписывает своим переживаниям привязанности. С точки зрения теории привязанности оно проявляется также в изложении ситуаций, релевантных переживаниям привязанности, на протяжении всей личной истории. Здесь учитываются также то, каким образом переживаются разлуки со значимыми другими, а также утрата и смерть близких. Далее важно, какие события и в какой форме вспоминаются, и в какой мере находятся конкретные подтверждения тем или иным оценкам прошлого опыта. Адекватная регуляция аффекта играет при этом столь же важную роль, как и оценка релевантности собственного детского опыта всей последующей жизни. Его значение может быть преувеличено, из чего можно заключить, что данный субъект «застрял» в своих детских переживаниях. Прямой противоположностью этому были бы холодность и эмоциональная сдержанность, которые указывают на общее обесценивание переживаний привязанности. Обе описанные формы оценки свидетельствуют о надежной стратегии привязанности.
Модель влияния типа привязанности индивида на устойчивость к психотравмирующим воздействиям
Возвращаясь к концепции психической травмы Яноф-Бульман, можно предположить, что в результате травматизации человека его рабочие модели мира и самого себя (базисные убеждения), обеспечивавшие ему поддержание душевного равновесия, оказываются – частично или полностью – нарушены. Индивид в ходе переживания травмирующего события сталкивается с тем, что объекты привязанности становятся недоступны или их реакции оказываются не совпадающими с его прогнозом. Его собственная беспомощность и незащищенность также не согласуются с имеющимися в наличии саморепрезентациями относительно своей дееспособности и безопасности. Результатом конфронтации с ситуацией, противоречащей актуальной рабочей модели индивида, может стать либо неотложный пересмотр этой рабочей модели, обеспечивающий гибкое приспособление к изменившимся обстоятельствам, либо ригидное следование исходной модели, влекущее за собой дезадаптивное поведение, либо, наконец, разрушение исходной модели при отсутствии какой-либо адекватной ее замены, что ведет к дезорганизованному, хаотичному поведению.
Учитывая, что каждый индивид располагает неким репертуаром внутренних моделей[16], можно предположить, что непосредственно в психотравмирующей ситуации имеет место скорее обращение к готовым паттернам поведения, соответствующим более примитивным или, точнее, более ранним рабочим моделям. Альтернативное предположение: в момент переживания травмы индивид пробует все доступные ему внутренние модели и способы внешнего поведения, что может производить впечатление хаотичного и дезорганизованного образа действий, в то время как по сути происходит поиск наиболее адекватного средства совладания с ситуацией.
Однако независимо от того, какой именно способ совладания использовался индивидом в момент переживания травмы, его представления о себе и окружающем мире после окончания психотравмирующего воздействия нуждаются в ревизии. Если предположить, что при травматизации опровергается в первую очередь рабочая модель надежной привязанности, согласно которой индивид воспринимает самого себя как ценного и компетентного, а своих близких как эмоционально доступных и оказывающих поддержку, то, следовательно, именно эта модель должна быть восстановлена с учетом полученного опыта. Соответственно, при проявлении у индивида симптомов посттравматического стрессового расстройства можно ожидать, что ему не удалось адекватным образом восстановить эту модель.
Действительно, как мы уже отмечали, основные симптомы ПТСР – это навязчивые образы, мысли, ощущения, ночные кошмары, связанные с ситуацией травмы, с одной стороны, и попытки избегания стимулов (мыслей, ощущений, действий, связанных с травмой), эмоциональное онемение (numbing), отчужденность от окружающих – с другой. Эти аспекты ПТСР поразительно напоминают характерные черты двух типов ненадежной привязанности, обнаруженных при обследовании детей и взрослых в работах М. Эйнсворт с сотрудниками (Ainsworth, Witting 1969; Ainsworth et al., 1978), а также М. Мэйн с сотрудниками (Main et al.,1985). Один из вариантов ненадежного типа привязанности у детей (амбивалентный) и взрослых (тревожный) связан с нарушением способности контролировать противоречивые эмоциональные проявления и импульсивное поведение по отношению к объектам привязанности. Такому типу привязанности соответствуют регулярные прорывы негативного аффекта по отношению к себе и своим близким, застревание в этом аффекте, неспособность переключиться на другой вид деятельности и отношений. Другой ненадежный тип привязанности – избегающий у детей и дистанцированный у взрослых – характеризуется отстранением от объекта привязанности, избеганием болезненных воспоминаний, эмоциональной отчужденностью, отказом от поддержки и утешения. В поддержку данной гипотезы можно привести данные, приведенные в исследовании депрессии Бека (Beck, 1983, цит. по: Нельсон-Джоунс, 2000), который показал, что после стрессогенных событий, вследствие повышенной когнитивной уязвимости, в первую очередь страдают от депрессии отчужденные (ср. дистанцированный тип привязанности) и социотропные (ср. тревожный тип привязанности) индивиды.
Можно поэтому предположить, что появление ПТСР-симптоматики отчасти объясняется активацией ненадежных типов привязанности при нарушении функционирования «надежной» рабочей модели у травмированного индивида. Ответ на вопрос, почему это имеет место лишь у определенной части пострадавших, очевидно, может быть таким: те индивиды, у которых надежная рабочая модель по сравнению с другими доступными им типами привязанности является относительно слабо развитой, испытывают после травмы значительно большие трудности при ее восстановлении и достигают значительно меньшего успеха, так что у них оказываются активированными модели ненадежной привязанности. Другой вариант: рабочая модель индивида в целом отличается низкой пластичностью, в результате чего она с трудом поддается пересмотру и изменению; поэтому когда надежная рабочая модель вследствие травмы нарушается и не соответствует больше реальному опыту индивида, вступают в действие другие типы привязанности – ненадежные, порождая дезадаптивные способы поведения и посттравматическую симптоматику.
В проведенном исследовании изучалось проявление у испытуемых различных прототипов привязанности, а также степень выраженности психопатологической (в том числе посттравматической) симптоматики. С помощью корреляционного анализа было показано, что надежный тип привязанности не имеет корреляций с психопатологией, в то время как прототипы, относящиеся к ненадежным (тревожному и дистанцированному) типам имеют значимые взаимосвязи с выраженностью психопатологических (в том числе посттравматических) симптомов (Калмыкова и др., 2002). Таким образом, результаты исследования подтверждают гипотезу о взаимосвязи качества привязанности индивида с его способностью противостоять стрессогенным и психотравмирующим событиям.
Литература
Калмыкова Е. С., Комиссарова С. А., Падун М. А., Агарков В. А. Взаимосвязь типа привязанности и признаков посттравматического стресса. Психологический журнал. 2002. Т. 23. № 6. С. 89–97.
Кун Т. Структура научных революций. М.: Прогресс, 1977.
Нельсон-Джоунс Р. Теория и практика консультирования. СПб.: Питер, 2000.
Смирнова Е. О. Теория привязанности: концепция и эксперимент // Вопросы психологии. 1995. № 3. С. 139–150.
Ainsworth M. D. S., Blehar M. C., Waters E., Wall S. Patterns of attachment: A psychological study of the strange situation. Hillsdale, NJ: Erlbaum, 1978.
Ainsworth M. D. S., Bowlby J. An ethological approach to personality development // American Psychologist. 1991. V. 46. P. 333–341.
Ainsworth M. D. S., Witting B. Attachment and the exploratory behavior of one-year-olds in a strange situation // Determinants of infant behavior / B. M. Foss (ed.). NY: Basic Books, 1969. P. 113–136.
Beck A.T. Cognitive therapy of depression: New perspectives // Treatment of depression: Old Controversies / P. J. Clayton & J. A. Barnett (eds). New York Raven Press, 1983. P. 265–284.
Bowlby J. Attachment and loss. Attachment. NY: Basic Books, 1969. V. 1.
Bowlby J. Attachment and loss. Separation. Anxiety and anger. NY: Basic Books, 1973. V. 2.
Bowlby J. Attachment and loss: Loss: Sadness and depression. NY: Basic Books, 1980. V. 3.
Crowell J. A., Fraley R. Ch., Shaver P. R. Measurement of individual differences in adolescent and adult attachment // Handbook of attachment / J. Cassidy, P. Shaver (eds). NY: Guilford, 1999. P. 434–465.
Grice P. Logic and conversation // Syntax and semantics. V. 3. Speech acts / P. Cole, J. L. Moran (eds). NY: Academic Press, 1975. P. 41–58.
Hesse E. The adult attachment interview: Historical and current perspectives // Handbook of attachment / J. Cassidy, P. Shaver (eds). NY: Guilford, 1999. P. 395–433.
Horowitz M. J. Person schemas // Person schemas and maladaptive interpersonal patterns / M. J. Horowitz (ed.). Chicago: Univ. of Chicago Press, 1991. P. 13–31.
Horowitz M. J. Stress response syndromes. 2nd ed. Northvale, NJ, Aronson, 1986.
Horowitz M. J., Becker S. S. Cognitive response to stress: Experimental studies of a compulsion to repeat trauma // Psychoanalysis and contemporary science / R. Holt, E. Peterfreund (eds). NY: Macmillan, 1972. V. 1.
Janoff-Bulman R. Rebuilding shattered assumptions after traumatic life events: coping processes and outcomes // Coping: The psychology of what works / C. R. Snyder (ed.). NY: Oxford University Press, 1998. P. 305–323.
Lazarus R. S. Psychological stress and the coping process. NY: McGraw-Hill, 1966.
Main M. Metacognitive knowledge, metacognitive monitoring, and singular (coherent) vs multiple (incoherent) model of attachment: findings and directions for future research // Attachment across the life cycle / C. M. Parks, J. Stevenson-Hinde, P. Marris (eds). L.: Routledge, 1991. P. 127–159.
Main M. Recent studies in attachment // Attachment theory: Social, developmental, and clinical perspectives / S. Goldberg, R. Muir, J. Kerr (eds). Hillsdale, NJ: Analytic Press, 1995. P. 407–474.
Main M., Goldwin N. Adult attachment interview scoring and classification manual. Unpublished manuscript. University of Carolina, 1994.
Main M., Kaplan N., Cassidy J. Security in infancy, childhood, and adulthood: A move to the level of representation // Growing points of attachment theory and research. Monographs of the Society for research in child development / I. Bretherton, E. Waters (eds). 1985. V. 50 (1–2, Serial. № 209). P. 66–104.
Main M., Solomon J. Procedures for identifying infants as disorganized/ disoriented during the Ainsworth Strange Situation // Attachment in the preschool years: Theory, research, and intervention / M. T. Greenberg, D. Cicchettii, E. M. Cummings (eds). Chicago: Univ. of Chicago Press, 1990. P. 121–160.
Pilkonis P. A. Personality prototypes among depressives: Themes of dependency and autonomy // J. of Pers. Disorder. 1988. V. 2. P. 144–152.
Sandler J., Dreher A. U., Drews S. An approach to conceptual research in psychoanalysis, illustrated by a consideration of psychic trauma // International Review of Psycho-Analysis. 1991. V. 18. P. 133–141.
Solomon J., George C. The measurement of attachment security in infancy and childhood // Handbook of attachment / J. Cassidy, P. Shaver (eds). NY: Guilford, 1999. P. 287–316.
Stern D. N. The interpersonal world of the infant. NY: Basic Books, 1985.
Taylor S.E. Adjustment to threatening events. A theory of cognitive adaptation // American psychologist. 1983. November. P. 1161–1173.
Tulving E. Episodic and semantic memory // Organisation of memory / E. Tulving, W. Donaldson (eds). NY: Acad. Press, 1972. P. 381–403.
Рефлексивный процесс и его отражение в дискурсе
Одной из самых захватывающих тайн мироздания издавна считается душа человеческая. Возможно ли ее постичь, в чем ее суть, как она устроена, откуда берется и куда уходит – вот о чем задумывается род homo sapiens на протяжении уже нескольких тысячелетий. Искусство, религия, наука – все эти способы познания реальности предлагают множество сходных и различных ответов на эти вопросы, можно потратить годы жизни, изучая все уже имеющиеся творения человеческого духа, и так и не прийти ни к какому выводу. В своей повседневной жизни человек, как правило, не концентрируется на отсутствии ясных представлений о собственной душе, вполне удовлетворяясь доступными ему без особых усилий смутными впечатлениями, но время от времени сталкивается с необходимостью понять самого себя и своего ближнего. Тогда он садится и сочиняет философский трактат «О душе», или роман «Бремя страстей человеческих», или годами трудится над картиной «Явление Христа народу», или пишет монографию «Принципы и пути развития психологии». В конечном итоге именно потребность самопознания мотивирует развитие философской и психологической науки, и рано или поздно сама эта потребность и процессы, ее обеспечивающие, попадают в фокус внимания исследователей-психологов.
В отечественной психологии давно существует представление о рефлексии как о системе перцептивных и мыслительных актов, предметом которых являются собственные психические процессы. Так, это понятие интенсивно разрабатывается применительно к интеллектуальной деятельности самого субъекта (см.: Брушлинский, Поликарпов, 1999; Степанов, Семенов, 1985), к осмыслению субъектом своей жизнедеятельности (Василюк, 1989; Гинзбург, 1994); в последнее время существенно возросло количество работ, посвященных рефлексии в области управленческой деятельности (см.: Карпов, 2003). В. В. Знаков в работах, посвященных пониманию, вводит понятие самопонимания, в котором выделяет когнитивную и экзистенциальную составляющие (Знаков, 2005). Под когнитивной стороной он подразумевает способность и склонность субъекта к рефлексии, т. е. сознательному самоанализу, тогда как экзистенциальная сторона представляет собой эмоциональное, эмпатическое, спонтанное (в противовес целенаправленному) понимание собственного бытия, его движущих сил и смыслов. В целом возникает довольно пестрая картина: все авторы как будто говорят об одном и том же и используют один и тот же термин – «рефлексия», но выделяют разные его аспекты, и в результате возникает ощущение множественности и неопределенности изучаемого явления.
Карпов А. В., справедливо отмечая ряд проблем и трудностей, стоящих перед исследователем рефлексии, предлагает подойти к этому феномену с точки зрения «классической триады», т. е. рассматривать рефлексию как свойство, как процесс и как состояние (Карпов, 2003). При этом в качестве важнейшей функции рефлексии выступает структурирование субъектом своих осознаваемых психических свойств, их контроль и коррекция. Карпов и его сотрудники создали опросник для диагностики индивидуальной меры рефлексивности как свойства, в основание которого положено представление о рефлексии как самоконтроле поведения, способности к анализу прошлого поведения и к планированию будущего. На наш взгляд, это представление охватывает лишь осознаваемую инструментальную часть рефлексивности как свойства, совсем не касаясь более глубоких ее особенностей, т. е. лишь небольшую часть того аспекта, который Знаков В. В. обозначает как когнитивную сторону рефлексии.
Знаков В. В. (Знаков, 2005) осуществил перевод и адаптацию методики «Диагностики самосознания» Фенигстайна, Шайера и Басса (Fenigstein et al., 1975), которая, по его мнению, также направлена на выявление когнитивных составляющих самосознания и практически не улавливает экзистенциальных его сторон. По мнению Знакова, экзистенциальные аспекты самопонимания можно изучать, например, посредством опросника смысложизненных ориентаций; однако и этот опросник дает скорее поверхностные представления об уже известных и сознаваемых свойствах и проявлениях субъекта. Иными словами, исследователь может получить некоторый срез сознаваемых черт, которые далеко не всегда совпадают с реальными поведенческими и процессуальными характеристиками субъекта. Впрочем, критическое рассмотрение методологии применения тестов и опросников выходит за пределы данной работы; отметим только, что на наш взгляд, для изучения столь неочевидного, скрыто протекающего и дискретного процесса рефлексии методы прямого опроса нерелевантны; что же касается рефлексивности как свойства, то и для него, пожалуй, эти методы недостаточны.
Наш интерес направлен именно на процессуальный аспект рефлексии: хотелось бы понять, как у субъекта происходит осознание самого себя, своей мотивации, своих переживаний, целей и фрустраций. Для этого нам нужно подобрать, во-первых, адекватный понятийный аппарат[17], а во-вторых, методологию изучения рефлексивного процесса, желательно, in vivo. Что касается первой задачи – понятийного аппарата, то пути к ее решению можно обнаружить в рамках психологии интеллекта. Современная когнитивная психология предлагает такие понятия, как ментальное пространство, ментальные структуры, ментальные репрезентации (Холодная, 2002).
Под ментальными структурами понимают систему психических образований, которые обеспечивают возможность поступления информации и ее преобразование при познании действительности, а также управление процессами переработки информации. Они выстраиваются субъектом в ходе его прижизненного опыта. Их главная особенность – сам механизм функционирования, а именно – свернутость; при столкновении с задачей они могут разворачивать соответствующее ментальное пространство. Ментальное пространство – это динамическая форма существования ментального опыта, которая актуализируется в условиях познания. Соответственно, ментальная репрезентация – это актуальный умственный образ события, т. е. оперативная форма ментального опыта. Если буквально перевести с английского языка слово «ментальный», то получится именно «психический», «относящийся к психике». По утверждению М. А. Холодной (Холодная, 2002, с. 94), для современных исследователей психическим носителем свойств индивидуального интеллекта выступает ментальный опыт; но этот же ментальный опыт содержит в себе и информацию об аффективной сфере субъекта, о его мотивационных тенденциях и о социальных, прежде всего, межличностных паттернах взаимодействия. Из этого следует, что рефлексия также представляет собой один из видов ментального опыта – как способность делать предметом познания собственные психические процессы[18].
Для обозначения направленности ментального опыта на самое себя в когнитивной психологии имеется специальный термин – метакогнитивная осведомленность (там же, с. 127). Эта форма ментального опыта предполагает знание субъектом своих индивидуальных качеств (в области когнитивных процессов и представлений), а также умение их оценивать и готовность их регулировать в соответствии с требованиями окружения (там же, с. 132). Здесь отчетливо просматривается связь этой когнитивистской классификации с устоявшимися в отечественной психологии «тремя составными частями» самосознания субъекта (знание о себе, оценка себя и саморегуляция); однако нам представляется, что излагаемый подход позволяет органично встроить рефлексивный аспект в общую картину когнитивных процессов субъекта. Правда, когнитивная осведомленность по сути подразумевает результат познания своих качеств, а не процесс, и потому является неким статическим свойством. На наш взгляд, было бы целесообразно поставить в соответствие этому свойству процессуальный аспект – приобретение, накопление, анализ и применение ментального опыта, т. е. осуществление определенной психической функции. Примером такой функции может быть так называемый «метакогнитивный мониторинг», т. е. способность к отслеживанию собственных психических состояний в ходе межличностного взаимодействия (Fonagy et al., 1998)[19].
Таким образом, понятийный аппарат современной когнитивной психологии представляется вполне пригодным для описания рефлексивных процессов в целом, а не только процессов, относящихся к интеллектуальной активности. Что касается релевантных методов их изучения, то можно опять-таки воспользоваться подходами, разработанными в области психологии мышления, а именно идеей анализа дословных протоколов процесса решения задач (Брушлинский, Поликарпов, 1999). «Микросемантический анализ», продуктивно применявшийся А. В. Брушлинским и его учениками, является методом «стихийного» анализа повседневного разговорного дискурса[20]; он отлично себя зарекомендовал при изучении закономерностей функционирования мышления, в том числе его рефлексивного аспекта.
Дискурс-анализ и его возможности
Дискурс-анализ в узком смысле представляет собой один из вариантов анализа текстов. Его появление датируется началом 70-х годов ХХ в. В то время это была новая, интенсивно развивающаяся междисциплинарная область знания, в центре внимания которой стояло признание целостного взгляда на текст и его структуру, учет не только и не столько актуального содержания текста, сколько всего многообразия содержательных аспектов, ему присущих, а также учет зависимости специфики текста от субъектной ситуации общения. В последующие годы сфера приложения дискурс-анализа расширилась, и он превратился в мета-дисциплину, обращенную на разнообразные объекты, – от повседневного диалога до юридических документов, медиа-выступлений и психотерапевтических сеансов. В настоящее время анализ дискурса прочно занял место основного направления исследований в психолингвистике (см., например: Проблемы психологии дискурса, 2005).
Основным преимуществом дискурс-анализа по сравнению с более традиционными количественными методами исследования текста является подход к нему как к целостной сущности. Контентанализ, как известно, направлен на выявление тех или иных дискретных характеристик текста, для чего текст разбивается на отдельные единицы; предполагается, что текст равен сумме этих частей. Однако при этом прагматические аспекты текста остаются вне досягаемости; недоступна контент-анализу также и коммуникативная сторона речи, так что вопрос о значении предложения «Я приду завтра» оказывается неразрешим: то ли это обещание, то ли угроза, то ли отказ прийти сегодня. Дискурс-анализ рассматривает текст как нечто, несводимое к сумме составляющих его частей, благодаря чему возможно не только изучение его семантических особенностей, но и целый ряд других свойств речи, социально детерминированной и опирающейся на некий предшествующий опыт субъектов общения.
Современные исследователи дискурса выделяют дискурсивную психологию в качестве одной из трех разновидностей социальноконструкционистской теории дискурса, согласно которой язык не является просто каналом, который описывает психологическую реальность и опыт. Напротив, субъективные психологические реальности создаются посредством дискурса (Русакова, 2005–2006). По утверждению Йоргенсен и Филлипс (Йоргенсен, Филлипс, 2004) дискурсивная психология исследует подавляемые в диалоге и вытесняемые в подсознание дискурсы; дискурс как использование языка в повседневных текстах и общении является динамической формой социальной практики, которая строит социальный мир, личности и идентичности. Личность формируется путем усвоения социальных диалогов, а субъективные психологические реальности формируются в дискурсе. Субъект использует дискурс в своей повседневной жизни риторически, с целью совершить социальное действие в той или иной коммуникативной ситуации, т. е. использование языка ситуативно обусловлено. Большинство теоретиков дискурсивной психологии сходятся также в представлении о том, что язык формирует не только сознание, но и подсознание. Психоаналитическую теорию можно объединить с дискурс-анализом для объяснения психологических механизмов формирования «несказанного» (там же, с. 186). В дискурсе это «несказанное» проявляется в более или менее зашифрованном виде; выявление «ключей» к этим «шифрам» – интересная и многообещающая задача, расположенная на стыке психолингвистики и психоаналитических концепций, поскольку именно психоаналитическая парадигма в центр своего внимания помещает бессознательное как отдельную психическую сущность, проявляющуюся во всех без исключения видах активности субъекта.
Подход к изучению рефлексивных процессов с позиций современного психоанализа
В настоящее время под воздействием новейших исследований в области когнитивной психологии и психологии развития в психоаналитическом понимании психического появилась тенденция к рассмотрению особенностей мыслительных процессов субъекта как источника и одновременно сферы проявления психопатологии.
В этом контексте представление о рефлексии в последние годы также приобретает новые трактовки. Благодаря работам британских психоаналитиков П. Фонаги и М. Тарже это понятие дополняется другими, а именно понятиями рефлексивного функционирования и ментализации. Эти новые понятия связаны между собой: «ментализировать», согласно Фонаги, означает воспринимать себя и других в терминах психических состояний, т. е. чувств, желаний, намерений, ценностей; а термин «рефлексивная функция» относится к психическому процессу, обеспечивающему способность к ментализации, и включает саморефлексию и межличностный компонент, т. е. понимание мотивов, чувств и намерений других людей, а также признание субъективности этого восприятия (Fonagy, Target, 1996). Сочетая теорию привязанности, психологию развития и современный подход эго-психологии, Фонаги сначала предложил термин «рефлексивная функция» для описания определенного достижения субъекта в ходе развития, которое состоит в способности учитывать психическое состояние другого человека для понимания и предсказания поведения. Это подразумевает и приписывание целенаправленности себе и другому, а также различение внутренней и внешней реальности на основе способности воспринимать мнимое, субъективное качество психических состояний – в игре, а затем и в других контекстах. Фонаги также развивает концепцию формирования рефлексивного функционирования (РФ), согласно которой возникающая у ребенка способность мыслить в терминах психических состояний является функцией его Я; уровень развития этой функции у ребенка детерминируется способностью того лица, кто о нем заботится, воспринимать психические состояния ребенка. Т. е. ребенок, выросший в окружении людей, неспособных понимать и правильно откликаться на переживаемые ребенком аффективные и потребностные состояния, скорей всего, окажется также неспособным к пониманию самого себя и – впоследствии – своих близких. Ментализацию Фонаги и Тарже определяют как способность воспринимать и понимать себя и других в терминах психических состояний (чувств, убеждений, намерений и желаний), а также как способность рассуждать о своем и чужом поведении (Fonagy et al., 1998). В более поздних работах они рассматривают ментализацию как центральный процесс, обеспечивающий социальное функционирование и саморегуляцию субъекта (Fonagy, Target, 1996). Фактически ментализация и РФ часто фигурируют в работах Фонаги и его сотрудников как взаимозаменяемые понятия.
По мнению других исследователей, ментализацию следует понимать более широко, как процесс, благодаря которому «соматические инстинктивно-аффективные возбуждения» трансформируются в символическую форму и сохраняются в ней (Bouchard, Lecour, 2004). В результате этого процесса формируются психические репрезентации, «связывающие базовый опыт с образами и словами» (там же, с. 857). Бушар и Лекур описывают ментализацию как своего рода «иммунную систему души», которая, воспринимая внешние и внутренние стрессовые воздействия и травматические переживания, психически перерабатывает их. Таким же образом Э. Брэм и Г. Габбард видят в ментализации понятие более высокого порядка, чем рефлексивное функционирование, тогда как последнему отводится роль некоего специфического способа применения репрезентаций и символизации с целью придания смысла психическим состояниям (Bram, Gabbard, 2001). Иными словами, согласно мнению этих авторов, ментализация – это процесс, ориентированный на трансформацию «биологического субстрата», т. е. исходных возбуждений в нервной системе, в символическую форму, поддающуюся передаче другому человеку, а РФ отвечает за психическую переработку конкретных, иногда жестоких и травматических фактов реальности в отношениях между субъектом и его окружением.
В данной работе нас интересует не столько теоретический вопрос о соотношении этих двух понятий, сколько возможности их практического применения к исследованию личности. Поэтому для наших целей вполне допустимо принять более широкую трактовку ментализации, предложенную Брэмом и Габбардом, поскольку она не противоречит позиции Фонаги. Более того, оба эти подхода к пониманию ментализации имеют общее происхождение – они сформировались в русле психоаналитической парадигмы, где ведущая роль в функционировании психики отводится взаимодействию бессознательных и сознательных процессов. Задачи, которые мы ставим в настоящей момент статье, продиктованы следующими соображениями: во-первых, положения о развитии ментализации в онтогенезе, выдвигаемые в работах П. Фонаги и М. Тарже, кажутся убедительными, и мы бы хотели познакомить с ними отечественного читателя. Во-вторых, на основе своих теоретических воззрений упомянутые авторы разработали эмпирическую методику, позволяющую выявлять уровень развития РФ или, как они указывают в более ранних работах, ментализации. Эта методика представляет значительный интерес для тех, кто ищет пути выявления и объективации такой неуловимой характеристики человека, как способности понимать самого себя и других – чувства, желания, намерения. В третьих, мы предполагаем, что эта методика применима не только к анализу интервью о привязанности для взрослых, на основе которого она была создана (см. ниже), но и к другим материалам, и намерены продемонстрировать, как она работает, на примере двух различных источников и обсудить возможности и перспективы ее применения в исследованиях самосознания, анализа дискурса, психологии межличностного взаимодействия.
Представление о рефлексивном функционировании и его формировании в онтогенезе
РФ представляет собой способность индивида учитывать свой собственный внутренний мир, в также внутренний мир другого человека. Эта способность включает понимание убеждений, ценностей, чувств, присущих разным аспектам жизненного опыта субъекта; понимание вероятного поведения на основе уже известных эмоций и убеждений; понимание ожидаемых взаимодействий между убеждениями и эмоциями (Fonagy et al., 1998). Она связана с такими психическими функциями, как осознание себя, автономия, ответственность. РФ – это понятие, отсылающее к теории привязанности, суть которой состоит в признании необходимости наличия надежных субъект-субъектных эмоциональных связей в раннем детстве для нормального психического развития ребенка (см.: Main, 1993; Main, Goldwyn, 1994). Согласно этой теории, природа эмоциональных связей имеет решающее значение для развития аффективной саморегуляции ребенка и ряда других его психических функций. Качество ранних детско-родительских отношений детерминирует формирование преобладающих паттернов межличностных отношений (типы привязанности), а также меру развития способности к восприятию собственного внутреннего мира, т. е. и РФ.
Фонаги утверждает, что внутренний, психический мир не является изначально данным, поскольку у ребенка он принципиально иной и его нормальное формирование зависит от взаимодействия ребенка с другими взрослыми, доброжелательными и рефлексивными (Fonagy, Target, 1996). Примерно около трех лет у ребенка начинает формироваться представление о психической реальности (Wellman, 1990). Но в этом возрасте переживание психической реальности имеет двойственный характер: ребенок обычно оперирует из позиции «психической эквивалентности», когда мысли воспринимаются не как репрезентации, а как копии реальности, и поэтому всегда правильны; или же ребенок использует «игровой» модус («понарошку»), когда мысли воспринимаются как репрезентации, но их отношение к реальности не принимается в расчет. Известно, что понимание эмоций и желаний возникает у ребенка раньше, чем понимание возможности разных мнений; возможно, последнее приводится в движение именно осознанием разнообразия желаний.
В отличие от взрослых, дети склонны воспринимать свои психические состояния не как «интенциональные» (т. е. основанные на их мыслях и желаниях), а как часть объективной (физической) реальности. Субъективное переживание неразличимого единства внешнего и внутреннего – это универсальная фаза развития человека. Продвижение вперед означает неизбежное возникновение конфликта и потому вызывает сопротивление, а вымышленная реальность внутреннего опыта может вызывать тревогу, т. к. ребенок замечает громадное взаимовлияние фантазий и информации, приходящей извне. В результате возникает нормальное стремление к интеграции модусов переживания внешней и внутренней реальности.
Так, трехлетний ребенок не в состоянии понять репрезентативный характер мыслей и чувств, он воспринимает их как прямое отражение внешнего мира. (Flavell et al., 1989). Эта стадия развития ментализации обозначается термином «модус эквивалентности». Феноменологически он проявляется, в частности, в полной и непоколебимой убежденности ребенка в том, что нет никакого различия между тем, как он представляет себе мир, и тем, каков он есть.
«Игровой» модус, существующий параллельно с модусом эквивалентности и формирующийся постепенно в ходе взаимодействия ребенка со взрослыми, проявляется следующим образом: во время игры маленький ребенок понимает, что его психика продуцирует мысли, желания, чувства. При этом у ребенка нет соответствия между «игровым миром» и внешней реальностью, наоборот, есть резкое различение того и другого. Ребенок может осознавать мысли и чувства по поводу внешней реальности во время игры лишь при условии, что взрослый может создать ему необходимую для этого рамку и отгородить его от давления внешней реальности. Ссылаясь на исследования Л. С. Выготского и его высказывание о том, что «в игре ребенок оказывается как бы на голову выше самого себя», а также на работы других исследователей (например: Sullivan, Winner, 1993), Фонаги утверждает, что в «игровом» модусе ребенку доступны значительно более сложные когнитивные действия и операции, поскольку в игре он располагает большими психическими ресурсами (Target, Fonagy, 1996).
Начиная с четвертого года жизни модус психической эквивалентности и «игровой модус» постепенно интегрируются, и формируется ментализирующий модус психической реальности (Gopnik, 1993). Благодаря этому ребенок в состоянии распознать, что его переживания и мысли являются репрезентациями, а потому могут быть ошибочными или могут меняться, поскольку основаны на одной из целого ряда точек зрения. Эта когнитивная интеграция влечет за собой возникновение понимания целостности собственного Я (т. е. переживания себя как существующего непрерывно, хотя и в различных состояниях), ребенок в состоянии теперь приспособить свое мышление к внешней реальности, не становясь для этого кем-то другим (как это было в игре).
Таким образом, при нормальном ходе событий ребенок интегрирует оба модуса («психической эквивалентности» и «игровой»), переходя на следующую стадию психического развития, а именно – ментализации или рефлексивного модуса, когда психические состояния переживаются как репрезентации, а внешняя и внутренняя реальности рассматриваются как связанные одна с другой, но не требующие уравнивания или полного отщепления друг от друга. Для интеграции этих двух модусов ребенок нуждается в наличии взрослого, который бы ему «подыгрывал», чтобы ребенок мог сначала увидеть свою фантазию или мысль в репрезентациях взрослого, а затем вновь ее интернализовать и использовать как репрезентацию своего собственного мышления. Иными словами, взрослый связывает мысли и чувства ребенка с реальностью, свидетельствуя об их существовании вне психики ребенка, и тем самым дает ребенку понять, что реальность можно искажать, играя с ней, и в этой игре может быть введен игровой, но вполне реальный опыт.
РФ представляет собой одну из линий психического развития ребенка, составляя важный компонент системы регуляции аффектов. Оно формируется у ребенка постепенно, как своеобразный навык, связанный с решением определенной социальной задачи, возникшей в отношениях с родительской фигурой. При этом решающую роль играет способность этой родительской фигуры (как правило, это мать, бабушка, отец) занимать более или менее рефлексивную позицию по отношению к себе, к ребенку и к процессу взаимодействия. Если взрослый, осуществляющий уход за ребенком, сам обладает достаточно развитой способностью ментализировать, т. е. воспринимать себя и ребенка в терминах психических состояний, то с большой вероятностью ребенок усвоит этот модус функционирования в большем объеме, нежели ребенок, чьи родители не могли обеспечить ребенку последовательного «психологизирования» (т. е. признания наличия у ребенка и других людей определенных психических состояний, желаний, эмоций) в ходе повседневного взаимодействия как в игре, так и в реальных отношениях.
Надо отметить, что РФ в понимании Фонаги выступает не как осознанная целенаправленная деятельность – рефлексия (в понимании, например, Брушлинского А. В., Щедровицкого П. Г., Карпова А. В.), а как свойственный субъекту неосознаваемый модус восприятия социальной действительности. Индивидуальные различия субъектов проявляются, во-первых, в том, насколько этот модус генерализован, т. е. какие области жизни он охватывает: человек может демонстрировать выраженную рефлексивную способность в профессиональной жизни и не пользоваться этой способностью в личностной сфере. Во-вторых, люди различаются по устойчивости РФ: в ситуации стресса, кризиса, опасности способность к рефлексии у одних падает, у других сохраняется. В третьих, глубина рефлексии у разных людей также различна: одни способны учитывать сразу несколько психологических причин и факторов поведения (своего и окружающих), тогда как другие в лучшем случае для объяснения поведения могут воспользоваться какими-то общепринятыми истинами, например, «чужая душа – потемки» или «рыба ищет, где глубже, а человек – где лучше», и этим ограничиться. Постоянное отсутствие РФ может привести либо к существенной социальной дезадаптации (вспомним сказку Горького про Иванадурака, который никак не может разобраться в социальных ситуациях, в результате чего его высказывания отличаются полным отсутствием сочувствия и понимания, что вызывает насмешки или гнев у окружающих), либо к формированию каких-либо альтернативных стратегий (например, ребенок, который растет в условиях насилия со стороны родительских фигур, может научиться очень точно распознавать и чутко реагировать на предвестники родительского гнева, но при этом остаться в полном неведении относительно собственных переживаний).
Фонаги подчеркивает различия между интроспекцией как целенаправленным актом самонаблюдения и самоосознавания и РФ: РФ происходит помимо сознательных усилий субъекта и направлено прежде всего на психологическую интерпретацию социальных действий и взаимодействий. В силу своего бессознательного характера РФ может вести как к адаптивным, так и к дезадаптивным результатам: приписывание психических состояний может быть и ошибочным, однако распознать такую ошибку достаточно трудно, поскольку она вместе с порождающими ее процессами локализована вне сферы осознания. С другой стороны, РФ, обеспечивая постоянное отслеживание актуально происходящих психических трансформаций, дает возможность приспосабливаться к изменяющейся реальности при условии, что результаты этого отслеживания также становятся предметом рефлексивных процессов. Иными словами, РФ полезно и целесообразно в тех случаях, когда субъект постоянно фокусируется на соотнесении внутренней и внешней реальности, а также учитывает субъективность и неполноту своих выводов о мотивах и следствиях поведения окружающих и своего собственного.
В целом Фонаги и Тарже формулируют смысл и назначение РФ с точки зрения психического функционирования субъекта следующим образом (см.: Target, Fonagy, 1996)[21].
Прежде всего, РФ позволяет ребенку рассматривать действия других людей как осмысленные вследствие приписывания им мыслей и чувств. Благодаря этому действия окружающих становятся также и предсказуемыми, что ведет к уменьшению зависимости ребенка от других людей. Это означает, что развитие РФ необходимо для успешного осуществления процесса индивидуации. Нормальное восприятие отношений между внутренней и внешней реальностью не дано изначально, а достигается в процессе развития, когда два различных модуса внутренней реальности интегрируются. РФ позволяет различать внешнюю и внутреннюю реальность или правду, т. е. тот факт, что некто ведет себя так-то и так-то не означает, что дело обстоит именно так. Это различение становится особенно важным в условиях травматизации или плохого обращения с ребенком, оно помогает ему психологически выжить. Ребенок способен тогда оперировать психическими репрезентациями, делать человеческий мир более понятным для себя. Так, если ребенок способен приписать отвергающее поведение матери ее плохому настроению, а не своему плохому поведению, то он может хотя бы отчасти защититься от хронической травматизации своей самооценки.
Далее, без ясного представления о психическом состоянии другого коммуникация существенно обедняется: в эффективной коммуникации говорящий должен постоянно иметь в голове точку зрения своего партнера. РФ выполняет, соответственно, важную роль в коммуникативном процессе, поскольку обеспечивает параллельное понимание себя и другого, а также возможность допустить существование у собеседника позиции, отличной от позиции субъекта. Это относится не только к когнитивным содержаниям, но и к эмоциональным: за счет РФ происходит развитие эмпатии как способности распознавать, угадывать, улавливать чувства другого человека и эмоционально «подстраиваться» под них. Тем самым РФ создает предпосылки для установления и развития близких и удовлетворяющих отношений с другими людьми. Пока человек функционирует в рамках модуса психической эквивалентности, он неспособен не только учитывать эмоциональные состояния других людей, но даже и предположить, что их состояния могут отличаться от его собственного. Для успешного взаимодействия с социальным окружением субъект должен уметь учитывать мнения и позиции других людей, что и является результатом РФ. В целом РФ позволяет субъекту переживать жизнь как более осмысленную, путем интеграции внешнего и внутреннего. Ребенок обнаруживает образ себя в воображении своей матери как индивида, имеющего мысли и чувства. Этот образ интернализуется, и вокруг него возникает собственное центральное ощущение своего Я.
Эмпирический подход к выявлению РФ
Исследование РФ тесно связано с изучением привязанности; исходно шкала оценки РФ опирается на представления, развиваемые М. Мэйн (Main, 1999), о «метакогнитивном мониторинге». Это понятие описывает активное самонаблюдение респондента, обнаруживаемое в процессе оценки протокола интервью о привязанности для взрослых (AAI) (Main, Goldwyn, 1994). Анализ протоколов показал, что респонденты существенно различаются по способности осуществлять самонаблюдение и контроль за собственным поведением в ходе интервью. Это навело исследователей на мысль о том, что метакогнитивные способности или, иначе говоря, рефлексивные проявления респондентов могут стать предметом самостоятельного интереса (Fonagy et al., 1998). В соответствии с этой идеей был проведен анализ вопросов, предлагаемых респондентам в ААI, и оказалось, что некоторые из этих вопросов непосредственно обращены к рефлексивным способностям субъекта, например, вопросы: «Как вы думаете, как повлияли на ваше развитие ваши отношения с родителями?» или «Как вы думаете, почему ваши родители вели себя с вами именно таким образом?» Отвечая на этот вопрос, респондент должен обратиться к своему опыту отношений с родителями, предположить наличие взаимосвязи между их поведением, намерениями и чувствами и собственными переживаниями в детстве и в более позднем возрасте. Всего в AAI наличествует от 6 до 10 вопросов такого типа (в зависимости от применяемой модификации AAI).
Методика оценки РФ представляет собой разновидность анализа дискурса, аналогичного методу выявления типа привязанности, разработанному М. Мэйн (Main, Goldwyn, 1994). Оценка текста осуществляется не с точки зрения его формального содержания, она ориентирована на представленность в каждом фрагменте неких маркеров, свидетельствующих о процессе ментализации. Все вопросы интервью отнесены к одной из двух категорий: они либо «требуют рефлексии» (demand questions), либо «допускают рефлексию» (permit questions); в ответах на permit questions некоторые респонденты также прибегают к рефлексивному модусу функционирования, а некоторые – нет. Шкала оценки РФ – 11-балльная, от (–1) до (9). Различают два уровня рефлексии – негативная и ограниченная оценки (от –1 до 3) и средняя и высокая (от 4 до 9). Эксперты оценивают весь материал, предоставленный респондентом в ходе интервью. В качестве оцениваемой единицы текста выступает ответ на каждый вопрос в целом, при этом оценки ответов на требующие рефлексии вопросы учитываются в любом случае, а на «допускающие рефлексию» – только если они больше 3 или меньше 0. Для того чтобы высказывание было отнесено к категории «средняя и высокая», оно должно удовлетворять трем критериям.
1. Оно должно иметь явные признаки рефлексивного функционирования, т. е. не просто относиться к психическим состояниям человека, но и содержать некоторые указания на то, что субъект размышляет об этих состояниях.
2. Высказывание должно быть релевантно описываемой ситуации – т. е. содержать не столько обобщенные, сколько конкретные комментарии субъекта, личностно значимые и непосредственно к нему относящиеся.
3. Высказывание должно касаться именно психических состояний, а не личностных диспозиций, черт, общих характеристик взаимодействия или психиатрических симптомов.
При создании методики ее авторы постарались операционализировать критерии оценки, однако субъективность экспертов сохраняется, и для достижения согласованности оценок требуется специальное обучение. Оно состоит из трех этапов: а) ознакомление с теоретической базой и критериями оценки; б) под непосредственным руководством авторов метода начинающие эксперты оценивают несколько «учебных» текстов; в) оценка 15 тренировочных интервью о привязанности для взрослых с последующим подсчетом коэффициента согласованности со стандартной оценкой. В случае успешного прохождения всех трех этапов и достижения высоких уровней согласованности оценок новоявленный эксперт получает соответствующий сертификат и право проводить исследования с использованием этого метода.
Методика оценки РФ была валидизирована на нескольких различных выборках (матери и отцы, принимавшие участие в большом исследовательском проекте по изучению привязанности, N=200; пациенты психиатрической клиники, N=82, и ряд других, (Fonagy et al., 1998). Результаты этих исследований свидетельствуют об отсутствии корреляций РФ с социально-демографическими показателями респондентов (за исключением низкой корреляции между уровнем образования у отцов, r=0,35, и речевыми навыками у обоих родителей, r=0,27 у отцов, r=0,33 у матерей). При сопоставлении типа привязанности у детей с показателями РФ их родителей обнаружилось, что имеется корреляция между выраженностью РФ у матери и надежной привязанностью ребенка. Не было обнаружено значимых корреляций между РФ и опросником Айзенка, опросников Эпстайна (Epstein’s Mother-Father-Peer Scale). У психиатрических пациентов с диагнозом «пограничное личностное расстройство» и с расстройствами пищевого поведения обнаружены более низкие показатели РФ, чем у невротических пациентов (Fonagy et al., 1998). Оказалось также, что высокие корреляции имеются между уровнем РФ у матери и способностью к ментализации у ребенка (Fonagy, 1997).
Применение метода оценки РФ
Для того чтобы продемонстрировать, как работает этот метод, мы решили применить его к анализу двух очень разных текстов – фрагментов романа Ф. М. Достоевского «Идиот»[22] и фрагментов интервью о привязанности для взрослых. Это делается с целью показать читателю, что возможности метода не ограничиваются лишь материалами «Интервью о привязанности», на котором метод создавался; напротив, он может успешно применяться к другим текстам, где можно ожидать проявление РФ. Таким материалом может быть, разумеется, не только психотерапевтический дискурс, который и направлен на формирование и развитие РФ пациента, но и художественный текст; и речь депутата, обращенная к избирателям; и публикации/передачи СМИ, где ставится задача оказания влияния на поведение читательской/зрительской аудитории; и педагогическое общение, где эффективность воздействия на ученика напрямую зависит от рефлексивных способностей педагога.
1. Анализ фрагментов «Интервью о привязанности для взрослых»
Это интервью проводилось в 2000 г. в рамках нашего исследования влияния ранней привязанности на устойчивость субъекта к психотравмирующим воздействиям (Калмыкова, Падун, 2002; Калмыкова и др., 2002). Здесь мы приведем из него лишь отдельные цитаты с комментариями. Текст интервью запротоколирован в соответствии с определенными правилами (см.: Калмыкова и др., 1996), согласно которым знаки препинания используются как маркеры пауз или перебивок в тексте, так что их расстановка осуществляется вразрез с правилами пунктуации.
Фрагмент № 1
«Интервьюер: А вот интересно как вы чувствуете к кому из родителей вы были ближе?
Респондент: Я думаю что к отцу. я думаю что к отцу потому что у мамы есть черты которые мне не очень симпатичны по-человечески. например она безумно ревнивая. я человек совершенно; ну это говорят что это аномалия. я не ревнивый человек и может быть и отец был не ревнивый. я так думаю я вообще во многом больше на него похожа. не потому что он лучше мама очень хороший человек. но вот она ревнивая, потом она очень такая экспансивная, у нее-то вот трудное детство было. она росла с отчимом и отец у нее был очень невыдержанный человек из-за этого он и погиб в двадцать два года. рано очень. <…> это бабушка мне потом уже рассказала, и вот видимо мама унаследовала его вот такую вот натуру. она склонна к… была молодая, вот когда гости соберутся она и веселая и петь и танцевать я даже стеснялась этого откровенно говоря. вот такие; хотя я сама человек очень веселый и без комплексов практически почти но были такие небольшие; и тем не менее эти вещи меня как-то немножечко царапали, не то что коробили я маму люблю но вот есть вещи которые мне не очень нравились. поэтому вот отец мне ближе по своей натуре, по характеру».
Это вопрос из разряда «требующих рефлексии»: предполагается, что респондент, отвечая на него, должен сопоставить свои отношения с каждым из родителей, оценить степень близости и поразмыслить о причинах обнаруженных различий. В приведенном фрагменте респондентка демонстрирует следующие признаки РФ: объясняя поведение матери, она прибегает к идее существования межпоколенных связей, признает влияние одного поколения на другое («мама унаследовала такую его натуру»). Далее, она осознает влияние детского опыта на аффективную регуляцию во взрослом состоянии («у нее-то вот трудное детство было»); она также осознает ограниченные возможности понимания переживаний другого человека («может быть и отец был не ревнивый», «вот видимо мама унаследовала его вот такую натуру»). Однако все эти признаки выражены довольно слабо, детский опыт описывается в виде клише («трудное детство»), респондент нигде не разворачивает свои высказывания и имеет тенденцию оставаться на уровне личностных диспозиций («ревнивая», «веселая», «без комплексов»). Поэтому ответ на этот вопрос может быть оценен в 3 балла как «ограниченная рефлексия».
Фрагмент № 2
«Интервьюер: А как вы думаете каким образом вообще повлияли ваши отношения с родителями на вас как на личность? на то каким человеком вы выросли?
Респондент: Я считаю стопроцентно они меня сделали. нет стопроцентно это преувеличение. процентов девяносто. потому что потом еще конечно внешние обстоятельства. и: но вообще закладка это удачная хорошая. когда ребенок растет в любви когда никакие проблемы родительские не вмешиваются в его детскую судьбу мне кажется это очень хорошо. потому что я действительно выросла в счастливой обстановке. наверное у них были какие-то там свои; я знаю что мама ревновала его и у него; я думаю что он давал; не думаю а даже потом уже и знаю что он давал ей наверное пищу для ревности. но дело в том что на мне это никак не отражалось. они при мне никогда этого не выясняли никаких скандалов. а вот у соседей были скандалы бесконечные семейные. без конца муж за женой с каким-нибудь утюгом бегал. то есть я знала какие бывают отношения, вот они рядом. а у меня-то в семье все было нормально. поэтому естественно я росла не задавленной любимой, все что я ни сделаю ну в общем; а у отца такая самая умная самая красивая самая замечательная это его дочка».
Этот вопрос тоже требует от респондента рефлексии; из приведенной цитаты видно, что респондент опять-таки признает наличие межпоколенных влияний («я считаю стопроцентно они меня сделали»). Проявляется также понимание влияния отношений между другими членами семьи, т. е. внутрисемейной динамики на психическое развитие («когда никакие проблемы родительские не вмешиваются в его детскую судьбу»); родителям приписываются правдоподобные психические состояния («я знаю что мама ревновала его и у него; я думаю что он давал; не думаю а даже потом уже и знаю что он давал ей наверное пищу для ревности»); в то же время респондент демонстрирует склонность к обобщенным и поверхностным описаниям («я действительно выросла в счастливой обстановке», «а у меня-то в семье все было нормально»). Все это не позволяет оценить РФ в данном фрагменте выше, чем на 3 балла (ограниченная рефлексия).
Фрагмент № 3
Респонденту задают вопрос о смерти отца; она рассказывает конкретные обстоятельства этого события и заканчивает словами:
«Респондент: Это было потрясение. жуткое. и мама очень тяжело переживала. и потом он же был еще в общем-то не старый. это я сейчас вот мне пятьдесят пять лет а ему было пятьдесят четыре. я понимаю что это еще не самый такой старый возраст, можно было бы еще пожить. неожиданно. тяжело, тяжело, тяжело.
Интервьюер: Как вы чувствуете вы оправились от этого потрясения?
Респондент: Ну оправилась конечно, я стала это спокойно воспринимать. но вот чувство вины что вот я ему сказала, зачем я ему сказала ну и забыли бы мы про эти именины, ничего страшного… может ну и бог с ним. а вот у нас вот это вот. как же так у мамы именины а мы ее не поздравили. ну вот где-то такое было у меня сожаление было желание обвинить соседа что вот он машину не завел когда отец его попросил. но все равно у нас добрые отношения до сих пор с этими соседями, все это так, минутно. но прошло же все. ну как прошло? я с сожалением вспоминаю вот как бы было ему интересно сейчас жить…»
Этот вопрос вынуждает респондента обратиться к болезненным переживаниям из прошлого; часто в ответах на его происходит снижение общего уровня РФ. Однако в данном случае мы видим, что респондент отвечает достаточно подробно, конкретно, не только описывает внешние события (эту часть мы в нашем изложении опустили), но и характеризует психические состояния участников событий («это было потрясение. жуткое. и мама очень тяжело переживала»); оценивает события прошлого с точки зрения сегодняшнего понимания («это я сейчас вот мне пятьдесят пять лет а ему было пятьдесят четыре. я понимаю что это еще не самый такой старый возраст»); демонстрирует осознание влияния своего психического состояния на восприятие событий («ну вот где-то такое было у меня сожаление было желание обвинить соседа что вот он машину не завел когда отец его попросил. но все равно у нас добрые отношения до сих пор с этими соседями, все это так, минутно»). Все это дает основания оценить этот фрагмент выше, чем два предыдущих, а именно на 5 баллов (средний уровень РФ).
2. Анализ фрагментов из романа Ф. М. Достоевского «Идиот»
Мы выбрали всего два фрагмента, чтобы, с одной стороны, дать наглядное представление о том, как можно применять данную методику к анализу текстов вообще, а с другой стороны, чтобы не перегружать читателя избытком материала.
Фрагмент № 1
Это часть рассуждений князя Мышкина о казни в разговоре с лакеем генерала Епанчина в первые минуты появления князя в Петербурге. Речь идет о том, насколько милосердной можно считать казнь путем гильотинирования.
«<…> Подумайте: если, например, пытка: при этом страдания и раны, мука телесная, и, стало быть, все это от душевного страдания отвлекает, так что одними только ранами и мучаешься, вплоть пока умрешь. А ведь главная, самая сильная боль, может, не в ранах, а вот что вот знаешь наверно, что вот через час, потом через десять минут, потом через полминуты, потом теперь, вот сейчас – душа из тела вылетит, и что человеком уж больше не будешь, и что это уж наверно; главное то, что наверно. Вот как голову кладешь под самый нож и слышишь, как он склизнет над головой, вот эти-то четверть секунды всего и страшнее. Знаете ли, что это не моя фантазия, а что так многие говорили? Я до того этому верю, что прямо вам скажу мое мнение. Убивать за убийство несоразмерно большее наказание, чем самое преступление. Убийство по приговору несоразмерно ужаснее, чем убийство разбойничье. Тот, кого убивают разбойники, режут ночью в лесу или как-нибудь, непременно еще надеется, что спасется, до самого последнего мгновения. Примеры бывали, что уж горло перерезано, а он еще надеется, или бежит, или просит. А тут, всю эту последнюю надежду, с которою умирать в десять раз легче, отнимают наверно; тут приговор, и в том, что наверно не избегнешь, вся ужасная-то мука и сидит, и сильнее этой муки нет на свете. Приведите и поставьте солдата против самой пушки на сражении и стреляйте в него, он еще все будет надеяться, но прочтите этому самому солдату приговор наверно, и он с ума сойдет или заплачет».
Отвлекаясь от нетривиального содержания монолога, обратимся к признакам РФ в нем. Прежде всего здесь проявляется способность распознавать, угадывать и приписывать психические состояния другим людям («Тот, кого убивают разбойники, режут ночью в лесу или как-нибудь, непременно еще надеется», «эту последнюю надежду, с которою умирать в десять раз легче»); затем можно отметить способность говорящего признавать тот факт, что люди воспринимают одну и ту же ситуацию по-разному («самая сильная боль, может, не в ранах, а вот что вот знаешь наверно»). Далее, просматривается осознание того, что психические состояния проявляются в различных поведенческих актах («прочтите этому самому солдату приговор наверно, и он с ума сойдет или заплачет»). Наконец, говорящий способен также принимать в расчет отсутствие каких-то знаний у своего слушателя или его психическое состояние, например, переживание недоверия («Знаете ли, что это не моя фантазия, а что так многие говорили»). В целом в этом небольшом фрагменте князь Мышкин демонстрирует сразу несколько признаков РФ, что можно оценить в 5–6 баллов (чуть выше средней рефлексии).
Фрагмент № 2
Это короткий монолог генеральши Епанчиной, произнесенный в присутствии ее дочерей и князя Мышкина.
«А я добрая, – неожиданно вставила генеральша, – и если хотите, я всегда добрая, и это мой единственный недостаток, потому что не надо быть всегда доброю. Я злюсь очень часто вот на них, на Ивана Федоровича особенно, но скверно то, что я всего добрее, когда злюсь. Я давеча, пред вашим приходом, рассердилась и представилась, что ничего не понимаю и понять не могу. Это со мной бывает; точно ребенок. Аглая мне урок дала; спасибо тебе, Аглая. Впрочем, все вздор. Я еще не так глупа, как кажусь и как меня дочки представить хотят. Я с характером и не очень стыдлива. Я, впрочем, это без злобы говорю….»
В этом отрывке присутствуют описания психических состояний, но в большинстве своем они представляют собой перечисление личностных свойств и диспозиций («добрая», «ничего не понимаю», «точно ребенок», «стыдлива»). Однако есть и высказывания другого рода: генеральша принимает в расчет, как другие люди ее воспринимают («Я еще не так глупа, как кажусь»), и намекает на то, что некоторые психические состояния могут иметь защитную природу, т. е. направлены на снижение негативного аффекта или его проявлений («рассердилась и представилась, что ничего не понимаю»). В целом этот фрагмент можно было бы оценить в 3 балла (ограниченная рефлексия).
Перспективы исследований
Если теперь задаться вопросом, каковы возможные сферы применения описанного нами метода, то прежде всего нужно указать на область изучения самосознания субъекта. Метод анализа РФ образует альтернативу опросниковым методам, будучи в то же время объективируемым и достаточно валидным инструментом. Данная методика, хотя и является достаточно трудоемкой, позволяет проследить формирование самопонимания и осознания себя в динамике, что невозможно осуществить другими способами. Так, уже в рамках одного интервью о привязанности для взрослых можно заметить изменения РФ на протяжении разговора, а также выявить круг тем, где уровень РФ снижается или, наоборот, возрастает. Если же обратиться к изучению психотерапевтического дискурса, имея в своем распоряжении последовательно запротоколированные сеансы, то можно получить уникальные данные о постепенном формировании РФ по ходу продвижения психотерапевтического процесса. При этом создается также возможность обнаружить взаимосвязи между уровнем рефлексивности психотерапевта и динамикой развития РФ у пациента; есть основания предполагать, что такого же рода взаимосвязи проявляются в онтогенезе, во взаимодействии ребенка с ухаживающим за ним взрослым. Изучая тонкие механизмы взаимодействия в ходе психотерапии, можно было бы сделать выводы об аналогичных процессах, происходящих между детьми и их родителями.
Особый интерес может иметь исследование выраженности РФ у субъектов, характеризующихся теми или иными проявлениями психопатологической симптоматики, наличием симптомов посттравматического стресса и пациентов, страдающих различными психическими и психосоматическими нарушениями. Можно ожидать, например, что у больных с психосоматическими расстройствами способность к рефлексии окажется в целом сниженной, а у посттравматических пациентов будут наблюдаться провалы РФ при обращении к темам, связанным с травматическим событием.
Еще одно направление исследований – анализ различных текстов, авторы которых обращаются к некой аудитории с целью оказания на нее влияния. Эти тексты, чтобы быть действенными, должны включать известную долю рефлексивности; например, убедительность политического дискурса можно было бы описать и оценить с точки зрения учета автором текста психических состояний адресата и частоты обращения к этим состояниям. Можно предположить, что существует некий оптимум рефлексивности, выход же за его пределы влечет за собой снижение действенной силы выступления. Это же относится и к разного рода рекламным текстам, построенным на принципе провоцирования (см.: Степанов, 2005): поскольку основная функция провокативного поведения – это взаимная регуляция и коррекция поведения субъектов, то в зависимости от уровня РФ участников общения эта взаимная регуляция будет более или менее успешной.
Основным же преимуществом использования именно этого метода является возможность получения эмпирического материала, релевантного субъектному уровню рассмотрения рефлексивных процессов и самопознания в целом. В отличие от других известных на сегодняшний день в отечественной психологии методов изучения рефлексивных процессов, метод оценки РФ наиболее близко подходит к раскрытию внутрипсихических процессов самоосознавания индивида и позволяет исследователям оценить и описать их динамику.
Литература
Брушлинский А. В., Поликарпов В. А. Мышление и общение. Самара: Самарский дом печати, 1999.
Василюк Ф.Е. Психология переживания. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1989.
Гинзбург М. Р. Психологическое содержание личностного самоопределения // Вопросы психологии. 1994. № 3. С. 43–52.
Давыдов В. В. Проблема развивающего обучения: опыт теоретического и экспериментального психологического исследования. М.: Педагогика, 1986. Цит. по: Холодная М. А. Психология интеллекта. СПб.: Питер, 2002.
Достоевский Ф. М. Собрание сочинений в 10 т. М.: ГИХЛ, 1957. Т. 6. Знаков В. В. Самопонимание субъекта как когнитивная и экзистенциальная проблема // Психол. журнал. 2005. T. 25. № 1. C. 18–28.
Калмыкова Е.С., Падун М.А. Ранняя привязанность и ее влияние на устойчивость к психической травме: постановка проблемы (сообщение 1) // Психол. журнал. 2002. T. 23. № 5. С. 88–99.
Калмыкова Е.С., Мергенталер Э., Стинсон Ч. Транскрипты психотерапевтических сеансов // Психол. журнал. 1996. Т. 17. № 3. С. 129–136.
Калмыкова Е.С., Комисарова С. А., Падун М.А., Агарков В.А. Взаимосвязь типа привязанности и признаков посттравматического стресса // Психол. журнал. 2002. T. 23. № 6. С. 89–97.
Карпов А. В. Рефлексивность как психическое свойство и методика ее диагностики // Психол. журнал. 2003. Т. 24. № 5. С. 45–57. Проблемы психологии дискурса / Под ред. Н. Д. Павловой, И. А. Зачесовой. М.: Изд-во «Институт психологии РАН», 2005.
Русакова О. Ф. Основные разновидности современных теорий политического дискурса: опыт классификации // ПОЛИТЭКС. 2005–2006. URL: .
Степанов В. Н. Провокативный дискурс в массовой коммуникации // Проблемы психологии дискурса / Под ред. Н. Д. Павловой, И. А. Зачесовой. М.: Изд-во «Институт психологии РАН», 2005. С. 43–61.
Степанов С. Ю., Семенов И.Н. Психология рефлексии: проблемы и исследования // Вопросы психологии. 1985. № 3. С. 31–40.
Филлипс Л.Дж., Йоргенсен М.В. Дискурс-анализ. Теория и метод. Пер. с англ. Харьков: Гуманитарный центр, 2004. Холодная М. А. Психология интеллекта. СПб.: Питер, 2002.
Bouchard M.-A., Lecour S. Analyzing forms of superego functioning as mentalizations // Int. J. Psycho-Anal. 2004. V. 85. № 4. P. 879–896.
Bram A. D., Gabbard G. O. Potential Space and Reflective Functioning: Towards Conceptual Clarification and Preliminary Clinical Implications // Int. J. Psycho-Anal. 2001. V. 82. P. 685–699.
Fenigstein A., Scheier M.F., Buss A.H. Public and private self-consciousness: Assessment and theory // J. of Consulting and Clinical Psychology. 1975. V. 43. № 4. P. 522–527. Цит. по: Знаков В. В. Самопонимание субъекта как когнитивная и экзистенциальная проблема // Психол. журнал. 2005. № 1. C. 18–28.
Flavell J. H. Metacognition and cognitive monitoring: A new area of cognitive-development inquiry. // Amer. Psychologist. 1979. V. 34. P. 906–911.
Flavell J.H. et al. Development of knowledge about the appearance-reality distinction // Monographs of the Society for Research in Child Development. 1986. V. 51 (1). P. 1–68.
Fonagy P. Attachment and theory of mind: Overlapping constructs? // Association for Child Psychology and Psychiatry Occasional Papers. 1997. V. 4. P. 31–40.
Fonagy P. et al. Reflective Functioning Manual: Version 5. For Application to Adult Attachment Interviews. London: University College, 1998.
Fonagy P., Target M. Playing with reality: I. Theory of mind and the normal development of psychic reality // Int. J. Psycho-Anal. 1996. V. 77. P. 217–233.
Gopnik A. How do we know our minds: the illusion of first person knowledge of intentionality // Behavioral and Brain Sciences. 1993. V. 16. P. 1–14.
Main M. Discourse, prediction, and recent studies in attachment: implications for psychoanalysis // J. Amer. Psychoanal. Assn. 1993. V. 41 (Suppl.). P. 209–244.
Main M., Goldwyn R. Adult Attachment Rating and Classification System, Manual in Draft, Version 6.0. Unpublished manuscript: University of California at Berkeley, 1994.
Main M. Attachment theory: eighteen points with suggestions for future studies // Handbook of Attachment: Theory, Research, and Clinical Applications / J. Cassidy et al. (eds). NY: Guilford, 1999. P. 845–887.
Sullivan K., Winner E. Three-year-olds‘ understanding of mental states: the influence of trickery. J. Experiment // Child Psychol. 1993. V. 56. P. 135–148.
Target M., Fonagy P. Playing With Reality: II. The Development Of Psychic Reality From A Theoretical Perspective // Int. J. Psycho-Anal. 1996. V. 77. P. 459–479.
Wellman H. The Child’s Theory of Mind. Cambridge, MA: Bradford Books/ MIT Press, 1990.
Анализ в кредит: уступка реальности или бегство от реальности?
Как следует из названия, в данной статье речь пойдет о случае, характерной чертой которого является постоянная тенденция к нарушению одной из составляющих психоаналитического сеттинга, а именно договоренности об оплате психоанализа. Известно, что стабильное поддержание сеттинга необходимо для успешного осуществления аналитической работы, а также то, что в определенные моменты работы пациенты совершают те или иные действия, направленные на разрушение какого-либо из аспектов сеттинга: сюда относятся опоздания, пропуски, забывание сеансов, отказы от оплаты за пропуски, отказ лежать на кушетке и т. п. Со стороны аналитика тоже не исключена возможность нарушения сеттинга, например, его временных или финансовых аспектов, или нарушение правил психоаналитического дискурса в рамках бессознательного сговора с пациентом. Соответственно, любые нарушения сеттинга пациентом или аналитиком можно рассматривать как отыгрывание бессознательных процессов, также подлежащее рассмотрению в ходе анализа.
Оплата психоанализа – достаточно деликатная проблема per se, причем в условиях нашей страны она еще больше запутывается вследствие постоянной инфляции, отсутствия общепринятых нормативных значений гонорара за час работы, необходимости платить наличными деньгами и общей нестабильностью экономического положения. В результате многие психоаналитики предпочитают называть сумму желательного гонорара в так называемой «твердой валюте», чтобы обезопасить себя, по крайней мере, от резких скачков курса рубля по отношению к другим валютам. При этом приходится периодически отступать от этой обозначенной суммы в сторону ее уменьшения в случаях, когда пациент не в состоянии ее платить, а аналитик, несмотря на это, по каким-либо причинам намерен работать с пациентом. Подобные акции осуществлялись на протяжении всего существования психоанализа, так что проблема назначения и обсуждения величины гонорара психоаналитика имеет достаточно длинную историю.
Наиболее часто снижение гонорара практикуется в работе психоаналитиков, находящихся еще в стадии обучения и заинтересованных в ведении учебных аналитических случаев независимо от размеров оплаты, а также при проведении тренинг-анализа с теми кандидатами, которые не располагают достаточными средствами для его оплаты (Rothstein, 1995; Erle, 1993). Важными моментами здесь являются: возможность обсуждать с пациентом величину гонорара и – при улучшении финансового положения пациента – возможность ее пересмотра; очевидность для обоих участников реального снижения стоимости сеанса по сравнению с неким (иногда существующим лишь в воображении) средним уровнем оплаты; а также отчетливое понимание аналитиком неизбежности возникновения в переносе и контрпереносе проблем и осложнений, обусловленных отклонением от «стандарта». Оговоренная оплата, какова бы она ни была, и процедура ее внесения становятся частью сеттинга, и любые изменения ее означают изменения в сеттинге – с их возможными дестабилизирующими аналитический процесс последствиями.
Случай, который я намереваюсь описать, относится к категории учебных, проводимых под постоянной супервизией, где важную роль в контрпереносе играет мотив овладения профессиональным мастерством. Помимо низкой оплаты, данный случай примечателен также тем, что пациентка впервые обратилась ко мне за помощью в возрасте 19 лет, т. е. будучи в позднеподростковом возрасте. Работа же началась спустя несколько месяцев, незадолго до ее двадцатого дня рождения, и продолжалась на протяжении 6,5 лет. В результате этот случай с трудом поддается классификации: он уже не совсем подростковый и еще далеко не взрослый, в нем все время очень остро ощущалась неопределенность происходящего в настоящем и непредсказуемость дальнейшего поворота событий. Такое впечатление, что в этом случае воплощаются едва ли не все возможные сложности, возникающие в работе с пациентами подросткового и так называемого «послеподросткового» возраста (т. е. от 21 до 25 лет).
К числу этих сложностей относится прежде всего специфическая форма оплаты работы аналитика, а именно оплата так называемой «третьей стороной». Как правило, финансовые затраты пациента на анализ являются денежным эквивалентом его вовлеченности (заинтересованности, мотивированности, иными словами – денежным выражением катексиса психоаналитической работы) в аналитический процесс и одновременно отражают ценность психоанализа в собственных глазах пациента. Оплата психоанализа, несомненно, является в то же время и одним из каналов связи пациента с реальностью. В ситуации, когда оплата производится не самим пациентом, а «третьей стороной» (например, страховой компанией, родителями или другими родственниками пациента), она, с одной стороны, неизбежно в значительной мере теряет свой символический смысл; с другой стороны, осуществление оплаты третьим лицом ведет к ослаблению чувства реальности у пациента. Это не влечет за собой непременное снижение эффективности анализа (Томэ, Кэхеле, 1996), но становится еще одним требующим осознания аспектом сеттинга.
Следующая проблема, с которой сталкивается психоаналитик в работе со столь молодыми пациентами, – это необходимость оказывать им помощь в решении определенных задач развития. Обращение к психоанализу в этом возрасте, как правило, связано с трудностями прохождения и разрешения подросткового кризиса, с застреванием в подростковой фазе, со срывом развития, имевшем место в ходе пубертата (Laufer, Laufer, 1984). Соответственно, у пациентов, помимо трудноразрешимого невротического конфликта, оказываются нерешенными совершенно конкретные задачи нормального развития, которые О. Кернберг определяет следующим образом: а) консолидация ощущения эго-идентичности; б) утверждение нормальной сексуальной идентичности; в) ослабление привязанности к родителям и выбор гетеросексуального объекта; г) замещение инфантильного регулирующего поведение Супер-Эго интернализованной и гибкой системой морали (Кернберг, 2000).
Еще одна трудность работы – это специфика личностной организации подростковых пациентов. В этом возрасте имеет место чрезвычайная лабильность психических структур, регрессия в развитии влечений и собственного Эго, реактивация эдипальных и доэдипальных импульсов и конфликтов. Все эти процессы ослабляют Эго настолько, что способность пациента к образованию рабочего альянса с аналитиком существенно снижается, особенно в раннем подростковом возрасте. Однако это не означает невозможности проведения анализа подростков, поскольку «в любом анализе приходится помогать „ослабленному Эго“: прежде всего необходимо помочь ему вступить в „рабочий альянс“ с аналитиком, а затем требуется помощь в образовании переноса и последующей работе с ним. Точно так же у взрослого невротика аналитику всегда приходится работать с „ослабленным Эго“» (Muller-Pozzi, 1996, S. 239).
Наконец, последняя трудность заключается в реалистичности переноса у таких пациентов. Психоаналитик воспринимается пациентом как еще одна абсолютно реальная родительская фигура, которая становится одновременно или, скорее, попеременно, объектом идентификации и отвергаемым родительским объектом. В действительности и то и другое может как продвигать анализ вперед, так и препятствовать прогрессу в работе. При этом отдельные аспекты переноса постоянно отыгрываются в поведении пациентов вне или во время сеансов, или в виде нарушений сеттинга. Реальные аспекты отношений подростка с аналитиком играют важную роль в продвижении анализа, поскольку только в рамках прочных реальных отношений подросток способен развить аналитический перенос. Отсюда возникают новые проблемы, связанные с необходимостью модифицировать обычную технику работы, используемую со взрослыми пациентами. Аналитик для подростка является представителем реального мира, и в качестве такового он одновременно притягивает подростка и отвергается им. Поскольку подросток стоит перед двойной задачей – совладания с реальностью и разрешения внутреннего конфликта, – ему необходимо различать эти оба аспекта, что само по себе оказывается нелегко. Таким образом, первой задачей анализа становится помощь в лучшем познании реальности и поддержка способности к ее тестированию (Muller-Pozzi, 1996, S. 266). В ходе работы реалистическая часть отношений между аналитиком и подростком как отношений «старший – младший» переплетается с трансферентными фантазиями последнего, где аналитику могут отводиться самые разные роли, в том числе некомпетентного или отвергаемого ребенка; задача аналитика – распознавать в каждый конкретный момент, какая именно часть отношений актуализирована в диалоге с пациентом.
В целом работа с пациенткой Ю. Т. представляет собой «результирующую» нескольких векторов психоаналитического пространства.
1. Решение возрастных задач развития – совладание с реальностью и сепарация от родителей и достижение соответствующих возрасту автономии и нарциссического равновесия.
2. Признание и анализ того факта, что оплата производится «третьей стороной» (родителями, более подробно об этом см. ниже), вследствие чего постоянно подтверждается и поддерживается реальная финансовая зависимость от родителей.
3. Выявление спутанности реального и «as if» компонентов отношений «пациент-аналитик» и их тщательная проработка, особенно в период отсутствия (в течение определенного периода времени) оплаты анализа.
Понятным образом в анализе создается парадоксальная ситуация: для достижения независимости от родителей пациентка должна поддерживать финансовую зависимость от них и сформировать зависимость от аналитика в переносе, тогда как ее инфантильная несостоятельность, избавление от которой должно привести к сепарации и стабилизации самооценки, регулярно подтверждается невозможностью оплачивать сеансы. Эта ситуация в сочетании с трудностями (часто упоминаемыми в литературе) интерпретирования переноса при работе с подростками (Томэ, Кэхеле, 1996) и их возрастными особенностями создает необычайно благоприятный климат для отыгрываний (acting out) и отреагирований в виде нарушений сеттинга, в которые может вовлекаться и аналитик. В данном случае основной способ отыгрывания отражал одну из центральных проблем пациентки – отказ от восприятия реальности в пользу собственных фантазий – и заключался в атаках на сеттинг: пациентка настаивала на продолжении анализа, несмотря на невозможность его оплачивать, разрушая тем самым реальный аспект взаимодействий с аналитиком.
Первая встреча
Мать пациентки Ю. Т. позвонила в психологическую консультацию и попросила записать на прием ее дочь-студентку 19 лет, объяснив, что дочь находится в подавленном состоянии, высказывает суицидальные мысли, не хочет учиться. На первый прием Ю.Т. пришла одна за несколько минут до назначенного времени и, не найдя меня в кабинете, успела до моего появления побегать по коридорам консультации и осведомиться, где меня можно найти. В кабинете Ю. Т. отказалась занять место, которое предназначено для пациентов; в ответ на мое предложение устроиться там, где ей будет удобно, она обошла всю комнату и в конечном итоге уселась в кресло, где обычно сижу я. После этого я села на «пациентское» место, которое сначала предложила занять ей, и сообщила Ю.Т. о произошедшей рокировке. Ю.Т. с глубоким убеждением сказала: «Конечно, ведь это место самое удобное!», имея в виду то, которое занимала в данный момент она.
Затем на мое предложение рассказать о том, что ее привело в консультацию, Ю.Т. отреагировала следующим образом: «Нет, сначала вы мне расскажите о себе: сколько вам лет, замужем ли вы, есть ли у вас дети, чем занимается ваш муж, давно ли вы работаете психологом». Так, инсценируя обмен ролями, Ю. Т. начала наш диалог.
В ходе первичного приема настроение Ю. Т. несколько раз менялось: от настороженности и агрессивно-оборонительной позиции пациентка внезапно переходила к открытой манере разговора, а затем в ответ на мои попытки развить эту доверительность моментально снова уходила в агрессивную оборону. Заинтересованности в постоянной психотерапевтической работе Ю.Т. не высказала, хотя моя информация о том, что наряду с психотерапией существует также психоанализ, который продолжается, например, 300 часов, произвела на нее сильное впечатление. Я старалась вести себя по возможности гибко, не оказывая давления, но и не поддаваясь давлению Ю. Т.; было ощущение, что разговор с этой пациенткой требует от меня проявления незаурядности, что ее надо как-то ошеломить, ослепить; в то же время, когда Ю. Т. внезапно оставляла оборонительную позицию, возникало ощущение контакта и ее интереса к происходящему. В конце интервью мы договорились, что если она примет решение проходить психотерапию, то позвонит мне.
Начало терапии
Ю. Т. позвонила спустя три месяца после первого интервью, и мы договорились о встрече. В ходе сеанса она сообщила, что хотела бы начать психотерапию, поскольку считает, что это единственное, что может помочь ей преодолеть апатию, суицидальные мысли, тягостное настроение, страх перед будущим.
После первых диагностических сессий у меня возникло впечатление, что складывается позитивный рабочий альянс: Ю.Т. вела себя кооперативно, пробные интерпретации воспринимала как информацию для размышлений и дальнейших ассоциаций, демонстрировала готовность соблюдать сеттинг (временные рамки, оплату пропусков), принять на себя часть ответственности за происходящий процесс. Мы договорились об оплате в размере, соответствующем «нижней границе нормы»: Ю. Т. сообщила, что обсудила этот вопрос с матерью, которая согласилась финансировать психотерапию. Все это было не похоже на то, как Ю. Т. проявила себя при первом знакомстве; я полагала, что как только мы заключим более или менее определенный и жесткий контракт, она начнет против него восставать. Это ожидание начало подтверждаться довольно скоро.
Согласно контракту, мы встречались два раза в неделю, Ю.Т. должна была платить за каждый сеанс. Спустя две недели она пришла на сеанс с опозданием и объявила, что сегодня у нее нет денег, так как матери не было дома, когда она уходила, но в следующий раз она заплатит за два сеанса. У меня не было оснований сомневаться в этом, и действительно, в следующий раз Ю. Т. заплатила за оба сеанса. В течение последующих месяцев такая ситуация повторялась несколько раз с некоторыми вариациями: период неоплаты растягивался на два-три сеанса с последующей выплатой всей суммы. Я чувствовала определенную вынужденность своего положения, стремясь сохранить временные параметры сеттинга и будучи не в состоянии прояснить, от кого исходит несвоевременная оплата – от Ю. Т. или от ее матери.
Спустя приблизительно полгода после начала работы Ю. Т. несколько раз просила предоставить ей дополнительный, третий, сеанс в неделю и получала его. Когда я предложила упорядочить стихийно складывающийся трехразовый сеттинг, Ю.Т. объявила о своем желании приходить пять раз в неделю. Надо признаться, что это вызвало у меня достаточно сильную и противоречивую контртрансферную реакцию: эмоциональная зависимость Ю. Т. от наших сеансов, которая тем самым становилась очевидной, пугала и завораживала меня настолько, что трезвые соображения относительно, например, платежеспособности и готовности ее матери принять на себя весьма обременительные финансовые обязательства отступили на второй план. Решение было принято мною на основе моей эмоциональной вовлеченности, не желавшей ничего знать об ограничениях, а последующие рационализации относительно целесообразности интенсификации аналитического процесса уводили все дальше от реальных обстоятельств жизни Ю.Т. Одновременно с увеличением частоты встреч был изменен и их формат – работа была продолжена на кушетке. Фактически инициированный пациенткой уход от реальности в область фантазийных отношений был поддержан и почти узаконен аналитиком, в первую очередь поддержку получила фантазия о безграничности анализа и всемогуществе аналитика.
Проблема с оплатой сеансов решалась следующим образом: Ю. Т. после переговоров с матерью сообщила, что платить еженедельно за пять сеансов она не в состоянии, и поставила вопрос о возможности работы в кредит. Это должно было бы заставить меня более глубоко задуматься о происходящем, однако я в тот момент ограничилась весьма поверхностными соображениями относительно честности и порядочности пациентки, которые не вызывали у меня сомнений, и безосновательно оптимистические ожидания улучшения финансовой ситуации в ее семье, которые высказывала Ю.Т., были восприняты мною недостаточно критично. Исходно речь шла о кредите на некий конкретный срок – например, на полгода; это было мое предложение, которое Ю. Т. поначалу приняла. Однако в ходе его обсуждения стало очевидно, что в этом случае срок возвращения долга связывается со сроком окончания или, скорее, прерывания лечения: если долг своевременно не выплачивается, то анализ обрывается до тех пор, пока кредит не будет погашен. Тем самым пациентка давала понять, что возможность выплаты долга в указанное время представляется ей маловероятной.
Перспектива обрыва анализа была в тот момент для Ю.Т. непереносима: ее зависимость от наших встреч и регрессивные фантазии относительно собственной недееспособности были чрезвычайно сильны, так что угроза прекращения работы порождала у нее высокую эгосинтонную тревогу, которую она не в состоянии была вербализовать и переработать. Вместо этого она отреагировала свое внутреннее напряжение, оказывая на меня давление резким ухудшением состояния: по ее представлению, мысль о конкретном сроке, в который необходимо будет выплатить задолженность, действует на нее парализующе, создает слишком сильное давление: «Мне нужно лечиться, это мой последний шанс». В результате я согласилась с ее предложением о том, что срок кредита остается неопределенным.
Когда я сейчас размышляю об этом, то понимаю, что с моей стороны имел место отказ задуматься об очевидных вещах: фактически в течение ближайшего неопределенно долгого времени анализ не будет оплачиваться, и таким образом будет нарушаться одно из фундаментальных условий работы, особенно существенное в работе с подростковой пациенткой, страдающей от постоянного ухода в фантазирование. Следствием этого ухода, в свою очередь, является неизбежное нарушение тестирования реальности. Становится понятно, что это безобидное на первый взгляд соглашение относительно кредита стало первым звеном в цепочке отыгрываний (acting out) пациентки и аналитика. Спрашивается, что же отыгрывалось в тот момент?
Со стороны пациентки: а) обесценивание родителей, в первую очередь матери – «слабая, несостоятельная»; б) потребность в сильной, желательно всемогущей материнской фигуре; в) превращение пассивного в активное – росло давление на меня на фоне растущей зависимости и страха сепарации от аналитика; г) фантазии о собственном всемогуществе и возможности полного контроля над реальностью. Эта акция должна была позволить Ю. Т. одновременно реализовать и либидинозные (остаться в анализе, в отношениях со мной), и деструктивные (разрушить рамки анализа и тем самым поставить под угрозу сам процесс) тенденции по отношению ко мне; и те, и другие в тот период работы подвергались массивному отрицанию, так что отыгрывание оказывалось для Ю.Т. единственным способом сообщить о владеющих ею аффектах.
С моей стороны: а) тайное соглашение с пациенткой о том, что ее мать – слабая и несостоятельная; б) потребность выступить в качестве сильной всемогущей материнской фигуры; в) реальная неспособность ограничиться рамками интерпретативной активности в условиях сильного давления со стороны пациентки; г) фантазии о возможности игнорировать реальность и осуществлять анализ, невзирая на нарушения сеттинга. По-видимому, я в тот момент находилась во власти проективной идентификации на тему фантазий о всемогуществе психоаналитика, сопровождающейся отрицанием реальных негативных аспектов переноса Ю.Т. и собственного контрпереноса, а также уклонением от рефлексивной позиции по отношению к происходящему.
Помимо этого, существенную роль в нашем переговорном процессе играли мотивы доминирования и подчинения: этот конфликт Ю. Т. инсценировала в своих отношениях со мной (и с родителями), избавляясь от своих агрессивных и сепарационных импульсов также посредством проективной идентификации. В моих фантазиях Ю. Т. выглядела тогда беспомощным ребенком, остро нуждающимся в помощи, и разнообразные рационализации о необходимости оказания помощи малоимущим слоям населения успешно вытесняли из моего сознания чувства недовольства и тревоги. Сама же Ю. Т. воспринимала себя как жертву травматического опыта, помещенную по воле злого рока во враждебный мир, как пассивное беспомощное существо, от которого все хотят избавиться. Реальность ее жизни состояла в действительной невозможности оплачивать психоанализ; таким образом инсценировался ее внутренний конфликт как противостояние, с одной стороны, между ею и родителями, с другой стороны, между ею и мной. В результате я оказалась загнанной в ловушку: либо я должна признать себя такой же плохой и враждебной, как и весь мир, либо я должна уступить требованиям Ю. Т. по поводу работы в долг; третьего не дано.
Теперь мне думается: если бы я в тот момент не согласилась работать в долг, Ю. Т., скорее всего, действительно ушла бы из анализа с возросшей уверенностью в том, что весь мир против нее. Уступить требованиям Ю.Т. означало, с ее точки зрения, принять в расчет ее реальность; но в то же время это было и подтверждением ее всемогущих фантазий – и таким образом уступка и учет реальности становились бегством от реальности. Понятно, что эта уступка сама по себе тоже ничего не могла изменить в сложившейся патологической организации психики пациентки: она давала лишь шанс продолжить работу, понять и проработать фантазии, аффекты и конфликты, которые заставляли Ю. Т. причинять страдания себе и другим.
Анализ в кредит
Первое время какая-то часть денег за анализ выплачивалась, но спустя приблизительно три-четыре месяца после начала работы в кредит выплаты прекратились, так как материальное положение семьи пациентки резко ухудшилось вследствие дефолта в августе 1998 г. При этом величина моего номинального гонорара исчислялась в рублях и оставалась неизменной.
Тематически многое в анализе в тот период концентрировалось вокруг реального денежного долга, чувства вины, персекуторных фантазий и проецируемой агрессии. Сновидения пациентки были наполнены образами преследующих ее злобных персонажей, сама же она никогда не выступала в сновидениях одна, все время ее сопровождал некий двойник – подруга или мать, или еще какой-нибудь женский образ, вместе с которым она спасалась от преследователей. В ее переносе отчетливо звучал мотив вины, перемежающейся с яростью и ненавистью в мой адрес; фантазии об использовании мною ее для каких-то моих неясных целей чередовались с фантазиями о собственной ловкости и успешности, позволяющей Ю.Т. водить меня за нос. Изредка проявлялись и другие переживания, относящиеся к позитивной части спектра, – прежде всего благодарность и признательность за мое терпение и доброжелательность. Проблема доверия-недоверия стала центральной. У меня возникло ощущение, что актуализировавшийся конфликт наиболее правдоподобно описывается в терминах параноидно-шизоидной позиции: спроецированная на объект ненависть делает его отравленным и непригодным к употреблению, однако голод настолько велик, что отказаться от объекта невозможно.
Постепенно отрицаемые чувства вины и ненависти достигли такой интенсивности, что Ю. Т. вновь предприняла попытки их отреагирования. Интерпретации утратили какую бы то ни было ценность, разрозненные трансферентные реакции консолидировались в интенсивный негативный перенос, осознание которого наталкивалось на сильное сопротивление, поскольку признание пациенткой наличия негативных чувств по отношению ко мне блокировалось ее жестким архаическим Супер-Эго: нельзя ненавидеть того, кто оказывает тебе благодеяние (в форме невзимания платы за работу). Всякое упоминание об оплате и о той негативной роли в динамике переживаний Ю.Т., которую играет растущий с каждым днем долг, вызывали новую вспышку чувства вины и немедленно сменяющей ее ярости. Эта ярость получила свое выражение в ее нападках на сеттинг: Ю.Т. стала опаздывать на сеансы, которые начинались в 10 часов утра (два из пяти), требуя от меня перенести встречи с ней на более позднее время. На мою интерпретацию о том, что пять сеансов в неделю, возможно, заставляют ее испытывает слишком сильные чувства, Ю. Т. отреагировала сильным страхом: ей показалось, что я неявным образом хочу ее выгнать. Тем самым в виде трансферентной проекции обнаружилось ее собственное желание прекратить анализ, чтобы выйти из запутанной и напряженной ситуации взаимозависимости, сложившейся на тот момент.
Спустя некоторое время это желание приняло форму следующей атаки: Ю. Т. попыталась разрешить ситуацию, предложив изменить сеттинг и перейти с пяти на три раза в неделю. Такое решение должно было одновременно уменьшить интенсивность негативных чувств и замедлить темпы роста долга; эта интерпретация была отвергнута пациенткой, хотя она верно отражала попытку Ю.Т. уменьшить накал негативных эмоций. Однако Ю.Т. извлекла из моей интерпретации другой смысл: я не хочу ее отпускать. Таким образом, внутренний конфликт, проецируемый на меня (слияние – сепарация), отражал динамику сепарационных процессов пациентки в ее реальных взаимоотношениях с матерью и в актуальном переносе.
В этой фазе реальные и трансферентные чувства не поддавались разделению и различению: своим поведением благодетельницы, не требующей своевременной платы за работу, я действительно как бы подтверждала регрессивные фантазии Ю.Т. обо мне как о материнском объекте. Вследствие этого оказалось крайне затруднительным интерпретировать перенос: помимо всех тех сложностей, которые в любом случае возникают в анализе пациентов подросткового возраста, в данном случае присутствовала еще одна, созданная в результате совместного отыгрывания, направленного на сеттинг, трудноразрешимых проблем сепарации, автономии и контроля. Потребность Ю. Т. в хорошем материнском объекте под влиянием фрустрирующего опыта реальных отношений с матерью и со мной претворялась в ультимативное требование ко мне: «Россия – особая страна по сравнению со всеми другими, поэтому психоанализ здесь должен быть бесплатным». Таким путем Ю.Т. пыталась, с одной стороны, добиться от меня признания ее уникальности и исключительности для меня, а с другой стороны – рационализировать свою потребность в привязанности, осознать существование которой она была неспособна в силу доминирующего в тот момент стремления к автономии.
В тот период я уже отдавала себе отчет в том, что работа в кредит превращает анализ во взаимный обман и одновременно самообман. Трансферентные фантазии оказываются чрезмерно контаминированы реальными отношениями и не поддаются анализу в той мере, в какой это необходимо для проработки невроза переноса. Регрессивные процессы, запускаемые другими аспектами аналитического сеттинга, не имеют достаточно мощного «ограничителя» в виде регулярной оплаты и могут приобретать злокачественные формы. «Переходное пространство», позволяющее развиваться негативному переносу без угрозы обрыва анализа, утрачивается, трансферентная и «реальная» реальности смешиваются. Интересно, что Ю.Т. в эту тяжелую для нас обеих фазу анализа постоянно возвращалась к фантазии о том, что она – обманщица, которая водит меня за нос, поскольку денег в семье нет и не предвидится, и возможность вернуть достигший к тому моменту весьма больших величин долг практически отсутствует. Таким образом, речь шла о всемогуществе, которое постоянно меняло «место жительства»: то пациентка была носителем всемогущей и злой силы, а аналитик – ее жертвой, то наоборот.
В результате сложилась ситуация, в которой и пациент и аналитик оказались во власти сильных аффектов, которые не являлись однозначно трансферентными и контртрансферными. Ощущения зависимости и чувства вины, возникающие в «переходном пространстве» переноса и контрпереноса, массивно подтверждались реальными взаимодействиями и порождали фантазии об отношениях должника и кредитора, с одной стороны, и двух мошенников, один из которых продает фальшивый товар, а другой платит за это фальшивым чеком, – с другой. Помимо того присутствовало чувство злости и фрустрации от неоправдавшихся ожиданий – как у пациентки, так и у меня.
Надо сказать, что поскольку работа с Ю. Т. проводилась под постоянной супервизией, то ситуация, видимо, была симметричной: пациентка вне своего анализа чувствовала давление со стороны матери, которая не в состоянии была платить за ее анализ и настаивала на его прекращении или каком-либо другом выходе из тупика, в то время как я также ощущала сильное давление – со стороны супервизора, который настаивал на невозможности аналитической работы в условиях такого нарушенного сеттинга. И это «симметричное» давление являлось еще одним фактором, увеличивающим напряжение в аналитическом пространстве. Необходимо было восстановить сеттинг, восстановить возможность аналитической работы, и сделать это как можно скорее, поскольку у меня не оставалось уже никаких сомнений в непродуктивности продолжения такого мнимого анализа.
Конец кредита
На одном из сеансов я высказалась о насущной необходимости пересмотреть финансовую договоренность и о невозможности продуктивной работы в существующих рамках. Это прозвучало для Ю. Т. как гром с ясного неба: то смешение реального и трансферентного, в котором она пребывала, позволяло ей сделать один-единственный вывод: ее выгоняют! Ее смятение не имело границ, никакие доводы рассудка не доходили до ее сознания. На мое предложение подумать о той реальной сумме, которую она могла бы платить за каждый сеанс, Ю.Т. откликнулась регрессией к инфантильному состоянию беспомощности и затем вспышкой ярости. Она отказывалась воспринимать возможность обсуждения величины гонорара и перспективу замораживания долга, открывавшуюся благодаря моему предложению. Ее фантазии о плохом объекте, плохой матери, которая отказывается от своего ребенка, получили свое полное подтверждение – вот то единственное переживание, которое было ей доступно в тот момент. Гремучая смесь чувства вины и ненависти требовала от нее каких-то действий. Она заявила, что ей надо подумать. На следующий сеанс Ю. Т. не пришла.
Отыгрывание в виде атаки на сеттинг развернулось в полной мере, т. е. сеттинг как таковой был сметен – вместе с анализом, так как Ю.Т. не появлялась и не звонила в течение трех недель. Мои фантазии по поводу нее в этот период концентрировались в основном на ее ярости и протесте; мне не приходило в голову, что она, например, могла покончить с собой или попасть в больницу. Гораздо более вероятной казалась мысль о том, что она вне себя от злости и жаждет наказать меня своим отсутствием, а кроме того, мне приходила в голову идея о том, что ей хочется попробовать, сможет ли она прожить без меня и без анализа. Иными словами, обрыв анализа не казался мне окончательным, а выглядел, скорее, как попытка испытать и утвердить свою автономию в ответ на мой отказ поддерживать ее иллюзию об идеальных отношениях «мать-ребенок». Наконец, я не сомневалась и в том, что Ю. Т. рано или поздно соберется отдать мне долг.
Ю. Т. позвонила мне, как было сказано, через три недели после своего внезапного исчезновения и сообщила, что хочет вернуть часть денег из своего долга. Мы назначили встречу, Ю. Т. пришла вовремя. Я не была уверена, что эта встреча запланирована ею как сеанс; мне казалось вполне вероятным, что она лишь передаст мне деньги и тут же распрощается, однако Ю.Т. действовала иначе. Она прошла в комнату, огляделась – все было по-прежнему – и сказала строптиво: «Сегодня я не буду ложиться на кушетку». Она уселась в кресло, положила на стол деньги (приблизительно одну шестую от всей суммы[23]), заявила, что постепенно вернет весь долг, и начала говорить о произошедшем разрыве наших отношений.
Согласно ее версии, имело место следующее: я разозлилась на нее за то, что она хотела сократить количество сеансов с пяти до трех в неделю, а также за то, что она правдиво говорила о своем недоверии ко мне; мое терпение кончилось, и я решила ей отомстить, потребовав деньги, что было абсолютно несправедливо по отношению к ней. Изложив это, Ю. Т. заинтересованно спросила, что же я думаю обо всем этом.
Ее интерпретация показалась мне любопытной: все-таки она склонялась к мысли, что это я хочу ее удержать и нуждаюсь в ней, а не наоборот. Разумеется, эта фантазия долгое время подкреплялась моим согласием работать бесплатно, однако ее сегодняшний визит противоречил такому утверждению. Вот еще одно следствие работы в кредит: теряются реальные представления о том, кто без кого не может выжить, мать без ребенка или ребенок без матери; та симметрия отношений, которая царит в бессознательном (Кейсмент, 1995), как будто подтверждается во взаимодействиях пациента и аналитика. Кроме того, Ю.Т. в своем понимании динамики разрыва исходила из того, что я «тоже человек», т. е. разрыв заставил ее пересмотреть идеализированное и одновременно дегуманизированное представление обо мне, в соответствии с которым Ю. Т. прежде отрицала саму возможность переживания мною каких бы то ни было чувств по поводу происходящего: «Вы профессионал, значит, не должны ничего чувствовать». Возможно, ближайшим результатом этого пересмотра должно было стать обесценивание – противоположный полюс искажения объектных репрезентаций.
Так или иначе, появление Ю. Т. после трехнедельного перерыва я восприняла как в целом прогрессивное движение в сторону построения наших отношений на более реалистической основе. Мои предположения относительно ее потребности испытать и отреагировать возможность автономного функционирования также подтвердились: Ю. Т. заявила, что она, наверное, хочет продолжать анализ, однако еще не приняла по этому поводу никакого решения и не хочет договариваться ни о каких сроках, после чего тут же осведомилась о дате моего возвращения. (Надо упомянуть, что эта встреча происходила за два дня до моего очередного отъезда, о котором Ю.Т. была осведомлена еще до обрыва анализа, так что ее появление именно в те дни объяснялось ее несомненным желанием выяснить конкретную дату моего приезда и «навести мосты» для последующего восстановления отношений.)
Наша следующая встреча состоялась примерно через десять дней после моего возвращения. Началась новая фаза работы в рамках нового сеттинга – три раза в неделю, с непременным условием регулярной своевременной оплаты сеансов. Тут бы и сказке конец, если бы не одно «но»: эта оплата является исключительно низкой по сравнению со средними величинами гонораров за психоаналитический сеанс, фактически символической. И хотя для семьи Ю.Т. эта сумма, помноженная на три раза в неделю, представлялась вполне значимой, сама Ю.Т., осведомленная об актуальной стоимости одного часа психоанализа в Москве, была преисполнена самыми разнообразными чувствами по поводу размера оплаты – от чувства вины до ощущения своего триумфа. Но это уже другая история – история психоанализа за символическую плату.
Заключение
В этой работе мне хотелось поделиться своими соображениями по поводу возможности осуществления психоаналитической работы при несоблюдении стандартных соглашений сеттинга. Мой опыт свидетельствует о том, что игнорирование условия обязательности оплаты анализа стирает грань между «переходным пространством», создаваемым внутри аналитической рамки, и пространством реальных отношений пациента и аналитика, и тем самым прямо и непосредственно влечет за собой разрушение анализа. При этом договоренности об отсроченной оплате приобретают эфемерный характер и фактически не играют сдерживающей роли в развитии фантазий всемогущества и отсутствия границ. В случае пациентки Ю.Т. этот процесс проступил особенно отчетливо в силу ее личностной психопатологии и возрастных особенностей. Характерная для Ю.Т. тенденция к уходу от контакта с реальностью для защиты от невыносимых страхов и напряжения (так называемая защитная организация личности – Steiner, 1993) проявилась в ее стремлении к отрицанию реального компонента взаимодействий с аналитиком. Анализ в кредит стал по сути бесплатным анализом и утратил свою способность предоставлять пациентке «переходное» или «игровое» пространство при сохранении границы между реальными и «as if» отношениями, в результате чего связь Ю. Т. с реальностью еще больше ослабела. Восстановление сеттинга повлекло за собой крушение иллюзорных отношений, которые были тесно переплетены с реальными, и потому часть реальных отношений – терапевтический альянс – тоже оказалась под угрозой. Тем не менее в данном случае реальные отношения в конечном итоге уцелели и позволили продолжить аналитическую работу.
Литература
Кейсмент П. Обучаясь у пациента. Воронеж: НПО «Модэк», 1995.
Кернберг О. Тяжелые личностные расстройства. М.: Класс, 2000.
Томэ Х., Кэхеле Х. Современный психоанализ. М.: Прогресс, 1996. Т. 1, 2.
Erle J. B. On the Setting of Analytic Fees // Psychoanalytic Quarterly. 1993. V. LXII. P. 106–108.
Laufer M., Laufer M. E. Adolescence and Developmental Breakdown. New Haven: Yale Univ. Press, 1984.
Muller-Pozzi H. Zur Handhabung der Ubertragung in der Analyse von Jugendlichen // Adoleszenz und Identitat / W. Bohleber (Hg.). Stuttgart, 1996.
Rothstein A. Psychoanalytic Technique and the Creation of Analysands: On Beginning Analysis with Patients Who Are Reluctant to Pay the Analyst’s Fee // Psychoanalytic Quarterly. 1995. V. LXIV. P. 306–325.
Steiner J. Psychic retreats. Pathological Organizations in Psychotic, Neurotic and Borderline Patients. London: Routledge, 1993.
Реконструкция психической травмы: восстановление связи времен и событий
Тема статьи сформулирована таким образом, что заставляет задуматься о смене вех, понятий, парадигм в психоанализе: от теории травмы к представлению о внутрипсихическом конфликте и далее к концепции дефицита. Как интерпретировать эти изменения, как их понять и преподнести, зависит от точки зрения интерпретатора. История психоанализа, как и история вообще, распадается на три составляющие: на историю, которая происходит; историю, которая рассказывается участниками и очевидцами; и исторические исследования и труды. Наивно было бы надеяться, что исторический труд может безошибочно отразить историю, которая происходит: исторический факт как таковой, хотя и безусловно существует, не может быть описан вне какой бы то ни было концепции, эксплицитной или имплицитной. Описания и значения событий то неуловимо, то явственно пересматриваются и изменяются в зависимости от реального социально-исторического контекста; гротескным и внушающим страх примером служит государственно санкционированное переписывание истории в антиутопии Дж. Оруэлла «1984» с подменой старых газет и фотографий.
По сути, с тем же самым мы имеем дело применительно и к понятиям любой науки, в частности, психоанализа. Выстраивание новых концепций и моделей ведет к ревизии ряда прежних понятий: их содержания, связей с другими понятиями, места в общей теории.
К их числу в психоанализе относятся травма, конфликт, нарциссизм, тревога и ряд других.
В данной статье мы останавливаемся на понятии травмы. Это было одно из первых и центральных понятий, которое Фрейд ввел около 120 лет назад и переосмысливал затем на протяжении всей жизни. М. Хан (The concept…, 1963) предложил различать пять стадий аналитического понимания травмы в работах Фрейда и его последователей. Это разделение отчасти условно, поскольку одна стадия не отменяет другую, они сосуществуют, усиливая, корректируя друг друга и усложняя психоаналитическую метапсихологию.
1. 1885–1905 гг. Фрейд постулирует базовые концепты психоанализа: работа сновидения, первичные и вторичные процессы, психический аппарат, и т. д., среди которых травма играет очень существенную роль (напр., в работе «О психическом механизме истерических явлений» 1893: Freud, 1962). Она понимается как: а) фактор окружения, который воздействует на Эго и с которым Эго не может справиться путем отреагирования или ассоциативной переработки; б) как состояние застоя либидинальной энергии, которую Эго не может привести к разрядке. Парадигмой этой травматической ситуации является сексуальное соблазнение.
2. 1905–1917 гг. Осуществляется систематическая разработка представлений об инфантильном сексуальном развитии и психоаналитической метапсихологии (Freud, 1957а, б, в, г, д). Парадигмальные травматические ситуации – это: а) страх кастрации; б) сепарационная тревога; в) первичная сцена; г) Эдипов комплекс. Травма относится к силе и безотлагательности сексуальных инстинктов и борьбе Эго против них. При этом конфликты и, следовательно, травмы, рассматриваются в терминах бессознательных фантазий и внутренней психической реальности.
3. 1917–1926 гг. Фрейд вводит принцип навязчивого повторения в его связи с инстинктом смерти. Понятие травмы приобретает межсистемный и инстинктивный характер. Обширная литература о вине, мазохизме, меланхолии, депрессии, внутренней тревоге дает представление об этом понимании. Фрейд пишет в те годы («По ту сторону принципа удовольствия», 1920): «Защита от стимулов едва ли не более важна для организма, чем восприятие стимулов. Охраняющий щит располагает собственным запасом энергии и должен прежде всего стремиться сохранить свойственные ему специальные способы преобразования энергии, направленные против воздействия угрозы со стороны огромных энергий, поступающих из внешнего мира» (Freud, 1950, S. 27). Травматическое – это «возбуждения, приходящие извне, которые оказываются достаточно мощными, чтобы пробить охраняющий щит. Мне кажется, что понятие травмы непременно подразумевает такого рода связь с прорывом обычно эффективного барьера против стимулов. Такое событие, как внешняя травма, в состоянии вызвать разнообразные нарушения функционирования энергии организма и запустить всевозможные защитные мероприятия» (ibid., S. 29).
4. 1926–1939 гг.: ревизия понятия тревоги и формирование эгопсихологии. Фрейд четко различает травматические ситуации и ситуации опасности, которым соответствуют два типа тревоги: автоматическая и сигнальная, предупреждающая о приближении травмы («Торможение, симптомы и страх», 1926: Freud, 1959). «Фундаментальной детерминантой автоматической тревоги является наличие травматической ситуации, ее сутью является переживание беспомощности со стороны Эго перед лицом накапливающегося возбуждения… существуют различные специфические опасности, которые могут обрушиться на человека в различные фазы жизни. Коротко их можно перечислить таким образом: рождение, потеря матери как объекта, потеря пениса, потеря любви объекта, потеря любви со стороны Супер-Эго» (Strachey, 1959, p. 79). Благодаря ревизии понятий «тревога» и «травматическая ситуация» беспомощность становится центральным переживанием в понятии травмы. Таким образом, интрапсихические, межсистемные и внешние источники травмы интегрируются в единое понятие.
5. С 1939 г. до 1960-х годов: М. Хан относит к этой стадии развития психоаналитического понимания травмы работы А. Фрейд, Х. Гартманна и ряда других авторов, которые, делая акцент на взаимоотношениях ребенка с матерью как важнейшей детерминанте психического развития, задают совершенно иной угол зрения в обсуждении психической травмы (Khan, 1974). К этим авторам принадлежит и сам М. Хан (Khan, 1963), предложивший понятие «кумулятивной травмы» как результата постоянных неудач матери в выполнении ею функции так называемого «охраняющего щита», вследствие чего ребенок постоянно переживает психическое напряжение, которое не столько нарушает развитие, сколько отклоняет его, накапливаясь невидимо и неощутимо.
В настоящее время понятие травмы расширилось, его границы оказались размыты и потому, что его использование вышло далеко за пределы психоанализа, и потому, что современные психоаналитические концепции оперируют понятием травмы в различных смысловых контекстах. Дж. Сандлер и его сотрудники (Sandler et al., 1991), исследуя его в рамках изучения психоаналитических понятий, обнаружили, что понятие психической травмы используется как минимум в четырех разных смыслах: а) как психическое последствие, психическое повреждение вследствие внешнего события; б) как болезненное сверхсильное событие; в) как болезненное значимое событие; г) как нозологическая категория. Они же выработали область значений этого понятия, описываемую категориями «травматическая ситуация» (связь событие – переживание) и «последствия травмы». В данной статье понятие травмы употребляется именно в этом втором значении – как психические последствия некоего (экстремального) опыта.
О травме говорить трудно прежде всего потому, что она представляет собой совершенно специфическое психическое явление, лишенное структуры и смысла. Ряд авторов, указывая на «экстерриториальный» характер психической травмы, метафорически описывает ее как «дыру в психическом» (см., напр.: Reemtsma, 1996). Под этим подразумевается следующее: в силу своей болезненности и интенсивности травматический опыт выходит за пределы возможностей субъекта по переработке этого опыта; суть же переработки заключается в приписывании смыслов и значений происходящему. В результате травма оказывается вне системы значений, т. е. где-то в таком месте, где значений больше не существует или никогда не существовало. Локализовать травму невозможно, неважно, будем мы использовать топическую или структурную модель психики; отсюда и представление о ее экстерриториальности. Данные нейробиологических исследований подкрепляют это представление: экстремальный опыт сохраняется в других структурах мозга, нежели повседневный, там, где он оказывается недоступен семантической переработке.
Что же остается? Остаются многочисленные возможности невербальной или довербальной передачи травматического переживания, т. е. через развитие психосоматического, психического или поведенческого расстройства, через формирование невротического симптома, через построение дезадаптивных межличностных отношений. Наверно, это не полный перечень способов репрезентации травмы; так, например, немецкий психоаналитик Ротраут ДеКлерк убедительно показала (De Clerck, 2001), что роман французского писателя по имени George Perec (Жорж Перек) «La Disparition» («Исчезновение»), написанный по-французски таким образом, что там нет ни одной буквы «е», представляет собой репрезентацию и одновременно попытку преодоления нарциссической травмы. Разумеется, имеют место разнообразные сублиматорные способы преодоления; в нашем рассмотрении мы ограничимся, однако, репрезентацией травматического опыта и психопатологическими вариантами развития реакции на травму, потому что в клинической работе именно с ними приходится постоянно иметь дело. Более того, в фокусе нашего внимания будут последствия травмы, имевшей место в довербальный период развития ребенка, т. е. так называемой ранней травматизации.
Если травма представляет собой потерю значения и символа, то задача психоанализа – восстановление и исцеление травматического опыта, т. е. придание ему значения путем символизации. Применительно к ранней травме это означает осуществление категоризации сенсорных и аффективных переживаний, интеграции их с другими переживаниями в некий связный нарратив и последующей передачи посредством языка. Преобразование травмы, т. е. пошаговое выстраивание ее внутрипсихической репрезентации, происходит путем конструирования и реконструирования психической реальности в ходе анализа, и здесь мы подходим к еще одному ключевому понятию: что такое реконструкция, что реконструируется и зачем?
В самом общем виде можно сказать следующее: подобно тому, как различают историю, которая происходит, и историю, рассказанную участниками или очевидцами, в психоанализе вслед за Д. Спенсом (Spence, 1982) различают так называемую историческую и нарративную правду. Под исторической правдой понимается реальное событие детства, например, рождение следующего ребенка, смерть кого-то из близких, переезд и т. п. Под нарративной правдой подразумевается изложение истории жизни пациента, в котором в той или иной степени связаны причины и следствия, проинтерпретированы события жизни, благодаря чему становятся объяснимыми свойства характера. Примером нарративной правды могут служить психоаналитические описания клинических случаев; семейные мифы пациентов, несмотря на их «ненаучную» природу, тоже представляют собой разновидность нарративной правды постольку, поскольку выступают как собрание фактов и претендуют на интерпретацию событий.
Понятно, что в процессе психоанализа восстановить историческую правду, т. е. историю как она есть, во многих случаях просто невозможно. Так, мы никогда не узнаем, какими на самом деле были родители пациента и как они на самом деле обращались с ним.
Поэтому, говоря о реконструкции, мы имеем в виду восстановление какой-то другой правды, а именно – психологической, нарративной. Что касается реконструкции ранней травмы, то здесь аналитик представляет себе, конструирует или реконструирует ощущения, чувства, фантазии и мысли пациента, имевшие место при травматическом событии, а затем предлагает пациенту эту реконструкцию.
Предполагается, что пациент сможет воспользоваться этой конструкцией для исцеления своей травмы, т. е. для заполнения той самой «дыры» в своей психической структуре, в структуре Эго, как своего рода пломбировочным материалом. Получается, что собственная нарративная правда пациента, т. е. его собственная версия травматического события, должна быть заменена на реконструированную. Ведь достаточно редко бывает, что пациент совсем ничего не знает и не может сообщить о своем травматическом опыте, – диссоциация или массивное вытеснение все же оставляют хоть какие-то следы в сознании, на основе которых пациент сообщает, что некая (скорей всего, психотравмирующая) ситуация имела место: например, в возрасте 12 месяцев родители отправили его в другой город к бабушке, где он жил до школы; или в два года его положили на два месяца в больницу, кажется, в связи с астмой. Обычно на тему подобного события в семье существует более или менее развернутый нарратив, чаще всего, некритически воспринятый пациентом; этот нарратив выполняет сразу несколько важных функций как в рамках семьи, так и в пределах психической структуры пациента.
Здесь возникает два вопроса: во-первых, каковы функции конструкции, выстроенной пациентом, чем детерминировано ее стойкое существование, содержит ли она что-то продуктивное, прогрессивное, что можно будет встроить в аналитическую реконструкцию, и если да, то каким образом. Во-вторых, ради чего надо заменять собственную конструкцию пациента на новую, или, вернее, чем отличается психоаналитическая (ре) конструкция от собственной нарративной правды пациента?
Ответим сначала на второй вопрос. Реконструкция – это особая форма интерпретации, являющаяся частью психоаналитического процесса. Фрейд ввел термин «конструкция» (1937) или «реконструкция» (используя оба эти термина)[24] с определенной целью: защитить и прояснить правильность процесса интерпретации в психоанализе. Реконструировать какое-либо событие вместо того, чтобы дать пациенту его вспомнить, представляло серьезный вызов взглядам Фрейда на теорию техники и патогенеза. «Как известно, цель аналитической работы – подвести пациента к тому, чтобы он вновь устранил вытеснения… своего раннего развития, чтобы заменить их реакциями, которые соответствовали бы состоянию психической зрелости. С этой целью он должен снова вспомнить определенные переживания и вызванные ими аффективные побуждения, которые теперь им забыты». (Фрейд, 2008, с. 395). И далее: «Путь, который ведет от конструкций аналитика, должен закончиться воспоминанием анализируемого; но он не всегда заходит так далеко. Довольно часто пациента не удается подвести к воспоминанию вытесненного. Вместо этого при правильном проведении анализа у него появляется прочное убеждение в истинности конструкции, которая в терапевтическом отношении делает то же самое, что и вновь обретенное воспоминание. При каких обстоятельствах это происходит и каким образом становится возможным, что внешне несовершенный суррогат все же оказывает полное действие, – это остается материалом для последующего исследования» [курсив мой. – Е. К.] (там же, с. 403). Вот тот вопрос, решению которого посвящена данная работа.
Парадигматическим примером психоаналитической реконструкции является случай Человека-Волка; правда, для одних авторов он служит подтверждением правильности психоаналитической реконструкции, а для других, напротив, демонстрацией невозможности реконструкции прошлого в психоанализе. Последней точки зрения придерживаются, например, Д. Спенс (Spence, 1982) и Р. Шефер (Schafer, 1983): они считают, что аналитик, будучи не в состоянии реконструировать прошлое, может лишь предложить пациенту свою конструкцию этого прошлого[25].
Важно отдавать себе отчет, что реконструкция восстанавливает не событие жизни, а событие психической жизни индивида. Аффективная память пациента о прошлом, в каком бы виде она ни была репрезентирована в его настоящем, – в виде сознательных воспоминаний, фантазий, трансферентных отыгрываний – воспроизводит его прошлый опыт, позволяя таким образом реконструировать его. Реконструкция помогает в аналитической реставрации континуальности и связности личности пациента, но она фундаментально важна и для аналитика. Аналитик неизбежно постоянно реконструирует аспекты инфантильной жизни пациента, чтобы понять его актуальное расстройство и осознать, как из ребенка вырос именно такой взрослый и как в этом взрослом продолжает жить нарушенный ребенок (Blum, 1980). Обратимся теперь к конкретному клиническому материалу, чтобы показать, каким образом функционировали собственные реконструкции пациентки, относящиеся к травматическим событиям ее детства, и какие психоаналитические конструкции и реконструкции пришли им на смену.
Пациентка Р., придя ко мне на консультацию, стала жаловаться на депрессивное состояние, чувство одиночества, апатию, суицидальные мысли, неспособность продолжать учебу в вузе. Ее поведение во время консультации составляло разительный контраст к этим жалобам: она была явно заинтересована, задавала множество вопросов, стремилась завладеть инициативой в разговоре, кокетничала и бросала мне вызов. Спустя некоторое время после этой встречи она позвонила, и мы договорились о терапии. На первых же сеансах Р. сообщила мне, что причиной ее «депрессивного состояния», а также недоверия к миру вообще является ее пребывание в больнице в возрасте восьми лет. Это событие, по ее словам, оказало большое влияние на ее развитие: из сильного, здорового, жизнерадостного и способного ребенка она превратилась во «взрослого», которому известно, «что почем» в этом мире, который никому не верит и сам готов обманывать и воровать. В больнице она узнала, что врачи – это садисты, научилась ненавидеть и красть и поняла, что ее родители – слабые, беспомощные люди, а мать, кроме того, еще и предательница. Врачам наплевать на детей, как и родителям, которые даже не понимают, какой вред детям они причиняют; родители совершают преступление, заводя детей, поскольку обрекают их на муки. Больница – это лагерь, «зона», она побывала на этой «зоне» и видит, что весь мир – это больница. И теперь, понимая это, она не может назвать причин, по которым стоило бы жить, к чему-то стремиться, добиваться успеха.
Вот такую историю сообщила мне пациентка; она была убеждена в полной адекватности своих представлений, и ее не смущал тот факт, что пребывание в больнице имело место почти 15 лет назад: эта история переживалась ею как «историческая правда», не подлежащая ни пересмотру, ни даже сомнению. На меня ее рассказ произвел сильное впечатление, в первую очередь, своей неопровержимостью и неподвластностью времени и критике, невозможностью различить и развести реальность (которая действительно бывает довольно жестокой) и паранойяльные фантазии, а также сверхвысокой концентрацией негативного аффекта.
Ясно, что нарратив Р. посвящен психотравмирующему событию; такого рода проявления описаны у Т. Огдена в его работе, посвященной потенциальному пространству (Ogden, 1985). Одной из форм патологии потенциального пространства как диалектического единства реальности и фантазии является крен в область фантазии: субъект заточен в область нереальных объектов как вещей в себе. Это двухмерный мир, который переживается как собрание фактов. Все является таковым, каково оно есть, и не означает ничего другого. Мысли, фантазии, собственные желания и восприятие других людей переживаются совершенно конкретно. Имеют место примитивные, конкретные представления о «немыслимом»: мир – это больница, больница – это лагерь. И то, и другое не метафоры, как мы могли бы подумать, в сознании пациента царит однозначность, модальность метафоры отсутствует. Согласно Огдену, такое нарушение функционирования потенциального пространства отражает нарушение функции символизации (символ и символизируемое не различаются) и является признаком травматического опыта.
С самого начала мне казалось маловероятным, чтобы одно это трехнедельное пребывание в больнице в возрасте восьми лет могло так травмировать пациентку; по-видимому, история про больницу представляет собой некую реконструкцию. Тогда прежде всего бросается в глаза защитная функция этой реконструкции: она позволяет рационализировать отсутствие социальной активности и низкий уровень достижений, экстернализовать агрессивные импульсы и обесценить сексуальность. Эта эффективная или даже сверхэффективная защита блокирует психическое развитие Р.: Эго оказывается чрезвычайно обедненным, все, что может быть энергетически заряжено, вынесено вовне, а то, что осталось в распоряжении Эго, – пассивная агрессия, уход в фантазии – не обеспечивает прогрессивного движения. В контрпереносе давление «больничного» нарратива временами вызывало желание взломать эту лишенную жизни конструкцию как коросту или скорлупу, под которой хотелось обнаружить что-то живое и жизнеспособное.
Это контртрансферное переживание наводило на мысль о том, что данный нарратив являлся покрывающим воспоминанием. Само это понятие – покрывающие воспоминания – определено в литературе не вполне точно. Несмотря на то, что многие наблюдатели называют ряд характерных особенностей, указывающих на присутствие покрывающих воспоминаний: необычно живые и точные подробности; совершенно несущественные подробности; невозможные детали, и ряд других, – различить покрывающие и обычные воспоминания достаточно сложно. Дж. Арлоу (Arlow, 1991) пишет, что покрывающие воспоминания – это компромиссные образования, которые представляют собой попытку не вспоминать то, что индивид не может забыть (звучит парадоксально!) Они возникают в связи с травмой, а сопровождающие их фантазии динамически проявляются в материале, выбираемом для покрывающих воспоминаний. В том месте, где пациент как будто готов вспомнить событие (или фантазию), связанное с травмирующими переживаниями, вместо реального создается покрывающее воспоминание, которое представляет собой более-менее успешную попытку пациента реконструировать травматическое событие, символизировать травматический опыт. В результате приходится признать двоякую функцию «больничного» нарратива: с одной стороны, это массивная защита, сродни патологической личностной организации по Дж. Стайнеру (Steiner, 1993), обеспечивающая стагнацию психического развития; а с другой стороны, это все же попытка символизации травмы, т. е. затыкания не поддающейся символизации «психической дыры», и потому представляет собой шаг в прогрессивном направлении.
Обратимся снова к материалу, который Р. предоставила в мое распоряжение. Приблизительно через 2–3 недели после начала работы она принесла мне любопытный письменный документ, как оказалось, что-то вроде сочинения, написанного ее матерью, о первых годах жизни Р. Из этого документа я узнала, что в возрасте 3–4 недель пациентка была госпитализирована в связи с тяжелой диспепсией: молоко ее матери содержало стафилококк. Она провела в грудничковом отделении детской больницы около трех недель, в полной изоляции от матери, после чего ее выписали домой. Моя реконструкция не заставила себя ждать ни минуты: именно это пребывание в больнице носило травматический характер! Вот она, исходная травма: ранняя сепарация, причиняющая вред ребенку сама по себе, усугублялась болезненными процедурами и, скорей всего, невнимательным, лишенным ласки и тепла, безличным и бездушным уходом со стороны медицинского персонала. Надо сказать, что у Р. имелась на этот счет тоже некая реконструкция, правда, как мне кажется, не ее травмы, а переживаний ее матери. Пациентка к фактологии, изложенной матерью, добавила «семейную мифологию»: согласно легенде, больничные врачи в какой-то момент отказались от лечения Р. по причине почти полной безнадежности ее состояния, но указали, что есть какое-то лекарственное средство, которое необходимо найти в течение трех дней, иначе ребенок погибнет. Мать и бабушка обзвонили все аптеки Москвы, нашли чудо-средство, выкармливали ребенка, ухаживали – и ребенок выжил.
В этом семейном мифе нет ни слова о переживаниях самого младенца, но из него легко реконструировать болезненные чувства матери: ее чувство вины за недоброкачественное молоко, ее бессилие и пассивное страдание, которое затем сменяется активным преобразованием «плохой реальности» в «хорошую». Очевидно, что у пациентки нет собственных сознательных воспоминаний об этом событии; очевидно, что эта ранняя травма должна была оставить след в ее психике; понятно также, что госпитализация в возрасте восьми лет оказалась повторением той ранней травмы, за исключением того, что в этот раз не было никакой угрозы жизни Р.: ее положили в больницу на обследование в связи с подозрением на пиелонефрит. Исходя из этого, можно предположить, что «больничный» нарратив действительно представляет собой репрезентацию раннего довербального опыта пациентки: «врачи-садисты», мать-предательница, безжизненность самой Р. – все это находит место в «больничном» нарративе и служит способом выражения, примитивной символизацией травматического опыта первых недель жизни. Получается, что способ совладания с травмой, с «дырой» в психическом, превратился в западню, из которой нет выхода; реконструкция, созданная самой пациенткой, приносит ей больше вреда, чем пользы. «Больничный» нарратив является не только реконструкцией травмы, пережитой в возрасте нескольких недель, само содержание этого нарратива, его резистентность к доводам рассудка, а также отражение различных компонентов нарратива в переносе, развивающемся в процессе анализа, наводит на мысль, что он отражает не только травматический опыт в грудном возрасте, но и дальнейшие переживания детства, связанные с первичными объектами.
Здесь нам опять должен помочь клинический материал.
На одном из первых сеансов Р. сообщила мне о своих актуальных отношениях с отцом: она с ним не разговаривает, игнорирует его присутствие, боится оставаться с ним одна дома, когда мать уходит. Причины такого ее отношения в том, что когда Р. было 15 лет, отец, с ее точки зрения, совершил попытку изнасилования. Вот как это было: они всей семьей отдыхали летом в деревне у бабушки, и однажды отец, будучи в состоянии легкого алкогольного опьянения, предложил ей поучиться водить машину. Она согласилась, села за руль, они поехали по дороге. В какой-то момент он положил ей одну руку на плечо, а другую на колено. Р. сразу поняла, что он намеревается ее изнасиловать, велела ему немедленно убрать руки, отец не послушался, тогда она поняла, что ничего другого ей не остается, кроме как разбить машину, убить себя и его. Она нажала на газ и направила машину на стоявшее неподалеку дерево. Отец испугался, немедленно убрал руки, вырвал у нее руль и предотвратил аварию. Р. вышла из машины и бросилась домой, к матери, рассказала ей о том, как отец только что хотел ее изнасиловать, но мать не поверила. С тех пор пациентка прекратила всякое общение с отцом.
Перед нами снова нарратив, повествующий о психотравмирующих событиях. Снова сложно поверить в достоверность описания этих событий: по-видимому, историческая правда неразделимо соединилась с фантазиями, на этот раз инцестуозными. Опять речь идет о жизни и смерти, о преследовании, насилии, вине и предательстве; различие нарративов – «больничного» и «об изнасиловании» – состоит в том, что во втором случае фантазии имеют сексуальное содержание. Мать по-прежнему предательница, роль садиста и сексуального насильника принадлежит отцу, Р. снова беспомощна. Как отнестись к этому рассказу? Считать ли его продолжением, «вторым изданием» репрезентации ранней травмы? Или реконструкцией разрешения эдипального конфликта? Тогда следует думать, что эдипальный конфликт пациентки разрешается путем проекции на отца и либидинозных, и агрессивных импульсов, в результате чего собственное Эго пациентки обедняется, лишаясь обоих этих влечений. Опять мы имеем дело с реконструкцией, которая функционирует как защитная личностная организация, нейтрализуя опасные агрессивные и сексуальные импульсы ценой ослабления Эго.
Важно еще отметить, что в промежутках между сообщаемыми психотравмирующими событиями в жизни пациентки не происходит почти ничего, достойного ее внимания. Она почти не помнит своего дошкольного детства, за исключением нескольких эпизодов, но твердо убеждена в том, что оно было счастливое; рассказывается так же мало историй, относящихся к промежутку между восемью и пятнадцатью годами. Возникает впечатление разрозненности представлений Р. о своей жизни: события оказываются ничем не мотивированными и не подготовленными, лишенными внутренней связи. По-видимому, именно травматизация дает о себе знать в виде этих разрывов непрерывности; «дыры в психическом» проявляются как необъяснимые пробелы в истории жизни, последовательности переживаний и психологической подоплеке внешних событий.
Остановимся теперь на том факте, что общим знаменателем обоих травматических нарративов является фигура «мать-предательница». Можно предположить, что причина формирования данной фигуры – молоко матери, которое оказалось отравленным почти буквально: его употребление реально угрожало жизни пациентки. То обстоятельство, что мать тем не менее сумела обеспечить выживание Р., ничего не меняет, потому что в какой-то момент пациентка сделала выбор в пользу фантазий преследования со стороны «плохих» объектов и соответствующих им объектных репрезентаций. В «больничном» нарративе мать предает пациентку, оставляя ее одну во власти врачей-садистов, угрожающих инъекциями и требующих безоговорочного подчинения; в нарративе «об изнасиловании» мать также покидает пациентку, которая оказывается наедине с отцом, намеревающимся осуществить сексуальную пенетрацию. И в том, и в другом случае Р. по существу остается один на один с «отравленным», «испорченным» образом матери, который не защищает ее; именно так оно и было во время того первого пребывания в больнице в возрасте 4–6 недель. Ранняя сепарация зафиксировалась в виде стойкой фантазии о предающей матери, переходящей почти в неизменном виде из одного нарратива в другой и не поддающейся или не подлежащей пересмотру[26]. Исходя из этого, можно было бы сформулировать приблизительно следующую реконструкцию: неспособность матери кормить пациентку грудью и ее последующее отсутствие на протяжении нескольких недель пребывания пациентки в больнице чрезвычайно усилили и закрепили переживаемый младенцем (даже при самых благоприятных обстоятельствах) физический и психический дискомфорт, что нашло свое отражение в неспособности пациентки интернализовать мать как хороший объект, а также в интенсификации агрессивных чувств и влечений по отношению к матери. Следствием этого является расщепление образа матери на «плохую», активную, преследующую, садистическую часть и пассивную, слабую, недееспособную; «активная» часть при этом проецируется на окружение, «пассивная» – на мать.
Поскольку реконструкция вне трансферентного контекста превращается в альтернативную умозрительную спекуляцию, уместно вновь обратиться к клиническому материалу и выяснить, насколько предложенные здесь положения согласуются с фантазиями и отыгрываниями аффективного опыта пациентки в переносе, т. е. динамически проявляются в ее актуальном взаимодействии с аналитиком.
Уже на четвертом сеансе у пациентки возникли фантазии о возможном «удочерении» мною: размышляя о моем семейном положении, она высказала гипотезу о том, что у меня, наверно, есть ребенок, но, вероятно, мужского пола, «потому что мамы девочек выглядят иначе». Она, таким образом, бессознательно «примерила» меня на роль своей матери и сразу же усомнилась в моей «профпригодности». Почти одновременно с этим она начала приписывать мне садистические импульсы: «Вы же врач, а врачи всегда причиняют боль», а также осуществлять (пока незначительные) нападки на сеттинг в виде опозданий и несвоевременной оплаты, предъявляя мне при этом самые разнообразные требования «по уходу за ней». В контрпереносе я чувствовала, что эти требования, запросы, сила влечений и нетерпение пациентки меня перегружают, как если бы я была молодая неопытная мама, не способная угадать потребности своенравного младенца и угодить ему.
Однако на следующем этапе, когда частота сеансов увеличилась до пяти раз в неделю, напряженность взаимоотношений многократно возросла. Фантазии пациентки развивались в двух противоположных направлениях: а) психоаналитики должны работать бесплатно, т. е. «усыновлять» или «удочерять» своих пациентов; б) пациент и аналитик взаимно ненавидят друг друга и хотят избавиться один от другого. Агрессивные побуждения Р. в переносе достигли своего максимума на фоне ее неудержимо растущей зависимости от анализа, проявляясь во все более богатых персекуторных и садистических фантазиях и сновидениях, где мне отводилась роль «плохого» объекта, преследователя и мучителя. Одновременно с этим мысль о возможности прекратить анализ и тем самым свои мучения вызывала у нее ощущение почти физической боли. В контрпереносе я нередко ловила себя на том, что чувствую вину за причиняемые пациентке страдания, фантазируя о том, что будь на моем месте более опытный аналитик (т. е. зрелая мать), Р. не пришлось бы так мучиться. В другие моменты мне приходила в голову фантазия о том, что, действительно, хорошо было бы отдать ее кому-нибудь, пусть с ней мучается кто-нибудь другой.
В этой констелляции садо-мазохистических трансферных – контртрансферных фантазий легко усмотреть фигуру «матери-предательницы», а также и «безжалостно брошенного на произвол судьбы младенца».
Обращали на себя внимание, во-первых, отрицание пациенткой позитивных последствий анализа, а во-вторых, ее убежденность в том, что анализ несет боль, от которой она не может защищаться[27]. «Больничный» нарратив в это время доминировал в материале, он применялся к аналитическому опыту Р. и подтверждался им, а все то, что не подходило или противоречило ему, отметалось. Возможности обсуждения динамики переживаний Р., относящихся к анализу, были при этом минимальны; она была в состоянии мыслить лишь конкретно, символический смысл нередко оставался ей недоступен. Наиболее частой реакцией Р. на мои комментарии и интерпретации было: «Нет, Вы не понимаете!» Таким образом, новый опыт никак не мог поместиться в прокрустово ложе готовой, проверенной годами конструкции пациентки, а мой отказ соглашаться с ее видением настоящего и прошлого переживался ею как разновидность предательства.
Постепенно становилось очевидно, что одна из основных функций реконструкции Р. – это обеспечение полной неизменности существующего порядка вещей, отрицание хода времени, движения и континуальности. Этому же отрицанию времени и движения служило отсутствие в ассоциациях Р. каких-либо конкретных, единичных воспоминаний, относящихся к периодам жизни между травматизациями: ничего не происходит, ничего не изменяется, «больничный» нарратив будет жить вечно. Она навсегда останется ребенком, ее родители навсегда останутся молодыми, на одной чаше весов – вечная боль, вечное предательство, вечная жизнь, на другой – развитие и обретение, начало и конец, утрата и смерть. Благодаря такому пониманию постепенно появилось представление о том, что должна привнести психоаналитическая реконструкция, а именно – идею развития, изменения во времени, вообще идею хода времени как такового. Но это было понятно в общем и целом, нужно было с чего-то начать.
Прежде всего, необходимо было обозначить младенческий больничный опыт как травматический и провести параллель между двумя пребываниями в больнице. Осознание этого факта позволило Р. высказать фантазию, в которой отчетливо прослеживается, с одной стороны, недифференцированность восприятия, характерная для раннего возраста, а с другой – бессознательные фантазии о рождении и неразрывной связи с матерью: «Когда я думаю о больнице, я вижу бесконечный серый коридор, серые стены больничного цвета, и временами вспышки света, тусклого больничного света. И больше ничего. У меня болит живот, когда я начинаю об этом думать, зачем вы меня заставляете?»
Следующим шагом стала гипотетическая конструкция психического состояния младенца, оказавшегося в больнице под капельницей, испытывающего голодные боли в желудке и кишечнике, нуждающегося в тепле[28], не понимающего, почему ему так плохо, и воображающего, что это навсегда. Последний момент в этой конструкции очень важен, он отражает «вечный», персеверирующий характер «больничного» нарратива. Р. реагирует на эту конструкцию сдержанно: ей непонятно, зачем я ей это говорю, но ребенка ей жалко. Надо сказать, что эта гипотетическая конструкция была предложена мною в период относительного «затишья», наступивший спустя несколько месяцев после того, как на пике негативного переноса пациентка прервала анализ, а затем вернулась и продолжила работу. Эти события одновременно и противоречили, и соответствовали логике «больничного» нарратива, поскольку, с одной стороны, обрыв анализа продемонстрировал возможность наступления каких-то перемен, а с другой, все опять вернулось «на круги своя».
В последующие месяцы предложенная мной конструкция прорабатывается по частям: боль в животе, которую Р. часто чувствует на сеансе, она начинает связывать с переживанием напряжения и тревоги; она вновь и вновь возвращается к вопросу о несправедливом устройстве мира и наказании за совершенные и несовершенные преступления; она обсуждает, сколько должен длиться психоанализ и конечен ли он. Постепенно в центре размышлений и переживаний пациентки оказывается ее желание занять постоянное место в моей жизни, проникнуть в мои мысли, пропитаться ими и стать такой же, как я. Параллельно с этим прорабатывается важная часть отношений Р. с матерью, прежде всего примитивная идентификация, а также не осознававшаяся прежде ярость и претензии к матери. В это время «больничный» нарратив звучит со все большей настойчивостью и ожесточенностью почти на каждом сеансе как символ или эмблема безнадежности усилий и невозможности изменений. В контрпереносе у меня возникает попеременно то желание защититься от вторжения пациентки, то, наоборот, стремление как-то встряхнуть ее, чтобы изменить ее восприятие.
Одной из попыток вторжения в мою жизнь был интерес Р. к комнатному цветку, стоявшему на полке рядом с моим креслом. Сначала она фантазировала о том, что этот цветок (калатея) приносит несчастья; потом недоумевала, зачем он мне вообще нужен. Начиная с какого-то момента она стала высказываться по поводу неудовлетворительного состояния цветка, и это меня раздражало, как раздражает молодую мать вмешательство бабушки в воспитание ребенка. Эта контртрансферная фантазия оказалась совершенно релевантной: выяснилось, что пациентка недавно сама начала разводить комнатные цветы, обзавелась соответствующей литературой и чувствует себя компетентной в этом вопросе. На сеансах появились рассказы о том, как она пересаживала цветы, как какой-то цветок погиб, или не развивается, или, наоборот, расцвел, о том, что цветы занимают все больше пространства в ее доме.
Постепенно мне стало понятно, что следующий шаг в построении аналитической реконструкции пациентка сделала сама, неожиданным и неосознаваемым для себя образом, – путем конкретного реального действия, имеющего для нее важный символический смысл. Заботясь о своих растениях, она отыгрывала идентификацию с материнским объектом, прорабатывая таким способом взаимоотношения ребенка с матерью, в том числе больного и слабого ребенка. Смысл разведения цветов можно было бы сформулировать как антитезу «больничному» нарративу: растения имеют цикл развития, они откликаются на воздействия внешней среды, не только почва, но и уход могут повлиять на их рост, даже старательный уход иногда не помогает спасти растение. Это очень легко перевести на язык психической динамики и развития взаимоотношений с первичными объектами; в результате получается альтернативная аналитическая конструкция раннего опыта Р. в терминах психодинамики: ранний травматический опыт сепарации и болезненного медицинского лечения в больнице привел к интернализации могущественных «плохих» объектов; для нейтрализации их деструктивности была сформирована специфическая патологическая защитная организация, с одной стороны, поддерживающая нарциссические фантазии и иллюзию всемогущества, а с другой стороны, препятствующая росту и взрослению пациентки. Благодаря этой защитной организации собственная деструктивность пациентки отчасти проецируется, а отчасти отрицается вкупе с переживанием собственной активности и дееспособности.
«Нарративная правда», основывающаяся на этой реконструкции, выглядит следующим образом: мать Р., находясь в роддоме, не могла предотвратить заражение стафилококком, вследствие чего жизнь Р. в возрасте нескольких недель оказалась под угрозой. Путем госпитализации и последующего тщательного домашнего ухода пациентку удалось спасти, однако ее здоровье и психическое развитие оказались не идеальными, как не была идеальной и ее семья. Пребывание в больнице в восьмилетнем возрасте оживило ситуацию ранней травмы и отчасти подтвердило правомерность паранойяльных фантазий. Невозможность признать свои несовершенства и агрессивные импульсы парализует активность Р. и препятствует ее нормальной социализации. Эта реконструкция тесно связана с представлением о росте растений и возможности его ускорения или замедления, влиянии различных вредностей и постепенном и непрерывном характере их развития. «Растительные» метафоры отражают собственный цветоводческий опыт пациентки, и в ответ на них она может ассоциировать относительно собственных детских или актуальных переживаний; так, она убеждала меня обработать растения неким биостимулятором, который вызывает быстрый рост всех систем растения и существенное улучшение их внешнего вида, но должен применяться в очень малых дозах, а в больших становится опасен. В ответ на мою интерпретацию о психоанализе как разновидности такого биостимулятора Р. высказала ряд своих фантазий о своем полном преображении в результате психоанализа, о том, что психоанализ должен продолжаться до тех пор, пока все желательные изменения не наступят и она не достигнет психического совершенства.
Но в то же время «растительные» метафоры, по крайней мере, применительно к большинству комнатных цветов, не нуждающихся в оплодотворении, практически исключают из рассмотрения тему сексуальности. На эту тему, как мы помним, в репертуаре пациентки имелся другой травматический нарратив – «об изнасиловании». Его судьба показательна: он некоторое время занимал ее мысли в самом начале анализа и потом спустя год, а затем надолго исчез из ее ассоциаций. Вновь она обратилась к нему после того, как в «больничном» нарративе удалось распознать и «экстрагировать» садистические фантазии и пациентка смогла признать свое «авторство». В нарративе «об изнасиловании» тотчас же были обнаружены два доселе неразделимых компонента – сексуальный и агрессивный; за этим последовало обнаружение, признание и постепенное принятие пациенткой своей сексуальности, инцестуозных фантазий, актуальных сексуальных желаний. Несравнимо сложнее было совладать с «больничным» нарративом», по причине выполнения им незаменимых функций в психодинамике и психоэкономике пациентки, тогда как нарратив «об изнасиловании», явно построенный по образцу первого, в действительности не нес такой структурообразующей нагрузки.
Вот те соображения о реконструкции и ее месте в анализе, которыми хотелось поделиться с читателями. Основная идея изложенного – понимание реконструкции как моста, связывающего края пропасти, образованной травматическим опытом, и соответствующие требования к ней: помимо своей функции «восстановления нарративной правды», она должна отражать непрерывность и континуальность психической жизни.
Литература
Фрейд З. Конструкции в анализе // Фрейд. З. Сочинения по технике лечения. М.: Фирма СТД, 2008. С. 393–406.
Arlow J. Methodology and Reconstruction // Psychoanalytic Quarterly. 1991. V. 60. P. 539–563.
Blum H. The value of reconstruction in adult psychoanalysis // Int. J. of Psycho-Analysis. 1980. V. 61. P. 39–52.
De Clerck R. Vom schreibenden Umgang mit der narzisstischen Wunde. Psychosozial. 2001. V. III. P. 129–143. Freud S. On the Psychical Mechanism of Hysterical Phenomena // SE. London, 1962. V. III.
Freud S. On Narcissism // SE. London, 1957а. V. XIV.
Freud S. Instincts and Their Vicissitudes // SE. London, 1957б. V. XIV.
Freud S. Repression // SE. London, 1957 в. V. XIV.
Freud S. The Unconscious // SE. London, 1957 г. V. XIV.
Freud S. Mourning and Melancholia // SE. London, 1957д. V. XIV.
Freud S. Beyond the Pleasure Principle // SE. London, 1950. V. XVIII.
Freud S. Inhibitions, Symptoms and Anxiety // SE. London, 1959. V. XX.
Greenacre P. On reconstruction // J. of Amer. Psychoanal. Ass. 1975. V. 23. P. 693–712.
Khan M. R. The Concept of Cumulative Trauma // Psychoanal. St. Child. 1963. V. 18. P. 286–306.
Khan M. M. R. The concept of cumulative trauma // The privacy of the self / M. M. R. Khan (ed.). London, 1974. P. 7–20.
Ogden Th. On potential space // Int. J. of Psychoanalysis. 1985. V. 66. P. 129–141.
Reemtsma J. P. Historische Traumen // Mittelweg. 1996. V. 36 (2). P. 8–11.
Sandler J., Dreher A. U., Drews S. An approach to conceptual research in psychoanalysis illustrated by a consideration of psychic trauma // Int. Rev. of Psychoanalysis. 1991. V. 18. P. 133–141.
Schafer R. The Analytic Attitude. NY, 1983.
Spence D. Narrative Truth and Historical Truth. NY, 1982.
Steiner J. Psychic Retreats. Pathological Organizations in Psychotic, Neurotic and Borderline Patients. London, 1993.
Stern D. One way to build a clinically relevant baby // Infant Mental Health J. 1994. V. 15. P. 9–25.
Strachey J. Editorial Introduction to Freud’s “Inhibitions, Symptoms and Anxiety” // SE. London, 1959. V. XX. P. 77–87.
«Все-таки во мне что-то происходит», или Развитие ментализации в жизни и психоанализе
Ментализация – это фундаментальный способ существования психики человека, ее социального функционирования и саморегуляции, задействованный в установлении прочных связей между значимым ранним опытом субъекта, его внутренними состояниями и их репрезентацией. На нем же основывается и психоанализ: «Где было Оно, должно стать Я» – ведь это и есть требование осуществления трансформации не ментализированных элементов бессознательного в осознанные ментальные репрезентации. В данной работе речь пойдет об основных идеях и понятиях, развиваемых в русле британской школы психоанализа на основе взаимодействия и взаимообогащения клинического анализа, с одной стороны, и теории и исследований привязанности – с другой. Задача – показать, насколько продуктивными и плодотворными могут быть эти идеи для клинической работы с определенным типом пациентов: теми, кто демонстрирует явные дефекты или дефицитарность рефлексивной функции, и потому, на первый взгляд, мало пригоден для аналитической работы, однако именно такие пациенты все чаще обращаются за помощью.
Прежде всего следует прояснить, что такое ментализация. В трудах Фрейда понятию ментализации соответствует понятие психической переработки. В современной англоязычной терминологии говорится уже о ментализации как процессе трансформации, связывающем телесные возбуждения с внутрипсихическими репрезентациями (Bouchard, Lecour, 2004), т. е. это операция, в результате которой сны, симптомы, фантазии становятся искаженными репрезентациями инфантильных сексуальных желаний. Ментализировать – это значит вырабатывать мысли о желаниях.
В современном психоанализе понятие ментализации наиболее интенсивно разрабатывается Питером Фонаги и его сотрудниками. Сочетая теорию привязанности, психологию развития и современный подход эго-психологии, Фонаги сначала предложил термин «рефлексивная функция» для описания способности к созданию «теории психики», т. е. определенного достижения в ходе онтогенеза, которое состоит в способности учитывать психическое состояние другого человека для понимания и предсказания поведения. Эта способность включает приписывание себе и другому человеку целенаправленность, восприятие собственной внутренней реальности сначала как эквивалента внешней реальности (имплицитное убеждение субъекта, что его репрезентации действительно отражают реальность), а затем развитие способности воспринимать мнимое качество психических состояний – в игре, а затем и в других контекстах. Фонаги подчеркивает, что возникающая способность ребенка мыслить в терминах психических состояний является функцией, аналогичной способности того, кто о нем заботится, воспринимать психические состояния ребенка, и это является ключевым средством передачи привязанности. В своем цикле работ, посвященных вопросам развития ментализации, П. Фонаги и М. Тарже рассмотрели функцию ментализации как центральный процесс социального функционирования и саморегуляции человека (Fonagy, Target, 1996, 2000; Target, Fonagy, 1996).
Важно различать рефлексивное функционирование и ментализацию; рефлексивное функционирование – это специальная разновидность использования репрезентаций и символизации для придания смысла психическим состояниям (Bram, Gabbard, 2001). Ментализация – это процесс, ориентированный на трансформацию «биологического субстрата» (т. е. возникающих в нервной ткани инвидида возбуждений) в желания, поддающиеся передаче другому, тогда как рефлексивное функционирование отвечает за ментальную переработку конкретных, иногда жестоких и травматических фактов реальности в отношениях между ребенком и его окружением.
Степень развития ментализации детерминирует также и уровень развития системы Супер-Эго. Ментализация Супер-Эго подразумевает развитие у человека способности к установлению динамической схемы репрезентаций и способности к самонаблюдению, что, в свою очередь, предполагает выработку определенных правил, касающихся того, какие внутренние действия и каким образом должны быть произведены для осуществления наблюдения за последовательными процессами, ведущими к самонаказанию и угрожающей активности. Чтобы проиллюстрировать понятие ментализации, его теоретические основания и следствия для клинической практики, обратимся к реальному клиническому материалу, взятому из анализа пациентки С.
Жалобы, с которыми пришла С., таковы: аноргазмия, нарушение отношений с мужем, запрет на телесный контакт с детьми старше 6–7 лет. Несколько слов об анамнезе: С. – старший ребенок в семье, родители к моменту ее рождения были молоды и жили в комнате в общежитии. С. рассказывает, что была беспокойным ребенком, по вечерам родители несколько часов не могли уложить ее спать, не помогали никакие средства. Наиболее надежным способом успокоения младенца мать считала кормление, у нее было много молока, и она предлагала ребенку грудь по любому поводу. С. описывает мать как импульсивную, несдержанную, тревожную и легко впадающую в панику, хлопотливую, с утра до вечера занятую либо на работе, либо по хозяйству. Ей невозможно было угодить, она легко раздражалась и отпускала критические и саркастические замечания. Отца С. характеризует как вспыльчивого, тоже тревожного, но слабого, подчинившегося матери, неспособного защитить С. от несправедливых материнских нападок. Его алкогольные возлияния приводили мать в ярость, однако настоящего скандала не получалось, потому что отец в ответ на громогласные упреки и обвинения тихо отправлялся спать. С. вспоминает также эротические сцены между родителями, когда отец, по ее выражению, «приставал к матери», а мать со смехом отбивалась, они вдвоем валились на кровать, но, по словам С., все ограничивалось возбуждающей игрой родителей, где отец выглядел активной, нападающей стороной, а мать – защищающейся или уступающей. Жизнь в маленькой комнате втроем продолжалась до тех пор, пока C. не исполнилось 6 лет – у нее появилcя младший брат, и после этого семья переехала в двухкомнатную квартиру. Добавлю еще, что, начиная с 1 года, С. посещала сначала ясли, потом детсад, летом ее отправляли вместе с другими детьми на детсадовскую дачу, потому что мать должна была работать. Мать уходила из дома раньше всех, поэтому по утрам отец помогал С. одеться, заплетал косички, завязывал банты.
В этой картине детства бросалась в глаза «инструментальность» описаний взаимоотношений С. с родителями: так, когда С. говорила о своем нежелании ходить в детский сад, то это звучало так: «Мать оставляла меня и уходила, а я сначала не отпускала ее и орала, а потом забивалась в угол и там ждала, пока она меня заберет; а когда она приходила за мной, я пыталась ее побить». Иными словами, С. перечисляла ряд осуществленных действий, никак не называя свои тогдашние переживания их настоящими именами – тоска, отчаяние, гнев. Однако когда я слушала ее рассказ, у меня возникало впечатление, что С. отчасти переносится в те времена: она говорила возмущенным тоном, как если бы все это происходило в настоящее время, а не тридцать лет назад. Убежденно и твердо заявляла она также, что «мать должна была работать, куда же ей было девать ребенка?», и становилось ясно, что для С. существует одна единственная версия реальности – та, что в ее голове, и наоборот: то, что она об этой реальности думает, и есть сама реальность. Фактически подразумевалось, что между внешней реальностью и психической реальностью нет никаких расхождений.
Обратимся теперь к теоретическим представлениям о нормальном развитии психической реальности и ментализации у человека, которые предлагает Фонаги и его сотрудники. Согласно Фонаги, внутренний мир не является изначально данным, у ребенка он принципиально иной, и его нормальное формирование зависит от взаимодействия ребенка с другими взрослыми, доброжелательными и рефлексивными. У маленького ребенка переживание психической реальности имеет двойственный характер: ребенок обычно оперирует, находясь в позиции «психической эквивалентности», когда мысли воспринимаются не как репрезентации, а как копии реальности, и поэтому всегда правильны; или же ребенок использует «игровой» модус, когда мысли воспринимаются как репрезентации, но их отношение к реальности не принимается в расчет.
Известно, что понимание эмоций и желаний возникает у ребенка раньше, чем понимание возможности разных мнений; вероятно, последнее приводится в движение именно осознанием разнообразия желаний. В отличие от взрослых, дети склонны воспринимать свои психические состояния не как «интенциональные» (т. е. основанные на их мыслях и желаниях), а как часть объективной (физической) реальности. Субъективное переживание неразличимого единства внешнего и внутреннего – это универсальная фаза развития человека. Продвижение вперед означает неизбежное возникновение конфликта и потому вызывает сопротивление, а вымышленная реальность внутреннего опыта может вызывать тревогу, так как ребенок замечает сильное взаимовлияние фантазий и информации, приходящей извне. В результате возникает нормальное стремление к интеграции модусов переживания внешней и внутренней реальности.
Трехлетний ребенок еще не в состоянии понять репрезентативный характер мыслей и чувств, он воспринимает их как прямое отражение внешнего мира. Если ребенку дать губку, раскрашенную под цвет камня, и спросить, на что она похожа и что это такое, то его ответ на оба вопроса будет одним и тем же: это эквивалентность между видимостью и реальностью.
«Игровой» модус означает следующее: во время игры даже маленький ребенок понимает, что его психика («голова») продуцирует мысли, желания, чувства. Дети используют метафору «головы» как вместилища воображаемых ситуаций и предметов. Но в этом возрасте у ребенка нет соответствия между «игровым миром» и внешней реальностью, наоборот, есть резкое различение того и другого. Ребенок может осознавать мысли и чувства по поводу внешней реальности во время игры лишь при условии, что взрослый создает ему необходимую для этого рамку и отгораживает его от давления внешней реальности; т. е. в игре ребенок может демонстрировать куда больше рефлексии, чем в жизни.
Начиная с четвертого года жизни модус психической эквивалентности и «игровой модус» постепенно интегрируются, и возникает рефлексирующий (ментализирующий) модус психической реальности. Благодаря этому ребенок в состоянии осознать, что его переживания и мысли являются репрезентациями реальности и поэтому могут быть ошибочными, могут меняться, поскольку основаны на одной из целого ряда точек зрения. Это продвижение ведет к резкому возрастанию конфликта, когда фантазии (например, эдипальные) становятся стабильными репрезентациями, противопоставляемыми внешней реальности. Для интеграции этих двух модусов ребенок нуждается в наличии рядом с собой взрослого, который бы ему «подыгрывал», создавая условия, при которых ребенок может увидеть свою фантазию или мысль в репрезентациях взрослого, затем вновь ее интроецировать и использовать как репрезентацию своего собственного мышления.
Прежде чем оба модуса будут интегрированы в процессе развития ребенка, репрезентации из «игрового модуса» могут стать настолько интенсивными и стимулирующими, что они начнут посягать на его психику в ее модусе психической эквивалентности, нарушая процессы созревания и взаимодействия с социальным миром. С другой стороны, фантазия о сексуальном овладении родителем противоположного пола безопасна до тех пор, пока она находится в «игровом модусе» психической реальности, не имеющем ничего общего с внешней реальностью. «Игровое» желание не вызывает конфликта, пока оно не начнет соотноситься с внешней реальностью. Разрешение этого конфликта возникает через радикальное ограничение подобных опасных фантазий вначале областью «игрового модуса», а затем – перевода их путем вытеснения в область бессознательного.
Попробуем теперь, вслед за Фонаги, сформулировать значение ментализации, а затем вновь обратимся к клиническому материалу.
1. Ментализация позволяет ребенку рассматривать действия других людей как осмысленные, благодаря приписыванию мыслей и чувств. В результате действия окружающих становятся предсказуемыми, что уменьшает зависимость от них. Это важный компонент процесса индивидуации.
2. Ментализация позволяет различать внешнюю и внутреннюю правду: тот факт, что некто ведет себя так-то и так-то не означает, что дело обстоит именно так. Это становится особенно важным в условиях травмы или плохого обращения и помогает ребенку психологически выжить. В этом случае ребенок способен манипулировать психическими репрезентациями, делая человеческий мир более понятным для себя. Так, если ребенок способен приписать отвергающее поведение матери ее плохому настроению, а не своему плохому поведению, то он будет в состоянии защититься от хронической травматизации своей самооценки.
3. Без ясного представления о психическом состоянии другого коммуникация существенно обедняется: в эффективной коммуникации говорящий должен постоянно учитывать точку зрения своего партнера.
4. Ментализация позволяет переживать жизнь как более осмысленную, путем интеграции внешнего и внутреннего. Ребенок обнаруживает образ себя в воображении своей матери как индивида, имеющего мысли и чувства. Этот образ интернализуется, и вокруг него может возникнуть собственное центральное ощущение своего Я. Ментализация обеспечивает тем самым большую независимость ребенка от матери.
5. Ментализация важна еще и потому, что без нее практически невозможна эмпатия, т. е. сопереживание, и, следовательно, близкие и удовлетворяющие отношения с другими людьми. Пока человек функционирует в рамках модуса психической эквивалентности, он неспособен не только учитывать эмоциональные состояния других людей, но даже и предположить, что их состояния могут отличаться от его собственного.
Итак, при нормальном развитии ребенок интегрирует оба модуса (психической эквивалентности и игровой), переходя на стадию ментализации или рефлексивного модуса, когда психические состояния переживаются как репрезентации, а внешняя и внутренняя реальности рассматриваются как связанные, хотя и отличные одна от другой, но не требующие уравнивания или отщепления друг от друга. Ментализация обычно возникает благодаря рефлексии ребенка в безопасной игре со взрослым, когда взрослый связывает мысли и чувства ребенка с реальностью, свидетельствуя об их существовании вне психики ребенка. Тем самым взрослый показывает, что реальность можно искажать, играя с ней, и в этой игре может существовать игровой, но вполне реальный опыт (подобно опыту «переходного пространства» в психоаналитической ситуации).
Родители поощряют развитие Я ребенка, предлагая ему разделить их предположение, что поведение лучше всего можно понять в терминах мыслей, убеждений, чувств и желаний. Таким образом, в основе отношений ребенка с объектом лежит способность объекта создавать для ребенка такой мир, в котором он будет чувствующим, желающим, думающим существом («здоровая проективная идентификация»). Взрослый создает «подмостки» («зону ближайшего развития») для понимания ребенком собственного внутреннего мира. Возможность интеграции двух модусов внутренней реальности зависит от качества сформированного прежде Я ребенка.
Во время совместной игры взрослый воспринимает психическое состояние ребенка и воспроизводит его для ребенка в отношении к третьему объекту, вокруг которого разворачивается игра. Развитие способности ребенка к восприятию собственных психических состояний зависит от его восприятия психической реальности первичного объекта (воспитателя). Понимание природы психического мира невозможно в одиночку, оно требует открытия и признания себя в глазах другого. Именно способность ребенка символически описывать свои психические состояния позволяет ему конструировать внутренний мир, в котором чувства и мысли могут быть вполне реальными и в то же время не соответствовать в точности внешней реальности или версиям реальности, имеющимся у других людей.
В обсуждаемом здесь клиническом материале имеется много свидетельств недостаточной способности С. символически описывать свои психические состояния и, наоборот, ее склонности к их непосредственному отреагированию. Наиболее постоянной была следующая секвенция нашего взаимодействия на сеансах. С. начинала сеанс с гневного рассказа о событиях, происходящих дома, героем которых был кто-то из домочадцев. Эти события она живописала громким раздраженным тоном, а суть ее описания была примерно такой: ОН (муж, брат) или ОНА (свекровь, мать) сделал/сказал то-то и то-то, что привело ее в бешенство, она сказала/сделала то-то и то-то, в ответ на что ОН или ОНА сделал следующий такой-то шаг, и т. д. Например: «Я только что убралась, провела за уборкой весь день, пока все убрала, устала, пока все убрала, а он пришел – и тут же все раскидал, и никакой уборки как не бывало, ну, просто все раскидал, ничего не кладет на место, убирайся – не убирайся, все едино, а я целый день убиралась. И тогда я ему сказала, что я ему тут не нанималась целый день убираться, чтобы он раскидывал» и т. д. Эта речь занимала первые минут 10 или 15 сеанса, иногда эта «истерика злости» растягивалась почти на весь сеанс. В отдельных случаях возникало впечатление, что С. сама себя распаляет, впадая в состояние почти полного отрыва от внешней реальности[29]. Слушать ее было трудно; гнев и требование сострадания вызывали у меня противоречивые чувства. Кроме того, С. в этом своем состоянии была практически недоступна для каких-либо интервенций: шквал гневных жалоб был плотным, как стена, так что все мои реплики разбивались об него. Неважно, что я говорила, в ответ следовало повторение всей истории с самого начала почти слово в слово, с незначительными вариациями.
Не сразу стало понятно, что этот шквал чрезвычайно похож на те приступы крика, которые были свойственны С. на первом году жизни. В то время ее родители, молодые и неопытные, не знали, что им делать с таким крикливым ребенком, они сами впадали в гнев, в тревогу или панику, или в отчаяние, и, наверно, им было совсем не до рефлексии. Мои фантазии на эту тему дали мне возможность более спокойно и терпеливо выслушивать филиппики С., не теряя надежды на восстановление контакта с ней. Оказалось, что последовательно осуществляемая мною функция маркирования и обозначения аффективного состояния С., проведения дифференциации между «здесь-и-теперь» и «там-и-тогда», моя способность не заражаться ее аффектом медленно, но неуклонно оказывали на нее благотворное воздействие. Оно проявлялось не только в том, что приступы такого «младенческого крика» становились короче и скорее поддавались ее сознательному контролю, что она сама – хотя и в известных пределах – могла осуществлять функцию мониторинга или самонаблюдения, но прежде всего в том, что С. научилась воспринимать эти приступы как сигналы – своего огорчения, неудовлетворенности, обиды, нарциссической раны. Иначе говоря, воспринимать их как ментальные репрезентации, а не как факты объективной реальности, с которой ничего нельзя поделать.
После первого года работы стало очевидно, что у С. различаются три различных уровня психического функционирования: а) мир ее фантазий, где она может относительно свободно перемещаться от чувств к мыслям и обратно, но к этому миру она имеет весьма ограниченный доступ (сновидения, фантазии, развиваемые во время сеансов); б) конкретное мышление, в рамках которого она тесно зажата и куда не может проникать аффект ни в виде собственных эмоций (за исключением гнева), ни в виде эмпатического отражения эмоций других людей; к этому уровню С., как правило, имеет беспрепятственный доступ, за исключением тех случаев, когда вступает в действие уровень 3; в) уровень аффективных взрывов, которые С. практически не в состоянии контролировать, которые имеют негативный характер и делают невозможным функционирование уровней 1 и 2.
Вместе со способностью ментализировать, воспринимать идеи как идеи, а не как факты, играть с разными точками зрения приходит и способность проверять идеи посредством их столкновения с реальностью и снижать их влияние. Фонаги пишет, что в тех пунктах, где родитель неспособен вобрать в себя какой-то кусок реальности и подумать о нем, он неспособен также и предоставить ребенку возможность безопасно подумать об этой реальности в рамках игры; тогда возможность воспринимать эту реальность остается в области психической эквивалентности.
По-видимому, в анализе С. мне пришлось взять на себя эту родительскую функцию, благодаря чему С. удалось выйти за пределы модуса психической эквивалентности, когда психика другого человека не репрезентируется как отдельная сущность с потенциалом инакомыслия и иного знания.
Неспособность некоторых пациентов (как правило, пограничных) ментализировать связана с недифференцированной репрезентацией внутреннего и внешнего опыта. Согласно детскому представлению о ментальных состояниях, мысли и чувства являются прямыми (т. е. эквивалентными) репрезентациями реальности, а потому их значение переоценивается. Поэтому «страшные» мысли нельзя думать, а «страшные» чувства – чувствовать. Из этих соображений человек избегает ментализации, он не в состоянии выносить существование альтернативных точек зрения. В крайних случаях вместо отдельных репрезентаций внутренних состояний присутствует чувство тревожной отчужденности, проистекающее из интернализации детских восприятий матери.
Нормальное восприятие отношений между внутренней и внешней реальностью не дано изначально, а достигается в процессе развития, когда два различных модуса внутренней реальности интегрируются. Решающим моментом является способность к ментализации. Ментализировать означает воспринимать и распознавать свои и чужие желания, мысли и чувства, признавая, что они находятся в некоторой связи с внешней реальностью. Вначале ребенок воспринимает психический аппарат как видеокамеру, т. е. все записываемое и воспринимаемое в его представлении в точности соответствует внешней реальности. Этот модус и называется «психической эквивалентностью»: ментальные события по силе и следствиям эквивалентны событиям в физическом мире. Видимое отождествляется с реальностью; при этом мысли и чувства, искаженные фантазиями, проецируются на внешнюю реальность, и отсутствует осознание того, что восприятие внешнего мира может быть искажено.
Отличие от «символического уравнивания» Х. Сигал очевидно: она описывает утрату символического значения при психотических состояниях, когда имеет место эквивалентность символа тому, что он символизирует (играть на скрипке перестает быть символом мастурбации и начинает восприниматься как собственно мастурбация) (Segal, 1957). У Фонаги имеет место эквивалентность между содержанием психики и внешней реальностью: мысль материализуется.
Поскольку восприятие мыслей и чувств в их конкретной реальности может быть действительно пугающим, ребенок развивает другой метод представления психических состояний – «понарошку», «как будто», когда он переживает мысли и чувства как исключительно символические, не существующие в реальности и не имеющие на реальность никакого влияния. Поэтому его игра в машиниста или полицейского не может перекинуть мост через пропасть между внешней и внутренней реальностью. Только постепенно, в присутствии и под защитой другого, который может соединить реальность и «как будто», из этой интеграции возникает психическая реальность, в которой чувства и мысли воспринимаются как принадлежащие внутреннему миру, но имеющие отношение к миру внешнему.
Модус психической эквивалентности вездесущ: когда психический опыт не может быть воспринят в своем символическом значении, мысли и чувства приобретают прямое и разрушительное значение. При этом имеет место мыслительный процесс по типу «или – или», т. е. отсутствует способность «играть с реальностью», мысль становится физически реальной.
Развитие ментализации тесно связано с отношениями ребенка с первичным объектом, с тем, насколько успешно этот первичный объект осуществляет «рефлексию» или «зеркализацию». В данном контексте понятие зеркализации отличается от одноименного понятия Кохута. Согласно модели Фонаги, ребенок постепенно осознает, что у него есть мысли и чувства, и развивает способность их различать. Это происходит благодаря тому, что родители реагируют на его внутренние переживания. Переживание аффектов представляет собой базу, из которой в конечном итоге развивается ментализация аффектов при наличии стабильной и надежной привязанности.
Если у матери или отца нет представления о том, что переживает ребенок, то у ребенка отсутствует основа для стабильного чувства своего Я. Дж. Макдугалл пишет (McDougall, 1974): младенец сообщает посредством своего крика и прочего выразительного поведения нечто, что лишь его мать в состоянии интерпретировать, т. е. она берет на себя его мыслительную функцию. Если эта зеркализация отсутствует или нарушается, то психическая организация ребенка нарушается таким образом, что его внутренние переживания оказываются недостаточно репрезентированы. И тогда ему приходится искать другие формы передачи и хранения психических переживаний.
Есть много причин, почему родителю не удается настроиться на аффекты ребенка; в любом случае неадекватный ответ родителей ведет к тому, что ребенок интернализирует либо аффект родителя, либо защиту родителя от этого аффекта. Дискомфорт ребенка либо игнорируется, либо отражается в непереработанном виде (нарушение контейнирующей функции родителя). Это означает, что либо мать имитирует состояние ребенка, не модулируя его, воспринимает это состояние совершенно конкретно или сама впадает в панику; это соответствует модусу эквивалентности. Либо мать избегает отражать аффект ребенка, что оказывается похоже на диссоциацию и приводит мать в состояние «понарошку», не имеющему отношения ни к внешней реальности ребенка, ни к его аффектам; мать при этом игнорирует состояние ребенка или интерпретирует его как болезнь или усталость и т. д. Оба эти маневра лишают смысла коммуникацию ребенка, а взаимодействие между ребенком и родителем сводится лишь к физическому. В этом случае ребенок не может распознать своего ментального состояния в состоянии родителя и утрачивает возможность символической репрезентации этого состояния.
Если родители не осуществляют ментализацию в отношениях с ребенком, т. е. не производят интеграцию игрового модуса и реальности, это еще не означает, что они пренебрегают ребенком или травмируют его. Однако способность родителей вести себя по отношению к ребенку игриво и эмпатически является предпосылкой к тому, чтобы ребенок мог проецировать в них свои психические содержания и получать их обратно в переработанном виде. Если же возможность такого взаимодействия отсутствует, то в будущем ребенок с трудом сможет отличать внешнюю реальность от своих фантазий и физическую реальность от психической.
С. рассказала мне немало историй о том, как ее мать и отец реагируют на какие-либо неприятные происшествия в ее жизни. Вот совсем недавний пример: перед уходом из дома, чтобы ехать ко мне на сеанс, С. попросила своего отца прийти и посидеть в ее отсутствие с ребенком, потому что у него с утра заболело горло, и С. решила не водить его в школу. С. не испытывала особой тревоги по этому поводу, однако, когда она рассказала отцу, что он должен проследить, чтобы ребенок полоскал горло каждый час, отец встревожился и начал рассказывать ей ужасные истории про запущенное больное горло и печальные последствия: опухшие миндалины, невозможность дышать, операция, чуть ли не гибель и т. д. – так что С. приехала ко мне в состоянии, близком к панике. Ей уже казалось, что пока она отсутствует, у сына разовьется воспаление, удушье, отец не сможет о нем позаботиться, надо срочно вызывать «Скорую помощь», и т. п. И прежде, чем она смогла говорить о чем-либо другом, мне пришлось сначала воспринять эту панику, переработать ее и вернуть С. в том виде, который позволял ей думать о происходящем. После этого сама она была удивлена тем, как недомогание ребенка из легкой простуды превратилось – сначала в воображении отца, а потом и в ее собственном – в почти реальную болезнь со смертельным исходом. Понятно, что в этой ситуации речь идет о неспособности членов семьи модулировать аффекты друг друга, вместо этого имеет место совершенно конкретное восприятие психического состояния другого как достоверного отражения реальности, и возникает столь же конкретное резонирующее, никак не переработанное эмоциональное состояние.
Предложения и идеи по поводу техники работы с такими пациентами П. Фонаги формулирует следующим образом. Очевидно, что терапия пациента с недостаточно развитой ментализацией должна необходимым образом фокусироваться на ее развитии. Психоаналитик должен сохранять образ психического состояния пациента, не позволяя ему разрушить этот образ, и тогда пациент шаг за шагом сможет обнаружить этот свой образ в ментальных репрезентациях. Аналитик оценивает также, насколько велико имеющееся в наличии игровое пространство, и его интервенции нацелены на то, чтобы постепенно это пространство расширить. Опасность работы с такими пациентами заключается в том, что аналитик приписывает им большие способности к пониманию, чем они на самом деле имеют, и поэтому пациент либо переходит к действиям и отыгрываниям, либо формирует фальшивое «аналитическое Я».
Что можно вывести из клинического опыта с пациенткой С.? Отыгрывания часто принимают форму acting in, когда пациент непосредственно на сеансе прямо или косвенно требует контейнирующих действий со стороны аналитика. Тенденция С. впадать в состояние «младенческого крика» была одновременно настойчивым призывом прийти к ней на помощь, и помощь как раз и заключалась в том, чтобы постепенно расширить ее психическое пространство, занятое негативным аффектом, чтобы появилась возможность про этот аффект размышлять. Если говорить еще более метафорически, то важно было расширить это пространство таким образом, чтобы появилась, так сказать, «соседняя комната», откуда можно было бы за этим аффектом наблюдать.
Еще одно замечание: временами неспособность пациента ментализировать и рефлексировать угрожает чувству идентичности аналитика и заставляет чувствовать себя бесполезным в своей аналитической функции: как можно анализировать кричащего младенца? Или молчащего? Необходимо находить способы вступить с ним в вербальный контакт, не потеряв своей аналитической позиции.
Фонаги указывает, что сам анализ может перейти в область «понарошку», когда по видимости присутствует обмен словами, но их значение и возможность изменения избегаются. Вербальные высказывания пациента становятся «псевдо-инсайтами», потому что отсутствует связь с первичным уровнем внутренних переживаний, а ментализация становится псевдо-ментализацией, а точнее – рационализацией. Интерпретации на ранних стадиях анализа не вызывают никакого отклика у пациента.
Это подтверждает опыт работы с С.: ее конкретное мышление, лишенное аффективного компонента, превращает мои интерпретации в какие-то схемы и конструкции, которые С. готова повторять бесконечно, занимая позицию псевдо-самонаблюдения. «Псевдо», потому что эти наблюдения заимствованы из нашего разговора, а не из ее собственного опыта. Требуется время, иногда немалое, чтобы С. действительно освоила предлагаемую мною точку зрения, обыграв ее в сновидениях, в фантазиях, в своей реальной жизни. Примечательную фразу сказала мне С. на первом сеансе после долгих летних каникул: сначала она рассказала, что ее отношения с мужем стали более эротическими и удовлетворяющими ее, и тут же добавила: «Мы с вами тут обо всем этом говорили, но я не хотела это пропускать внутрь себя, оно оставалось на уровне моей головы, а теперь вот прошло внутрь!»
Постепенно у пациента возникает переживание своего внутреннего мира как отдельного и качественно отличного от внешнего, и в этом внутреннем мире он начинает различать какие-то события, процессы, изменения. Интернализация интереса аналитика к ментальным состояниям и его способности дифференцированно размышлять о них усиливает способность пациента заботиться о своем внутреннем мире. При нормальном развитии ребенок, играя со взрослым, способным видеть сразу две реальности, усваивает этот способ видения.
Вероятно, аналогия с игрой правомерна для анализа, если не понимать ее чересчур конкретно или упрощенно, и аналитик посредством странных с конвенциональной точки зрения приемов и требований создает в рамках своего кабинета особое игровое пространство. В нем пациент может примерить и испробовать разные модусы, поиграть с ними, как с деталями конструктора, прожить какие-то типичные для себя или, наоборот, альтернативные варианты отношений в пределах этого игрового пространства, различить фантазии и реальность, развенчать и вновь выстроить свои иллюзии, и тем самым прийти к более зрелым формам психической жизни. Разве не то же самое происходит в детстве? Ребенок играет, взрослея, взрослеет, играя, и в один прекрасный день обнаруживает, что стал большим – и может покинуть детскую комнату.
Литература
Bouchard M.-A., Lecour S. Analyzing forms of superego functioning as mentalizations // Int. J. Psychoanal. 2004. V. 85. P. 879–896.
Bram A. D., Gabbard G. O. Potential space and reflective functioning. Towards conceptual clarification and preliminary clinical implications // Int. J. Psycho-Anal. 2001. V. 82. P. 685–699.
Fonagy P., Target M. Playing with reality: I. Theory of mind and the normal development of psychic reality // Int. J. Psychoanal. 1996. V. 77. P. 217–233.
Fonagy P., Target M. Playing with reality: III. The persistence of dual psychic reality in borderline patients // Int. J. Psychoanal. 2000. V. 81. P. 853–873.
McDougall J. The psychosoma and the psychoanalytic process // Int. R.Psycho-Anal. 1974. V. 1. P. 437–459.
Segal H. Notes on symbol formation // Int. J. Psychoanal. 1957. V. 38. P. 391–397.
Target M., Fonagy P. Playing with reality: II. The development of psychic reality from a theoretical perspective // Int. J. Psychoanal. 1996. V. 77. P. 459–479.
Об авторе
Калмыкова Екатерина Семеновна – кандидат психологических наук, старший научный сотрудник лаборатории психологии посттравматического стресса и психотерапии Института психологии РАН, тренинг-аналитик Московского психоаналитического общества, действительный член Международной психоаналитической ассоциации, преподаватель и супервизор программы профессиональной переподготовки по психоаналитической психотерапии в Институте практической психологии и психоанализа, Москва.
Источники
Калмыкова Е. С., Кэхеле Х. Изучение психотерапии за рубежом: история и современное состояние // Психологический журнал. 2001. № 4.
Калмыкова Е.С., Мергенталером Э. Нарратив в психотерапии: рассказы пациентов о личной истории // Психологический журнал. 1998. № 5 и № 6.
Калмыкова Е.С., Чеснова И.Г. Анализ нарративов пациента: CCRT и дискурс-анализ // Московский психотерапевтический журнал. 1996. № 2.
Калмыкова Е.С., Падун М.А. Качество привязанности как фактор устойчивости к психической травме // Психологический журнал. 2002. № 5.
Рефлексивный процесс и его отражение в дискурсе // Ситуационная и личностная детерминация дискурса / Под ред. Р. Д.Павловой, И. А. Зачесовой. М.: Изд-во «Институт психологии РАН», 2007. С. 98–123.
Калмыкова Е.С. Анализ в кредит: уступка реальности или бегство от реальности? // Журнал практической психологии и психоанализа. 2001. № 12.
Калмыкова Е.С. Реконструкция психической травмы: восстановление связи времен и событий // Доклад на III семинаре Московского психоаналитического общества в 2003 г.
Калмыкова Е.С. «Все-таки во мне что-то происходит», или Развитие ментализации в жизни и в психоанализе // Журнал практической психологии и психоанализа. 2009. № 1.
Примечания
1
Это отнюдь не единственная попытка классификации сюжетов мировой литературы, см., например, работы В. Я. Проппа, К. Букера.
(обратно)2
В исследованиях по психотерапии используются различные единицы анализа текста; наиболее употребительными являются: а) так называемые «отдельные мысли» (thought units), используемые в методах SASB и др., б) разнообразные более крупные фрагменты, например, эпизоды взаимодействия (Л. Люборски), рассказ о событии (X. Даль), семантические единицы (воспоминания, рассказы, сновидения – В. Буччи), рассказ о значимых событиях (Silberschatz и др.) и т. п.
(обратно)3
Разумеется, пациент сообщает не только подобного рода истории, он рассказывает также свои сновидения, фантазии, делится впечатлениями о различных событиях, не имеющих прямого отношения к нему, и т. д., и т. п. Мы намеренно ограничиваемся рассмотрением лишь историй, повествующих о реальных эпизодах из жизни пациента (по крайней мере, которые сам пациент считает таковыми).
(обратно)4
Именно этой точки зрения придерживался 3. Фрейд, развивая свою концепцию Эдипова комплекса: каждый ребенок в возрасте между 3 и 6 годами стоит перед задачей разрешения так называемых «треугольных» (триадных) отношений, испытывая при этом любовь к родителю противоположного пола и ненависть (ревность, зависть) к родителю своего пола.
(обратно)5
См. концепцию К. Юнга о коллективном бессознательном и проявлении архетипов в индивидуальном сознании (Юнг, 1994).
(обратно)6
Безоговорочное и полное доверие 3. Фрейда, например, к рассказам пациенток привело его к созданию теории развития истерического невроза как следствия сексуального соблазнения девочек отцами. Впоследствии Фрейд отказался от этого представления, обнаружив, что рассказы его пациенток зачастую являются вымыслом, фантазиями, отражающими определенные бессознательные желания.
(обратно)7
В нашем исследовании мы намеренно не учитываем те ЭВ, где в качестве «другого» выступает психотерапевт, поскольку эти эпизоды представляют собой совершенно особый феномен (Psychoanalytic process…, 1988): они в большей степени «разыгрываются», осуществляются в непосредственном взаимодействии, а потому не являются «рассказом». Кроме того, мы исключили также и те ЭВ, где «объектом» является собственное Я пациента; в таких эпизодах отсутствует «реакция объекта» и вообще взаимодействие с «другим» как таковое. В выборке «Патриция» встретилось 3 ЭВ такого рода, ЭВ с психотерапевтом отсутствуют (т. е. всего обнаружено 85 ЭВ); в выборке «Студент» ЭВ обоих типов составляют значительную часть всего массива – 24 эпизода из 88.
(обратно)8
Например, ряд определений приводится в таких общепризнанных руководствах по дискурс-анализу, как работы Brown, Yule, 1983.
(обратно)9
Выбор нами для анализа именно этих сеансов – до и после перерывов в анализе – продиктован следующими соображениями: «Перерывы на выходные и на отпуск в [аналитической] работе стимулировали фантазии переноса; по мере того, как [аналитическая] работа продолжалась, их характер изменялся в соответствии с внутренним паттерном сил и объектных отношений с пациентом» (Rickman, 1950, р. 201). Таким образом, можно ожидать, что сеансы до и после перерывов окажутся особенно информативными в плане проявлений трансферентных реакций пациента в его взаимодействии с аналитиком. Первый опыт эмпирического изучения переноса на материале сеансов до и после перерыва методом ССRТ представлен в работе П. Хименес (Jimenez, 1989).
(обратно)10
Более подробные сведения об этом пациенте и различных аспектах его взаимодействия с аналитиком см.: Томэ, Кэхеле, 1996.
(обратно)11
Чтобы обнаружить потребность в получении помощи, мы применили правило функционирования дискурса, а именно «правило косвенной просьбы» (Labov, Fanshel, 1977).
(обратно)12
Рамки данной статьи не позволяют детально обсудить проблемы аналитической техники и возможность аналитика разрешить такого рода проблему, не нарушая правило абстинентности. Мы хотим лишь указать, что данная стратегия аналитика оказалась вполне успешной, поскольку в ходе именно этого анализа пациент впервые в жизни смог освободиться от своих симптомов.
(обратно)13
Ср. указание Яноф-Бульман на начальный момент формирования базисных убеждений – около седьмого месяца жизни.
(обратно)14
Обучение занимает от года до полутора при непременном регулярном личном контакте с создателями метода, что существенно затрудняет возможность его применения (особенно в Восточной Европе).
(обратно)15
Вместо категории «дезорганизованный тип» в методе прототипов используется категория «смешанный тип», описывающая респондентов, которые демонстрируют приблизительно в равной степени черты «дистанцированного» и тревожного типа.
(обратно)16
У каждого человека можно обнаружить определенный набор механизмов психологической защиты, более или менее адаптивных, которые обеспечивают относительно постоянный уровень функционирования Я. В ситуациях, несущих угрозу жизни или воспринимаемых как таковые, более сложные и высокоорганизованные защиты сменяются более примитивными. Тем не менее бессознательные защитные процессы психики продолжают функционировать даже тогда, когда высшие психические процессы оказываются серьезно нарушены или блокированы.
(обратно)17
В настоящее время концептуальный аппарат для изучения рефлексии развит недостаточно: исследователям постоянно приходится изобретать новые конструкты, которые немногим отличаются от старых и в целом не открывают какого-то нового пути к пониманию рефлексии. Так, например, введенный В.В. Знаковым термин «самопонимание» обозначает одну из граней самосознания, которая у других авторов называется «осознание себя», «самоосознавание», «расширение поля сознания» и т. п.
(обратно)18
Так, именно в этом смысле термин «интеллектуальная рефлексия» используется в исследованиях способности думать об основах собственного мышления (см.: Давыдов, 2002; Степанов, Семенов, 1985).
(обратно)19
Аналогично «когнитивному мониторингу» у Флэйвела (Flavell, 1979).
(обратно)20
«Стихийным», поскольку его автор, А. В. Брушлинский, насколько нам известно, не сопоставлял свой подход с дискурс-аналитическим, хотя они во многом совпадают.
(обратно)21
В этой работе, правда, авторы пишут не о РФ, а о ментализации, но совершенно очевидно, что имеется в виду именно способность к принятию рефлексивной позиции по отношению к себе и к другим, а не ментализация в более широком смысле этого слова, см. с. 1.
(обратно)22
Цит. по: Достоевский Ф.М. Собрание сочинений в 10 тт. М.: ГИХЛ, 1957. Т. 6.
(обратно)23
Надо сказать, что долг Ю.Т. продолжала исчислять в рублях, несмотря на то, что после дефолта 1998 г. стоимость рубля упала приблизительно в четыре раза, а соответственно, реальная величина долга (исчисляемая в долларовом эквиваленте) была в четыре раза выше его номинальной величины. Эта сторона вопроса не затрагивалась в тот момент совершенно, что тоже уводило нас от реальности.
(обратно)24
Ф. Гринэйкр (Greenacre, 1975) в своей работе, посвященной технической, теоретической и исследовательской ценности реконструкции, предлагает различать «конструкцию» как предварительную ступень реконструкции. В данной статье мы не придерживаемся этого различения, а будем использовать эти термины синонимически.
(обратно)25
Нельзя не упомянуть и о том, что с точки зрения социального конструктивизма реконструкция прошлого невозможна в принципе, поскольку значения и смыслы конструируются во взаимодействии друг с другом.
(обратно)26
Можно, правда, предположить, что нарратив «об изнасиловании» оказал влияние на репрезентацию раннего травматического опыта: «больничный нарратив» был пересмотрен или даже создан под давлением инцестуозных желаний и фантазий, прорвавшихся в сознание в подростковом возрасте. Эта гипотеза, однако, не объясняет выраженного паранойяльного характера большинства фантазий пациентки; более вероятным кажется повторное использование прототипического представления о пенетрации.
(обратно)27
Переживания пациентки наводят на мысль о том, что у нее нарушена так называемая «модель быть вместе» (Stern, 1994). Эта модель представляет собой интернализованный паттерн переживания младенцем связи с матерью (или заменяющей ее фигурой), состояния динамического взаимодействия. При наличии хронической (или кумулятивной) травмы, например, при наличии депрессии у матери, интернализация этого состояния взаимодействия нарушена, что проявляется у взрослых пациентов как нарушение способности «быть вместе с кем-то».
(обратно)28
Кстати: Р. почти все время анализа лежала на кушетке, завернувшись в одеяло, за исключением жарких летних дней.
(обратно)29
Приведенное высказывание пациентки по поводу уборки имеет, разумеется, очевидный трансферентный смысл: аналитик воспринимается как вторгающаяся родительская фигура. Кроме того, это протяженное эмоционально насыщенное высказывание обеспечивает непроницаемость пациентки для возможных комментариев аналитика, что функционирует как конкретное, здесь-и-теперь реализуемое противодействие ожидаемому разрушительному вторжению аналитика во внутренний мир пациентки. Однако данные аспекты остаются в настоящий момент без внимания, поскольку выходят за пределы темы ментализации.
(обратно)
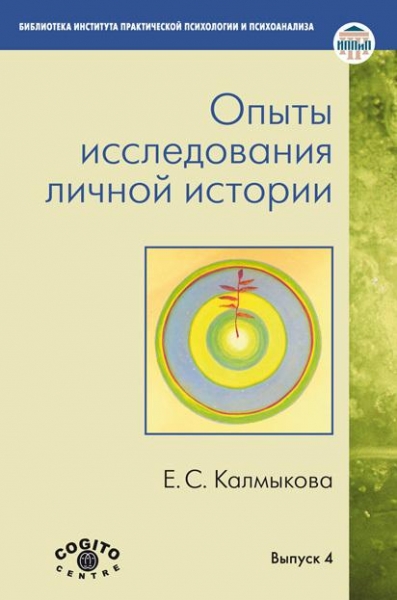









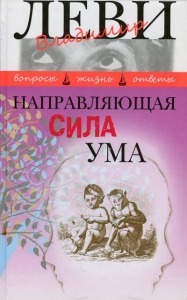

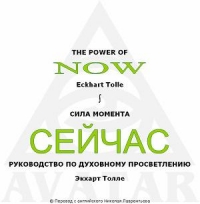
Комментарии к книге «Опыты исследования личной истории», Екатерина Семеновна Калмыкова
Всего 0 комментариев