Уолтер Липпман Общественное мнение
Посвящается Фойе Липпман
Вэйдинг-Ривер, Лонг-Айленд
1921 год
Представь, что люди как бы находятся в подземном жилище наподобие пещеры, где во всю ее длину тянется широкий просвет. С малых лет у них на ногах и на шее оковы, так что людям не двинуться с места и видят они только то, что у них прямо перед глазами, ибо повернуть голову они не могут из-за этих оков. Люди обращены спиной к свету, исходящему от огня, который горит далеко в вышине, а между огнем и узниками проходит верхняя дорога, огражденная, представь, невысокой стеной вроде той ширмы, за которой фокусники помещают своих помощников, когда поверх ширмы показывают кукол.
— Это я себе представляю, — сказал Главкон.
— Так представь же себе и то, что за этой стеной другие люди несут различную утварь, держа ее так, что она видна поверх стены; проносят они и статуи, и всяческие изображения живых существ, сделанные из камня и дерева. При этом, как водится, одни из несущих разговаривают, другие молчат.
— Странный ты рисуешь образ и странных узников!
— Подобных нам. Прежде всего, разве ты думаешь, что, находясь в таком положении, люди что-нибудь видят, свое ли или чужое, кроме теней, отбрасываемых огнем на расположенную перед ними стену пещеры?
— Как же им видеть что-то иное, раз всю свою жизнь они вынуждены держать голову неподвижно?
— А предметы, которые проносят там, за стеной? Не то же ли самое происходит и с ними?
— То есть?
— Если бы узники были в состоянии друг с другом беседовать, разве, думаешь ты, не считали бы они, что дают названия именно тому, что видят?
— Непременно так.
Платон. Государство. Книга седьмая.Предисловие переводчика
«Чем мы мыслим — кровью, воздухом или огнем?» Этим вопросом в диалоге Платона задается Сократ (Федон. 96b)[1]. Если бы меня спросили, «чем мыслит» Уолтер Липпман (1889–1974), то я бы сказала, что не воздухом. Потому что стиль известного американского журналиста, политического и морального мыслителя, одного из творцов современного американского либерализма, исключительно насыщен метафорами, аллегориями, историческими фактами и аналитиками. И не кровью. Потому что, несмотря на свою карьеру журналиста и консультанта крупных политических деятелей, Липпман, как отмечают его биографы, вел достаточно замкнутый образ жизни и оставался вне идеологических движений, религиозных конфессий[2] и академических группировок[3].
Он мыслил огнем. Несмотря на сухость заголовка книги, которую вы держите в руках, она несет на себе яркую печать исторических и современных ему дискуссий о знании и мнении, о роли Просвещения в жизни общества, о просвещенных правителях.
Получив философское образование в Гарвардском университете, Липпман отказался от академической карьеры, хотя на то были все предпосылки: интеллект, любовь и уважение профессоров, административная поддержка университета. Он стал независимым аналитиком. Долгое время его оценки внутренней и внешней политики США, публикуемые в газетах, служили компасом для многочисленных читателей. Он также повлиял на формирование политической мысли в других странах. Книга «Общественное мнение» переведена на немецкий и французский языки.
Одна из причин популярности концепции Липпмана в том, что традиционные для западной мысли вопросы о соотношении знания и мнения[4] и принципах оптимального государственного устройства он обсуждает как практические и как тесно друг с другом связанные, хотя традиционно они относятся к разным областям знания — теории познания и социальной теории.
Роберт Нисбет в философском словаре с характерным названием «Предрассудки» помещает отдельную статью об общественном мнении, где он показывает, как эти два вопроса связаны между собой. Ссылаясь на Генри Мэйна, он пишет: «Vox populi может быть Vox Dei[5], но совершенно очевидно то, что никогда не было достигнуто согласие относительно того, что значит Vox или что значит Populus». То же самое можно сказать сегодня об общественном мнении. В современной Америке ежегодно проводятся тысячи опросов, с помощью которых политики, промышленники, руководители СМИ и ученые стремятся понять, что думают люди о социальных проблемах, товарах и знаменитостях. Данные опросов, прошедшие компьютерную обработку, торжественно объявляются общественным мнением. Однако гораздо чаще это не общественное, а людское (popular) мнение. Различие между ними велико и, в конечном итоге, имеет решающее значение для демократии.
Подлинная общественность (public) в основе своей — это со-общество (community), сложившееся, как все подлинные сообщества, на основе определенных общих целей и поддерживаемое традициями, мифами и ритуалами, являющимися продуктом общей истории. Люди как таковые не являются общественностью. <…> У людского мнения отсутствует то цементирующее начало, которое обеспечивают только время и традиции. Людское мнение — это находящийся в постоянном движении поток, то появляющийся, то исчезающий, подобно морской пене»[6].
Это разведение текучего поверхностного суждения (людского мнения) и общественного мнения у Нисбета восходит к оценке Липпмана, который писал: «Допускается, без достаточных обоснований, что мнения Людей как избирателей можно понимать как самовыражение Народа как исторической общности. Ключевая проблема современной демократии заключается в том, что это допущение ложно. На избирателей нельзя полагаться как на тех, кто представляет Народ… В силу различия между Людьми как избирателями и Народом как объединенной нацией, избиратели не имеют права утверждать, что их интересы совпадают с общественным интересом. Превалирующее большинство избирателей — это не Народ».
Именно это различие между общественным и людским (популярным) мнением[7] составляет внутренний стержень дискуссий о компетентности общественного мнения, который обрастает разными смыслами на разных этапах его анализа. Книга Уолтера Липпмана «Общественное мнение» принадлежит к одному из первых больших исследований на эту тему.
* * *
Прототипом понятия общественного мнения считается понятие здравого смысла (sensus communis)[8]. Происхождение идеи общественного мнения связывается с необходимостью осмысления публичной (public), или общественной, сферы и ее функций[9].
Существование общественного мнения сопряжено с наличием печатных средств информации. «Еще до того как к концу XVIII века сформировалось достаточно четкое понятие общественного мнения, пресса использовалась для того, чтобы вызывать общественную реакцию на амбициозные политические сообщения и тем самым предъявлять властям, принимающим решения, сжимающие их тиски направленной на них публицистики и общественной реакции на эту публицистику», — пишет один из крупнейших современных мыслителей Никлас Луман[10].
Общественное мнение становится исключительно важным в ситуациях «проблематичных и нравственно неоднозначных», в частности когда «ситуация является новой и беспрецедентной, так что традиционные способы разрешения не могут быть применены к ней; у людей отсутствует согласие относительно того, какая из общепринятых практик должна в данном случае применяться; сами конвенции подвергаются серьезной критике со стороны группы несогласных»[11]. В экстремальной ситуации полемика относительно того, что должно быть сделано, может достигнуть такого накала, что возможен конфликт между разными группами[12].
В то же время, согласно либеральной теории, нейтрализация конфликтов «в общественном мнении, в моральной и религиозной областях» является одной из предпосылок институциональной защиты свободы и независимости и тем самым — существования демократического общества[13].
Не удивительно поэтому, что проблема общественного мнения исторически возникла в связи с формированием народного правления и актуализируется в ситуациях социального перелома.
Более ранние авторы, такие, как Джон Мильтон и Джон Стюарт Милль, считали, что роль прессы в формировании общественного мнения демократического общества определяется свободой от цензуры[14].
Первая научная монография об общественном мнении «Общественное мнение и толпа» принадлежит перу Г. Тарда (1901) (переведена на русский в 1905 году). Именно он был первым, кто отказался от нормативного подхода к этой теме[15].
Следующий этап пристального внимания к общественному мнению связан с кризисом либерализма с его идеей прогрессивного поступательного движения. Этот кризис был вызван Первой мировой войной. Именно к этому этапу относится книга Липпмана «Общественное мнение» (1922)[16]. Непосредственным поводом к ее написанию явился опыт пропагандистской и политической работы Липпмана во время Первой мировой войны, которая стала также первой медиа-войной в истории человечества. «…Это была первая война, — пишет Липпман, — в которой человечество одновременно могло думать об одних и тех же идеях или, по крайней мере, об одних и тех же именах идей».
Однако Липпмана интересовали не собственно механизмы воздействия на общественное мнение с помощью средств массовой информации, а проблемы прессы в связи с управлением в демократическом государстве, о которых он писал в своей более ранней работе «Свобода и новости» (Liberty and the News) (1920). «Решения в современном государстве, — писал он в этой, теперь малоизвестной, книге, — как правило, принимаются в результате взаимодействия, но не в результате взаимодействия Конгресса и исполнительной власти, а в результате взаимодействия общественного мнения и исполнительной власти». «Процесс управления происходит под влиянием «контролируемого общественного мнения» на администрацию. Этот сдвиг суверенитета «придал первостепенное значение достижению того, что называется согласием (consent)». Если суверенитет перешел от законодательной власти к общественному мнению, то тогда очевидно, что общественность должна получать правильную надежную информацию. Защита источников ее мнения должна стать „первостепенной проблемой демократии“»[17].
В отличие от более ранних авторов (Мильтон, Милль) Липпман считал, что гражданские свободы являются предпосылкой формирования реалистичного общественного мнения, но не служат его гарантией в силу сложности социальной среды и ограниченности нашего восприятия.
Исследования 40–50-х годов, например книга К. Манхейма «Человек и общество в эпоху преобразования» (1940)[18] или сочинение Й. Шумпетера «Капитализм, социализм и демократия» (1942)[19], как по своей проблематике (контроверза «знание — мнение» в контексте проблем управления демократическим обществом), так и по историко-социологическому подходу близки работе Липпмана. Авторы этого периода также обсуждают соотношение между общественным (народным) и людским мнениями и ответственность политиков за распознавание подлинно общественных интересов[20].
В «эпоху опросов» (К. Лэнг), начавшуюся в 60-е годы, дискуссии о природе общественного мнения и формах его существования обострились, поскольку измерения общественного мнения наглядно показали ловушки, в которые попадают исследователи общественного мнения. Это побудило Пьера Бурдье в 1972 году вынести общественному мнению свой знаменитый вердикт: общественное мнение не существует[21].
Сегодня эта дискуссия вылилась в контроверзу между социологами и специалистами по опросам. Патрик Шампань высказывается по этому поводу так: «Институты опросов, как и социологи, претендуют на научное измерение «общественного мнения», в то время как они лишь придали ему — при поручительстве науки — большее социальное существование. Разница в точках зрения специалистов по опросам и социологов, даже если ее чаще всего не замечают неспециалисты, значительна. Специалисты по опросам верят в существование «общественного мнения» как такового и стремятся к его максимально точному измерению, в то время как с социологической точки зрения это всего лишь коллективное верование, объективной политической функцией которого является обеспечение — в режимах демократического типа — одной из форм регулирования политической борьбы»[22].
В отечественной традиции «оптимистический» подход к общественному мнению (у Шампаня он приписывается «специалистам по опросам»), по-видимому, преобладает. В 60-е годы он был сопряжен с легитимацией социологии как самостоятельной научной дисциплины и обоснованием ее практической полезности[23]. В настоящее время этот подход актуализируется в связи с изменениями в обществе последних десятилетий[24]. Однако скептическая точка зрения («точка зрения социологов») также представлена. Вот что пишет Глеб Павловский в своей рецензии на книгу П. Шампаня, опираясь на российские реалии взаимоотношения между властью и средствами массовой информации: «Не составившись в инструмент выработки личных мнений, российские СМИ превратились в канал манипуляции элитами от лица масс — и соцопросы оказались находкой для манипулятора. «„Мнениями“ стали считаться простые ответы на вопросы о мнении, которые задавались посредством вопросников народу, а «общественным мнением» — распределение по мажоритарному принципу этих неоднозначных и неопределенных ответов…» (Шампань).
Пародия на один из принципов демократии налицо. При отсутствии интереса к ней как к работающей общественной системе (где такая в России?) опросы — вполне понятный человеку с улицы знак демократии — знак, заменяющий означаемое. Заменяющий навсегда»[25].
Внимательный читатель, вероятно, найдет в книге Липпмана мысли, которые перекликаются с этой филиппикой.
* * *
Уолтер Липпман является автором десяти монографий, тринадцати сборников статей и эссе, бесчисленного множества газетных статей, а также политических документов, среди которых особое место занимают знаменитые «Четырнадцать пунктов» американской программы послевоенного развития мира, в составлении и комментировании которых он принимал самое деятельное участие[26]. «Общественное мнение» считается одной из трех наиболее влиятельных книг Липпмана, которые характеризуют его как мыслителя[27]. Две другие — «Предисловие к морали» (A Preface to Morals) (1929) и «Очерки по социальной философии» (Essays in the Public Philosophy) (1995).
До того как взяться за написание «Общественного мнения» Липпман участвовал в социальных программах[28], написал несчетное число листовок, распространявшихся на фронте, приобрел немалый опыт политической работы. Несмотря на то, что внешне участие Липпмана в политических событиях этого времени выглядит как карьерный взлет исключительно молодого человека (Липпман вошел в состав группы Inquiry, созданной для написания «Четырнадцати пунктов», когда ему еще не было и тридцати), его участие в этом проекте было весьма драматичным. Напряженные отношения молодого политолога и журналиста с бюрократическим аппаратом, зависть менее удачливых коллег, наговоры тех, кого он критиковал в газетных публикациях, недоразумения в отношениях между ним и президентом Вильсоном[29], а в завершение — колоссальное разочарование по поводу заключительных решений Парижской мирной конференции. Отъезд Липпмана из Парижа его биографы описывают как личную капитуляцию.
Однако эти разочарования, а также его оправдавшиеся впоследствии прогнозы относительно того, что условия мирных соглашений несут в себе зародыш грядущих военных конфликтов[30], не помешали его успешной работе над рукописью. Он на время отошел от журналистики и поселился со своей первой женой Файей (Faye) Липпман в старом доме на Лонг-Айленде. Жена помогала ему в работе над рукописью, и он посвятил ей эту книгу.
Особенностью Липпмановского подхода к этой теме является соединение философского, психологического, исторического, политологического и социологического анализов[31]. Содержащиеся в книге образцы интерпретации газетных публикаций, речей политиков и проч. сегодня могли бы быть отнесены к разновидности дискурсивного анализа. Другие эмпирические исследования самого Липпмана остаются в ней за кадром (например, выполненное им совместно с Ч. Мерзом исследование репрезентации российских событий в течение трех лет, начиная с февральской революции 1917 года, в газете «Нью-Йорк таймс»[32]).
На формирование концепции Липпмана, выраженной в этой книге, повлияли Дж. Сантаяна, У. Джемс и Г. Уоллес, которые были его наставниками в Гарвардском университете, а также З. Фрейд и А. Бергсон. «Мировоззрение Липпмана как классического рационалиста формировалось в сумерках прогрессизма, которые сами прогрессисты принимали за восход. Уоллес учил его, что психология принципиально важна для исследования политики, что человеческий опыт — это альфа и омега любой продуманной политической теории. Джемс учил его, что мысль облечена в опыт и что идеи — это только предварительные конструкции этого опыта, отражающие как устремления человека, так и его любознательность. Из сочинений Фрейда Липпман понял необходимость внимания к природному и материальному началу, уважения к научному методу и понял необходимость их использования для достижения личной гармонии и социального взаимодействия… Липпман, размышляя в том же ключе, надеялся на радикальные социальные изменения и построение более справедливого общества, без осуществления широкомасштабного насилия. Он надеялся на лучшее человеческое будущее, не разделяя при этом какого-то жесткого представления о человеческой добродетели»[33].
«Смесь фабианского социализма и эмпиризма Уоллеса»[34] даже привела Липпмана на короткое время на службу к мэру города Шенектади[35], приверженцу социалистических идей. Со временем, правда, он отошел от социализма.
Идеи упомянутых мыслителей не просто повлияли на его взгляды, но и существенно сформировали его дискурсивный багаж.
В книге «Общественное мнение» можно выделить четыре тематических блока:
1) анализ механизмов восприятия информации;
2) анализ способов формирования общественного мнения и его последующего функционирования;
3) критика традиционной теории демократии;
4) информационное обеспечение процесса управления в демократическом обществе[36].
Анализируя механизмы восприятия информации, Липпман выстраивает неоплатонистскую, в своей сущности, схему. Опираясь на знаменитую аллегорию пещеры Платона (см. эпиграф к книге), Липпман говорит, что человек отделен от мира псевдосредой, состоящей из предрассудков, стереотипов и упрощенных моделей. «…Доступ к информации затруднен и неопределенен… наше понимание существенно контролируется стереотипами… данные, имеющиеся в нашем распоряжении, фильтруются иллюзиями самозащиты, престижа, нравственности, пространства и способами выборочного исследования. …Кроме уже упомянутых искажений, общественные мнения нагружены тем, что мы легко принимаем последовательность фактов или их параллельность за причинно-следственные отношения». Модели восприятия несут защитную функцию, огораживая человека от стрессов, связанных с резкими переменами, и упрощая механизмы его взаимодействия со средой и со своими собратьями. Однако подобные механизмы восприятия ставят под сомнение характерный для классической теории демократии идеал всеведущего и всемогущего гражданина, согласно которому любой простой гражданин общества способен взять на себя обязанности по управлению обществом, поскольку он от природы наделен способностью к осуществлению законодательной и управленческой деятельности.
Ошибочность этой концепции демократии Липпман связывает с тем, что первоначальная модель демократического общества в Америке строилась как фермерская демократия, в условиях замкнутого на себе сообщества, где все проблемы были обозримыми и где каждый член этого сообщества (community) рано или поздно брал на себя функции управления. Сомнительность раннедемократического идеала всезнающего гражданина, согласно Липпману, усугубляется тем, что сами механизмы функционирования прессы как главного института, поставляющего информацию, основаны на регистрации события, а не на том, чтобы рассказывать о нем Истину. «Новости, — рассуждает Липпман, — являются не зеркалом социальных условий и обстоятельств, а сообщением о как-то обозначившемся событии. Из новостей вы не узнаете, как в семечке, помещенном во влажную почву, просыпается жизнь, но журналисты сообщат вам, когда первый росток пробьется на поверхность земли. Из новостей вы даже можете узнать, что сказал какой-нибудь человек о процессе зарождения этой жизни. Из них вы можете также узнать, если росток не появился над землей вовремя». И еще: «Гипотеза, кажущаяся мне наиболее плодотворной, состоит в том, что новости и истина — не одно и то же и что они должны четко различаться. Функция новостей в том, чтобы сигнализировать о событии, функция истины — освещать скрытые факты, устанавливать между ними связь и создавать картину действительности, которая позволяла бы человеку действовать. Только в тех точках, где социальные условия принимают узнаваемую и поддающуюся измерению форму, корпус истинного знания и корпус новостей совпадают. И это сравнительно небольшая часть всего поля человеческого интереса».
«Рядовые граждане» обычно не имеют прямого доступа к фактам, которые преобразуются в новостные события. Они должны прежде всего диагностировать социальные проблемы, а не вмешиваться в процесс управления, опираясь исключительно на свои, сформированные своими опосредованными представлениями (псевдосредой), общественные мнения. Будучи пламенным приверженцем либеральной демократии, Липпман исповедовал своеобразную форму политического элитизма. Л. Л. Адамс характеризует ее следующим образом: «Придерживаясь позиции, аналогичной позиции Роберта Михельса (Michels), Липпман, по-видимому, полагал, что самое лучшее, на что мы можем надеяться, — это конструктивный, представительный элитизм, при котором рекрутирование в элиты происходит открыто и регулируется общественностью»[37]. Поэтому задача не в том, чтобы, следуя традиционной тактике либералов, совершенствовать технические и институциональные средства, а в том, чтобы усовершенствовать образование и информационную базу управления. Иначе общественное мнение превращается в индивидуальное мнение, выражающее узкие интересы отдельных группировок.
В настоящем Предисловии я не буду подробно останавливаться на поглавном анализе книги, поскольку он уже выполнен несколькими авторами[38], а перейду к некоторым особенностям стиля Уолтера Липпмана и отдельным проблемам перевода этой книги на русский язык.
* * *
На написание оригинала книги ушло меньше времени, чем на создание ее перевода. И это не удивительно. Имена и события, упоминаемые Липпманом, были у его читателей на слуху, равно как и дискуссия о соотношении между государственной и местной властями, которую продолжает Липпман в своей книге. Оригинал книги насыщен цитатами без сносок или с неполными сносками, скрытыми ссылками и разнообразными аллюзиями, превратившими перевод в работу, близкую к расшифровке. Так, например, используемое им выражение «Великое общество» принадлежит Грэхему Уоллесу (так названа одна из его книг), а название одной из частей книги «Образ демократии» заимствовано у Алексиса де Токвиля. Липпман не дает ссылок на хрестоматийные для его времени и культуры высказывания (например, на высказывания Джефферсона). Вероятно, ссылки на эти высказывания выглядели бы для его читателей так же экзотично, как для наших читателей выглядели бы ссылки на высказывания типа «Хотели как лучше…».
Тезаурус Липпмана настолько широк, насколько широким он может быть у выпускника Гарвардского университета, вращавшегося в кругу политической и культурной элиты своего времени. Обществоведам, читателям этого перевода, вероятно, интересно будет узнать, что он общался с такими деятелями, как Герберт Уэллс, Бернард Шоу, с основателями Лондонской школы экономики Беатрис и Сидни Веббами, высшим политическим руководством США.
Приходится с сожалением признать, что переводчику и научному редактору книги не удалось произвести атрибуцию всех цитат и дополнить все недостающие выходные данные. Некоторые ссылки в переводе являются компромиссным решением: указаны более поздние издания источников, чем те, с которыми работал автор книги, но сверка цитат по этим, более поздним, изданиям не производилась.
Наибольшую сложность в процессе перевода книги составили ее ключевые понятия: government, public, pattern, popular.
Термин government — типичный случай языковой полисемии — переводится в зависимости от контекста как «правительство», «правление» и «управление».
Сложный характер термина public отмечает в уже упомянутой мной работе Н. Луман. «Складывается впечатление, — пишет он, — что в понятие public всегда был встроен элемент непредсказуемости»[39].
Перевод понятия public осложняется исторически сложившимися идиоматемами русского языка. Эти идиоматемы зачастую препятствуют последовательному соблюдению концептуальных связей. Например, в русском переводе лексическая связь между понятиями public policy и public opinion утрачивается, потому что исторически сложилось так, что первое передается как «государственная политика», а второе — как «общественное мнение».
Особую проблему составила также неизбежная модернизация текста. Решения относительно модернизации принимались ситуативно. В некоторых случаях я сознательно приняла решение в пользу модернизации. В 1922 году, по-видимому, еще отсутствовал термин «респондент», поскольку Липпман использует описательное выражение «those who replied». Однако я ввожу термин «респондент» в свою интерпретацию текста, ввиду его абсолютного соответствия смыслу оригинала.
В других случаях, скажем в случае с термином «pattern», я ее избегаю, так как введение общепринятого паттерн стало бы, по-видимому, стилевым и, возможно, смысловым диссонансом.
Не исключено, что именно эти и многие другие переводческие проблемы были одним из обстоятельств, помешавших введению сочинений Липпмана в отечественный научный и общественный оборот. В фундаментальной монографии о Липпмане, написанной В.О. Печатновым по материалам архивов Липпмана в Йельском университете, нет ни одной ссылки на отечественные публикации, хотя интерес среди отечественных исследователей к творчеству Липпмана существует[40]. Обычно его имя упоминается в контексте исследований стереотипов[41], так как считается, что именно он ввел понятие стереотипа в социальную теорию[42].
Не считая перепечатки статьи Липпмана в газете «Известия» во время Карибского кризиса[43], данная книга, видимо, — первый перевод Уолтера Липпмана на русский язык[44]. Вероятно, этот проект, инициированный Фондом «Общественное мнение», найдет свое продолжение.
* * *
Помимо краткого описания исторического и научного контекстов написания книги «Общественное мнение» и взглядов его автора данное Предисловие преследует еще одну цель: поблагодарить тех людей, которые помогали мне в работе.
Итак, в заключение я с удовольствием отдаю долг тем, кто разделил со мной тяготы двух лет моей жизни с текстом переведенной мной книги.
Профессор Г.С. Батыгин вдохновил меня на работу над этой книгой. Без него этот проект был бы невозможен. Л.А. Козлова курировала административную работу по проекту и поддерживала во мне веру, что текст будет, в конце концов, переведен и понят читателями, вопреки известному тезису о неопределенности перевода. И. Борхардт оказала мне неоценимую помощь в работе над справочным аппаратом к книге и в переводе отдельных мест текста. Профессор В. Карпович, С. Линдеманн-Комарова, А. Константинов, Л. Льютон и профессор Э. Штёльтинг помогли мне при расшифровке фрагментов, которые требовали знания истории, американской политической культуры и теории либерализма. Все эти люди не пожалели своих сил, чтобы помочь мне донести до русского читателя идеи автора и особенности его стиля. И они, конечно, не отвечают за неточности перевода и библиографического оформления текста.
Низко кланяюсь своим друзьям и близким, поддержавшим меня в критические моменты осуществления проекта.
Особая благодарность — Фонду «Общественное мнение», который доверил мне работу над этим классическим текстом.
Т.В. Барчунова
Часть 1 ВВЕДЕНИЕ
Глава 1 Внешний мир и его картина в нашем сознании
1
В океане лежит остров, где в 1914 году жили англичане, французы и немцы. В те времена этот остров не имел телеграфной связи с внешним миром. Письма и газеты доставлял раз в два месяца английский почтовый пароход. Ожидая его в сентябре, островитяне все еще обсуждали содержание последней дошедшей до них газеты, где сообщалось о предстоящем процессе над госпожой Кайло, обвинявшейся в убийстве Гастона Калмета[45]. И потому в день прибытия парохода в середине сентября поселенцы, высыпавшие все как один на набережную встречать его, пребывали в необычайном возбуждении. Все ждали сообщения капитана о том, какой же приговор вынес суд. Вместо этого они узнали, что уже больше шести недель назад те из них, кто были англичанами и французами, стали врагами островитян-немцев. Все эти шесть странных недель они вели себя как друзья, тогда как на самом деле являлись врагами.
Однако участь этих людей не слишком отличалась от участи большинства населения Европы. Если островитяне находились в неведении в течение шести недель, то жители континента — от шести дней до шести часов. Так или иначе, непременно был интервал. Именно в этот отрезок времени образ Европы, в соответствии с которым люди занимались повседневными делами, уже не соответствовал той Европе, которая должна была вот-вот превратить их жизнь в хаос. Еще какое-то время каждый жил в соответствии с порядком, который рухнул. Во всем мире вплоть до 25 июля[46] люди производили товары, которые уже не суждено было экспортировать, покупали товары, которые не суждено было импортировать; думали о карьере и строили планы, надеялись и ждали, веря, что мир был именно таким, каким они себе его представляли. Писатели изображали этот мир в книгах. Европейцы доверяли картине мира, которую рисовало их сознание. А потом, спустя четыре года, в четверг утром, пришла весть о перемирии, и они с облегчением узнали о том, что мировая бойня завершилась. Тем не менее, за пять дней до вступления перемирия в силу и уже после того, как было отпраздновано окончание войны, тысячи солдат пали на полях сражений.
Оглядываясь назад, можно увидеть, насколько опосредованно наше знание о мире, в котором мы живем. Мы видим, что вести об изменениях в нем приходят то быстро, то с опозданием; но что бы мы ни принимали за подлинную картину мира, относимся мы к ней так, как будто она и есть реальная жизнь. Это трудно учитывать, когда речь идет о нас лично и о представлениях, которыми мы руководствуемся в повседневной жизни. Однако мы убеждены в очевидности этого, когда речь заходит о людях, живших в иные исторические периоды согласно своему, с нашей точки зрения смешному, мировоззрению. Мы утверждаем, глядя на них со стороны, что мир, который представая перед ними, был зачастую абсолютно противоположен миру, который они себе представляли. Мы также видим, что, повелевая и сражаясь, торгуя и проводя реформы в мире, каким они его представляли, наши предки добивались или не добивались своих целей в мире реальном. Они отправились в Индию, а открыли Америку. Они считали, что изгоняют нечистую силу, а на самом деле вешали старух. Они думали, что могут разбогатеть, все время продавая и никогда не покупая. Халиф, уверенный, что подчиняется воле Аллаха, сжег библиотеку в Александрии.
Амвросий Медиоланский, в труде, написанном около 389 года, уподобляется узнику Платоновой пещеры, который решительно не способен повернуть голову. «Изучение природы и положения Земли не помогает нам понять, на что мы надеемся в нашей грядущей жизни. Достаточно знать, что говорится по этому поводу в Писании: «Он… повесил Землю ни на чем» (Иов, 26:7)[47]. Зачем в таком случае обсуждать, повесил Он ее в воздухе или в воде, и затевать спор о том, как тонкий воздух может поддерживать Землю или почему, если она покоится на водах, Земля не проваливается на дно…? Не потому, что Земля находится в середине, как в точке равновесия, а потому, что Господь заставляет ее держаться по закону Своей воли, и она держится прочно, несмотря на окружающую ее непрочность и пустоту»[48].
Это не помогает понять, на что мы можем надеяться в грядущей жизни. Достаточно знать, что говорится по этому поводу в Писании. Зачем же в таком случае спорить? Но спустя полтора века после того, как Амвросий высказал свое мнение, споры возникли опять, на сей раз в связи с проблемой антиподов. Монах по имени Козьма[49], известный своими научными достижениями, написал «Христианскую топографию», где излагалось христианское представление о мире[50]. Он основывал свои заключения на Священном Писании. Таким образом, мир, по Козьме, — это прямоугольник, протяженность которого с востока на запад в два раза больше, чем с севера на юг. В центре прямоугольника покоится суша, окруженная океаном, который, в свою очередь, окружен другой сушей — местом обитания людей до Потопа, откуда и отправился в путешествие Ной. На севере находится высокая конусообразная гора, вокруг которой вращаются Солнце и Луна. Когда Солнце оказывается за горой, то наступает ночь. Небесный свод состоит из четырех стен, поднимающихся от краев внешней суши и смыкающихся наверху в виде купола. С внешней стороны небо также омывает океан, то есть «воды, которые находятся над небесным сводом». Пространство между небесным океаном и конечным сводом Вселенной принадлежит блаженным. Пространство между землей и небом населено ангелами. Наконец, раз св. Павел сказал, что все люди созданы для того, чтобы жить «по всему лицу земли»[51] (Деян. Ал. 17; 26), то как в таком случае они могут жить на задней стороне, где, как предполагалось, жили антиподы?
«Поскольку так гласит Писание, то христианин не должен „даже говорить об антиподах“»[52]. Тем более ни один христианин не должен отправляться в плавание на их поиски; никто из христианских правителей не должен предоставлять ему для этого корабли; и ни один набожный моряк не должен отправляться в плавание на этом корабле.
Для Козьмы Индикоплова в созданной им карте мира не было ничего абсурдного. Только имея в виду его искреннюю убежденность, что Вселенная была именно такой, как он ее описал, мы можем представить, какой страх испытал бы он перед Магелланом, или Пири[53], или авиатором, рискующим, поднявшись в воздух на высоту семи миль, столкнуться с ангелами и упереться в небесный свод. Мы лучше поймем и жестокости войны, и политические баталии, если будем помнить, что почти любой участник этих сражений абсолютно уверен в истинности своих представлений о противнике, что он принимает как факт не то, что является фактом, а то, что он считает фактом. И что в силу этого, он, подобно Гамлету, пронзит Полония за колышущимся занавесом, приняв за короля, и, возможно, произнесет:
Прощай, вертлявый глупый хлопотун! Тебя я с высшим спутал, — вот в чем горе[54].2
Великие люди даже при жизни обычно воспринимаются публикой как некая вымышленная личность. Таким образом, есть своя доля правды в старой поговорке, которая гласит, что невозможно выглядеть героем в глазах своего лакея[55]. Однако эта доля очень невелика, так как даже слуга или секретарь обычно склонны к вымыслам. Так, правящие королевские особы являются, конечно, сконструированными личностями. Независимо от того, верят ли они сами в свое публичное амплуа или просто позволяют гофмейстеру выступать режиссером жизни двора, существует по крайней мере два различных Я: одно — публичное и королевское, другое — приватное и человеческое. Биографии великих людей более или менее легко распадаются на две истории этих двух Я. Официальный биограф воспроизводит публичную жизнь, а мемуарист-разоблачитель обращается к частной. Линкольн[56] у Чарнвуда, например, — это парадный портрет, а не изображение реального человека. Это значительная эпическая фигура, действующая в том же слое реальности, что и Эней или св. Георгий. Гамильтон[57] у Оливера — это величественная абстракция, слепок с идеи, или, как говорит сам Оливер, «очерк единства Америки». Это официальный памятник федерализму как искусству управления государством, мало похожий на биографию живого человека. Иногда люди сами создают себе фасад, полагая при этом, что открывают на обозрение свои внутренние покои. Дневники Ч. Репингтона[58] или Марго Асквит[59] — это разновидность автопортрета, в котором интимные детали служат ключом к тому, как авторы видят себя.
Но самый интересный вид изображения человека — тот, который стихийно возникает в сознании людей. Например, когда Виктория взошла на трон, рассказывает Литтон Стрейчи, «среди обычной публики прокатилась большая волна энтузиазма. В моде были сентиментальность и романтические переживания. И вид юной королевы, невинной, скромной, со светлыми волосами и розовыми щечками, проезжающей по столице, наполнял сердца очевидцев этого зрелища верноподданническим восторгом. Помимо этого, всех поразил контраст между королевой Викторией и ее дядями. Погрязшие в разврате старики, эгоистичные, тупоумные и комичные, обремененные вечными долгами, дающие поводы для сплетен, они растаяли как снег, и перед народом предстала радужная коронованная весна»[60].
Жан де Пьерфе был свидетелем культа героя, когда ему довелось быть офицером в ставке Жоффра[61] в момент величайшей славы этого воина.
В течение двух лет весь мир оказывал почти божественные почести победителю битвы на Марне. Приставленный к нему носильщик буквально сгибался под тяжестью коробок, пакетов и писем, посланных генералу незнакомыми людьми, чтобы таким образом выказать ему свое восхищение. Я думаю, кроме генерала Жоффра, никому из военачальников не пришлось настолько почувствовать, что такое слава. Ему посылали коробки конфет, изготовленные на знаменитейших кондитерских фабриках мира, ящики шампанского, благороднейшие вина, фрукты, дичь, украшения и домашнюю утварь, одежду, курительные принадлежности, чернильницы, пресс-папье. Каждый регион дарил ему то, чем славился. Художники слали картины, скульпторы — статуэтки, старушки — собственноручно связанные носки или кашне, пастух, сидя в своей хижине, вырезал для него трубку. Все мировые производители, враждебно настроенные против Германии, отправляли ему свои изделия. Гавана — сигары, Португалия — портвейн. Я знавал одного парикмахера, который не нашел ничего лучше, как сделать портрет генерала из волос, принадлежавших его близким. Каллиграф, воодушевленный похожей идеей, создал композицию из коротких фраз, восхваляющих генерала. Что же касается писем, то Жоффр получал их со всего мира — написанные на всевозможных диалектах, разными шрифтами, нежные и восторженные, исполненные любви и поклонения. Авторы писем называли его Спасителем мира, Отцом отечества, Посланником Бога, Благодетелем человечества и пр… И не только французы, но и американцы, аргентинцы, австралийцы и т. п. и т. п… Тысячи детей тайком от родителей писали ему о своей любви: большинство из них называли его «Отец наш». Эти восторги стали особенно бурными при известии о поражении «варваров». Всем этим наивным душам Жоффр казался св. Георгием, поражающим змия. В сознании человечества он, разумеется, был воплощением победы добра над злом, света над тьмой.
Чудаки, лунатики, люди со странностями и просто сумасшедшие обратили к нему свои замутненные умы как к самому Разуму. Я читал адресованное ему письмо одного жителя Сиднея, умолявшего спасти его от врагов; другой корреспондент — из Новой Зеландии — просил генерала послать солдат в дом к человеку, который задолжал ему десять фунтов и отказывался отдавать деньги.
Наконец, сотни молодых девушек, преодолев робость, не ставя в известность свои семьи, выражали желание обручиться с ним. Другие же хотели только служить ему[62].
Этот идеальный Жоффр складывался из победы, которой добились он, его штаб и армия, из превратностей войны, несчастий и переживаний людей и их надежд на будущую победу. Но, помимо поклонения герою, здесь присутствовал еще и элемент изгнания нечистой силы. Механизм создания нечистой силы тождествен механизму создания героя. Если все благо исходило от Жоффра, Фоша[63], Вильсона[64] или Рузвельта[65], то все зло — от кайзера Вильгельма, Ленина и Троцкого. Они были столь же всемогущими злодеями, сколь герои были всемогущими благодетелями. Для простодушных и напуганных людей ни одна политическая неудача или недоразумение, ни одна забастовка, ни одна таинственная смерть или пожар в любой части света не обходились без участия этих исчадий ада.
3
Сосредоточенность всего мира на подобной символической личности — достаточно редкое явление, чтобы можно было говорить о каком-то особом феномене. Однако для любого автора соблазнительно воспользоваться каким-нибудь ярким и убедительным примером. Ужасы военных лет рождают подобные примеры, но они не возникают из «ничего». И в более нормальной жизни общества символические картины в такой же степени управляют поведением людей, но каждый символ несет в себе гораздо меньше смыслов, так как конкурирует со множеством других. Каждый символ эмоционально менее нагружен, поскольку в большинстве случаев репрезентирует определенную часть населения, однако в рамках этой группы индивидуальные различия подавляются гораздо меньше. В сравнительно спокойные периоды символы общественного мнения подлежат проверке, сравнению и доказательству. Они появляются и исчезают, сливаются друг с другом и забываются и при этом никогда не служат абсолютным организующим началом эмоционального состояния целой группы. В конечном итоге, остается единственная сфера человеческой деятельности, в рамках которой все население объединяется в union sacrée[66]. Это случается в разгар войны, когда в сознании людей господствуют страх, агрессивность и ненависть, которые либо гасят, либо поглощают любой другой инстинкт, пока не наступит всеобщая усталость.
Почти во все времена, даже в моменты тупиковых ситуаций в ходе войны, развивается значительно больший спектр настроений, порождающих конфликты, сомнения и компромиссы. Символизм общественного мнения, как мы увидим ниже (см. ч. 5), обычно несет в себе признаки сбалансированности интересов. Вспомним, к примеру, как быстро после заключения мира исчез стихийно сложившийся, но тем не менее удачный образ единения союзников, а вскоре последовало разрушение амплуа государств — членов коалиции: Британии как Защитницы публичного права; Франции — Стража рубежей Свободы; Америки — Крестоносца. Предлагаю читателю задуматься о том, как быстро померкли эти образы внутри самих стран, когда партийные и классовые конфликты, а также личные амбиции привели к тому, что вновь всплыли на поверхность временно забытые социальные проблемы. Точно так же тускнели образы лидеров по мере того, как один за другим Вильсон, Клемансо[67], Ллойд Джордж[68] оказались неспособными служить воплощением всеобщей надежды и в глазах избавившегося от иллюзий мира превратились просто в участников переговоров и должностных лиц.
Сожалеем ли мы об этом как об одном из неизбежных зол мирной жизни или приветствуем как возвращение к нормальному существованию, очевидно, не играет никакой роли. Наша первая задача, касающаяся фикций и символов, состоит в том, чтобы забыть об их значении для соответствующего социального порядка и размышлять о них просто как о важной части механизма человеческих взаимоотношений. В настоящее время в любом обществе (если оно не абсолютно замкнуто на собственных интересах и не настолько мало, что каждый может знать обо всем, что в нем происходит) идеи трудны для понимания и относятся к событиям, не доступным непосредственному наблюдению. Мисс Шервин из маленького городка Гофер-Прери[69] понимает, что где-то во Франции бушует война, и пытается осознать это. Она никогда не была во Франции, в частности не была и в той местности, где сейчас проходит линия фронта. Она видела изображения французских и немецких солдат, но не способна представить себе три миллиона человек. На самом деле никто не может представить этого, даже профессионалы.
Они думают о них, скажем, как о двух сотнях дивизий. Но у мисс Шервин нет доступа к картам сражений, и поэтому если она думает о войне, то связывает ее с Жоффром и кайзером, воображая, будто они сошлись в поединке. Вероятно образ, представший перед ее внутренним взором, походил бы на гравюру XVIII века, изображающую великого воина. Он невозмутим и отважен. Его гигантская фигура помещена на фоне армии, выстроившейся у него за спиной рядами маленьких аккуратных фигурок. Подобные образы могут гнездиться и в сознании великих людей. Де Пьерфе рассказывает о том, как к Жоффру приходил фотограф. Генерал принимал его в своем «кабинете, обычном для человека среднего класса. В тот момент он сел за пустой письменный стол, чтобы подписать какие-то бумаги. Вдруг кто-то заметил, что на стенах нет карт. А поскольку, согласно распространенному мнению, невозможно представить себе генерала без карт, то на стены повесили несколько карт, но вскоре после того как генерала сфотографировали, их сняли»[70].
Единственной эмоциональной реакцией на событие, в котором человек сам не участвует, может быть чувство, вызванное в нем мысленным образом этого события. Именно поэтому, до тех пор пока мы не узнаем, что именно представляется другим людям, мы не сможем правильно понять их поступки. Однажды мне пришлось наблюдать, как девушка, выросшая в шахтерском городке в Пенсильвании, из предельно радостного состояния внезапно впала в отчаяние, когда порывом ветра разбило оконное стекло. Она горевала несколько часов, а я не мог понять почему. Но когда она, наконец, успокоилась настолько, что смогла говорить, выяснилось, что она верила в примету — разбитое оконное стекло означает смерть близкого родственника. Девушка оплакивала своего отца, который напугал ее своим внезапным отъездом из дома. Отец, конечно, оказался жив, что вскоре и подтвердилось телеграммой. Но пока телеграмма не пришла, для девушки разбитое стекло оставалось дурным предзнаменованием. Только серьезное психиатрическое обследование могло показать, почему она так сильно верила в эту примету. Однако даже постороннему наблюдателю ясно, что девушка, чрезвычайно расстроенная семейными неурядицами, навоображала всяких ужасов, будучи спровоцирована случайным событием.
В подобных случаях все зависит от степени отклонения от нормы. Когда генеральный прокурор, которого испугала взорвавшаяся на пороге его дома бомба, убеждает себя, начитавшись революционной литературы, что революция должна свершиться 1 мая 1920 года, ясно, что здесь срабатывает тот же самый механизм. Военное время, разумеется, поставляет массу подобных примеров. Случайное происшествие, творческое воображение, желание верить — из этих трех элементов складывается суррогатная реальность, которая вызывает сильнейшую инстинктивную реакцию. Достаточно очевидно, что при некоторых условиях люди реагируют на фикции столь же сильно, сколь на действительные события, а во многих случаях помогают создавать те самые фикции, на которые сами же и реагируют. Пусть первым бросит камень тот, кто не поверил, что русская армия в августе 1914 года достигла Англии, кто не поверил рассказу о злодеяниях без прямых доказательств, кто никогда не подозревал заговора, предательства или шпионажа там, где их не было и в помине. Пусть первым бросит камень тот, кто никогда не поверил как в истинную правду в свои собственные подозрения, которые были высказаны вслух другим человеком, но не более сведущим, чем он сам.
Во всех этих примерах мы должны обратить внимание на одну общую черту — между человеком и его средой располагается некая псевдосреда. Поведение человека является реакцией именно на эту псевдосреду. Последствия этой реакции, собственно действия человека, происходят уже в реальной среде. Если поведение выражается не в практических действиях, а в том, что можно условно обозначить как мысли или эмоции, потребуется много времени, чтобы в структуре фиктивного мира образовалась серьезная брешь. Но если стимул, исходящий из псевдофактов, ведет к взаимодействию с объектами или другими людьми, то противоречие возникает достаточно быстро. Складывается впечатление, что некто лезет на рожон, учится на собственных ошибках, испытывает дискомфорт от неумения приспособиться к окружающей действительности. То есть разворачивается трагедия в духе Герберта Спенсера[71], когда Прекрасную Теорию убивает Шайка Грубых Фактов. Понятно, что в области социальных отношений приспособление человека к окружающей действительности происходит посредством фикций.
Говоря о фикциях, я не имею в виду ложь. Под этим термином я подразумеваю представление о среде, в большей или меньшей мере созданное самим человеком. Область фикций простирается от абсолютно бредовых видений до вполне осознанного использования ученым схематических моделей или округленных результатов вычислений. Фикция может выступать как нечто достоверное, она не вводит нас в заблуждение, пока мы помним о степени условности построения схемы. В действительности человеческая культура — это, главным образом, отбор, реорганизация, отслеживание моделей (patterns) и стилизация того, что Уильям Джемс называл «случайными отзвуками и новыми сочетаниями наших идей»[72]. Альтернативой фикциям служит прямое воздействие приливов и отливов ощущений. На самом же деле это не настоящая альтернатива, поскольку, как ни освежается наша картина мира при взгляде на окружающее совершенно наивным взором, наивность сама по себе не является мудростью, хотя и служит источником и способом оттачивания мудрости.
В целом, окружающая среда — слишком сложное и изменяющееся образование, чтобы можно было познавать ее напрямую. Мы не готовы иметь дело со столь тонкими различиями, разнообразием, перемещениями и комбинациями. Но поскольку нам приходится действовать в этой среде, прежде чем начать с ней оперировать, необходимо воссоздать ее на более простой модели. Чтобы путешествовать, человек должен иметь географические карты. Основная сложность кроется в том, что невозможно создать карту, сидя в келье, необходимо отправиться в путешествие, разведать новые земли и уж затем нанести их на карту.
4
Итак, аналитик общественного мнения должен начать с того, чтобы признать существование взаимосвязи между сценой действия, восприятием этой сцены в сознании людей и реакцией людей на восприятие происходящего на сцене действия. Это подобно пьесе, подсказанной актерам их собственным жизненным опытом, в которой сюжет разыгрывается в реальной жизни актеров, а не на сцене. Эта двойная драма внутреннего мотива и внешнего поведения обычно хорошо изображается в кино. К примеру, двое мужчин на экране ссорятся из-за денег, но движущие ими страсти непонятны зрителям. Затем начинается новый эпизод, в котором показывается, что видит один из этих мужчин своим внутренним взором. В первой сцене мужчины, сидя друг против друга за столом, ссорятся из-за денег. Но в своих воспоминаниях герой обращается к временам юности, когда девушка бросила его ради человека, который сейчас сидит напротив него. Тем самым объясняется внутренняя драма: наш герой не жаден — он влюблен.
Сцену, напоминающую описанную выше, можно было наблюдать в сенате США. Утром 29 сентября 1919 года, за завтраком, один из сенаторов прочитал сообщение в газете «Вашингтон пост» (Washington Post) о том, что на побережье Далмации высадилась морская пехота США. Вот что говорилось в газете.
Теперь факты установлены
Установлены следующие важные факты. Приказ контр-адмирала Эндрюса, командующего военно-морскими силами в Адриатике, поступили от Британского Адмиралтейства через Военный Совет и контр-адмирала Кнаппса в Лондоне. Никто не спрашивал подтверждения приказа у министерства военно-морского флота…
Без ведома Дэниэлса[73]
Г-н Дэниэлс, по-видимому, оказался в странной ситуации, когда пришли телеграфные сообщения о том, что силы, которые он должен был полностью контролировать, без его ведома начали военные действия. Стало очевидно, что Британское Адмиралтейство могло отдавать приказы контр-адмиралу Эндрюсу, чтобы тот действовал от имени Великобритании и ее союзников, поскольку ситуация требовала жертв государственного масштаба, чтобы держать в узде соратников Д'Аннунцио[74].
Как стало ясно позднее, согласно новому плану Лиги Наций в экстремальных ситуациях иностранцы могут управлять Американскими военно-морскими силами — с согласия или без оного со стороны министерства военно-морского флота США… и т. д. (курсив мой. — У.Л.).
На заседании сената первым комментирует сообщение г-н Нокс от Пенсильвании. Он негодует и требует расследования. В следующем выступлении — г-на Брандеджи от штата Коннектикут — уже чувствуется, что возмущенный тон первого выступающего порождает доверие. Если г-н Нокс возмущается и хочет узнать, правдиво ли сообщение, то г-н Брандеджи через полминуты хочет узнать, что бы произошло, если бы были потери среди личного состава. Г-н Нокс, заинтересовавшись вопросом, забывает, что он требовал расследования, и отвечает на вопрос. Гибель американских морских пехотинцев означала бы вступление страны в войну. До сих пор дискуссия развивалась в условном наклонении. Далее следует ее продолжение. Г-н МакКормик от штата Иллинойс напоминает сенату, что администрация Вильсона склонна к ведению небольших несанкционированных войн. Он повторяет остроумное замечание Теодора Рузвельта о «ведении мира». Новый обмен репликами. Г-н Брандеджи замечает, что корабли действовали «согласно приказам Совета Лиги Наций, который заседает где-то там», но он не помнит, кто представляет Соединенные Штаты в этом органе. Совет Лиги Наций не упоминается в конституции Соединенных Штатов. Поэтому г-н Нью предлагает резолюцию, согласно которой требуется представить соответствующие факты.
До этого момента сенаторы все еще смутно осознают, что они обсуждают слух. Будучи юристами, они все еще помнят о необходимости предоставления доказательств и свидетельств очевидцев. Но как люди из плоти и крови они уже испытывают страшное негодование из-за того, что американские корабли получили приказ участвовать в военных действиях от иностранного руководства и без согласия конгресса. Психологически они готовы верить этому, поскольку, будучи республиканцами, выступают против Лиги Наций. Это подстегивает к выступлению лидера демократов Хичкока, сенатора от штата Небраска. Он становится на защиту Совета Лиги Наций: тот действовал в условиях войны. Мир еще не был заключен, потому что республиканцы затягивают его заключение. Следовательно, действия Совета были продиктованы необходимостью и не противоречили законам. Обе стороны теперь допускают, что сообщение было правдивым, а выводы, которые они делают, продиктованы их партийной принадлежностью. Тем не менее основу дискуссии составляет это удивительное допущение, и оно пересиливает принятую ранее резолюцию проверить его истинность. Данная ситуация показывает, насколько трудно даже профессиональным юристам не реагировать на ситуацию до тех пор, пока не выяснится, что же на самом деле произошло. Сенаторы реагировали мгновенно, приняв фикцию за правду потому, что очень хотели этого.
Несколькими днями позже появилось официальное сообщение, что ни британское правительство, ни Совет Лиги Наций не отдавали никаких приказов силам морской пехоты США. Десант высадился по просьбе итальянского правительства для защиты итальянцев, и американский командующий получил официальную благодарность от итальянских властей. Морские пехотинцы не начинали военных действий против Италии. Они действовали согласно практике, принятой в международном сообществе, не имевшей никакого отношения к Лиге Наций.
Сценой, где происходили действия, была Адриатика. Восприятие места действия в умах вашингтонских сенаторов было заведомо ложным. Ложную картину создал человек, которого волновали не столько события в Адриатике, сколько поражение Лиги Наций. Реакция сената на эту картину вновь разожгла межпартийные противоречия по вопросу поддержки Лиги Наций.
5
Нет смысла обсуждать, действовал ли сенат на должном уровне или нет в данном конкретном случае. Как, впрочем, и сравнивать его с нижней палатой парламента. В данный момент я хочу сосредоточиться только на разыгрываемом во всем мире спектакле: люди влияют на свою среду под действием стимулов, исходящих из псевдосреды. Ведь даже тогда, когда принимается во внимание целенаправленный обман, политическая наука должна разъяснять, как два государства, атакующие друг друга, могут быть уверены, что они защищаются от агрессора, или как два класса, находящиеся в состоянии войны, могут быть уверены, что выступают во имя общих интересов. Кто-то, вероятно, скажет, что они живут в разных мирах. Но вернее будет сказать, что они живут в одном и том же мире, при этом ощущая и полагая, что живут в разных.
Урегулирование политических интересов в Большом Обществе (Great Society) происходит именно при столкновении между собой особых артефактов: частных, групповых, классовых, территориальных, профессиональных, государственных, сектантских. Но именно эти фикции и определяют значительную часть политического поведения человека. Пятьдесят полновластных парламентов, которые, вероятно, следует принимать во внимание, состоят, каждый по крайней мере, из сотни законодательных органов. Те, в свою очередь, — как минимум из пятидесяти иерархий местных и городских законодательных собраний, которые вместе со своими исполнительными, управленческими и законодательными органами образуют формальную власть на Земле. Но и это не приоткрывает нам всей степени сложности политической жизни. В каждом из этих бесчисленных центров власти существуют партии, а эти партии тоже образуют иерархии, уходящие своими корнями в классы, клики и кланы, кроме них действуют еще отдельные политики, каждый из которых образует свой собственный центр паутины, сотканной из связей, памяти, страхов и надежд.
Так или иначе, по причинам, которые не придают огласке, в результате доминирования, компромисса или взаимных услуг от этих политических органов исходят приказы о движении армий или заключении мирных соглашений; о помиловании, ссылке, заключении под стражу, защите прав на собственность или ее конфискации; приказы, определяющие размер налогов, поощряющие один вид предпринимательства и осуждающие другой, упрощающие иммиграцию или затрудняющие ее, развивающие средства массовой информации или вводящие жесткую цензуру. Согласно этим приказам строятся школы и военные корабли, провозглашаются «политические программы» и «судьбоносные решения», возводятся экономические барьеры, создается или отчуждается частная собственность, один народ подчиняют другому, защищаются интересы одного класса в ущерб интересам другого. Каждое решение строится на строго определенном видении фактов. Определенное видение обстоятельств становится основанием для выводов и стимулирует впечатления и ощущения.
И даже все названное выше не приоткрывает завесу над действительной сложностью картины. Формальная политическая структура существует в социальной среде, где имеются бесчисленные большие и малые корпорации и институты, ассоциации с добровольным и обязательным членством, государственные, периферийные, городские и районные объединения, которые достаточно часто принимают решения, учитываемые политическими органами. На чем основываются эти решения?
«Современное общество, — говорит Честертон[75], - является по своей природе небезопасным, поскольку оно основывается на представлении о том, что все люди будут делать одно и то же, руководствуясь разными причинами… И точно так же, как в голове каторжника может зреть злостное преступление, которое он намеревается совершить в одиночку, под шляпой провинциального чиновника может гнездиться особая философская система. Один человек может быть абсолютным материалистом и считать, что его собственное тело — страшная машина, порождающая его сознание. Он будет прислушиваться к своим мыслям как к монотонному тиканью часов. Другой человек, его сосед, может быть сторонником движения «Христианская наука» (Christian Science) и каким-то образом представлять свое тело менее материальным, чем тень от него. Он может даже почти увериться в том, что движения его собственных рук и ног подобны движениям змей в галлюцинациях человека в состоянии белой горячки. А третий может быть христианином. Он, как говорят его соседи, живет в мире волшебных сказок, в мире неземных образов, скрытых для всех, но явных для него самого. Четвертый может быть теософом и, вероятно, — вегетарианцем, и я не вижу оснований, почему я не могу доставить себе удовольствие, вообразив, что пятый поклоняется дьяволу… Независимо от того, есть ли какой-то толк от такого разнообразия, можно сказать, что единство этого сообщества ненадежно. Предположение, что все люди всех времен и народов, думающие по-разному, будут тем не менее действовать одинаково, очень сомнительно. Оно означает, что вы строите общество не на общности людей и даже не на соглашении между ними (convention), а скорее — на случайном стечении обстоятельств. Четверо людей могут встретиться под одним уличным фонарем; один из них подошел к нему, чтобы, выполняя программу реформы городского хозяйства, покрасить его в густо-зеленый цвет; другой — чтобы заглянуть в свой требник; третий — чтобы обхватить его в восторженном порыве, вызванном винными парами; а последний — чтобы встретиться со своей дамой сердца. Но ожидать встречи тех же самых людей в этом месте на следующий вечер неразумно…»[76].
Вместо четырех прохожих возле уличного столба представьте правительства, партии, корпорации, общества, социальные и профессиональные группы, университеты, секты, национальные группы. Подумайте о законодателе, который голосует за правовой акт, касающийся народов, живущих на огромном расстоянии от него; о государственном деятеле, принимающем решение. Подумайте о мирной конференции, перекраивающей границы Европы; о дипломате, который находится за рубежом и пытается разгадать намерения как своего правительства, так и правительства иностранного государства; о бизнесмене, который устанавливает контакты, чтобы начать дело в экономически отсталой стране; об авторе передовиц, призывающем к войне; о священнике, обращающемся к полиции с требованием ограничить увеселительные мероприятия. Подумайте о посетителях клуба, замышляющих забастовку; о членах кружка кройки и шитья, намеревающихся упорядочивать работу школ; о судьях, размышляющих, может ли законодательное собрание штата Орегон установить продолжительность рабочего дня для женщин. Подумайте о кабинете министров, который собрался, чтобы решить вопрос о признании правительства; о партийной конференции, составляющей платформу действий и выбирающей своего кандидата для участия в каком-либо мероприятии; о двадцати семи миллионах избирателей, что бросают свои бюллетени в урны для голосования; об ирландце из Корка, думающем об ирландце из Белфаста; о Третьем Интернационале, планирующем изменить жизнь общества; о совете директоров, рассматривающем требования работников своих предприятий; о юноше, выбирающем карьеру; о торговце, оценивающем спрос и предложение на предстоящий сезон; о наблюдателе, предсказывающем ход развития событий на рынке; о банкире, раздумывающем, вкладывать или не вкладывать капитал в новое предприятие; о рекламодателе; о потребителе рекламы… Подумайте о разных категориях американцев, размышляющих, что такое «Британская империя», «Франция», «Россия» или «Мексика». Все они не слишком отличаются от четырех прохожих, встретившихся у зеленого фонарного столба, описанного Честертоном.
6
Итак, прежде чем углубиться в джунгли неясностей, касающихся врожденных различий между людьми, имеет смысл сосредоточиться на удивительных различиях в представлениях людей о мире[77]. Я не сомневаюсь в существовании важных биологических различий между людьми. Поскольку человек — это животное, было бы странно, если бы их не было. Но когда речь идет о людях как о рациональных существах, невозможно обобщить данные об их поведении, прежде чем будет достигнуто примерное сходство между средами их обитания.
Прагматическая ценность этой идеи состоит в том, что с ее помощью мы вносим уточнение в тянущуюся со времен античности дискуссию о природе и воспитании; врожденных качествах и окружении. Ведь псевдосреда — это гибрид, образованный путем сочетания «человеческой природы» и «условий». С моей точки зрения, этот гибрид хорошо показывает бессмысленность заключений о необходимых общественных условиях и о том, что представляет собой человек и каким он будет, на основании наблюдений за его деятельностью. Ведь мы не знаем, как люди будут действовать, реагируя на события в Большом Обществе. Нам наверняка известно только их поведение в ответ на то, что спокойно можно назвать самой неадекватной картиной Большого Общества. Основываясь на подобных данных, никаких достоверных выводов относительно человека или Большого Общества сделать нельзя.
Итак, вот ключ к нашему исследованию. Мы допускаем, что человеческие поступки основываются не на прямом и очевидном знании, а на картинах, которые индивид рисует сам или получает от кого-то другого. Если в его атласе говорится, что мир плоский, он не станет близко подплывать к тому месту, которое он полагает краем земли, опасаясь свалиться. Если на его карте изображен фонтан вечной молодости, то какой-нибудь Понсе де Леон[78] отправится на его поиски. Если некто откопает кусок породы желтого цвета, похожей на золото, он в течение какого-то времени будет действовать так, как будто и в самом деле нашел золото. То, как люди представляют себе мир, определяет в данный конкретный момент, что они будут делать. То есть определяет их усилия, их ощущения, надежды, но не определяет достижений и результатов. На что рассчитывают те, кто громче всех кричит о «материализме» и презрении к «идеологам», — коммунисты марксистского направления? На то, что посредством пропаганды можно сформировать группу, которая осознаёт свои классовые интересы. Но что такое пропаганда, если не стремление изменить картину, на которую реагируют люди, подставить одну социальную модель поведения (pattern) вместо другой? Что такое классовое сознание, если не способ осознания мира? Сродни национальному сознанию, но иначе направленное? Не «сознание рода» профессора Гиддингса[79], но существующее как процесс, в ходе которого мы верим, что распознаем среди множества людей тех, кто маркирован как представитель нашего рода?
Попробуйте объяснить социальную жизнь как процесс поиска удовольствий и стремление избежать боли. Очень скоро вы скажете, что и гедонизм не отвечает полностью на вопрос. Поскольку, даже если предположить, что человек действительно преследует эти цели, остается в стороне проблема, почему он думает, что именно таким образом можно достичь удовольствия? Можно ли считать, что человек руководствуется своим сознанием (conscience)? Тогда как в таком случае объяснить конкретный тип его сознания? Теорией экономического эгоизма? Но как люди приходят к пониманию, в чем именно состоит их интерес? Что это: желание безопасности, престижа, доминирования или то, что весьма неопределенно называется самореализацией? Что люди подразумевают под личной безопасностью, престижем, превосходством над другими? Что они понимают под самореализацией? Удовольствие, боль, муки совести, чувство защищенности, рост авторитета, усовершенствование навыков в определенной области — вот что движет человеком. Наверное, существуют какие-то неосознанные предрасположенности, которые влекут его к достижению подобных целей. Но ни формулировка цели, ни описание, каким образом достичь ее, не могут объяснить, как, в конце концов, поведет себя индивид. Сам по себе факт, что люди строят предположения, доказывает, что их псевдосреды, их внутренние образы мира определяют их образ мышления, настроения и деятельности. Потому что, если бы связь между действительностью и реакцией на нее людей была прямой и непосредственной, а не косвенной и основанной на определенных выводах, не существовало бы нерешительности и неудовлетворительных результатов. Если бы каждый из нас чувствовал себя столь же уютно в этом мире, сколь удобно чувствует себя человеческий зародыш во чреве матери, у Бернарда Шоу не было бы оснований изречь, что ни одному человеческому существу, за исключением первых девяти месяцев его существования, не удается так же удачно решать свои проблемы, как это делает растение.
Основная проблема применения психоаналитической схемы к политическому мышлению возникает именно в связи с этим. Фрейдисты озабочены тем, что отдельные индивиды не умеют приспосабливаться к другим индивидам и к конкретным обстоятельствам. Они предположили, что если бы можно было скорректировать внутренние психические расстройства, то раз и навсегда было бы установлено понятие нормы в человеческих отношениях. Но общественное мнение имеет дело с косвенными, невидимыми и загадочными событиями, где ничто не является очевидным. Ситуации, к которым относится общественное мнение, выступают как мнения. Психоаналитик же почти всегда допускает, что окружение познаваемо, а если не познаваемо, то по крайней мере приемлемо для любого незамутненного рассудка. Подобное допущение является проблемой для общественного мнения. В отличие от психоаналитика, принимающего как данность легко познаваемую среду, социальный аналитик стремится изучить, как понимается широкое политическое окружение и что надо сделать для более полного его понимания. Психоаналитик исследует взаимодействие X со средой, а социальный аналитик — взаимодействие X с псевдосредой.
Конечно, социальный аналитик находится в вечном долгу перед новой психологией, и не только потому, что при правильном применении она помогает встать людям на ноги, приблизить желаемое, но и потому, что исследование снов, фантазий и рационализации проливает свет на то, как складывается псевдосреда. Но он не может принять в качестве критерия то, что называется «нормальной биологической карьерой»[80] в рамках существующего социального порядка или карьерой, «свободной от религиозных ограничений и догматических условностей» за пределами социального порядка[81]. Что социолог понимает под выражением «нормальная общественная карьера»? Или под выражением «жизненный путь, свободный от запретов и условностей»? Критики-консерваторы, разумеется, выступают за первый способ построения карьеры, а романтики — за второй. Но подобные позиции критиков означают, что они принимают окружающий мир как само собой разумеющийся. Тем самым они признают, что общество — это нечто, соответствующее их представлению о норме или о свободе. Оба представления являются, по сути, общественными мнениями, и если психоаналитик, как врач, может просто принять их, то социолог не может воспользоваться продуктами существующего общественного мнения как критериями при изучении общественного мнения.
7
Мир, с которым мы вынуждены иметь дело как политические субъекты, находится за пределами досягаемости, видимости и за пределами сознания. Его нужно исследовать, описывать, воображать. Человек — не аристотелевский бог, озирающий все сущее единым взглядом, а продукт эволюции, который может выхватить фрагмент реальности, достаточный, чтобы выжить, и в потоке времени поймать несколько моментов озарения и счастья. Тем не менее этот «продукт эволюции» изобрел способы видеть то, что невозможно увидеть невооруженным глазом и невозможно услышать «невооруженным ухом». Он придумал, как взвешивать огромные и мельчайшие предметы; как считать множество чисел, которые ему не под силу удержать в памяти. Он научился с помощью своего разума видеть те части мира, которые никогда не мог бы непосредственно видеть, осязать, обонять, слышать и помнить. Постепенно он создает для себя и в своей голове заслуживающую доверия картину мира, находящегося за пределами его досягаемости.
Характеристики внешнего мира, которые вытекают из поведения других человеческих существ постольку, поскольку это поведение касается нас самих, зависит от нас или интересно нам, мы можем в первом приближении назвать общественными делами (public affairs). Картины в головах этих человеческих существ, образы их самих, других людей, их потребностей, целей, взаимоотношений — это общественные мнения. Картины, в соответствии с которыми действуют группы людей или индивиды, действующие от имени групп, — это Общественное Мнение, с большой буквы. Таким образом, в последующих главах мы будем анализировать причины, по которым внутренняя картина так часто вводит в заблуждение людей, когда они имеют дело с внешним миром. Сначала мы рассмотрим основные причины, ограничивающие доступ людей к фактам. Это разные виды искусственной цензуры; способы ограничения социальных контактов; сравнительно малое время, затрачиваемое ежедневно на ознакомление с общественными делами; искажения представлений, возникающие, когда изложения событий должны быть сжаты в очень короткие сообщения; трудности, связанные с тем, что сложный мир должен быть отражен в ограниченном лексиконе; и, наконец, страх столкнуться с фактами, которые могут показаться угрозой сложившемуся жизненному укладу.
Затем в нашем анализе мы перейдем от внешних ограничений к вопросу о том, как на поток поступающих извне сообщений влияют уже закрепившиеся образы, предрассудки и предубеждения, которые служат орудием интерпретации и расширения этих сообщений и, в свою очередь, энергично направляют игру воображения и само видение событий. Далее, мы перейдем к анализу того, как сообщения, ограниченные извне и сложившиеся в стереотипные модели поведения (patterns), идентифицируются у отдельного человека (по мере того как он их переживает и понимает) с его собственными интересами. Затем мы рассмотрим, как из отдельных мнений кристаллизуется то, что называется Общественным Мнением, как формируется то, что можно назвать Государственной Волей, Групповым Сознанием, Общественной Целью.
Первые пять частей настоящей книги носят описательный характер. Затем будет предложен анализ традиционной демократической теории общественного мнения. Суть аргументации здесь следующая: демократическая теория в своей исходной форме никогда всерьез не рассматривала проблему, возникающую в связи с тем, что картины в головах людей не являются механическим отображением окружающего их мира. Далее, поскольку демократическую теорию критикуют мыслители социалистического направления, мы рассмотрим наиболее развитую и последовательную критику ее со стороны английских «гильдейских социалистов»[82]. Моя цель в данном случае — выяснить, могут ли эти реформаторы принять во внимание основные сложности общественного мнения. Мне представляется, что они полностью игнорируют эти сложности, как и сторонники демократической теории, потому что, живя в более сложной цивилизации, они предполагают, что в сердцах людей каким-то таинственным образом существует знание о мире, лежащем за пределами их досягаемости.
Я утверждаю, что любое представительное правительство, будь то в сфере, традиционно называемой политикой, или в сфере промышленности, не может работать успешно (независимо от характера выборов), если лица, ответственные за принятие решений, не опираются на независимую экспертную организацию, специализирующуюся на экспликации невидимых фактов. Следовательно, я стремлюсь доказать, что необходимо соблюдать не только принцип представительности людей, но и принцип представительности невидимых фактов. И только соблюдение последнего позволит достичь удовлетворительной децентрализации и избежать недопустимой и нефункциональной фикции. Каждый из нас должен прийти к компетентному мнению обо всех общественных делах.
Я также утверждаю, что существует путаница в вопросе о прессе. И ее критики, и ее апологеты ожидают, что пресса должна осознавать эту фикцию и эксплицировать все то, что было невидимым в теории демократии. Читатели ожидают, что это чудо должно произойти вне их собственного участия и вмешательства. Демократы рассматривают газеты как панацею от дефектов их собственной деятельности, тогда как анализ природы новостей и экономических оснований журналистской деятельности показывает, что газеты неизбежно отражают и, следовательно, в большей или меньшей степени усиливают дефектность организации общественного мнения. Я считаю, что общественные мнения, для того чтобы быть надежными, должны быть организованы для прессы, а не самой прессой, как это происходит сегодня. В этом я вижу первостепенную задачу политической науки, которая снискала себе репутацию тем, что формулировала реальные решения, а не выполняла апологетическую, критическую или информационную функцию уже после принятия этого решения. Я стремлюсь показать, что проблемы, возникающие в управлении и в промышленности, создают предпосылки того, чтобы политическая наука могла развиваться и служить обществу. И, разумеется, я надеюсь, что мой труд поможет кому-то реализовать эту возможность более глубоко, а потому и более осознанно, чем это сделал я.
Часть 2 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ВНЕШНИМ МИРОМ
Глава 2 Цензура и секретность
1
Вид генерала, председательствующего на редакторском совещании во время, когда идет одна из величайших битв в истории человечества, напоминает сцену из «Шоколадного солдата»[83]. Тем не менее, согласно информации из первых рук, полученной от офицера, который редактировал французские коммюнике, подобные совещания были составной частью войны. В самый тяжелый момент Верденской операции генерал Жоффр и его окружение обсуждали существительные, прилагательные и глаголы, которые должны были быть напечатаны в газетах на следующее утро.
«Вечернее коммюнике от 23 (февраля 1916 г.), — пишет де Пьерфе, — редактировалось при весьма драматических обстоятельствах. Бертло, сотрудник канцелярии премьер-министра, позвонил по приказу министра и попросил генерала Пелле подчеркнуть масштабы атаки неприятеля. Необходимо было подготовить общество к наихудшему исходу на случай, если события примут катастрофический характер. Это беспокойство ясно показывало, что правительство не доверяло ни ставке главнокомандующего, ни военному министерству. Пока Бертло выступал, генерал Пелле делал заметки. Он вручил мне бумагу, на которой были изложены пожелания правительства, вместе с приказами генерала фон Даймлинга, найденными у некоторых пленных, где сообщалось, что атака немецких войск — лучшее средство установить мир. В очень искусной форме в них говорилось о том, что Германия предпринимает колоссальные и беспрецедентные усилия и, победив, положит конец войне. Все это делалось с той целью, чтобы никто не удивился нашему отступлению. Когда через полчаса я вернулся, то обнаружил, что в кабинете полковника Клоделя в его отсутствие собрались генерал Пелле, генерал Жанэн, полковник Дюпон и подполковник Ренуар. Генерал Пелле, опасаясь, что мне не удастся добиться желаемого эффекта, приготовил собственный черновик коммюнике. Я зачитал только что написанный мною текст. Его сочли слишком умеренным. Однако текст генерала Пелле показался слишком тревожным. Я намеренно опустил приказ, отданный на тот день фон Даймлингом. Включить его в коммюнике означало бы нарушить формулу, к которой общество уже привыкло, то есть превратить сообщение в своего рода мольбу. Это прозвучало бы так: «Вы полагаете, что мы можем сопротивляться?» Были основания опасаться, что публика будет расстроена этим изменением интонации и подумает, что все потеряно. Я объяснил свои соображения и предложил напечатать текст Даймлинга в газетах, в форме отдельной заметки.
Мнения разделились. Генерал Пелле отправился за генералом де Кастельно, чтобы с его помощью принять окончательное решение. Генерал явился спокойный, улыбающийся. Шутливо и тепло отозвался о нашем, нового типа, литературно-военном совете. Затем просмотрел тексты. Он выбрал более простой, усилил в нем первую фразу, вставил слова «как и ожидалось», придавшие фразе уверенности. Высказался категорически против того, чтобы включать в текст приказ фон Даймлинга, и предложил передать его прессе в отдельном виде»[84]. Вечером генерал Жоффр внимательно прочел коммюнике и одобрил его.
Через несколько часов эти две или три сотни слов будут прочитаны во всем мире. Они создадут в сознании людей картину происходившего у Вердена. Одних эта картина заставит собраться с духом, других повергнет в отчаяние. Лавочнику из Бреста, крестьянину из Лотарингии, депутату, заседающему во дворце Бурбонов, редактору из Амстердама или Миннеаполиса нужно было дать надежду, но одновременно и подготовить их к возможному поражению, не вызвав паники. Таким образом, им сообщают, что сдача позиций не является неожиданностью для французского командования. Им внушают мысль, что данную ситуацию надо считать серьезной, но не странной. На самом деле ставка главнокомандующего не была готова к наступлению немцев. Не были выкопаны окопы и траншеи, вспомогательные дороги не проложены, отсутствовала колючая проволока. Но если бы гражданское население признало все эти недочеты, в их сознании неудача переросла бы в катастрофу. Верховное командование может испытывать разочарование, однако не потерять самообладания. Но обычные люди — как внутри страны, так и за ее пределами — терзались сомнениями и, в отличие от профессионалов, не представляли вариантов развития событий. Если бы они получили полную картину, то не разобрались бы в каше сведений, свидетельствующих как о компетенции офицеров, так и об ее отсутствии. Поэтому, вместо того чтобы предоставить в распоряжение общества все факты, известные генералам, власти предали огласке только некоторые из них, подав их так, чтобы по возможности успокоить обывателей.
В данном случае люди, которые создали псевдосреду, знали, какой была реальная обстановка. Но несколько дней спустя случился инцидент, о котором французскому командованию ничего не было известно. Немцы сообщили, что накануне они взяли штурмом форт Дуомон[85]. Во французском штабе в Шантильи никто не мог понять, как это могло произойти, так как утром 25-го, после того как в сражение вступил XX корпус, перевес был на стороне французов. В сводках с фронта ничего не говорилось о Дуомоне. Однако специальное расследование показало, что сообщение немцев было верным, хотя никто еще не знал, как был взят форт. Тем временем немецкое коммюнике облетело весь мир, и французскому штабу необходимо было дать объяснение случившемуся. «Поскольку в Шантильи не представляли, как произошла атака, то в вечернем коммюнике от 26 февраля был опубликован воображаемый план атаки. Степень достоверности его равнялась одному к тысяче». В коммюнике об этой воображаемой битве говорилось так.
Тяжелый бой разворачивается вокруг форта Дуомон, который является передовым постом старой оборонительной системы Вердена. Позиции, которые удалось сегодня утром занять противнику, после нескольких неудачных штурмов, принесших ему большие потери, были вновь отвоеваны нашими войсками, которые затем продвинулись далее вперед и закрепились на новых позициях[86].
То, что произошло на самом деле, отличалось как от немецкого, так и от французского описаний. При перемещении войск на линии фронта в результате путаницы в приказах эта позиция каким-то образом оказалась забытой. В форте остались только командир батареи и еще несколько человек. Группа немецких солдат, увидев открытые ворота, проникла в форт и взяла французов в плен. Какое-то время спустя французские части, дислоцированные на склоне холма, с ужасом обнаружили, что из форта по ним открыли огонь. При Дуомоне не было никакой битвы. Кроме того, французские войска не переходили в наступление, как сообщалось в коммюнике.
Тем не менее из коммюнике все поняли, что форт был частично окружен. В тексте этого не было, но «пресса, как всегда, ускорила события». Военные хроникеры заключили, что немцы скоро сдадутся. Через несколько дней возник вопрос, почему немецкий гарнизон, у которого отсутствовал провиант, до сих пор не сдался. «Потребовалось вмешательство пресс-бюро, чтобы они оставили тему окружения»[87].
2
Редактор французских коммюнике сообщает, что, поскольку битва затянулась, он и его коллеги, чтобы нейтрализовывать упорство немцев, постоянно публиковали сообщения об их страшных потерях. Необходимо иметь в виду, что союзники в это время, а фактически вплоть до конца 1917 года, придерживались концепции, что военный конфликт разрешится в результате «истощения сил». Считалось, что стратегия или дипломатия не играют никакой роли, что война сводится к тому, чтобы убивать немцев. Гражданское население, в общем-то, разделяло эту догму, но следовало постоянно напоминать о ней из-за впечатляющих успехов противника.
«Практически каждый день выходило коммюнике… которое, отдавая должное немцам, сообщало об их тяжелых, исключительно тяжелых потерях, кровавых жертвах, горах трупов, гекатомбах[88]. По радио постоянно передавали статистику верденского управления разведки. Начальник управления майор Куанте изобрел метод подсчета немецких потерь, дававший превосходный результат. Каждые две недели число потерь увеличивалось приблизительно на сотню тысяч. Эти 300 000, 400 000, 500 000 убитых и раненых, муссировавшиеся в сообщениях как дневной, недельный и месячный урон живой силы противника, производили потрясающий эффект. При этом формулировки варьировались незначительно: «согласно сообщениям пленных, потери в ходе атаки были значительны»; «противник, изнуренный потерями, не возобновил атаку» и т. п. Некоторые использовались каждый день, лишь «износившиеся» от избыточной эксплуатации отбрасывались: «под нашим артиллерийским огнем», «скошенные нашим артиллерийским огнем». Постоянное повторение этих фраз производило впечатление как на нейтральные страны, так и на саму Германию и помогало создавать картину кровавой бойни, несмотря на отрицание сообщений со стороны Nauen (немецкая радиостанция), которая безуспешно пыталась нейтрализовать отрицательные последствия этих бесконечных повторений»[89].
Тезис этих сообщений был сформулирован французским командованием: «В наступлении задействованы регулярные войска нашего противника, ряды которого неуклонно редеют. Нам стало известно, что призыв 1916 года уже находится на фронте. Остаются призыв 1917 года, который уже был проведен, а также ресурсы третьего сорта (мужчины старше 45 лет или выздоравливающие после ранений). Через несколько недель немецкие вооруженные силы, изнуренные этими усилиями, столкнутся с войсками коалиции (десять миллионов против семи)»[90].
Согласно де Пьерфе, французское командование и само верило в это. «В силу необычной аберрации сознания внимание обращалось только на истощение сил противника. Складывалось впечатление, что наши силы не истощаются. Генерал Нивель тоже разделял эти идеи. Результат мы увидели в 1917 году[91]».
Нас приучили называть это пропагандой. Группа людей, которая может перекрыть другим прямой доступ к происходящему, подает новости в таком ключе, чтобы они служили целям этой группы. То, что в данном случае цель была патриотической, не меняет дела. Военные использовали свою власть, чтобы заставить население стран-союзниц видеть события так, как им было выгодно. Возьмем, к примеру, данные майора Куанте об убитых и раненых, распространенные по всему миру. Они должны были подвести общественность к выводу, что война на истощение сил развивалась в пользу французов. Но этот вывод не вытекал из каких-либо аргументов. Мысленному взору публики была представлена картина, изображающая бесчисленные полчища немцев, убитых на холмах Вердена. Благодаря акцентированию огромных потерь противника и умалчиванию о том, сколько погибло французов, был создан специфический образ битвы. Его целью являлась нейтрализация негативного эффекта от наступления немецкой армии. Этот образ был направлен и на то, чтобы общество как-то смирилось с деморализующей оборонительной стратегией, навязанной войскам союзников. Публика, привыкшая считать, что война состоит из значительных стратегических передвижений, атак с флангов, окружения и драматических капитуляций, должна была постепенно забыть об этой картине и свыкнуться с ужасной мыслью о том, что война может быть выиграна за счет истребления живой силы противника. Контролируя новости, поступавшие с фронта, ставка главнокомандующего подменяла их картиной, согласовывавшейся с ее стратегией.
В период ведения военных действий ставка главнокомандующего может полностью контролировать информацию, получаемую гражданским населением. Она следит за отбором фронтовых корреспондентов, за их передвижением на фронте, читает и подвергает цензуре их сообщения, а также отслеживает телеграммы. Стоящее за армией правительство, распоряжаясь почтой, телефонной и телеграфной связью, выдачей паспортов и работой таможни, дополнительно усиливает контроль. Цензура усугубляется посредством власти над издательствами, собраниями и активизации деятельности секретных служб. Однако в случае с армией контроль далек от совершенства. Во-первых, благодаря вражеским коммюнике, которые в эру телеграфа невозможно скрыть от нейтральной стороны. Во-вторых, информация поступает от солдат, возвращающихся с фронта[92]. Армия — громоздкая штука. Флотская и дипломатическая цензура отличается большей строгостью, поскольку значительно меньше людей знает о том, что происходит, и их действия легче контролировать.
3
Без цензуры — в той или иной форме — пропаганда, в строгом смысле этого слова, невозможна. Для ведения пропаганды необходимо установить барьер между обществом и событием. Доступ к реальному событию должен быть ограничен до того, как обыватель начнет создавать разумную и комфортную, с его точки зрения, псевдообстановку. Тогда, если лица, непосредственно участвующие в событии, неверно истолкуют происходящее, об этом никто не догадается, пока не получит доступ непосредственно к происходящему. Военная цензура — это простейшая форма барьера, но, несомненно, важнейшая. О ее существовании известно, а потому, в какой-то степени, с ней мирятся и не принимают во внимание.
В разные времена и по разным вопросам одни люди определяют, а другие принимают определенные нормы секретности. Граница между тем, что скрывается ввиду «несоответствия общественным интересам», и тем, что общественности знать необязательно, размыта. Представление о том, что является личным делом каждого, весьма растяжимо. Так, размер личного состояния считается частным делом, и в законе о подоходном налоге предусмотрена максимальная конфиденциальность. Продажа земельной собственности не является секретом, тогда как цена земли может держаться в тайне. Размер жалования, выплат по договору, обычно скрывается более тщательно, чем фиксированной зарплаты[93]. Кредитоспособность человека, как правило, известна ограниченному кругу лиц. Размер доходов крупных корпораций известен чаще, чем доходы маленьких фирм. Приватными считаются разговоры между мужем и женой, адвокатом и его клиентом, врачом и пациентом, священником и исповедующимся. Определенный уровень секретности отличает собрания директоров и совещания политиков. Большая часть из того, о чем говорится на заседаниях кабинета, или сообщается послом государственному секретарю, или во время частных интервью, или во время официальных обедов, имеет приватный характер. Многие люди считают частным делом контракт между работодателем и наемным работником. Было время, когда дела корпораций были таким же частным вопросом, каким являются сегодня вопросы вероисповедания. Было время, когда религия человека была открыта столь же явно, как цвет его глаз. В то же время инфекционные болезни были частным делом, как и проблемы пищеварения. История представлений о приватности была бы занимательнейшим повествованием. Иногда эти представления вступали в жесткий конфликт друг с другом, как это случилось, когда большевики опубликовали секретные договоры[94], или когда господин Хьюз[95] изучил работу страховых компаний, или когда какой-то скандал проникает со страниц «Таун топикс» (Town Topics) на первые страницы газет г-на Херста[96].
Независимо от причин секретности барьеры существуют. Секретность соблюдается на всей территории, известной под названием «общественная жизнь» (public affairs). Поэтому очень полезно задаться вопросом, из каких источников вы узнали о фактах, на которых основываете свое мнение. Кто на самом деле увидел, услышал, почувствовал, посчитал и назвал предмет, о котором у вас есть определенное мнение? Может быть, это был человек, сказавший вам о нем, или человек, услышавший об этом от кого-то другого, или кто-то, узнавший об этом предмете еще более опосредованно? Насколько подробно ему было разрешено ознакомиться с этим предметом?
Когда он сообщает вам, что Франция думает то-то и то-то, какую часть Франции он мог при этом видеть? Где он в этот момент находился? С какими французами ему было разрешено общаться? Какие газеты он читал? И откуда эти газеты и информаторы узнали о том, что сообщили? Можете задаться этими вопросами, но вряд ли вы ответите на многие из них. Тем не менее они напомнят вам о расстоянии, обычно отделяющем общественное мнение о событии от самого этого события. И это напоминание является своего рода защитой.
Глава 3 Контакты и получение информации
1
Цензура и соблюдение приватности с самого начала отсекают большой объем информации. Однако огромное число фактов вообще остается неизвестным значительной части общества или становится известным с запозданием, так как существуют определенные ограничения, связанные с распространением идей.
Чтобы понять, как много усилий затрачивается, чтобы конкретная информация дошла до «каждого», приведем пример правительственной пропаганды во время войны. Отметим, что война шла уже более двух с половиной лет, когда в нее вступила Америка. За это время были распространены миллионы печатных страниц, где, наряду с другими материалами, были опубликованы речи, не произносившиеся перед аудиторией. Остановимся на фигуре Джорджа Крила[97] и его борьбе за «сознание людей, за завоевание их убеждений», чтобы «благая весть об американизме могла быть донесена до каждого уголка земного шара»[98].
Джордж Крил запустил издательский механизм Отдела новостей, выпустившего, согласно его данным, более 6000 пресс-релизов. Он нанял 75 000 агитаторов, которые выступили с 755 190 короткими речами перед 300 000 000 людей. Бойскауты разносили по домам листовки с обращением президента Вильсона, снабженным комментариями. 600 000 учителей бесплатно получали выходившие раз в две недели периодические издания. Было подготовлено 200 000 слайдов для публичных лекций, разработано 1438 эскизов для плакатов, открыток, газетной рекламы, мультфильмов, брелоков и значков. Агитационная продукция распространялась в торговых палатах, церквях, братствах, школах и других организациях. Помимо инициатив Джорджа Крила, которые обрисованы здесь далеко не полностью, следует упомянуть Займы в поддержку свободы, замечательно организованные Макаду[99]; активную пропаганду, касающуюся продовольственной помощи; кампании Красного Креста, Христианской ассоциации молодых людей, Армии Спасения, Рыцарей Колумба, Еврейского благотворительного Совета, а также независимую работу патриотических обществ, таких, как Лига укрепления мира, Лига Ассоциации свободных государств, Лига национальной безопасности. Сюда же примыкает деятельность отделов гласности и пропаганды среди союзников, так или иначе причастных к данным историческим событиям.
Вероятно, это была самая значительная попытка быстро донести единообразную информацию до целой нации. Старые способы вербовки сторонников работали более надежно, но никогда не охватывали такого количества людей. Если в кризисной ситуации потребовались столь экстремальные меры, чтобы достучаться до каждого, то насколько открыты людям регулярные каналы информации? В период войны правительство стремилось создать нечто, что можно было бы назвать единым общественным мнением всей Америки. И хотя оно значительно преуспело в этом, стоит задуматься об упорной работе исполнителей этого замысла, их крайней изобретательности, количестве затраченных денег и численности нанятых на этот период работников… В мирные времена не происходит ничего подобного и поэтому существуют целые районы, большие группы, гетто, анклавы и классы, до которых доходит лишь смутная информация о происходящем.
Они живут в своем узком мирке, сосредоточены на своих собственных делах, встречаются с людьми, принадлежащими их кругу, мало читают. Конечно, колоссальное влияние на распространение идей оказывают путешествия и торговля, почта, телеграф, радио, железная дорога, высокоскоростные дороги, корабли, автомобили (а для грядущего поколения и аэропланы). Каждый из этих способов весьма сложно влияет на обеспечение и качество информации и мнений. В свою очередь, на каждом из них сказываются технические, экономические и политические условия. Всякий раз, когда правительство ослабляет паспортный режим или таможенный досмотр; всякий раз, когда открываются новая железнодорожная линия или порт, прокладывается новый морской путь; всякий раз, когда меняются тарифы, ускоряется или замедляется доставка почты, перестает подвергаться цензуре или дешевеет телеграфная связь, строятся, расширяются или улучшаются высокоскоростные трассы, — происходят сдвиги в распространении идей. Перечни тарифов и тарифные дотации влияют на вектор развития коммерции и, следовательно, — на природу контрактов. И поэтому вполне может случиться так, как это случилось, например, с городом Салем (штат Массачусетс), когда прогресс в кораблестроении превратил центр международной торговли в тихую провинцию. Не все последствия стремительной трансформации являются благом. Например, трудно утверждать, что абсолютно централизованная железнодорожная система Франции, все ветки которой сходятся в Париже, является бесспорным благом для французского народа.
Разумеется, проблемы, связанные со средствами коммуникации, имеют первостепенную важность. Поэтому один из наиболее конструктивных пунктов программы Лиги Наций — изучение железнодорожных перевозок и доступа к морю. Монополизация телеграфной связи[100], портов, заправочных станций, горных перевалов, каналов, проливов, судоходных рек, узловых и конечных станций, базарных площадей означает гораздо больше, чем обогащение группы бизнесменов или престиж правительства. Она приводит к возникновению барьера при обмене новостями и мнениями. Но монополия — не единственный барьер. Издержки при ведении дел и объем предложения препятствуют такому обмену гораздо больше, поскольку если торговые и транспортные издержки непомерно высоки, а спрос на вспомогательные средства и оборудование превышает предложение, то барьеры будут существовать даже в отсутствие монополии.
2
На доступ к миру, находящемуся за пределами микросреды человека, существенно влияет размер дохода. При наличии денег можно преодолеть все, что ощутимо препятствует коммуникации: можно путешествовать, покупать книги и периодику и следить за любыми известными миру событиями. Доход индивида и местного сообщества (community) определяет объем используемых коммуникаций. Но на что именно тратятся деньги, зависит от воображения людей, а это, в свою очередь, сказывается на объеме доходов, которые они получат в будущем. Таким образом, существуют ограничения, реальные в силу того, что они обычно действуют независимо от желаний человека или сообщества.
Существуют определенные группы независимых людей, которые тратят большую часть своего свободного времени и денег на то, чтобы гонять на автомобилях и сравнивать их достоинства, играть в вист или бридж, ходить в кино, читать криминальную хронику или бульварные романы, разговаривать с одними и теми же людьми на одни и те же старые темы с минимальными их вариациями. Нельзя сказать, чтобы они страдали от цензуры или секретности, высокой стоимости или сложностей средств коммуникации. Эти люди страдают от анемии, отсутствия аппетита и интереса к жизни, но при этом отнюдь не лишены доступа к внешнему миру. Их ждут захватывающие миры, но они не предпринимают попыток в них проникнуть.
Они вращаются в кругу близких знакомых, согласно закону и убеждениям их социальной сети (social set). У мужчин этот круг расширяется за счет разговоров на работе, в клубе и в вагоне для курящих. У женщин социальный круг и круг общения очень часто совпадают. Именно в рамках социальной сети идеи, усваиваемые при чтении, услышанные на лекциях и в разговорах, унифицируются, классифицируются, принимаются, отвергаются, оцениваются и санкционируются. Именно здесь формируется окончательное решение (на каждой стадии обсуждения), какие авторитеты и какие источники информации допустимы, а какие — нет.
Наши социальные сети состоят из тех, кто стоит за выражением «люди говорят…»; это те, чье одобрение для нас исключительно важно. В больших городах для мужчин и женщин, обладающих достаточно широкими интересами и средствами передвижения, социальная сеть определяется не так жестко. Но даже в больших городах существуют кварталы с самодостаточным социальным окружением. В меньших сообществах общение между представителями разных социальных кругов может быть более свободным. Но при этом мало кто не знает, к какой социальной сети он принадлежит.
Обычно отличительным признаком социальной сети является условие, что дети тех. кто в ней состоит, могут вступить между собою в брак. Попытка заключить брак с представителем иного социального круга выглядит как довольно сомнительная затея, во всяком случае пока родственники и друзья не одобрят помолвку. Каждая социальная сеть достаточно ясно представляет свое положение в иерархии социальных сетей. Связи между сетями одного уровня устанавливаются легко; индивиды из одной сети быстро получают доступ в другую; прием гостей считается делом нормальным и необременительным. Но при контактах между сетями разного уровня всегда возникают взаимная неловкость — вроде слабого недомогания — и осознание различия. Разумеется, в обществах, подобных американскому, индивиды перемещаются из одной сети в другую довольно свободно, особенно при отсутствии расового барьера и быстром изменении экономического положения конкретного человека.
Надо отметить, что экономическое положение не измеряется размером дохода. По крайней мере, в первом поколении социальное положение определяется не доходом, а характером работы. И может потребоваться смена одного или двух поколений, пока это исчезнет из семейной традиции. Так, занятость в области банковского дела, юриспруденции, медицины, в сфере коммунальных предприятий, церкви, крупной розничной торговли, промышленного производства, руководство биржей или газетой — котируется выше, чем работа продавцом, управляющим, техником, медсестрой, учителем или лавочником. В свою очередь, еще менее престижна работа водопроводчика, шофера, портного, субподрядчика или стенографистки, и, наконец, внизу социальной лестницы стоят дворецкие, горничные, кинооператоры или машинисты. И тем не менее доход не обязательно совпадает с этой градацией.
3
Каковы бы ни были условия допуска (tests of admission) в социальный слой в процессе его формирования, он не является просто экономическим классом, а скорее напоминает клан. Членство в нем основано на любви, браке и детях или, точнее говоря, — на отношениях и желаниях. Таким образом, мнения здесь сталкиваются с канонами семейной традиции, респектабельности, пристойности, уместности, достоинства, вкуса и формы, составляющими представление социального слоя о самом себе. Соответствующие представления с малолетства внедряются в сознание детей. В этой картине большое место неявным образом отводится стандарту, в соответствии с которым каждый слой оценивает другие. Более вульгарные настаивают на внешнем выражении почтения, тогда как другие вежливо и с достоинством умалчивают о том, что, на их взгляд, это уважение присутствует невидимо. Однако это молчаливое знание, выходя на поверхность при заключении брака, при возникновении военного конфликта или политическом перевороте, составляет совокупность большого числа диспозиций, которые Троттер классифицирует как инстинкт стаи[101].
У каждого социального круга есть свои прорицатели, подобные ван дер Лейденсам или миссис Мэнсон Минготт в романе «Простодушный век»[102], выступающие в качестве хранителей или толкователей его социального образца (pattern). Люди говорят, что вы существуете, если вас принимают ван дер Лейденсы. Предложение выполнять их функцию есть лучшее подтверждение достигнутого высокого положения. Выборы в общественные организации колледжей тщательно ранжированы, их результаты показывают, кто есть кто в колледже. Элита общества, обремененная высшей компетенцией евгенической экспертизы, обладает особенной чуткостью. Ее представители не только должны постоянно осознавать, на чем держится целостность их социального круга, но и культивировать в себе особый дар — знать то, чем занимаются другие социальные слои. Они действуют как своего рода министерство иностранных дел. Тогда как большая часть членов какого-либо социального круга спокойно живет в его рамках, рассматривая круг как самодостаточный универсум, общественные лидеры должны сочетать глубокое знание анатомии своего собственного круга с постоянным осознанием его места в социальной иерархии.
На самом деле эта иерархия и поддерживается общественными лидерами. На любом уровне существует некое образование, которое практически может быть названо социальной сетью общественных лидеров. Но связанность общества по вертикали в той мере, в какой оно вообще связано социальными контактами, осуществляется такими исключительными, а зачастую подозрительными людьми, которые, подобно Джулиусу Бофору и Эллен Оленской в «Простодушном веке», то входят в социальный слой, то выходят из него. Таким образом, между двумя социальными слоями устанавливаются личные каналы, где действуют законы подражания Тарда[103]. Но для значительной доли населения таких каналов не существует. Они располагают общедоступными объяснениями событий и постоянно изменяющимися картинами жизни верхушки общества… У них могут сформироваться собственные иерархии, практически незаметные, подобные тем, что имеются у негров и «иностранных элементов». Однако в этой ассимилированной массе, считающей себя «нацией», несмотря на значительную разобщенность социальных слоев возникает множество личных контактов, благодаря которым и осуществляется обмен стандартами.
Некоторые из слоев превращаются в то, что профессор Росс назвал «центрами излучения конвенциональности»[104]. Так, человек, занимающий более высокое положение в социальной иерархии, может служить объектом подражания для нижестоящих; человек, обладающий властью, — объектом подражания для его подчиненных; более успешному человеку будут подражать менее успешные, богатому — бедные, городу — деревня. При этом подражание не знает границ. В западном полушарии обладающие властью, вышестоящие, успешные, богатые и проживающие в городах социальные слои в целом интернациональны. Центром для них, во многих отношениях, является Лондон. В их рядах находятся наиболее влиятельные люди в мире: дипломатические круги, финансисты высокого ранга, высшие чины армии и флота, некоторые кардиналы, собственники известных газет, их жены, матери и дочери, в руках которых находится главное средство допуска — приглашение. Это одновременно и большой круг общения, и реальная социальная сеть. Но ее нетривиальность состоит в том, что здесь, наконец, практически исчезает различие между публичным и приватным. Приватные дела этого круга являются публичными, а публичные — приватными, зачастую семейными делами. Ограничения, которым подчинена жизнь Марго Асквит[105], подобно ограничениям в жизни королевской семьи, принадлежат, как говорят философы, тому же дискурсивному универсуму, что и законопроект о тарифах или парламентские дебаты.
Существует немало областей управления, которыми эта социальная сеть не интересуется, и по крайней мере в Америке она осуществляла лишь периодический контроль над правительством. Но ее власть в международных делах всегда очень велика. Во время военных действий ее престиж многократно возрастает, поскольку эти космополиты имеют контакты с внешним миром, которых большинство людей лишены. Они вместе обедали в разных столицах, и их чувство национальной гордости не является простой абстракцией. Это конкретный опыт унижения или одобрения со стороны друзей. Для доктора Кеникота из Гофер-Прери[106] совсем не важно, что думает Уинстон, но очень важно, что думает Эзра Стоубоди. Тогда как для миссис Минготт, дочь которой замужем за графом Суизин, очень важны визиты ее дочери или возможность развлекать самого Уинстона. Как доктор Кеникот, так и миссис Минготт чутко реагируют на состояние и изменение социальной сети. Если внимание миссис Минготт обращено на ту социальную сеть, которая управляет миром, то доктор Кеникот интересуется только той сетью, которая управляет Гофер-Прери. В вопросах, касающихся отношений в Большом Обществе, доктор Кеникот придерживается мнения, которое он считает исключительно своим, тогда как на самом деле это мнение просочилось в Гофер-Прери из Высшего Общества, претерпев в процессе проникновения в другую среду воздействие провинциальных социальных сетей.
4
В наши задачи не входит исследование переплетений социальной ткани. Нам нужно только зафиксировать, насколько велика роль социальных слоев в нашем духовном контакте с миром, как они стремятся зафиксировать то, что допустимо, и определить, как об этом следует судить. Дела, входящие в их непосредственную компетенцию, каждый социальный слой в большей или меньшей степени определяет сам. Кроме того, он определяет подробное управление суждением (judgement). Но само суждение строится на образцах (patterns)[107], которые могут быть унаследованы из прошлого, переданы или скопированы из других слоев. Высший социальный слой состоит из тех, кто воплощает собой лидерство в Высшем Обществе. Почти в каждом социальном слое корпус первичных мнений касается только местных событий. В отличие от них, в Высшем Обществе принципиально важные и касающиеся многих решения о войне и мире, о социальной стратегии и об окончательном распределении политической власти — это внутренний опыт в рамках небольшого круга людей, которые, по крайней мере потенциально, знакомы друг с другом.
Поскольку положение в обществе и контакты играют столь важную роль в определении, что может быть увидено, услышано, прочитано и пережито, а также, что разрешено увидеть, услышать, прочитать и узнать, не удивительно, что моральное суждение распространено чаще, чем конструктивное мышление. Тем не менее для подлинно эффективного мышления прежде всего необходимо ликвидировать суждения, восстановить наивный взгляд и искренние чувства, быть любопытным и открытым. Человеческая история как она есть — это политическое мнение на весах Высшего Общества, требующее такого самоотверженного спокойствия, какое мало кто может блюсти в течение долгого времени. Нас заботит происходящее в обществе, но в первую очередь мы заняты решением личных проблем. Время и внимание, которые мы можем потратить на то, чтобы не принимать на веру чужие мнения, ограничены. При этом мы постоянно отвлекаемся от объекта восприятия.
Глава 4 Время и внимание
1
Можно лишь приблизительно оценить, насколько внимательно люди следят за ежедневными событиями в обществе. Тем не менее результаты трех независимых исследований в целом согласуются между собой, несмотря на то что они были проведены в разное время, в разных местах и разными методами[108].
Хочкис и Франкен разослали анкету 1761 нью-йоркскому студенту мужского и женского пола. Почти все они ответили на вопросы анкеты. Скотт провел анкетирование известных бизнесменов и ведущих специалистов из Чикаго. Он предложил ответить на вопросы 4000 мужчинам и получил ответы от 2300 человек. В обоих случаях 70–75 % респондентов написали, что тратят на чтение газет четверть часа в день. Только 4 % респондентов из чикагской группы сказали, что они проводят за этим занятием менее пятнадцати минут, а 25 % из этой же группы — более пятнадцати минут. Среди жителей Нью-Йорка немногим более 8 % написали, что они уделяют чтению газет менее четверти часа, а 17,5 % — что тратят на это занятие больше времени.
Мало кто имеет четкое представление о том, что такое пятнадцать минут, поэтому эти цифры нельзя понимать буквально. Более того, бизнесмены, ведущие специалисты, а также большинство студентов колледжей страдают забавным предрассудком: они считают, что неприлично тратить слишком много времени на газеты. Кроме того, они хотят производить впечатление людей, умеющих быстро читать. Полученные данные свидетельствуют, что более трех четвертей опрошенных достаточно низко оценивают свой интерес к новостям о внешнем мире, почерпнутым из газет.
Эти оценки затрат времени подтверждаются другим, менее субъективным тестом. Скотт опрашивал жителей Чикаго, сколько газет они читают ежедневно, и получил следующие результаты:
Число опрошенных, которые читают две или три газеты, составляет 67 %, что почти совпадает с 71 % в группе респондентов Скотта, сообщивших, что посвящают прессе пятнадцать минут в день. Число всеведущих читателей, просматривающих 4–8 газет, примерно совпадает с 25 % таких, кто считает, что тратит на чтение газет более пятнадцати минут в день.
2
Еще сложнее подсчитать, как распределяется время, затрачиваемое на чтение, по отдельным темам. Студентов колледжей просили назвать «пять типов газетных материалов», которые интересуют их больше всего. Около 20 % читателей отметили «новости общего характера», около 15 % — передовицы, около 12 % — политику, немногим более 8 % — финансы, а 3,5 % — новости о «труде». Прошло всего два года после заключения мира, но лишь немногим более 6 % опрошенных указали, что интересуются зарубежными новостями. Оставшихся интересовали спорт, специальные материалы, театр, реклама, комиксы, рецензии на книги, «достоверность информации» (accuracy), музыка, соблюдение этичности, общество, краткость, искусство, рассказы, транспорт, новости образования, хроника, шрифты. Таким образом, около 67,5 % опрошенных назвали в качестве наиболее увлекательных материалов новости и комментарии, связанные с событиями в общественной жизни.
Это была смешанная группа студентов колледжей. Девушки проявили больше интереса к основным новостям, зарубежным и местным новостям, политике, передовицам, театру, музыке, искусству, рассказам, комиксам, рекламе и соблюдению этичности. Юноши же чаще увлекались чтением разделов финансов, спорта, бизнеса, предпочитали достоверные и краткие статьи. Эти различия слишком похожи на то, что соответствует нашим представлениям о культурном и нравственном, о мужественном и решительном. И поэтому не следует относиться к этим ответам как к высокообъективным.
Однако эти выводы вполне согласуются с результатами, полученными в опросе бизнесменов и ведущих специалистов из Чикаго, проведенном Скоттом. Спрашивалось не о том, какие газетные статьи интересовали респондентов больше всего, а почему они отдавали предпочтение одной газете по сравнению с другой. Почти 71 % приняли решение благодаря освещению газетой новостей: местных (17,8 %), политики (15,8 %), финансов (11,3 %), событий за рубежом (9,5 %), основных новостей (7,2 %) или материалам передовиц (9 %). Остальные 30 % основывались на аргументах, не связанных с событиями в общественной жизни. Разброс мнений здесь довольно большой, начиная с группы менее чем в 7 %, отдававшей предпочтение соблюдению этичности, и кончая группой, составляющей 0,05 %, интересовавшейся исключительно юмором.
Каким образом эти предпочтения коррелируют с количеством полос, которое отводится в разных газетах определенным темам? К сожалению, соответствующих сведений по газетам, которые во время данных опросов читались в Нью-Йорке и Чикаго, не существует. Однако около двадцати лет тому назад Уилкокс провел интересное исследование на эту тему. Он изучил 110 газет в четырнадцати больших городах и тематически классифицировал более чем 9000 газетных столбцов.
В среднем по стране материал разных газет распался на следующие рубрики [доля соответствующих материалов указана в процентах].
Для корректного сравнения необходимо исключить пространство, отведенное рекламе, и заново подсчитать процентное соотношение материалов, поскольку рекламные объявления занимали ничтожную долю внимания чикагской группы и группы студентов. Я думаю, что в нашем случае это оправдано, поскольку публикуются все рекламные объявления, поступающие в редакцию[109], а незанятое рекламой пространство отводится под материалы, предназначенные для удовлетворения интересов читателей. С учетом этих поправок таблица будет выглядеть следующим образом.
В этой скорректированной таблице сложим показатели, связанные с освещением событий в общественной жизни: с войной, с зарубежными, политическими, деловыми новостями, материалы раздела «разное», а также редакционные статьи и комментарии. Сумма содержательных материалов (edited space) составит 76,5 %. Ср.: показатель 70,6 % у чикагской группы бизнесменов, пояснивших в 1900 году, на каком основании они предпочитают конкретную газету, и 67,5 % — у нью-йоркских студентов, которые в 1920 году высказались по поводу того, какие газетные материалы их больше всего интересуют.
Это, по-видимому, свидетельствует о том, что в больших городах вкусы бизнесменов и студентов сегодня, как и двадцать лет назад, все еще более или менее соответствуют представлениям издателей газет. С тех пор тематика новостных материалов стала шире, а также выросли тиражи и объем газет.
Следовательно, если бы сегодня можно было получить надежные данные о более типичных группах, чем студенты или бизнесмены, то, наверное, обнаружилось бы, что не только представители этих групп уделяют чтению материалов о событиях в общественной жизни меньше времени, но и сами газеты отводят под них меньше места. С другой стороны, можно предположить, что средний человек посвящает чтению газеты все же больше четверти часа. И хотя доля газетного пространства, занимаемого событиями в общественной жизни, стала меньше, чем двадцать лет назад, их удельный вес вырос.
Из приведенных выше цифр не следует делать сложных выводов. Эти данные помогают нам лишь конкретнее представить усилия, которые день за днем затрачивает человек на усвоение сведений, формирующих его мнение о событиях окружающего мира. Газеты не единственное, но главное средство получения этих сведений. Информацию, полученную из прессы, дополняют журналы, публичные дискуссии, неформальные встречи, религиозные, политические и профсоюзные собрания, женские клубы, кинохроника. Но если воспользоваться даже самыми оптимистическими оценками, все равно время, которое мы можем ежедневно уделять прямому доступу к информации о невидимом нами мире, весьма незначительно.
Глава 5 Скорость, слова, ясность
1
О невидимой среде мы узнаем главным образом с помощью слов. Эти слова передаются посредством телеграфа или радио — от репортеров к редакторам, которые затем их печатают. Телеграф — дорогой и не слишком удобный канал связи. Поэтому новости часто кодируются. Приведем пример того, как кодируется сообщение. Исходное сообщение может выглядеть так:
Вашингтон. 1 июня. — Соединенные Штаты считают инцидент с немецким грузом, захваченным в этой стране в начале военных действий, исчерпанным.
А его закодированный вариант может быть представлен в следующем виде:
Ваш. 1. США счит инцид нем груз захвач зд в нач воен д исчерп[110].
Еще один аналогичный пример кодирования. Сообщение:
Берлин. 1 июня. — Канцлер Вирт заявил сегодня в рейхстаге, характеризуя программу правительства, что «восстановление и примирение будут ключевым моментом новой политики правительства». Он добавил, что Кабинет уверен: разоружение не будет причиной наложения дальнейших взысканий со стороны союзников
может быть закодировано следующим образом:
Берлин 1. Канцлер Вирт заявил сег в рейхстаге харак прогр прав: восстановление и примирение б ключевым мом новой пол-ки прав. Он добавил: Кабинет уверен разоружение не б прич налож дальнейших взысканий со стор союзн.
Во втором случае из длинной речи на иностранном языке была извлечена главная мысль. Она была переведена, закодирована, а затем расшифрована. Операторы, получая сообщения, переписывают их. Известно, что хороший оператор может написать пятнадцать или более тысяч слов за восьмичасовой день, с получасовым перерывом на обед и двумя десятиминутными перерывами на отдых.
2
Иногда несколько слов замещают целую цепочку из действий, мыслей, чувств и результатов. Так, мы читаем:
Вашингтон, 23 дек. — Заявление, в котором осуждаются японские военные власти за дела более «страшные и варварские», чем все, что происходило в Бельгии за время войны, было сделано сегодня Корейской Комиссией на основании, по словам Комиссии, подлинных отчетов, полученных из Манчжурии.
Здесь говорится о том, что свидетели событий, о добросовестности которых ничего не известно, сообщили сведения составителям «подлинных отчетов». А они, в свою очередь, передают эти отчеты Комиссии, находящейся от них за пять тысяч миль. Комиссия подготавливает заявление, вероятно, слишком длинное для печати, из которого корреспондент выбирает фрагмент для публикации длиною три с половиной дюйма. Сообщение должно быть сокращено таким образом, чтобы читатель понял, какое значение следует придавать этим новостям.
Вряд ли бы нашелся стилист, способный передать в ста словах достоверную картину событий, происходивших в Корее в течение нескольких месяцев. При этом надо отметить, что значение слов в языке постоянно меняется. Слова, как деньги, находятся в постоянном движении, порождая сегодня одну систему образов, а завтра — другую. Нет никакой уверенности в том, что одно и то же слово возбудит в сознании читателей ту самую идею, какую оно породило в сознании репортера. Теоретически, если бы все факты, события и отношения имели свое имя и все согласились бы использовать эти имена, можно было бы общаться избегая недопонимания. Точные науки приближаются к подобному идеалу, и отчасти поэтому научные исследования представляют собой самую эффективную форму кооперации во всем мире.
Люди располагают меньшим числом слов, чем числом идей, которые они хотят выразить. И язык, как сказал Жан Поль, — это словарь поблекших метафор[111]. Журналист, обращающийся к полумиллионной читательской аудитории и имеющий о ней лишь смутное представление, или оратор, чьи слова транслируются в отдаленные деревушки и зарубежные страны, не могут надеяться, что произнесенные ими фразы передадут все вложенное в них богатство смыслов. «Слова Ллойд Джорджа, плохо понятые и плохо переданные, — сказал Бриан в палате депутатов, — дали основание пангерманистам подумать, что пришло время что-то начать»[112]. Британский премьер-министр, обращаясь на английском ко всему миру, вкладывает свой смысл в слова, адресованные миллионам людей. Они, в свою очередь, наделяют услышанное собственным значением. Чем богаче и тоньше то, что хочет донести до людей оратор, тем больше оно будет искажено, так как передается с помощью стандартной речи и распространяется в чуждой среде[113].
Миллионы тех, кто слушал его выступление, едва умеют читать. Другие, с трудом прочитав слово, не понимают его смысла. Из тех, кто может и читать, и понимать смысл прочитанного, добрых три четверти, видимо, могут уделить этому сообщению не более получаса. Воспринятые ими слова возбуждают в их сознании целую серию идей, которые в конечном итоге служат причиной скрытых последствий.
Понятно, что идеи, рождающиеся в сознании под воздействием слов, составляют самую значительную часть сведений, из которых формируются наши мнения. Мир обширен, интересующие нас ситуации сложны, сообщений о них не так много, поэтому самая значительная часть мнения создается в воображении.
Какую картину возбуждает в сознании жителя Нью-Йорка слово «Мексика»? Вполне вероятно, что это некий сложный образ, состоящий из песка, кактусов, нефтяных вышек, пьющих ром индейцев, грубиянов, пожилых вспыльчивых кабальеро, пышных усов и независимости, куда, вероятно, присоединится и идиллическое крестьянство в духе Жан-Жака Руссо, вытесняемое дымящими промышленными трубами, а также борьба за права человека. А какие ассоциации порождает слово «Япония»? Шумная толпа узкоглазых желтолицых людей, «Желтая угроза», фанатики, молодые красотки на картинках, самураи, бонсай, декоративное искусство, цветущая вишня? Или слово «чужой»? По мнению студентов из Новой Англии, отвечавших на этот вопрос в 1920 году, чужой это:
— человек, враждебный данной стране;
— человек, выступающий против правительства;
— человек, находящийся в оппозиции;
— житель враждебного государства;
— иностранец, принимающий участие в войне;
— иностранец, пытающийся нанести вред стране, в которой он находится;
— враг из другой страны;
— человек, выступающий против данной страны, и пр.[114].
В то же время слово «чужой» [alien — т. ж. «иностранец»] — это очень точный юридический термин, гораздо более точный, чем такие понятия, как суверенитет, независимость, национальная гордость, права, защита, агрессия, империализм, капитализм, социализм, которые мы с горячностью принимаем или отвергаем.
3
Умением не увлекаться поверхностными аналогиями, обращать внимание на различия и оценивать разнообразие мы обязаны способности, именуемой «ясность сознания». Ею обладают не все люди. Разница в степени ясности рассудка может быть весьма значительной. Для примера сравним новорожденного и ботаника, исследующего цветок. Для младенца невелика разница между собственными пальцами ног, отцовскими часами, настольной лампой, луной и симпатичным желтым томиком Ги де Мопассана. Для многих членов Клуба Союзной Лиги[115] почти нет различия между демократами, социалистами, анархистами и грабителями, тогда как с точки зрения образованного анархиста существуют колоссальные различия между Бакуниным, Толстым и Кропоткиным. Эти примеры показывают, как сложно обеспечить серьезное общественное мнение как о Мопассане среди младенцев, так и о демократах среди членов Клуба Союзной Лиги.
Человек, у которого нет своей машины, худо-бедно сможет различать основные типы автомобилей. К примеру, он отличит «Форд» от такси или грузовика. Но как только у него появится своя машина и он начнет ездить на ней, он станет разбираться в них гораздо лучше. Дайте ему, как говорит психоаналитик, спроецировать свое либидо на автомобили, и он опишет разницу между карбюраторами, глядя на машины, которые отъехали от него на расстояние квартала. Именно поэтому все испытывают облегчение, когда разговор переключается с «общих тем» на хобби. Это переключение подобно переходу от созерцания нарисованного пейзажа к созерцанию вспаханного поля за окном. Это возврат к трехмерному миру, после пребывания в мире запечатленных эмоций, которые испытывал художник, изобразивший на полотне то, что он когда-то увидел и запомнил.
По мнению Ференци[116], мы с легкостью идентифицируем два частично схожих предмета[117], причем ребенку это удается сделать легче, чем взрослому, а примитивному или скованному уму — проще, чем зрелому. Сознание человека в раннем возрасте является, по-видимому, не поддающейся контролю смесью ощущений. У ребенка нет чувства времени, у него практически нет чувства пространства. Он тянется к люстре с тем же интересом и той же жадностью, с какой тянется к материнской груди. Осознание назначения предметов происходит очень медленно. Завершая нашу короткую характеристику данной стадии развития, отметим, что это связный и недифференцированный мир, в котором, как кто-то сказал об одной философской школе, все факты рождаются свободными и равными. Факты окружающей действительности, сопряженные между собой, на этой стадии еще не отделены от смежных фактов потока сознания.
Сначала, говорит Ференци, ребенок добивается того, чего хочет, с помощью плача. Это период «волшебного галлюцинаторного всемогущества». На второй стадии развития ребенок указывает на вещи, которые он хочет, и ему их дают. Это «всемогущество через магические жесты». Позднее ребенок учится говорить. Он просит то, что хочет, и иногда добивается успеха. Это «период магических мыслей и магических слов». Любая из этих фаз может сохраниться и затем воспроизводиться в некоторых ситуациях, хотя она погребена под другими слоями и может проявляться только временами, например в маленьких безобидных суевериях, от которых мало кто из нас свободен. На каждой стадии частичный успех стимулирует переход к следующей стадии. Многие индивиды, партии и даже нации редко преодолевают магическую стадию организации опыта. Но среди более развитых групп наиболее продвинутых народов многократно повторенный цикл проб и ошибок привел к формулированию нового принципа. Они поняли, что Луна движется не потому, что на нее лают. Посевы растут не благодаря весенним празднествам или республиканскому большинству, а благодаря солнечному свету, влаге, качественным семенам, удобрениям и уходу за растениями[118].
Допуская, что категории реакции, выделенные Ференци, имеют сугубо схематическое значение, следует отметить, что решающим качеством здесь является способность проводить различие на основании грубых перцептуальных образов и смутных аналогий. Эта способность исследовалась в лабораторных условиях[119]. Цюрихские исследования ассоциаций демонстрируют со всей очевидностью, что легкая умственная усталость, внутреннее нарушение внимания или внешние факторы, отвлекающие внимание, способствуют стертой реакции. Примером стертой реакции является звуковая ассоциация (cat — hat), реакция не на содержание, а на звучание слова-стимула. Например, в одном из тестов обнаружилось повышение доли звуковых ассоциаций на 9 % при предъявлении второй сотни слов-стимулов. Таким образом, звуковая реакция — это почти повторение или очень примитивная форма аналогии.
4
Если даже в сравнительно простых условиях лаборатории способность различать стирается так легко, то как же тогда сказывается на этой способности жизнь в городе? В лабораторных условиях усталость незначительна, а способы отвлечения внимания достаточно просты. Оба эти фактора уравновешиваются интересом испытуемого и его самосознанием. Однако если мыслительные способности подавляются даже ударами метронома, то как же тогда влияют на политические суждения, сформированные на основании газет, прочитанных в метро или городском транспорте, восемь или двенадцать часов работы в условиях шума, химических испарений и повышенной температуры на фабрике или день, проведенный под болтовню машинисток, телефонные звонки и стук хлопающих дверей? Можно ли среди городских шумов услышать какой-то звук, если это не визг и не резкий крик? Либо заметить в общем мелькании какой-то знак, если он не освещается резкой электрической вспышкой? Жизнь горожанина лишена уединения, молчания и свободы. Городские ночи — это шум и яркие огни. На жителей большого города непрерывно давит звук — то сильный и резкий, то угасающий, но все же постоянный и беспощадный. В современном промышленном обществе мысль плавает в потоке шума. Если различия, которые человек способен обнаружить в таких условиях, подчас глупы или плоски, то не стоит этому удивляться. Независимые субъекты принимают решения о жизни, смерти и счастье в условиях, которые, как следует из личного опыта и научного эксперимента, являются наисложнейшими. Именно тогда возникает «невыносимая тяжесть мысли», хотя думать — это так же легко и естественно, как и танцевать.
Каждый, кто занимается интеллектуальным трудом, знает, что какую-то часть трудового дня он должен провести в тишине и молчании. Но в той суматохе, которую мы льстиво называем цивилизацией, граждане занимаются труднейшим делом управления в наихудшей обстановке. Смутное осознание этой истины вдохновляет людей на участие в движениях за сокращение рабочего дня, увеличение отпуска, хорошее освещение рабочего места, порядок в рабочем помещении, соблюдение норм инсоляции в фабричных цехах и административных зданиях. Но если мы хотим улучшить интеллектуальное качество нашей жизни, то мы находимся в начальной стадии борьбы. Ведь многие виды работ — это бесконечная рутина, а для выполняющего их работника к тому же и бессмысленная. В процессе выполнения этих однообразных действий вырабатывается своего рода автоматизм в использовании одних и тех же мышц по одной и той же схеме (pattern). Вся жизнь работника тоже превращается в своего рода автоматизм, при котором ни одно событие не воспринимается как отличное от другого, если оно не сопровождается чем-то экстраординарным, вроде удара грома. Поскольку днем и ночью он замкнут в толпе людей, его внимание подобно вспышке: оно вспыхивает и тут же угасает. Он не может быстро сосредоточиться. Он не понимает, что становится жертвой шума и гама в собственном доме, нуждающимся в освобождении от пустых хлопот, визга детей, хриплых выкриков, неудобоваримой пищи, дурного воздуха, съедающих пространство безделушек.
Иногда мы попадаем в просторное и удобное помещение. Мы приходим в театр, организованный так, чтобы внимание зрителя не отвлекалось от действия. Или едем к морю или в какое-то спокойное место и там вспоминаем, как хаотична, капризна, поверхностна и шумна наша городская жизнь. Мы начинаем понимать, почему запоминаем так мало деталей, почему вертимся в каком-то безумном танце заголовков и лозунгов, почему так часто не можем уловить сходство во внешне непохожих вещах или заметить различие.
5
Но внешний беспорядок дополняется еще и внутренним. Как показывают результаты опытов, скорость, точность и интеллектуальное качество ассоциаций снижаются из-за эмоциональных конфликтов. Из сотни слов-стимулов, как нейтральных, так и эмоционально нагруженных, предъявленных за время, исчисляемое долями секунды, реакцию могут вызывать от 5 до 32 слов, а то и вообще ни одного[120]. Очевидно, что общественное мнение наталкивается на всякого рода сложности: непомерные амбиции и экономические интересы, личную вражду, расовые предрассудки, классовые чувства и т. д. Они разрушают понимание текста при чтении, искажают мышление, поведение.
И, наконец, следует отметить, что мнения распространяются не только в повседневной жизни. Они используются в процессе выборов, в целях пропаганды, вербовки сторонников, то есть в тех областях жизни, где имеет значение количество людей, следующих определенным взглядам. В силу этого внимание людей еще больше подавляется. Число абсолютно безграмотных, слабоумных, невротизированных, голодных и фрустрированных индивидов довольно значительно, гораздо более значительно, чем мы привыкли считать. Допустим, что некий популярный призыв распространяется среди людей, которые по своему умственному развитию находятся на уровне младенцев или варваров, среди людей, отгородившихся от внешнего мира, среди неудачников, уставших от жизни и не имеющих опыта, необходимого, чтобы оценить содержание призыва. Эти люди останавливают поток общественного мнения — он угасает в небольших водоворотах непонимания и теряет свою силу, разбиваясь о предрассудки и слишком сильные аналогии.
Авторы призыва, обращенного к широкой аудитории, тщательно следят за качеством ассоциаций. Распространяя призыв, адресованный узкой аудитории, его авторы принимают во внимание специфику группы. Один и тот же индивид по-разному реагирует как на разные стимулы, так и на одни и те же стимулы, предложенные в разные моменты времени. Мир человеческих восприятий подобен альпийскому пейзажу, где видны отдельные вершины, обширные, но отделенные друг от друга плато, а также равнинные участки, встречающиеся чаще всего. Так, отдельные люди, чье восприятие достигает разреженной атмосферы вершин, где существует тонкая разница между Фреге[121] или Пеано[122] или ранним и поздним Сассетой[123], на другом уровне могут проявить себя как добропорядочные республиканцы, но стоит им поголодать или испытать страх, как они могут скатиться на уровень любого другого голодающего или испуганного человека. Не удивительно, что журналы, рассчитанные на массовую аудиторию, любой другой торговой марке предпочитают лицо симпатичной девушки. Оно должно быть достаточно миловидным, чтобы привлекать взор, и в то же время достаточно невинным, чтобы быть приемлемым для широкой аудитории. Ведь «психический уровень», на котором действует стимул, определяет, насколько потенциально велика или мала данная аудитория.
6
Итак, среда, с которой взаимодействует общественное мнение, преломляется через многочисленные факторы. Это — цензура и секретность, физические и социальные барьеры, деформация внимания, бедность языка, отвлекающие моменты, бессознательные чувства, усталость, насилие, однообразие. Эти факторы, ограничивая доступ к среде, накладываются на непонятность происходящих в ней событий, ограничивая тем самым ясность и корректность восприятия. В результате этого наложения реальные представления подменяются вводящими в заблуждение фикциями, лишая нас возможности контролировать тех, кому наши заблуждения играют на руку.
Часть 3 СТЕРЕОТИПЫ
Глава 6 Стереотипы
1
Каждый из нас живет и работает на небольшом участке нашей планеты, вращается в узком кругу знакомых и из этого узкого круга знакомых лишь немногих знает достаточно близко. Если происходит какое-то значимое событие, то мы, в лучшем случае, можем наблюдать определенную его фазу или аспект. То же самое можно сказать о важных участниках таких событий — людях, которые отдают приказы, составляют проекты законов и утверждают их, равно как и об адресатах этих событий, то есть тех, кому адресованы приказы и кто заинтересован в заключаемых договорах и принимаемых законах. Поэтому наши мнения относятся к значительно большему пространству, более длительному времени и большему числу предметов, чем мы можем на самом деле наблюдать. Следовательно, мы должны реконструировать события на основании сообщений других людей и собственного воображения.
Однако следует отметить, что даже непосредственные свидетели события не способны объективно описать то, что наблюдали[124], так как, судя по всему, очевидец привносит в описание что-то от себя, а потом представляет это как впечатление от описанного события. То есть обычно то, что выдается за объяснение события, в действительности является его видоизменением. Лишь немногие факты целиком приходят в наше сознание извне. Большинство же, видимо, хотя бы отчасти конструируется в сознании. Воспринятое сообщение — это некий синтез познающего и познаваемого, в котором роль наблюдателя всегда избирательна и обычно созидательна. Факты, которые мы видим, зависят от того, где мы находимся и к чему привык наш глаз.
Незнакомая сцена подобна миру ребенка: это «какая-то единая, цветная, жужжащая разношерстная масса»[125]. Джон Дьюи описывает, как мы мыслим, неожиданно сталкиваясь с каким-то новым предметом, если это действительно новый и странный предмет. «Иностранные языки, которых мы не понимаем, всегда кажутся нечленораздельным бормотаньем, не поддающимся делению на отдельные группы звуков. Провинциал, оказавшийся в центре большого города; человек, обычно живущий вдали от моря и попавший на корабль; человек, не разбирающийся в спорте и сидящий на матче между двумя закоренелыми болельщиками, сталкиваются с аналогичной проблемой. Новичку в первый день работы на фабрике представляется полной неразберихой хорошо организованный производственный процесс. Путешественнику, прибывшему в чужие края, все незнакомые люди другой расы кажутся на одно лицо. Если пастух распознаёт каждую овцу в своем стаде, то посторонний заметит только очень резкие различия между ними. То, что нам непонятно, представляется расплывчатыми пятнами или мельканием.
Таким образом, проблема усвоения значения вещей или, иначе говоря, формирования навыка понимания является проблемой привнесения (а) определенности и различия и (б) непротиворечивости или стабильности значения в то, что первоначально представляется смутным и изменчивым»[126].
Но характер определенности и непротиворечивости зависит от того, кто их привносит. В своем сочинении Дьюи далее показывает, насколько могут отличаться определения металла, данные обычным человеком и химиком. «Согласно определению дилетанта, для металла характерны «гладкость, твердость, блеск, тяжесть… его можно ковать или растягивать, не боясь сломать; можно сделать более мягким путем нагревания и более твердым путем охлаждения; он сохраняет приданную ему форму; не разрушается под давлением». В то же время химик, вероятно, проигнорирует утилитарные и эстетические свойства металла и определит его как «любой химический элемент, который взаимодействует с кислородом, образуя оксид»[127].
Для того чтобы охарактеризовать предмет, не обязательно видеть его. Обычно сначала мы даем ему определение, а потом рассматриваем. В огромном шумном многоцветий внешнего мира мы вычленяем то, что уже было определено нашей культурой. Мы воспринимаем предметы через стереотипы нашей культуры. Сколько великих людей из тех, что собрались в Париже вершить судьбы мира[128], смогли увидеть Европу, а не свои представления о Европе? Если бы кто-то смог проникнуть в сознание Клемансо, то что бы он там обнаружил: образы Европы 1919 года или колоссальные наслоения стереотипных представлений, накопившихся и затвердевших за время долгого, полного конфликтами жизненного пути? Видел ли Клемансо немцев, какими они были в 1919 году, или «типичного немца», каким его представляли с 1871 года[129]? Он видел такого типичного немца в сообщениях, доходивших до него из Германии, он воспринимал те и, видимо, только те факты, что соответствовали типу, существовавшему в его сознании. Если речь шла о хвастуне-юнкере, то это был подлинный немец, а если говорилось о профсоюзном руководителе, который признавал вину империи, то это был немец не настоящий.
На Конгрессе психологов в Геттингене был проведен интересный эксперимент над толпой, скорее всего, подготовленных наблюдателей.
Недалеко от того места, где заседал Конгресс, проходил праздник с балом-маскарадом. Вдруг дверь распахнулась, и в зал заседании ворвался клоун, а за ним — преследовавший его разъяренный негр с револьвером в руке. Они сошлись в середине зала, и началась драка. Клоун упал, негр наклонился над ним, выстрелил, а затем оба ринулись из зала. Весь инцидент длился не более двадцати секунд.
Председатель обратился к присутствующим и попросил немедленно написать короткое сообщение об увиденном, так как, очевидно, будет проводиться расследование происшествия. В президиум поступило сорок записок. Только в одной было допущено менее 20 % ошибок в описании основных фактов. Четырнадцать содержали 20–40 % ошибок; двенадцать — 40–50 %, а еще тринадцать — более чем 50 %. Более того, в двадцати четырех записках 10 % деталей было выдумано. Десять отчетов воспроизводили ложную картину, еще шесть — достаточно правдивую. Короче говоря, четвертую часть описаний признали ложными.
Разумеется, весь этот эпизод был инсценирован и даже сфотографирован. Десять ложных описаний могут быть отнесены к категории сказок и легенд; двадцать четыре описания являются полулегендами; и только шесть примерно соответствуют требованиям точного свидетельства[130].
Таким образом, большинство из сорока опытных наблюдателей, добросовестно написавших отчет об эпизоде, произошедшем у них на глазах, увидели не то, что произошло на самом деле. Что же они увидели? Бытует мнение, что легче сказать, что на самом деле произошло, чем придумывать небылицы. Свидетели события увидели собственное стереотипное представление о драке. Все они не раз в жизни сталкивались с образами подобных стычек, и именно эти образы мелькали у них перед глазами во время инцидента. У одного человека эти образы заняли менее 20 % действительных событий, еще у тринадцати человек — более половины. У тридцати четырех из сорока наблюдателей стереотипы завладели по крайней мере десятой долей происходящего.
Один выдающийся искусствовед сказал, что «если учесть бесконечное число очертаний, которые принимает объект… и отсутствие у нас внимания и чувствительности к деталям, то вещи вряд ли обладают для нас формами и свойствами, настолько ясными и определенными, что мы можем вызывать их в своей памяти, когда нам заблагорассудится. Потому мы вызываем в памяти стереотипные образы, которые нам одолжило искусство»[131].
На самом деле истина гораздо грубее, чем мысль, высказанная в этом утверждении, поскольку стереотипные образы одалживаются миру не только искусством, то есть живописью, скульптурой и литературой, но и моральными кодексами, социальной философией и политической агитацией. Попробуйте подставить в следующий отрывок из текста Беренсона слова: «политика», «бизнес» и «общество» вместо слова «искусство» — и предложение сохранит свою истинность: «… поскольку годы, потраченные на изучение всех школ в искусстве, не научили нас смотреть на мир своими собственными глазами, мы имеем обыкновение отливать увиденное в формы одного-единственного знакомого нам искусства. У нас есть свой стандарт художественной реальности. Если кто-то из наших знакомых покажет нам формы и цвета, которые мы не сможем тут же привести в соответствие с собственным ограниченным набором форм и оттенков, мы покачаем головой, сожалея о неспособности знакомого воспроизвести вещи такими, какие они есть на самом деле, и обвиним его в неискренности».
Беренсон говорит о том неудовольствии, которое мы испытываем, когда «видение предметов художником отличается от нашего видения», и о сложности оценки искусства Средних веков, поскольку с тех пор «наш способ видения форм изменился тысячу раз»[132]. Он показывает также, как мы учились видеть в человеческой фигуре то, что видим. «Созданный Донателло и Мазаччо и санкционированный гуманистами новый канон изображения человеческой фигуры и лица… показывал правящим классам того времени тип человеческого существа, который имел значительно больше шансов победить в бою всех остальных… Хватило ли у кого-то сил и смелости сломать это новое стандартное видение и из всего хаоса вещей выбрать формы более точно выражающие реальность, чем те, что были запечатлены этими гениальными людьми? Нет, не хватило. Людям пришлось волей-неволей смотреть на мир именно так, а не иначе, и видеть только запечатленные в искусстве формы и любить преподнесенные им идеалы…»[133].
2
Поскольку мы не можем как следует понять действия других людей, пока не узнаем, что, по их мнению, они знают, то для того чтобы дать справедливую оценку, мы должны оценить не только известную им информацию, но и сознание, через которое они ее отфильтровали. Ведь существующие типы, принятые образцы (patterns), стандартные варианты интерпретации перехватывают информацию на ее пути к сознанию. Например, американизация является, по крайней мере на поверхностном уровне, подстановкой американских стереотипов вместо европейских. Так, если крестьянин, относящийся к своему хозяину как к феодалу, а к своему работодателю — как к местному вельможе, подвергается американизации, то он привыкает смотреть на своего хозяина и работодателя в соответствии с американскими стандартами. Происходит изменение сознания, которое, по существу, в случае удачной «прививки» выливается в изменение зрительного восприятия. Его глаза видят иначе. Согласно признанию одной почтенной дамы, стереотипы играют столь значительную роль, что, когда ее собственные стереотипы не задействованы, она не способна поверить, что человек человеку — брат и что все мы сотворены Богом. «На нас удивительным образом влияет одежда, которую мы носим. Одежда создает особую психологическую и социальную атмосферу. Можно ли надеяться на американизацию человека, настаивающего на том, что нужно одеваться у лондонского портного? Американизации способствует даже пища. Может ли сформироваться американское сознание у человека, употребляющего sauerkraut[134] и лимбургский сыр, или у человека, чье дыхание постоянно отдает чесноком?»[135]
Упомянутая выше особа вполне могла быть организатором и распорядителем зрелища под названием «Плавильный котел»[136]. Оно было организовано в День независимости в городке, где работало много иностранных рабочих. В центре бейсбольного парка на специальном возвышении был поставлен огромный сделанный из дерева и полотна котел. К его краям с двух сторон вели ступени. После того как публика расселась по местам и оркестр исполнил свой номер, через один из входов на поле вошла группа людей. Она состояла из представителей всех национальностей, занятых на фабриках города. Они были одеты в национальные костюмы, пели национальные песни, танцевали национальные танцы и несли знамена всех стран Европы. Церемониймейстером был директор школы, одетый Дядей Сэмом. Он подвел их к котлу. Он указал им путь по ступеням, к краю котла и далее — внутрь сосуда. Спустя короткое время они показались опять — одетые в котелки, пальто, шляпы, жилеты, жесткие воротнички и галстуки в крапинку, распевая «Звездно-полосатый флаг».
Для режиссеров этого зрелища и, вероятно, для большинства его участников оно должно было продемонстрировать, как сложно устанавливать дружественные отношения между теми, кто издавна живет в Америке, и вчерашними иммигрантами. Однако оказалось, что их стереотипные представления противоречат их общей человеческой сущности. Этот эффект хорошо известен людям, меняющим свое имя. Они хотят изменить себя и отношение к себе посторонних.
Безусловно, существует некоторая связь между событиями, происходящими извне, и сознанием, через которое они пропускаются, точно так же как на каком-нибудь сборище радикалов всегда присутствуют длинноволосые мужчины и коротко остриженные женщины. Но для торопливого наблюдателя достаточно и самой поверхностной связи. Если среди публики окажутся две коротко остриженные женщины и четыре бородатых мужчины, для репортера, знающего об особенностях внешнего вида членов данного общества, это будет собрание коротко остриженных женщин и бородатых мужчин. Существует связь между нашим восприятием и фактами внешнего мира, но эта связь обычно носит странный характер. Человек редко смотрит на пейзаж, если у него нет необходимости оценить, насколько данная территория пригодна для строительства и на какие строительные участки ее можно разделить. Но он любуется пейзажами на картинах, висящих в его гостиной. Глядя на них, он привыкает думать о пейзаже как о розовом закате или о посеребренной лунным светом сельской дороге, ведущей к церкви. Предположим, ему пришлось поехать в деревню. Целый день напролет он не видит ни единого пейзажа. И вот, когда день близится к концу и заходящее солнце окрашивает горизонт в розовые тона, он узнает знакомый пейзаж и вскрикивает от восторга. Но два дня спустя, вернувшись в город, он не может вспомнить увиденного и, как это ни странно, вспоминает только некоторые пейзажи со стен гостиной.
Если этот человек не был пьян, не спал или не находился в состоянии умопомрачения, то он действительно видел закат. Но он увидел и запомнил из него в основном то, чему его научило созерцание написанных маслом картин, а не то, что увидели бы и запомнили художник-импрессионист или утонченный японец. А японец и художник, в свою очередь, тоже смогли бы увидеть в пейзаже в основном те детали, которые предусмотрены усвоенной ими формой, если только они не относятся к редкой категории людей, обладающих способностью показывать человечеству новые способы видения. Необученный наблюдатель вычленяет из внешнего мира те знаки, которые он может распознать. Знаки являются символами идей, а идеи выполняют роль имеющейся у нас в запасе системы образов. Мы не столько видим данного человека и данный закат, сколько замечаем, что данный предмет — это человек, а данное явление — это закат, а затем переключаем внимание в основном на то, что ассоциируется в нашем сознании с этими предметами.
3
Это связано с экономией усилий. Ведь попытка увидеть все вещи заново и в подробностях, а не как типы и способы обобщения, утомительна, а если вы очень заняты, то она практически обречена на провал. В кругу друзей и в отношениях между товарищами или соперниками не существует способов сокращения или замены в процессе индивидуализированного понимания. Те, кого мы любим и кем восхищаемся, в большинстве своем — это мужчины и женщины, сознание которых густо населено главным образом личностями, а не типами. Эти люди знают скорее нас самих, а не классификацию, под которую нас можно подвести. Ведь даже не формулируя этого для самих себя, мы интуитивно понимаем, что построение любой классификации служит какой-то, не обязательно нашей собственной, цели, что ни одну форму связи между двумя человеческими существами нельзя считать возвышенным союзом, в котором другой член союза ценен для его партнера сам по себе. Каждый контакт между двумя людьми таит в себе молчаливое согласие о том, что ни один из них не обладает личной неприкосновенностью.
Но современная жизнь полна пестроты и спешки. Кроме всего прочего, очень часто люди, связанные друг с другом жизненно важными отношениями (работодатель — наемный работник, государственное лицо — избиратель), отделены друг от друга значительным расстоянием. И у них нет ни времени, ни возможности для близкого знакомства. Поэтому, усмотрев в каком-то человеке знакомую, свойственную определенному типу черту, мы восполняем отсутствующую информацию о нем с помощью стереотипов, содержащихся в нашем сознании. Предположим, что он агитатор. Мы либо замечаем это сами, либо узнаем из других источников. Так… Дальше… Агитатор — это человек вполне определенного сорта, и потому наш агитатор — тоже такой. Он интеллектуал. Он плутократ. Он иностранец. Он — «выходец из Южной Европы». Он с Бэк-Бэй[137]. Он — выпускник Гарварда. Это звучит совсем иначе, чем «выпускник Йеля». Он кадровый военный. Он выпускник военной академии в Вест-Пойнте. Он сержант в отставке. Он живет в Гринвич-Вилледж[138]. Что еще мы о нем или о ней не знаем? Он работает в международном банке. Он с Мэйн-стрит[139].
Самые тонкие и самые распространенные механизмы воздействия — это те, что создают и поддерживают репертуар стереотипов. Нам рассказывают о мире до того, как мы его видим. Мы получаем представление о большинстве вещей до того, как непосредственно сталкиваемся с ними. И если полученное нами образование не помогает четко осознать существование этих предубеждений, то именно они управляют процессом восприятия. Они маркируют объекты либо как знакомые, либо как странные и необычные, усугубляя различие по этому параметру: слегка знакомое подается как очень близкое, а чуть-чуть странное — как абсолютно чужое. Эти различия вызываются к жизни с помощью мелких знаков, варьирующих в диапазоне от подлинных индексов до неясных аналогий. Они наводняют свежее восприятие старыми образами и проецируют на мир то, что было сокрыто в памяти. Если бы в окружающей человека среде не было никакого практически осмысленного единообразия, то привычка принимать сложившийся ранее образ за новое впечатление вела бы не к экономии усилий, а только к ошибкам. Но поскольку единообразие все-таки существует, то отказ от всех стереотипов в пользу абсолютно наивного подхода к опыту обеднил бы человеческую жизнь.
Большое значение имеют характер стереотипов и доверчивость, с которой мы их используем. А это, в конечном итоге, зависит от образцов (patterns), из которых складывается наша философия жизни. Если, согласно этой философии, мы допускаем, что мир закодирован с помощью кода, которым мы владеем, то мы, вероятно, будем описывать мир так, как будто он управляется нашим кодом. Но если, согласно нашей философии, каждый человек — это только незначительная часть мира, а человеческий разум с помощью очень грубой сети идей улавливает в лучшем случае только отдельные стадии и аспекты событий, то мы не станем строго придерживаться стереотипов и охотно их поменяем. При этом мы начинаем все лучше осознавать, когда и где возникают наши идеи, как они приходят к нам и почему мы их принимаем. В этой ситуации может оказаться очень полезной история. Она позволяет нам узнать, какие сказки, учебники, традиции, романы, пьесы, картины, фразы породили тот или иной предрассудок в сознании индивидов.
4
Желающие подвергнуть цензуре искусство не понимают его и недооценивают его влияния. Они, как правило, стремятся помешать другим людям увидеть то, что не санкционировано ими лично. Но в любом случае (как, например, видно из рассуждений о поэтах Платона) они смутно ощущают, что существует тенденция, согласно которой вымышленные символы накладываются на реальность. Так, нет никаких сомнений в том, что кино конструирует образную систему, которая затем актуализируется посредством слов, прочитанных в газетах. В истории человечества до сих пор не было ни одной системы визуализации, подобной кино. Если флорентиец хотел представить себе святых, он мог посмотреть на фрески в соборе, написанные в соответствии с каноном, заданным в его время Джотто. Если афинянин хотел представить себе богов, он шел в храм. Но количество изображенных объектов там было невелико. А на Востоке, пронизанном духом второй заповеди, изображение конкретных предметов было еще более ограниченным, и, вероятно, по этой причине способность к практическим решениям была столь ослабленной. В то же время в западном мире за последние два века существенно выросло количество и разнообразие описаний светского характера, словесных картин, повествований, иллюстрированных повествований, немого и звукового кино.
Сегодня фотографии обладают такой властью над воображением, какой вчера обладало печатное слово. Они кажутся совершенно реальными. Мы думаем, что снимки являются точным изображением предметов, в которое человек не может ничего привнести, и они представляют собой легкую пищу для ума. Любое словесное описание или произведение живописи требуют напряжения памяти, пока не зафиксируются в сознании. А в кино весь процесс наблюдения, описания, сообщения и затем воображения был проделан за вас. Не напрягая воображения и прилагая усилия только к тому, чтобы не заснуть, вы можете наблюдать за событиями, которые изображаются для вас на экране. Смутная идея становится яркой и очевидной, а ваши туманные представления принимают отчетливые формы. Например, образ ку-клукс-клана оживает благодаря Гриффиту[140], когда вы смотрите его фильм «Рождение нации». С исторической точки зрения образы могут быть ложными, а с моральной — порочными, но это все равно образы. И я не сомневаюсь, что любой, кто видел фильм и знает о ку-клукс-клане не больше, чем Гриффит, услышав название этой организации, вспомнит белых всадников из созданного им фильма.
5
Поэтому, когда мы говорим о сознании группы людей, о сознании французов, милитаристском сознании или большевистском сознании, мы можем сильно запутаться, если не договоримся о том, что нужно отличать сугубо инстинктивное устройство сознания от стереотипов, моделей (patterns) и формул. Эти последние играют существенную роль в построении ментального мира, к которому должен приспособиться формирующийся ум и на который он должен реагировать. Когда это различие не проводится, то становятся возможными неясные рассуждения о коллективном сознании, национальной душе и психологии расы. Стереотип столь последовательно и авторитетно передается из поколения в поколение, что кажется присущим физиологии индивида. В некоторых отношениях, отмечает Г. Уоллес, мы биологически паразитируем на нашем социальном наследии[141]. Но, разумеется, не существует никаких научных данных, которые позволили бы кому-то доказать, что люди рождаются с политическими привычками страны, где они появляются на свет. Когда речь идет о схожих политических предпочтениях людей данного государства, то объяснения этого сходства следует искать прежде всего в принципах воспитания в детском саду и в школе, во влиянии церкви, а не в заоблачном пространстве, где обитают Групповое Сознание и Национальный Дух. До тех пор пока вы не подвергли глубокому анализу традицию, унаследованную от родителей, учителей, духовных лиц и ближайших родственников, грубейшей ошибкой будет приписать политические различия влиянию протоплазмы зародыша.
Таким образом, можно предварительно обобщить сравнительные различия между людьми одной категории — людьми, объединенными одинаковым образованием и опытом. Но даже эти скромные обобщения следует считать довольно рискованными. Ведь практически не существует двух сходных опытов или двух одинаковых детей даже в одной семье. Так, старший сын никогда не поймет, каково это быть младшим в семье. Следовательно, до тех пор пока мы не научимся принимать во внимание различия в воспитании двух людей, мы должны воздерживаться от суждений по поводу их природных различий. Точно так же, чтобы оценить плодородность двух видов почвы, мы не можем ограничиваться только сравнением полученного на них урожая. Мы должны знать, откуда взяты эти образцы — с Лабрадора или из Айовы, распахивали ли их, удобряли ли их или они просто не возделывались.
Глава 7 Стереотипы как защита
1
Помимо экономии усилий существует еще одна причина, по которой мы так часто следуем стереотипам, в то время как могли бы придерживаться и более объективного взгляда на вещи. Системы стереотипов могут служить ядром нашей личной традиции, способом защиты нашего положения в обществе.
Они представляют собой упорядоченную, более или менее непротиворечивую картину мира. В ней удобно разместились наши привычки, вкусы, способности, удовольствия и надежды. Стереотипная картина мира может быть не полной, но это картина возможного мира, к которому мы приспособились. В этом мире люди и предметы занимают предназначенные им места и действуют ожидаемым образом. Мы чувствуем себя в этом мире как дома. Мы вписаны в него. Мы его составная часть. Нам известны все ходы и выходы. Здесь всё чарующе знакомо, нормально, надежно. Горы и овраги этого мира находятся там, где мы привыкли их видеть.
Чтобы вписаться в этот шаблон, нам пришлось отказаться от многого из того, что ранее представлялось привлекательным. Но как только мы в него вписались, мы почувствовали себя в нем уютно, как в старых, разношенных башмаках.
Поэтому не удивительно, что любое изменение стереотипов воспринимается как атака на основы мирозданья. Это атака на основания нашего мира, и когда речь идет о серьезных вещах, то нам на самом деле не так просто допустить, что существует какое-то различие между нашим личным миром и миром вообще. Если в данном мире уважаемые нами люди оказываются негодяями, а презираемые нами люди — верхом благородства, то такой мир действует на нервы. Мы видим анархию там, где привычный для нас порядок не является единственным. Если кроткие и вправду должны наследовать землю; если первые будут последними; если только те, кто без греха, могут бросить камень; если только кесарю положено кесарево, — то основы самоуважения будут поколеблены у тех, кто устроил свою жизнь так, будто эти максимы неверны.
Система (pattern) стереотипов не является нейтральной. Это не просто способ замены пышного разнообразия и беспорядочной реальности на упорядоченное представление о ней. Не просто сокращенный и упрощенный путь восприятия. Это нечто большее. Стереотипы служат гарантией нашего самоуважения; проецируют во внешний мир осознание нами собственной значимости; защищают наше положение в обществе и наши права. Следовательно, стереотипы наполнены чувствами, которые с ними ассоциируются. Они — бастион нашей традиции, и, укрывшись за стенами этого бастиона, мы можем чувствовать себя в безопасности.
2
Когда, например, в IV веке до н. э. Аристотель, наперекор растущему скептицизму, выступал в защиту рабства[142], афинских рабов в большинстве своем было трудно отличить от свободных граждан. Зиммерн приводит любопытный отрывок из Старого Олигарха, объясняющий обращение с рабами[143].
Так, рассуждает Аристотель, существуют люди — рабы по своей природе. «Ведь раб по природе — тот, кто может принадлежать другому (потому он и принадлежит другому)…» (Политика, Кн. I. Гл. II. 1225в:20)[144]. Таким образом, смысл этого отрывка сводится к тому, что если кто-то становится рабом, то это заложено в него природой. С логической точки зрения это рассуждение не выдерживает никакой критики, но оно и не является логическим суждением. Это стереотип или, по крайней мере, часть системы стереотипов. Остальные выводы делаются на основе этого стереотипа. Согласно Аристотелю, рабы понимают, что такое разум (reason), но не наделены способностью им пользоваться. Он утверждает также: «…природа желает, чтобы и физическая организация свободных людей отличалась от физической организации рабов — у последних тело мощное, пригодное для выполнения необходимых физических трудов; свободные же люди держатся прямо и не способны к выполнению подобного рода работ, зато они пригодны для политической жизни» (Политика, Кн. I. Гл. II. 1225в:25–30)[145].
Если мы зададимся вопросом, в чем проблема аргументации Аристотеля, мы обнаружим, что он воздвигает барьер между собой и фактами. Когда он провозгласил, что рабы являются рабами по своей природе, он тем самым оставил без ответа роковой вопрос — являются ли люди, попавшие в рабство, именно теми, кому природой предназначено быть рабами. Ведь такой вопрос может поставить под сомнение любой конкретный случай рабства. А поскольку сам факт статуса раба не является в этом случае прямым доказательством рабской природы человека, то невозможно провести никакую проверку. Так что Аристотель совершенно исключает подобное деструктивное сомнение. Те, кто являются рабами, должны ими быть. Любой рабовладелец должен был смотреть на принадлежащих ему рабов как на рабов от природы (natural slaves). Наученный воспринимать их таким образом, он должен был отметить как подтверждение их рабской природы тот факт, что они занимаются рабским трудом, обладают навыками рабского труда, а также необходимыми для этого физическими способностями.
А это классический пример стереотипа. Его отличительный признак состоит в том, что он начинает действовать еще до того, как включается разум. Эта форма восприятия накладывает специфический отпечаток на данные, которые воспринимаются нашими органами чувств еще до того, как эти данные достигают рассудка. Стереотип — это нечто незыблемое, подобно синим окнам на Бикон-стрит[146] или привратнику на бале-маскараде, который решает, одет ли прибывший в подобающий карнавальный костюм или нет. Ничто так не сопротивляется образованию или критике, как стереотип. Он накладывает свой отпечаток на фактические данные в момент их восприятия. Впечатления людей, возвращающихся из путешествия, интересны именно потому, что по ним можно судить об изначальном их «багаже». Если такой путешественник захватил с собой главным образом аппетит, любовь к облицованным кафелем ванным комнатам, убеждение, что пульмановский вагон — это верх удобства, а также представление о том, что необходимо давать чаевые официантам, водителям такси и парикмахерам, но ни в коем случае — кассирам и швейцарам, то его одиссея будет наполнена прекрасными обедами и обедами отвратительными, приключениями в поездах, а также острой потребностью в деньгах. Если же наш путешественник относится к числу людей с более серьезными запросами, то он во время своей поездки может оказаться в исторических местах. Дотронувшись до стены знаменитого сооружения и бегло окинув его взглядом, он уткнется в путеводитель, прочитает там каждое слово и ринется к следующему историческому месту. Вернувшись домой, он привезет с собой компактное и упорядоченное представление о Европе, каждая составляющая которого будет помечена одной или двумя звездочками.
В определенной степени внешние стимулы, особенно произнесенные или напечатанные слова, активизируют некоторую часть системы стереотипов, так что непосредственное впечатление и ранее сложившееся мнение появляются в сознании одновременно. Они перемешиваются, как это происходит, когда мы смотрим на красное сквозь синие очки и видим зеленое[147]. Если то, на что мы смотрим, совпадает с тем, что мы ожидали увидеть, стереотип получает дополнительное подкрепление на будущее. Например, человек, который заранее полагает, что японцы хитры и коварны, и, к своему несчастью, наталкивается на двух нечестных японцев, будет и впредь считать всех японцев обманщиками.
Но допустим, опыт вступает в противоречие со стереотипом. Тогда возможен двоякий исход. Если индивид уже утратил определенную гибкость или ему в силу какой-то сильной заинтересованности крайне неудобно менять свои стереотипы, он может проигнорировать это противоречие и посчитать его исключением, подтверждающим правило, или подвергнуть сомнению свидетельские показания, или найти какую-то ошибку, а затем забыть об этом событии. Но если он не утратил любопытства или способности думать, то новшество интегрируется в уже существующую картину мира и изменяет ее. Иногда, если событие достаточно необычное и если человек чувствует его несоответствие устоявшейся схеме, — он может испытать такой шок, что потеряет доверие ко всем принятым способам видения мира и решит, что вещь никогда не оказывается той, какой она обычно должна быть. В крайних случаях, особенно у людей, наделенных художественным даром, может появиться страсть переворачивать с ног на голову моральную норму, превращая Иуду, Бенедикта Арнольда[148] или Цезаря Борджиа в главных героев своего повествования.
3
Роль, которую играют стереотипы, хорошо видна в немецких россказнях о бельгийских снайперах. Любопытно, что эти россказни были впервые опровергнуты организацией немецких католических священников под названием «Pax»[149]. Примечательно не то, что ходило множество историй о жестокости вражеских солдат, и не то, что немецкий народ в них охотно верил. Примечательно то, что большая группа консервативно настроенных немецких патриотов уже 16 августа 1914 года начала опровергать клеветнические россказни о врагах, хотя эта клевета играла исключительно важную роль в успокоении встревоженных умов их соотечественников. Почему иезуитский орден, в частности, взялся уничтожать фикцию, столь важную для боевого духа Германии?
Позвольте мне процитировать объяснение этого феномена у ван Лангенхове.
Едва немецкие подразделения вошли в Бельгию, как начали циркулировать странные слухи. Они распространялись из одного места в другое, воспроизводились прессой и затем наполнили всю Германию. Говорили, что бельгийцы, подстрекаемые духовенством, весьма враждебно настроены против немцев. Они вероломно нападают на немногочисленные отряды; указывают на места расположения войск противника; старики и даже дети учиняют страшные зверства над ранеными и беззащитными немецкими солдатами, выкалывая им глаза, отрезая пальцы, носы и уши; а священники со своих кафедр призывают народ совершать эти преступления, обещая за это награду в Царствии Небесном, и даже руководят подобными варварскими деяниями.
Общественность доверчиво внимала этим историям. Высшее руководство страны воспринимало их без малейшего сомнения и даже подтвердило их…
Общественное Германии было возбуждено. Люди негодовали в особенности против священников, ответственных за варварство, приписьвавшееся бельгийцам… В силу естественного переключения ненависть, предметом которой стали священники, была направлена немцами против католического духовенства в целом. Протестанты позволили старым религиозным распрям ожить в их сознании и включились в антикатолические выступления. Началась новая Kulturkampf[150].
Католики не замедлили отреагировать на эти враждебные выпады ответными действиями (курсив мой. — В. Л.)[151].
Не исключено, что действительно были произведены снайперские выстрелы. Невероятно, чтобы каждый возмущенный бельгиец бросался в библиотеку за томом международного права и выяснял, законно ли выстрелить в бесчеловечного нарушителя общественного порядка, топающего тяжелыми сапогами по улицам его родного города. Было бы не менее странно, если бы войска, никогда не подвергавшиеся обстрелу, не принимали бы во внимание любую выпущенную по ним пулю, во-первых, в силу причиненного ущерба, а во-вторых, в силу нарушения правил Kriegspiel[152], которая к тому времени составляла их единственный опыт войны. Возможно, самые чувствительные из них тут же убедили себя в том, что люди, которым они причиняют столько зла, этого заслуживают. Так, вероятно, складывалась легенда, до тех пор пока она не достигла ушей цензоров и пропагандистов, которые, независимо от того, верили они в нее или нет, оценили ее и ознакомили с ней немецких граждан. Последних также не слишком огорчило известие, что люди, над которыми они совершали насилие, были недочеловеками. И, кроме того, поскольку источником легенды были их герои, немцы проявили бы отсутствие патриотизма, не поверив в нее.
Но никакая проверка и никакой контроль невозможны там, где столь большое пространство отдано на откуп воображению. Ведь реальное место действия скрыто дымом войны. Легенда о свирепых бельгийских священниках открыла шлюзы потокам старой ненависти. А в сознании большинства патриотически настроенных немцев-протестантов, особенно принадлежавших к высшим классам, картина побед Бисмарка включала длительную ссору с римско-католической церковью. По ассоциации бельгийские священники стали священниками вообще, а ненависть к бельгийцам была перенесена на всех католических священников. Нечто подобное произошло с рядом американцев, которые из-за стресса, связанного с войной, создали объект ненависти, который включал как внешних врагов, так и всех противников внутри страны. Против этого синтетического врага — варваров в Германии и варваров внутри страны — они направили всю бушевавшую в них ненависть.
Сопротивление католических священников распространению рассказов о зверствах носило, разумеется, оборонительный характер. Оно было направлено против тех конкретных фикций, которые возбудили ненависть по отношению ко всем католикам, а не только по отношению к бельгийским католикам. «Informations Pax», сообщает ван Лангенхове, вынесло только церковное определение, «сосредоточившись исключительно на предосудительных действиях, приписывавшихся священникам». Стоит задуматься, как жилось в империи Бисмарка католикам? И существовала ли какая-то связь между этой проблемой и тем фактом, что выдающимся немецким политиком, который во время заключения перемирия был готов подписать смертный приговор империи, был Эрцбергер, лидер центристской католической партии[153].
Глава 8 Слепые зоны (blind spots) и их значение
1
До сих пор речь в этой книге шла скорее о стереотипах, чем об идеалах, поскольку идеалом обычно мы называем то, что считаем истинным и прекрасным. Идеал предполагает подражание и стремление к нему. Но наш репертуар фиксированных впечатлений гораздо шире. В нем содержатся представления об идеальном жулике, идеальном политике, идеальном ура-патриоте, идеальном агитаторе, идеальном враге. Наш стереотипный мир не является обязательно таким, каким бы нам хотелось. Это просто такой мир, какой мы ожидаем увидеть. Если события соответствуют нашим ожиданиям, возникает чувство сходства и мы ощущаем, что мы движемся вместе с ним. Наш раб должен быть рабом от природы, если мы афиняне, не желающие испытывать угрызений совести. Если вы сказали своим друзьям, что, играя в гольф, выбили 18 из 95, то, добившись в другой раз того же результата за 110 ударов, вы им скажете, что в тот день были не в своей тарелке. Это значит, что вы не хотите показаться профаном, который пропустил 15 ударов.
Большинство из нас опиралось бы в своей жизни на довольно бессистемный и изменяющийся набор стереотипов, если бы сравнительно небольшие группы людей в каждом поколении постоянно не занимались их организацией, стандартизацией и доведением их до уровня логических систем, известных под названием Законов Политической Экономии, Принципов Политики и пр. Обычно, когда мы пишем о культуре, традиции и групповом сознании, мы думаем, что к этим системам приложили руку гении. Разумеется, необходимо постоянно изучать и критиковать эти идеализированные представления, и нет смысла это оспаривать. Однако историк, политик и общественный деятель не могут на этом останавливаться. Ведь то, что реально циркулирует в ходе истории, — это не системное представление в том виде, в котором его сформулировал гений, а изменяющиеся имитации, реплики, подделки, аналогии и искажения этих представлений в сознании отдельных людей.
Так, марксизм — это не обязательно то, что написал Маркс в «Капитале», а то, во что верят многочисленные воюющие между собой секты, члены каждой из которых считают себя единственно верными его последователями. Из Нового Завета нельзя вывести историю христианства, а из Конституции США — политическую историю страны. Следует анализировать то, как понимается «Капитал», как проповедуется Новый Завет и как трактуются проповеди, как интерпретируется и исполняется Конституция. Поскольку существует взаимовлияние между стандартным вариантом интерпретации и вариантом, принятым в настоящее время, то именно принятые и циркулирующие в настоящее время интерпретации влияют на поведение людей[154].
«Теория относительности, — сообщает один критик, чей взор томен, как взор Моны Лизы, — обещает развиться в принцип, имеющий столь же широкое применение, какое имеет теория эволюции. Последняя вышла далеко за пределы прикладной биологической гипотезы и вдохновила исследователей практически во всех областях знания, включая изучение обычаев и традиций, этических систем, религии, философии, искусства, устройства паровых двигателей, трамвайного движения — всего, что «эволюционировало». Термин «эволюция» стал общепринятым. Одновременно этот термин сделался весьма неточным, поскольку во многих случаях его исходное, вполне определенное, значение было утрачено, а теория, благодаря которой он возник, толковалась неверно. Осмелюсь предположить, что и теорию относительности ждет та же судьба. Физическая теория, плохо понятая и сейчас, станет еще более смутной и неясной в будущем. История повторяется, и относительность, как и эволюция, став объектом целого ряда понятных, но в то же время небрежных популярных интерпретаций, начнет завоевывать мир. Вероятно, к тому времени она будет называться «релятивизм» (relativismus). Многие из наиболее широких ее приложений будут, несомненно, оправданными, некоторые — абсурдными, а значительная часть выльется в трюизмы. Тогда как физическая теория — семя, источник этого мощного потомства — опять останется предметом сугубо технического интереса со стороны ученых»[155].
Однако для того чтобы такая мировая карьера состоялась, данное представление должно, пусть и неточно, чему-то соответствовать. Профессор Бери показывает это на примере идеи прогресса. Он пишет, что долгое время она оставалась игрушкой абстрактного мышления. «Новой идее абстрактного характера, — пишет он, — нелегко проникнуть в сознание общества и воздействовать на его формирование изнутри. Это происходит только тогда, когда она обретает конкретное внешнее воплощение или принимается под влиянием каких-то поразительных фактов. В случае с понятием прогресса обе эти предпосылки возникли в Англии в период 1820–1850 годов»[156].
Фактический материал, который способствовал принятию этой идеи, был обеспечен технической революцией. «Люди, родившиеся в начале века, еще не достигнув тридцатилетнего возраста, стали свидетелями быстрого распространения пароходов, открытия первой железной дороги, освещения городов и домов с помощью газа». В сознании обывателя подобные чудеса сформировали веру в возможность совершенствования человеческого рода.
Теннисон, который трезво подходил к философским проблемам[157], сообщает нам, что, путешествуя первым поездом из Ливерпуля в Манчестер (1830), думал, что колеса движутся по колеям. Позднее он написал такую строчку: «Пусть великий мир вечно катится по звенящим колеям изменения» («Let the great world spin for ever down the ringing grooves of change»)[158].
Таким образом, понятие, более или менее применимое к поездке из Ливерпуля в Манчестер, было «навеки» расширено до модели вселенной (pattern of the universe).
Эта модель, воспринятая другими, усиленная поразительными изобретениями, придала, в свою очередь, оптимистический оборот теории эволюции. Эта теория, как отмечает профессор Бери, разумеется, занимает нейтральную позицию между пессимизмом и оптимизмом. Но она обещала постоянное изменение, а явные изменения в мире демонстрировали столь мощное овладение природой, что в сознании людей одно смешалось с другим. Эволюция, сначала у самого Дарвина, а потом — в еще более сложной форме у Герберта Спенсера, стала «прогрессом, ведущим к совершенствованию (perfection)».
2
Стереотип, представленный словами «прогресс» и «совершенствование», возник главным образом благодаря изобретениям в области техники. В Америке свидетельства технического прогресса произвели столь глубокое впечатление, что это изменило весь моральный кодекс. Американец переживет практически любое оскорбление, кроме обвинения в том, что он не прогрессивен. Будь он коренным жителем или иммигрантом, недавно переселившимся в страну, его больше всего поражает невероятное материальное развитие американской цивилизации. Это развитие конституирует фундаментальный стереотип, сквозь который он видит этот мир. Небольшая деревня становится крупным городом; скромное здание — небоскребом; медленное становится быстрым; маленькое — огромным; бедное — богатым; немногое — многим. Что бы это ни было, оно приумножается.
Разумеется, не всякий американец смотрит на мир подобным образом. Генри Адамс[159] смотрел на него иначе, равно как и Уильям Аллен Уайт[160]. Но те, кто в журналах, посвященных религии успеха, предстают Творцами Америки, смотрят на мир именно так, когда проповедуют эволюцию, прогресс, процветание, конструктивность, американский подход. Это может показаться смешным, но на самом деле они используют замечательную модель (pattern) человеческой целеустремленности. Во-первых, она принимает безличный критерий, во-вторых, — земной и, наконец, она приучает человека мыслить количественно. Заложенный в ней идеал смешивает высокое качество и размер, счастье и скорость, человеческую природу и хитроумные приспособления. Вместе с тем в этой модели задействованы те же мотивы, которые всегда актуализировали любой моральный кодекс или волю: стремление к самому большому, самому быстрому, самому высокому, а если вы — производитель наручных часов или микроскопов, то к самому маленькому. Любовь ко всему, что заслуживает превосходной степени, ко всему «бесподобному» — это, по существу, благородная страсть. Американский прогресс, конечно, органично вписался в картину достижений в области экономики и человеческой природы. Он обратил огромный запас задиристости, стяжательства и жажды власти в продуктивную работу. И, по крайней мере вплоть до недавнего времени, он не приводил к серьезной фрустрации жаждущей действий натуры представителей активной части общества (community). Они создали цивилизацию, которая обеспечила им то, что, по их мнению, является полным удовлетворением в труде, ухаживании и игре. Победа над горами, прериями, расстояниями, достигнутая ими в битве с Природой, внесла свой вклад в развитие религиозного чувства, связанного с ощущением общности всего сущего во Вселенной. Эта модель как цепочка идеалов, практики и результатов оказалась столь успешной, что любая предложенная ей альтернатива или любая ее критика расценивается как антиамериканизм.
И все же эта модель являет собой только частичный, неполный способ представления мира. Привычка думать о прогрессе как о развитии означала, что многие аспекты окружающей действительности просто игнорировались. Имея перед глазами стереотип прогресса, американцы в своей массе видели очень мало из того, что не согласовывалось с представлением о прогрессе. Они наблюдали рост городов, но забывали о распространении трущоб; они приветствовали данные переписи, но отказывались замечать проблему перенаселенности; они с гордостью демонстрировали признаки развития, но не замечали, что отрываются от корней, как не замечали и проблемы неассимилированности иммигрантов. Они бешено развивали промышленность, забыв об ущербе, наносимом природным ресурсам; они основали гигантские корпорации, не согласовав вопросов производственных отношений. Американцы создали одно из самых мощных государств на Земле, не подготовив свои социальные институты или менталитет к необходимости покончить со своей изоляцией. Они ввязались в Мировую войну, будучи морально и физически к ней не готовыми, и они вышли из нее, утратив иллюзии, но не приобретя нужного опыта.
Во время этой войны влияние как позитивных, так и негативных аспектов американского стереотипа стало совершенно очевидным. Представление о том, что войну можно выиграть, бесконечно увеличивая армию, получая неограниченные военные кредиты, наращивая производство военного снаряжения, а также сосредоточенность исключительно на милитаристских аспектах соответствовали традиционному стереотипу и привели к своего рода физическому чуду[161].
Но те, у кого влияние стереотипа было особенно велико, не задумывались, какова была цена победы. Поэтому цели кампании игнорировались или рассматривались как нечто само собой разумеющееся, а победа — в соответствии с указанным стереотипом — понималась только как победа в результате уничтожения противника на поле боя. В мирное время вы не задаетесь вопросом, для чего нужен самый мощный автомобиль, а в военное время не спрашиваете, зачем нужна полная победа. Однако оказалось, что в Париже[162] эта модель уже не соответствует действительности. В мирное время можно бесконечно маленькие вещи заменять большими, а большие — еще большими. Тогда как если вы добились абсолютной победы в войне, вы не можете в дальнейшем добиваться еще более абсолютной победы. Вы должны делать нечто совсем другое, соответствующее другой модели. А если у вас отсутствует такая модель, то окончание войны для вас означает, как и для многих других прекрасных людей, возвращение в серый и пресный мир.
Окончание войны — это такой момент, когда стереотип и факты, которые нельзя игнорировать, вступают в противоречие друг с другом. Такой момент всегда наступает, потому что наши представления о внешнем мире гораздо проще и статичнее, чем реальный поток событий. Поэтому приходит время, когда нам становятся видны слепые зоны, которые с периферии нашего поля зрения перемещаются в центр. И тогда, если не находятся критики, достаточно смелые, чтобы забить тревогу, лидеры, способные понять произошедшие изменения, и народ, толерантный в силу своих обычаев, — тогда стереотип, вместо того чтобы экономить усилия и способствовать концентрации энергии, как это происходило в 1917 и 1918 годах, ослепляет людей, сковывая их инициативу. Именно это произошло, например, с теми, кто выступал за Карфагенский мир в 1919 году[163] и оплакивал Версальский договор в 1921-м.
3
Не подвергаясь критике, стереотип не только становится орудием цензуры и вычеркивает то, что должно приниматься во внимание, но и в случае проверки его надежности разрушает ту картину мира, которая им санкционирована, то есть принимается во внимание. Именно так произошло, когда Бернард Шоу осудил Свободную Торговлю, Свободный Договор, Свободную Конкуренцию, Естественную Свободу, Laissez-faire[164] и Дарвинизм. Столетие назад он явно был бы одним из наиболее ревностных адвокатов этих доктрин и не относился бы к ним так, как он относится к ним сегодня, в «эпоху неверия», считая их благовидным способом безнаказанно обмануть своего товарища. «При этом всякое вмешательство, всякая организованная деятельность (исключая деятельность полиции, призванной оборонять официально узаконенное мошенничество от кулачной расправы), всякая попытка внести в промышленный хаос какую-либо сознательно осмысленную цель и продуманную направленность объявлялись „противоречащими законам политической экономии“»[165].
Живи он тогда и будь одним из пионеров путешествия в райские кущи[166], он увидел бы, что, чем меньше правительство похоже по своим целям, замыслам и расчетам на правительство, состоящее из дядей королевы Виктории, тем лучше. Тогда он увидел бы не то, как сильный обманывает слабого, а то, как глупый обманывает сильного. Он увидел бы эти цели, замыслы и расчеты в действии, то есть как они препятствуют изобретательности, препятствуют предприимчивости, препятствуют тому, что он наверняка бы считал следующим этапом Творческой Эволюции.
Даже теперь Шоу не проявляет слишком большого энтузиазма по поводу руководящей силы любого из известных ему правительств. Однако на теоретическом уровне он полностью отвернулся от laissez-faire. Точно так же поступила большая часть передовых мыслителей накануне войны. Они отвернулись от утвердившегося в сознании людей представления о том, что полный отказ от контроля над ситуацией во всех областях ведет к возникновению стихийного проблеска мудрости и благодаря этому проблеску устанавливается всеобщая гармония. Со времен войны, когда в полную мощь заявили о себе правительства, взявшие под контроль все события и опиравшиеся на цензоров, пропагандистов и шпионов, Роубек Рамсден[167] и Свобода как естественное право были допущены в общество серьезных мыслителей.
У этих циклов есть один общий момент. Каждая система стереотипов заключает в себе идею, согласно которой в определенный момент можно прекратить прилагать усилия и все случится само собой, как вы этого хотели. Стереотип прогресса, достаточно мощный, чтобы инициировать свершение дел, практически полностью гасит стремление решать, какие дела должны быть сделаны и почему должны быть сделаны именно они. Laissez-faire — благословенное освобождение от тупой бюрократии — предполагает, что люди будут сами собой, в результате спонтанного озарения, двигаться к предначертанной гармонии. Коллективизм — противоядие от бессердечного эгоизма — в марксистском сознании предполагает экономический детерминизм, неизбежным результатом которого должно явиться эффективное и мудрое руководство социалистическим государством. Сильное правительство, ведущее империалистическую политику как внутри страны, так и за рубежом, хорошо осознает цену беспорядка и исходит из представления о том, что нужды граждан лучше всего известны тем, кто этими гражданами управляет. В каждой из этих теорий имеется зона слепого автоматизма.
В этой зоне скрывается некий факт, который, если перенести его в зону видимости, может служить пробным камнем витальности движения, вызванного стереотипом. Если бы стороннику прогресса пришлось задаться вопросом, который, согласно известному анекдоту, встал перед китайцем, побившим рекорд в беге: куда потратить время, которое он сэкономил; если бы адвокат laissez-faire принял во внимание не только свободную, брызжущую через край энергию людей, но и то, что некоторые люди считают природой человека; если бы коллективист поставил в центр внимания проблему, как сформировать правительство, а империалист усомнился бы в своей мудрости, — то мы имели бы дело не столько с Генрихом V[168], сколько с Гамлетом. Иначе говоря, слепые зоны не позволяют увидеть отвлекающие от магистрального пути образы. Образы, которые порождают соответствующие эмоции и могут привести к сомнениям и утрате однозначного понимания цели. Следовательно, стереотип не только экономит время и служит защитой нашего положения в обществе, но и может защищать нас от всей той путаницы, которая возникает при попытке посмотреть на мир как на нечто устойчивое и целостное.
Глава 9 Кодексы и их противники
1
Любой, кому приходилось стоять на перроне в ожидании друга, может вспомнить, сколько раз он ошибался, принимая за него весьма странных людей. Форма шляпы или характерные движения при ходьбе воскрешали в памяти черты знакомого человека. Во сне вы можете принять тихое треньканье за звон колокола, а услышанный издалека стук молотка — за раскаты грома. Это происходит потому, что совокупность образов в нашем воображении отзывается на стимул, похожий, пусть и смутно, на один из аспектов этих образов. При галлюцинациях эта совокупность может заполнять все сознание человека. Она оставляет крайне мало места для восприятия, хотя я склонен считать, что такие случаи чрезвычайно редки. Они столь же редки, как и ощущения, которые мы испытываем, когда упорно смотрим на знакомое слово или объект и он постепенно перестает казаться знакомым. Разумеется, в большинстве случаев способ нашего восприятия вещей — это сочетание того, чем они на самом деле являются, и того, что мы ожидаем увидеть. Астроном видит небо иначе, чем влюбленная парочка. Страничка сочинения Канта у кантианца вызывает мысли, отличные от тех, которые она вызывает у сторонника радикального эмпиризма. Таитянская красавица кажется более привлекательной своему таитянскому поклоннику, нежели читателю журнала «Нэшнл джиогрэфик мэгэзин» (National Geographic Magazine).
Компетентность в любой области означает, на самом деле, увеличение числа аспектов, которые человек способен увидеть, а также привычку не принимать желаемое за действительное.
Если для непросвещенного человека все вокруг одинаково, а жизнь — просто череда похожих друг на друга событий, то для специалиста все вокруг глубоко индивидуализировано. Водитель, гурман, знаток искусства, член президентского кабинета или жена профессора видят, соответственно, такие различия между автомобилями, винами, старыми мастерами, республиканцами или сотрудниками факультета, которых не замечают непосвященные в эти проблемы люди.
Но что касается общественного мнения, тут очень немногие могут быть специалистами, тогда как жизнь, и это хорошо показал нам Бернард Шоу, весьма коротка. Люди оказываются экспертами лишь в немногих областях. Даже среди профессиональных солдат, как мы узнали во время войны, существует специализация, и опытный кавалерист не всегда выглядит героем в окопной войне или в операциях с участием танковых войск. На самом деле, иногда случается, что ограниченная компетентность в некоей ограниченной области приводит к гипертрофии привычки втискивать в узкие рамки стереотипа то, что в него может быть втиснуто, и отбрасывать то, что в него не помещается.
Когда мы распознаем нечто как знакомое, то при недостатке внимания мы можем увидеть его с помощью образов, уже имеющихся в нашем сознании. Так, американское представление о прогрессе и успехе заключает в себе некую картину человеческой природы и общества. Именно определенная человеческая природа и вполне конкретный тип общества логически ведут к тому типу прогресса, который считается идеальным. И затем, когда мы стремимся описать действительно успешных людей и произошедшие события, то мы приписываем им качества, заложенные в соответствующих стереотипах.
Эти качества, не задумываясь о последствиях, возвели в стандарт экономисты прежних времен. Они ставили перед собой задачу описать социальную систему, в рамках которой они существовали, однако обнаружили, что она слишком сложна, чтобы укладываться в словесное описание. Таким образом, они построили то, что искренне считали упрощенной схемой. Однако эта схема как по своему принципу, так и по точности отражения недалеко ушла от детского рисунка коровы в форме прямоугольника с головой и ногами. Эта схема включала в себя капиталиста, упорным трудом наживающего капитал; предпринимателя, который в ответ на социальную потребность открыл фабрику; совокупность рабочих, нанятых по свободному контракту; помещика и группу потребителей, покупающих на самом дешевом рынке готовые к употреблению товары, которые, если исходить из понятия соотношения между затратами и удовольствием, доставляли им максимальное удовольствие. Модель оказалась работающей. Тип людей, предусмотренных моделью, жил в мире, описанном моделью, варианты которой, содержавшиеся в разных книгах, прекрасно сочетались между собой.
Эта чистая фикция, с течением времени украшавшаяся и видоизменявшаяся, использовалась экономистами для упрощения мышления. Ее сохраняли и популяризировали до тех пор, пока для большой части населения она сохраняла значение экономического мифа своего времени. Эта фикция обеспечивала стандартное представление о капиталисте, предпринимателе, рабочем и потребителе в обществе, которое было в большей степени ориентировано на достижение успеха, нежели на его объяснение. Возводившиеся здания и растущие банковские счета служили доказательством того, что используется верный стереотип. А наиболее преуспевающие убеждались, что они как раз и были людьми надлежащего сорта. Не удивительно, что близкие друзья преуспевающих людей, читая их официальные биографии или некрологи, невольно задавались вопросом, действительно ли речь идет об их знакомых.
2
Понятно, что для тех, кто не преуспел, и тех, кто оказался в положении жертвы, официальная картина была неузнаваема. Напротив, те, кто олицетворял собой прогресс, не задумывались, как они добились своих результатов — двигаясь путем, начертанным экономистами, или каким-то другим столь же достойным путем. «Никто, — пишет Уильям Джемс, — не пускается в обобщения, которые выходят за пределы его знания деталей»[169]. Промышленные магнаты видели в огромных концернах памятники своему успеху, а их потерпевшие поражение соперники — памятники своим неудачам. Таким образом, капиталисты, расширяя экономическую систему и преимущества большого бизнеса, просили, чтобы их не трогали как силу, способствующую процветанию общества и развитию торговли. Проигравшие же твердили о потерях и жестокостях, приносимых концернами, и громко взывали к департаменту юстиции, чтобы тот обеспечил открытость бизнеса. Одну и ту же ситуацию первые видели как прогресс, развитие хозяйства и чудесные свершения, а вторые — как реакцию, расточительность и ограничение торговли. Публиковались огромные тома статистических данных, дававшие углубленную и расширенную картину ситуации, и картина эта подтверждала обе точки зрения.
Ведь когда система стереотипов является жесткой, мы обращаем внимание на те факты, которые поддерживают ее, и не замечаем факты, которые ей противоречат. Именно поэтому, вероятно, добрые люди видят в мире так много проявлений добра, а злые — зла. Филип Литтель однажды заметил, говоря о знаменитом профессоре: если мы смотрим на жизнь через «черные» классовые очки, то наши стереотипные представления о хороших людях и о людях из низших классов не совпадут. То, что чужеродно, будет отвергнуто, а то, что отличается от традиционных представлений, останется незамеченным. Мы не видим того, что наш глаз не привык принимать во внимание. Иногда сознательно, а чаще неосознанно, мы обращаем внимание только на те факты, которые согласуются с нашей философией.
3
Наша философия заключает в себе ряд более или менее систематизированных образов, которые служат для описания невидимого мира. Причем эти образы служат не только для его описания, но и для суждения о нем. Следовательно, стереотипы нагружены преференциями, приязнью или неприязнью, ассоциируются со страхами, желаниями, влечениями, гордостью, надеждой. Объект, который активизирует стереотип, оценивается в связи с соответствующими эмоциями. За исключением тех ситуаций, когда мы сознательно отметаем в сторону предрассудки, мы не начинаем с того, что изучаем человека, а потом оцениваем его как плохого. Мы сразу же видим злодея. Точно так же как видим свежее росистое утро, застенчивую девушку, благообразного священника, лишенного чувства юмора англичанина, опасного коммуниста, небрежно одетого художника, ленивого индуиста, хитрого восточного человека, мечтательного славянина, непостоянного ирландца, жадного еврея, стопроцентного американца. В повседневном мире именно предшествующее получению соответствующих данных суждение содержит в себе вывод, который должен подтверждаться этими данными. Ни справедливость, ни прощение, ни истина не входят в это суждение, ибо оно предшествует получению фактических данных. Тем не менее люди, лишенные предрассудков, люди с абсолютно нейтральным мировоззрением настолько немыслимы в любой достойной внимания цивилизации, что никакая образовательная система не может быть основана на этом идеале. Предрассудок может быть выявлен, облагорожен и учтен. Но так как срок жизни человека ограничен, тот должен за отпущенное ему время получить все сведения, необходимые для освоения обширной цивилизации, поэтому ему не обойтись без предрассудков. Качество его мышления и деятельности будет зависеть от того, являются ли эти предрассудки доброжелательными по отношению к другим людям и идеям, возбуждают ли они скорее любовь по отношению к тому, что явно воспринимается как благо, или ненависть по отношению к тому, что не входит в их представление о благе.
Нравственность, хороший вкус и хорошая форма сначала стандартизируют, а потом активизируют некоторые основные предрассудки. Приспособившись к собственному кодексу, мы начинаем приспосабливать к этому кодексу факты. На рациональном уровне мы понимаем: факты нейтральны по отношению к нашему представлению о том, что хорошо, а что плохо. На самом же деле наш канон существенно определяет, что и как мы воспринимаем.
Моральный кодекс является схемой, применимой к целому ряду типичных ситуаций. Вести себя в соответствии с правилами кодекса — значит служить той цели, которой служит этот кодекс. Это может быть Божья или королевская воля, спасение данного индивида в прекрасном, надежном, трехмерном рае, успех в земных делах или служение человечеству. В любом случае творцы кодекса в процессе его создания ориентируются на некие типические ситуации, а затем посредством определенной формы суждения или интуитивной оценки выводят тот тип поведения, который приводит к начертанной ими цели. Правила применяются там, где они приложимы.
Но как человек в повседневной жизни может узнать, является ли предписание, которому он следует, именно тем, которое имел в виду законодатель? Ему сказано — убивать нельзя. Но если нападают на его детей, может ли он убить, чтобы предотвратить убийство? Десять заповедей об этом умалчивают. Поэтому вокруг каждого кодекса кружится целая толпа толкователей, которые выводят правила для конкретных ситуаций. Предположим, дипломированные юристы постановили, что человек может убивать в целях самообороны. Однако это не решает проблем обычного человека. Как он может знать, что правильно понял принцип самообороны и в данном конкретном случае верно понял ситуацию, что не обманулся — на него действительно нападают и при этом он обороняется, а не наоборот? А вдруг он сам спровоцировал нападение? Что же в таком случае можно считать провокацией? Именно такого рода сомнения обуревали большинство немцев в августе 1914 года.
В современном мире гораздо более серьезным, чем моральные различия в кодексах, является различие в понимании фактов, к которым данный кодекс приложим. Религиозные, нравственные и политические формулы не так далеки друг от друга, как далеки друг от друга факты, принимаемые на веру приверженцами кодексов. В таком случае, вместо того чтобы сравнивать идеалы, полезно пересмотреть интерпретацию фактов. Так, правило, согласно которому следует поступать с другими так, как вы хотели бы, чтобы они поступали с вами, покоится на убеждении в универсальности человеческой природы. Утверждение Бернарда Шоу о том, что вы не должны поступать с другими так, как вы хотели бы, чтобы они поступали с вами, поскольку у них могут быть другие вкусы, основывается на убеждении в том, что человеческая природа не универсальна. Максима «конкуренция — душа торговли» состоит из целого тома предположений относительно мотивов экономического поведения, производственных отношений и функционирования конкретной системы торговли. Утверждение, что у Америки никогда не будет торгового флота, который не находился бы в частной собственности, исходит из обоснованной связи между определенным типом получения доходов и мотивами деятельности. Когда большевистский пропагандист, оправдывая диктатуру, шпионаж и террор, выдвигает тезис о том, что всякое государство это аппарат подавления[170], — это историческое суждение, истинность которого отнюдь не очевидна для человека, не придерживающегося коммунистических взглядов.
Ядро любого морального кодекса состоит из картины человеческой природы, карты Вселенной и версии исторического процесса. К определенным образом понятой природе человека, к определенным образом представляемой Вселенной и к определенным образом реконструированной истории и прилагаются правила кодекса. А поскольку факты личной биографии, окружающего мира и памяти у разных людей существенно различаются, постольку применение кодекса наталкивается на значительные сложности. В каждом моральном кодексе так или иначе должны быть осмыслены психология человека, окружающий его материальный мир и традиция, в рамках которой он существует. Но если в кодексах, созданных под влиянием науки, это осмысление полагается гипотетическим, то в кодексах, восходящих к прошлому или возникающих из глубин человеческой памяти, это осмысление воспринимается не как гипотеза, требующая доказательства или опровержения, а как фикция, принимаемая без всяких колебаний. В одном случае человек относится к своим убеждениям со смирением, так как ему известны их предварительный характер и неполнота, в другом — проявляет догматизм, так как его убеждения — миф, отличающийся законченностью и полнотой. Моралист, приверженный науке, убежден, что, пускай он и не знает всего, он знает хотя бы что-то. Догматик, опирающийся на миф, считает, что он приобщился к дару всеведения, пусть у него и отсутствуют критерии различения лжи и истины. Ведь отличительной особенностью мифа является то, что истина и ошибка, факт и выдумка, сообщение о реальных событиях и фантазии лежат в одной плоскости.
Таким образом, миф не обязательно ложен. Он может оказаться абсолютно правдивым. Он может быть отчасти правдивым. Если он влиял на человеческое поведение в течение длительного времени, он наверняка содержит много важных и глубоких истин. Однако в мифе никогда не заложена критическая способность отделять правильное от ошибочного, поскольку эта способность проистекает только из осознания того, что человеческое мнение, каким бы ни было его происхождение, слишком возвышенно, чтобы подвергаться проверке фактическими данными, что каждое мнение — это только чье-то мнение. А если вы спросите, почему проверка с помощью фактов предпочтительнее любой другой, то вы не получите ответа до тех пор, пока не согласитесь проверить ее саму.
4
Утверждение о том, что моральные кодексы предполагают определенное видение фактов, на мой взгляд, очень легко обосновать. Под моральными кодексами я понимаю правила самого разного рода: личные, семейные, экономические, профессиональные, правовые, патриотические, международные. В центре каждого такого кодекса находится система (pattern) стереотипных представлений о психологии, социологии и истории. Представления о человеческой природе, социальных институтах или традициях редко бывают общими для всех этих кодексов. Сравним, к примеру, экономический и патриотический кодексы. Предположим, что война влияет на оба эти кодекса. Представим себе двух людей, объединенных общим делом. Один является вербовщиком, а другой подписывает контракт о военной службе. Солдат жертвует всем, возможно даже своей жизнью. Ему платят доллар в день, и никто не говорит, никто не верит, что он будет лучше воевать, если его стимулировать экономически. Этот мотив человеческой деятельности он начисто утрачивает. Вербовщик жертвует очень немногим, ему оплачивают накладные расходы, а также дают определенную сумму за труды, и очень немногие говорят или думают, что он занялся бы изготовлением военного снаряжения, если бы у него не было экономического стимула. Это было бы по отношению к нему нечестно. На этом примере я хочу показать, что принятый патриотический кодекс предполагает одно представление о человеческой природе, а коммерческий кодекс — другое. И кодексы, вероятно, основаны на правильных ожиданиях, поскольку человек, приняв определенный кодекс, стремится проявлять человеческую природу в том виде, в каком того требует данный кодекс.
Именно поэтому так опасно делать обобщения относительно человеческой природы. Любящий отец может быть угрюмым начальником, честным муниципальным служащим у себя на родине и в то же время — агрессивным ура-патриотом за пределами своей страны. Его семейная жизнь, его деловая карьера, его взгляды на вопросы внешней и внутренней политики основываются на совершенно различных версиях того, что представляют собой окружающие и как следует себя вести. Эти версии различаются потому, что связаны с разными кодексами, уживающимися в сознании одного человека. Кодексы двух представителей одного социального слоя схожи между собой. Но если речь идет о разных социальных слоях, разных нациях, людях с разным цветом кожи, то их кодексы весьма отличаются. Причем они могут не совпадать до такой степени, что между ними практически не может быть ничего общего. Именно поэтому люди, исповедующие одни и те же религиозные взгляды, могут воевать друг с другом. Элемент представлений, определяющий их поведение, и является тем видением фактов, из которого они исходят.
Здесь кодексы оказывают свое незаметное, но всепроникающее воздействие на процесс формирования общественного мнения. Согласно традиционным теориям, общественное мнение — это моральное суждение по поводу группы фактов. Развиваемая мною теория состоит в том, что при современном состоянии образования общественное мнение является, прежде всего, морализированной и кодифицированной версией фактов. Я утверждаю, что система (pattern) стереотипов, находящаяся в центре наших кодексов, определяет, какую именно группу фактов и в каком ракурсе мы увидим. Поэтому, несмотря на наилучшие намерения, политика газеты в отражении новостей попадает под влияние политики редакции. Именно поэтому капиталист видит один набор фактов и аспектов человеческой природы, а его оппонент-социалист — набор других фактов и аспектов природы человека. Именно поэтому каждый из них считает, что другой заблуждается или лишился рассудка, тогда как реальное различие между ними — это различие восприятия. Оно диктуется различиями между капиталистической и социалистической системами стереотипов. «В Америке нет классов», — пишет один американский редактор. «История всех обществ, существовавших до сих пор, есть история борьбы классов», — говорится в Манифесте Коммунистической партии[171]. Если в вашем сознании заложена система цитировавшегося выше редактора, то вы хорошо разглядите факты, которые ее подтверждают, и с трудом — те факты, которые ей противоречат. Если вы следуете коммунистической системе стереотипов, то вы не просто будете обращать внимание на другие вещи, но, даже если вы и упомянутый редактор смотрите на одни и те же вещи, вы будете видеть их в совершенно разном свете.
5
А поскольку моя система нравственности покоится на принятой мной версии событий, — значит, тот, кто отрицает либо мои моральные суждения, либо мою версию событий, является, с моей точки зрения, чужим, опасным и ошибочно мыслящим человеком. Как я могу объяснить его позицию? Оппонента, как бы он от нас ни отличался, всегда нужно как-то понимать, и мы в самую последнюю очередь объясняем его отличие тем, что он видит другие факты. Этого объяснения мы избегаем, так как оно подрывает сами основания нашей уверенности в том, будто мы смотрим на жизнь ясным взглядом и видим ее во всей ее целостности. Только если мы привыкли признавать, что наше мнение является частичным опытом, который мы рассматриваем сквозь свои же стереотипы, — только тогда мы можем быть толерантными по отношению к нашему оппоненту. Если у нас нет такой привычки, то мы верим в абсолютность нашего восприятия и потому — в ненадежность и предательство любого, кто думает иначе. Хотя люди готовы допустить, что существует две стороны «вопроса», они не верят, что существует две стороны того, что они считают «событием». И они до тех пор в это не верят, пока в результате длительного обучения критическому подходу не придут к полному осознанию того, насколько вторичным и субъективным является их понимание общества.
Таким образом, там, где каждая из двух групп видит свой аспект события и стремится к собственным объяснениям увиденного, они практически не могут доверять друг другу. Если система стереотипов соответствует их опыту в ключевых моментах, они уже не смотрят на нее как на интерпретацию. Они смотрят на нее как на «реальность». Она может не походить на реальность, за исключением того, что ее кульминацией является вывод, гармонирующий с реальным опытом. Я могу представить свое путешествие из Нью-Йорка в Бостон с помощью прямой линии на карте, точно так же как добившийся победы человек может представлять себе свой триумф как конец прямой и узкой дороги. Мой фактический путь в Бостон мог быть на самом деле длинным и извилистым, точно так же как путь триумфатора мог быть сопряжен с множеством отклонений от движения к цели, достигнутой тяжкими трудами и испытаниями. Но если каждый из нас достиг своей цели, то прямая траектория самолета или прямая жизненная дорога могут послужить готовыми схемами движения. Но только если кто-то попытается им следовать и не достигнет цели, мы должны будем выслушать критику. Если мы будем настаивать на своих схемах, а неудачник будет настаивать на своем отказе от них, то мы вскоре начнем относиться к нему как к опасному чудаку, а он начнет относиться к нам как к лжецам и лицемерам. Так мы постепенно будем рисовать портреты друг друга. Поскольку наш оппонент уподобляет себя тому, кто говорит: «О, зло, ты мое благо», он раздражает нас тем, что не вписывается в нашу схему. Тем не менее он в нее вмешивается. А поскольку эта схема основана, с нашей точки зрения, на бесспорном факте, усиленном неоспоримой логикой, в этой схеме ему должно быть найдено место. Очень редко в политике или производственных спорах это место определяется признанием того факта, что он смотрит на ту же самую реальность, что и мы, но видит другой ее аспект. Это может разрушить всю схему.
Так, во время Парижской мирной конференции итальянская сторона настаивала на том, что город Фиуме[172] принадлежит Италии. Фиуме для членов итальянской делегации не был городом, который желательно было включить в королевство Италия — он был для них просто итальянским городом. Они видели только то, что в рамках формальных границ города итальянцы составляли большинство населения. Американская делегация, которая видела гораздо больше итальянцев в Нью-Йорке, чем в Фиуме, и при этом не считала, что Нью-Йорк следует отнести к Италии, смотрела на Фиуме как на Центрально-Европейский коммерческий порт. Они знали и о большом числе югославов в пригородах, и о неитальянском населении земель, лежащих далеко от прибрежной полосы. Поэтому некоторые члены итальянской делегации нуждались в убедительном объяснении ошибочных взглядов американцев. Такое объяснение они нашли в распространившейся сплетне, будто один из влиятельных американских дипломатов влюбился в югославку и подпал под ее влияние (никто не знал, откуда пошел этот слух). Ее видели там-то и там-то… Его видели там-то и там-то… В Версале, недалеко от бульвара… На вилле, окруженной большими деревьями.
Это довольно распространенный способ «объяснить» поведение оппонентов. В форме более жесткой клеветы такие обвинения редко достигают печати. Поэтому кому-нибудь вроде Рузвельта приходится ждать годы, а кому-нибудь вроде Хардинга[173] — месяцы, чтобы придать огласке или прекратить разговоры, которые шепотом ведутся в каждой гостиной. Публичным людям приходится терпеть скрытое злобствование в клубах, сплетни на парадных обедах, оговоры в будуарах, мириться с их бесконечными повторениями, вариациями и смакованиями. Несмотря на то, что в Америке, на мой взгляд, все это пережевывание сплетен распространено в меньшей степени, чем в Европе, трудно сыскать американского общественного деятеля, которому не приписывалось бы участие в какой-нибудь скандальной истории.
Своих оппонентов мы превращаем в негодяев и заговорщиков. Если происходит резкий скачок цен, мы приписываем его заговору тех, кто на нем наживается. Если газеты врут, то это происки капиталистов; если богатые слишком богаты, то они жулики и обманщики; если мы проигрываем выборы, то электорат коррумпирован; если государственный деятель совершает не одобряемый вами поступок, то он либо подкуплен, либо попал под влияние какого-то подонка. Если рабочие бунтуют, они подверглись подрывной агитации; а если объединились в международные организации, это значит, что политическая зараза не знает границ. Если производится недостаточное число аэропланов, то это результат происков шпионов; если происходят беспорядки в Ирландии — это подкуп немцев или большевиков. А если человек проявляет полную твердолобость и видит кругом только злоумышленников, то все забастовки, жесткий план развития экономики, беспорядки в Ирландии, Мексике или в мусульманских странах, реставрацию короля Константина[174], Лигу Наций, движение за сокращение вооружения, фильмы, демонстрируемые по воскресеньям, короткие юбки, нарушение сухого закона и борьбу негров за гражданские права он сочтет частными проявлениями грандиозного заговора, организованного Москвой, Римом, масонами, японцами или сионскими мудрецами.
Глава 10 Выявление стереотипов
1
Профессиональные дипломаты, взывающие к воюющим народам, научились использовать широкий репертуар стереотипов. Они имели дело с ненадежными альянсами держав, каждый из которых продолжал военное сотрудничество лишь благодаря исключительно осторожному руководству. Рядовой и его жена, которые в военных хрониках представали героями, способными на любую жертву, на самом деле оказывались не столь уж бесстрашными перед лицом смерти, — несмотря на все идеи о будущем цивилизации, которые высказывали служащие министерств иностранных дел разных стран. Среди солдат находилось очень мало тех, кто добровольно преодолевал порты, мины, горные перевалы на Ничьей земле, чтобы передать их союзникам.
Случилось так, что в одном из государств партия войны, контролировавшая министерство иностранных дел, высшее командование и большую часть прессы, претендовала на территорию нескольких своих соседей. Люди, принадлежавшие культурной элите, назвали спорную территорию Большой Руританией[175] (Greater Ruritania) и отнесли Киплинга, Трейчке[176] и Мориса Барреса[177] к числу стопроцентных руританцев. Но эта грандиозная идея не нашла поддержки за рубежом. Поэтому, прижимая к груди этот чудесный цветок руританского гения (как сказал их придворный поэт), руританские государственные мужи продолжили свою политику в духе «Разделяй и властвуй!» Они разделили спорную территорию на секторы. Для каждого сектора они использовали тот стереотип, которому их союзники (один или больше) не могли сопротивляться, потому что они также имели свои претензии и рассчитывали, что найдут поддержку и одобрение, пользуясь тем же самым стереотипом.
Первый сектор оказался горным районом, населенным иноземными крестьянами. Руритания претендовала на этот сектор, чтобы замкнуть свои естественные географические границы. Если вы концентрируете внимание лишь на невыразимой ценности того, что дано природой, то иноземные крестьяне растворяются в тумане и вы видите только горный склон. Следующий сектор был населен руританцами, и согласно принципу, гласившему, что никакой народ не может жить под иноземным правлением, он был реаннексирован. Также встал вопрос о городе, имеющем большое значение для торговли, но не населенном руританцами. Однако поскольку до XVIII века этот город составлял часть Руритании, в соответствии с принципом Исторического Права он был аннексирован. Следующим спорным местом оказалось превосходное месторождение минерального сырья, принадлежавшее противнику и им же разработанное. Согласно принципу компенсации ущерба оно также было аннексировано. Помимо этого существовала еще территория, на 97 % населенная противником и географически граничившая с другим государством, которое никогда не входило в Руританию. Однако одна из провинций этого пограничного государства — присоединенная к Руритании на федеративных началах — ранее торговала на этих рынках, и крупная буржуазия этого региона была руританской. Согласно принципу культурного превосходства и необходимости защиты цивилизации, принадлежность этих земель могла быть оспорена. Наконец, существовал порт, совершенно не связанный с Руританией — географически, этнически, экономически, исторически или культурно. На него были высказаны претензии в связи с тем, что он был необходим для национальной обороны.
Если рассмотреть договоры, заключенные по завершении Первой мировой войны, то количество подобных примеров можно умножить. Приводя эти примеры, я не хочу утверждать, что можно было бы перекроить Европу в соответствии с этими принципами. Я уверен, что это было невозможно. Само использование этих принципов, столь претенциозное и абсолютное, означало отсутствие духа примирения и подлинного стремления к миру. Ведь в тот момент, когда вы начинаете обсуждать фабрики, шахты, горы и даже политическую власть как прекрасный пример того или иного вечного принципа, вы уже выходите за пределы обсуждения и вступаете на поле битвы. Этот вечный принцип подвергает цензуре все возражения, изолирует обсуждаемый вопрос от места действия и контекста. Он возбуждает в вас некие сильные настроения, связанные с самим принципом, но не имеющие ничего общего с доками, складами и недвижимостью. Существует реальная опасность того, что, однажды поддавшись этим настроениям, вы уже не можете остановиться. В этом случае вы должны обращаться к дополнительным абсолютным принципам, с целью защитить участки, открытые для атаки. Затем вам приходится защищать ранее созданные линии обороны, создавать буферы ради обеспечения безопасности буферов до тех пор, пока все дело не оборачивается такой путаницей, что кажется — менее опасно сражаться, чем продолжать обсуждение вопроса.
Существуют, разумеется, некоторые инструменты, которые позволяют вскрывать ложный абсолютизм стереотипа. В случае с руританской пропагандой принципы начали наслаиваться друг на друга с такой скоростью, что легко было увидеть, как строилась аргументация. Ряд ее противоречий показал, что для каждого сектора использовался стереотип, который мог уничтожить все факты, идущие вразрез с территориальными претензиями. Подобные противоречия часто служат ключом к пониманию ситуации.
2
Неспособность принимать во внимание пространство — еще один такой ключ. К примеру, весной 1918 года многие люди, напуганные выходом России из войны, требовали «восстановления восточного фронта». Война, согласно их представлениям, должна была вестись на два фронта, и когда один из них был закрыт, они решили, что фронт должен быть немедленно восстановлен. Место русской армии должна была занять бездействовавшая японская. Но для этого существовало непреодолимое препятствие. Между Владивостоком и восточной линией фронта пролегало пять тысяч миль территории страны, по которой проходила всего одна, к тому же разрушенная, железнодорожная магистраль. Тем не менее в сознании энтузиастов этих пяти тысяч миль не существовало. Они были столь убеждены в необходимости второго фронта и в доблести японских солдат, что мысленно перенесли эту армию из Владивостока в Польшу на ковре-самолете. Напрасно военные специалисты доказывали, что высадка войск в Сибири имеет столь же мало общего с восстановлением фронта, сколько подъем на крышу здания компании Вулворт — с полетом на Луну.
В описанной ситуации было задействовано стереотипное представление о войне на два фронта. С того момента, как у людей сложился образ Первой мировой войны, они представляли себе Германию зажатой между Францией и Россией. Одно или два поколения стратегов, вероятно, жило с этим визуальным образом как исходной точкой своих расчетов. Почти в течение четырех лет каждая карта сражений усугубляла подобное впечатление о войне. Когда события приняли новый оборот, нелегко было увидеть их такими, какими они на самом деле оказались. Факты рассматривались сквозь призму стереотипа, а те, которые противоречили стереотипу, к примеру расстояние от Японии до Польши, ускользали из поля зрения.
Интересно отметить, что американские власти смотрели на все это более реалистично, чем французские. Отчасти (до 1914 года) потому, что у них не было предвзятых мнений относительно войны на континенте; отчасти потому, что у американцев, поглощенных мобилизацией сил, было свое видение западного фронта, которое само по себе было стереотипом, исключавшим из их сознания любое живое восприятие других театров военных действий. Весной 1918 года традиционное французское видение не могло конкурировать с американским, потому что если американцы всерьез верили в свои собственные силы, то французы в это время (до битвы у Кантиньи и второго сражения на Марне[178]) были охвачены сомнениями. Уверенность в себе подпитывала американский стереотип, помогала ему овладеть сознанием, давала ту силу, живучесть и остроту, то стимулирующее влияние на волю, тот эмоциональный интерес как к объекту желания, то согласие с непосредственной деятельностью, которые, как отмечает Джемс, характерны для наших представлений о «реальном»[179]. Пребывавшие в отчаянии французы сосредоточились на принятых у них образах. А когда факты, причем серьезные географические факты, не вписывались в их стереотипы, они либо вычеркивались из сознания, либо им придавалась соответствующая форма. То, например, что японцам было проблематично сойтись в битве с немцами, находившимися от них на расстоянии пяти тысяч миль, преодолевалось перемещением немцев на две с половиной мили навстречу японцам. Предполагалось, что с марта по июнь 1918 года в Восточной Сибири будет действовать какая-то немецкая армия. Эта фантомная армия состояла из некоторого количества настоящих немецких пленных, некоторого количества выдуманных немецких пленных, а также из иллюзии, что расстояния в пять тысяч миль на самом деле не существует[180].
3
Истинное представление о пространстве — дело непростое. Если я соединю прямой линией Бомбей и Гонконг и это расстояние измерю, я не выясню, какое расстояние нужно преодолеть, чтобы попасть из одного места в другое. И даже если я измерю реальное расстояние, которое надо преодолеть, я ничего при этом не узнаю о том, какие корабли курсируют по данному маршруту, какое у них расписание, с какой скоростью они передвигаются, будет ли мое путешествие безопасным и хватит ли у меня средств, чтобы его совершить. На практике пространство является вопросом возможности передвижения, а не геометрического плана, как было хорошо известно одному железнодорожному магнату, который пригрозил, что улицы города, оскорбившего его, зарастут травой. Я бы проклинал человека, который на мой вопрос, далеко ли то место, куда мне надо доехать на машине, ответит, что оно в трех милях от того места, где я нахожусь, не упоминая при этом объезд в шесть миль. Какая разница, если мне скажут, что расстояние между мной и местом назначения составляет три мили, если идти туда пешком. Мне также могут сказать, что для вороны это расстояние еще меньше. Я не летаю, как ворона, и не собираюсь идти туда пешком. Мне нужно знать, что, если ехать на автомобиле, длина пути составит девять миль, из которых шесть — грязь и ухабы. Пешехода, который говорит о своих трех милях, я сочту занудой, а авиатора, говорящего об одной миле, — просто негодяем. Оба они говорят о расстоянии, которое нужно преодолеть им, а не мне.
Из-за неспособности политиков понять практическую географию регионов неоднократно возникали сложности при установлении границ. Опираясь на некие общие формулы, наподобие самоопределения, государственные мужи в разные времена проводили на карте линии, которые, будучи перенесенными на местность, пересекали завод, поселок, церковь или отделяли в деревенском доме кухню от спальни. Проводились границы, которые в сельской местности отсекали пастбище от водопоя, выгон от рынка, а в промышленных районах — железнодорожную станцию от подъездных путей. На пестрой этнической карте граница оказывалась этнически верной, но только в рамках самой карты.
4
Однако сложности возникают не только с пространством, но и со временем. Характерным примером здесь является случай, когда человек пытается с помощью завещания установить долговременный контроль над своим состоянием после собственной смерти. «Уильям Джеймс-старший решил, — пишет его внук Генри Джеймс, — дать своим детям (часть которых к моменту его смерти не достигла совершеннолетия) необходимые знания и навыки, чтобы они смогли наслаждаться большим состоянием, которое он собирался им оставить. Именно с этой целью он составил завещание, содержавшее подробные инструкции и рекомендации. Тем самым он показал им, как велики были и его уверенность в собственных оценках, и забота о нравственном благополучии своих наследников»[181]. Однако суд не признал завещания, поскольку закон, не приемлющий вечность и бесконечность, считает, что существуют четкие границы при предъявлении моральных требований к неопределенному будущему. В то же время стремление предъявить такие требования — характерная человеческая черта, настолько характерная, что закон позволяет это, но только в течение ограниченного срока после смерти.
Поправки к любой конституции прекрасно демонстрируют уверенность ее авторов, что они донесут свое мнение до последующих поколений. Существуют такие конституции американских штатов, которые практически не подлежат поправкам. Люди, которые их составляли, имели весьма смутное представление о потоке времени: для них Здесь и Теперь были столь яркими и определенными, а Будущее — столь смутным и столь ужасающим, что они смело говорили о том, какой должна быть жизнь после их ухода. А поскольку конституции плохо поддаются поправкам, то фанатики, обладающие к тому же особой любовью к неотчуждаемому праву собственности, обожали записывать на этих скрижалях всякого рода правила и ограничения, которые при умеренно терпеливом отношении к будущему оказывались не более вечными, чем обычный устав.
Понимание текучести времени широко проникает в наши представления. Для одного человека институт, который существовал в течение всей его сознательной жизни, является частью вечного порядка Вселенной, тогда как для другого тот же самый институт кажется эфемерным. Геологическое время весьма отличается от биологического. Социальное время — самое сложное. Государственный муж должен решить, рассчитывать ли ему на короткий промежуток времени или на длительную перспективу. Некоторые решения должны приниматься на основании того, что произойдет в течение следующих двух часов, а другие — из расчета на неделю, месяц, сезон, декаду, период, в течение которого растут дети или внуки. Важная составляющая мудрости — способность определять это время верно. Человек, опирающийся на неверное представление о времени, может принадлежать либо к категории мечтателей, игнорирующих настоящее, либо к категории мещан, которые не видят дальше собственного носа, либо к какому-то промежуточному типу. Подлинная шкала ценностей очень чувствительна по отношению к относительности времени.
Отдаленные от нас времена — прошлое и будущее — должны быть как-то осмыслены. Как говорит Джемс[182], «промежуток времени, длящийся свыше нескольких секунд, перестает восприниматься нашим сознанием непосредственно…»[183]. Самое длительное время, которое мы непосредственно ощущаем, — это то, что называется «обманчивым настоящим»[184]. Оно длится, согласно Титченеру[185], примерно шесть секунд. «Все впечатления, которые мы получаем за это время, являются нам одновременно. Это позволяет нам воспринимать изменения и события, равно как и неподвижные объекты. Восприятие вещей в настоящем дополняется представлением о них. Благодаря комбинации перцепции с образами памяти, целые дни, месяцы и даже годы прошлого соединяются с настоящим»[186].
В этом, способном к восприятию идей настоящем яркость впечатлений, согласно Джемсу, прямо пропорциональна числу промежутков времени, которые мы можем различить, и разнообразию опыта. Так, время отдыха, в течение которого человек изнемогал от скуки, течет очень медленно, а «закончившись, представляется коротким»[187]. Время, заполненное бурной деятельностью, протекает очень быстро, тогда как в памяти оно оставляет долгий след. У Джемса есть интересное рассуждение относительно взаимоотношения между разнообразием впечатлений, которые мы можем различить, и временной перспективой: «У нас есть все основания считать, — пишет он, — что человеческие существа значительно различаются по тому, какие отрезки времени они способны интуитивно ощущать, и по тому, насколько тонко они могут выделять события, наполняющие эти временные отрезки. Бэр[188] занимался очень интересными вычислениями, связанными с тем, как эти различия могли изменять взгляд на природу. Предположим, что мы способны в течение одной секунды различать 10 000 событий, вместо тех 10, которые мы с трудом различаем[189]. И если бы при этом наша жизнь вмещала то же самое количество впечатлений, что и сейчас, — она и была бы, соответственно, в 1000 раз короче. В таком случае мы жили бы меньше месяца и за всю жизнь ничего не узнали бы о смене времен года. Родившись зимой, мы вынуждены были бы поверить в лето, как верим в жару каменноугольного периода. Движения органических существ были бы для нас столь медленными, что мы не смогли бы их наблюдать, а только реконструировали бы их по определенным признакам. Солнце стояло бы в небе неподвижно, а Луна оставалась бы практически без изменений и т. д. А теперь вообразим себе противоположную ситуацию: некое существо получает только одну тысячную часть от тех впечатлений, которые мы получаем за единицу времени, и, следовательно, живет в тысячу раз дольше. Зимы и весны будут для него похожими на четверть часа. Грибы и однолетние растения будут появляться и гибнуть как будто в одно мгновение; многолетние растения будут возникать из-под земли и увядать, подобно струям горячих источников; движения животных будут столь же невидимыми, сколь невидимы для нас движения пуль и пушечных ядер; Солнце будет проходить по небосводу подобно метеору, оставляя за собой огненный след, и пр.»[190].
5
В своем «Очерке истории» Уэллс предпринял изящную попытку визуализировать «подлинные пропорции исторического и геологического времени»[191]. Шкала представляла время от Колумба и до наших дней с графическими промежутками в три дюйма. Читателю нужно было бы опуститься на 55 футов, чтобы увидеть дату рисунков в пещере Альта-мира, на 550 футов — до первых неандертальцев, а затем что-то около мили — до последних динозавров. Более или менее точная хронология начинается только после 1000 года до н. э. В это время «сведения о Саргоне I, правителе Шумеро-Аккадского царства… хранились в глубоких слоях исторической памяти. Этот царь был гораздо более отдален от людей того времени, чем отдален от нашего мира Константин Великий… Хаммурапи к этому времени был мертв уже в течение тысячи лет… А Стоунхендж в Англии уже насчитывал тысячу лет…»[192].
Уэллс говорит об этих соответствиях не случайно. «За короткий период в десять тысяч лет группы, в которые объединились люди, выросли от маленьких племен-семей эпохи раннего неолита до обширных государств (обширных, но все же маленьких и неполных) современности»[193]. Уэллс надеялся, что, изменяя временную перспективу наших собственных проблем, он сможет изменить и их моральную перспективу. Тем не менее любое измерение времени — астрономическое, геологическое, биологическое, телескопическое — минимизирует настоящее и является не «более истинным», чем микроскопическое измерение. Как верно заметил Симеон Странски, «если господин Уэллс размышляет о будущем человечества, то он вправе обратиться к любому числу веков. Если же он размышляет о спасении западной цивилизации, по ходу своих размышлений спотыкаясь о последствия Первой мировой войны, то он должен думать в десятилетиях и годах»[194]. Единица измерения зависит от практических целей измерения. В одних ситуациях временная перспектива нуждается в удлинении, в других — в укорачивании.
Если человек считает неважным, что пятнадцать миллионов китайцев умерли от голода, так как через два поколения потери будут компенсированы благодаря темпам естественного прироста, — это значит только одно: он хочет оправдать свое теперешнее бездействие. Или другой пример: тот, кто довел до нищеты здорового молодого человека, эксплуатируя его сочувствие к людям, испытывающим явную нужду, — не принимает во внимание продолжительности жизни нищего. Люди, ради скорейшего достижения мира подкупающие агрессивную империю и тем самым временно утоляющие ее жажду, преподносят сомнительный подарок своим детям, которые могут стать жертвой агрессии. Люди, которые не хотят мириться с шумным соседом и рассказывают ему, что именно они затевают для прекращения его безобразий, также становятся жертвой избранной ими стратегии.
6
При решении практически любой социальной проблемы необходимо учитывать время. Рассмотрим проблему лесов и производства пиломатериалов. Одни деревья растут быстрее, другие — медленнее. Таким образом, правильная тактика в этой области предполагает такой объем вырубок, который может быть компенсирован новыми посадками. Если расчеты верны, то хозяйство ведется оптимальным образом. Однако при этом могут возникнуть какие-то непредвиденные ситуации, скажем непредусмотренная вырубка для устройства военного аэродрома. Если правительство понимает эту проблему, то запланирует восстановление баланса в будущем.
Или возьмем ситуацию с добычей угля. Здесь речь идет совсем о других масштабах времени, поскольку формирование угольных пластов, в отличие от роста деревьев, происходит на протяжении целых геологических эпох. Разумеется, запасы угля ограничены. Следовательно, правильная социальная политика принимает во внимание сложнейшие расчеты имеющихся мировых ресурсов, возможностей угольной промышленности, скорость потребления угля, экономические механизмы его потребления и учет альтернативных видов топлива. Затем этот расчет должен быть приведен в соответствие с идеальной нормой, в которую входит и параметр времени. Предположим, инженеры пришли к выводу, что имеющиеся в настоящее время запасы топлива расходуются с такой скоростью, что если не будут открыты новые месторождения, то в некоем отдаленном будущем производство придется сократить. Поэтому мы должны решить, как ограничить потребности сейчас, чтобы не обречь на лишения наших потомков. В связи с этим встает вопрос: кого считать нашими потомками? Внуков? Правнуков? Возможно, мы захотим сделать расчет на сто лет вперед, полагая, что этого времени будет достаточно, чтобы открыть альтернативные виды топлива, если в них возникнет потребность. Производя подобные расчеты, мы должны будем показать, какими соображениями руководствуемся. Мы должны будем найти место социальному времени в общественном мнении.
Представим себе теперь ситуацию другого типа: контракт между городской администрацией и трамвайной компанией. Компания утверждает, что она не будет заниматься инвестированием в городской транспорт, если ей не будет гарантирована монополия на главную транспортную магистраль в течение 99 лет. В сознании людей, выдвигающих это требование, 99 лет — это такой долгий срок, что он представляется им почти вечностью. Но допустим, есть основания предполагать, что трамваи данной компании, находящиеся в настоящее время на линии, через двадцать лет устареют. Поэтому в высшей степени неразумно заключать контракт, в силу которого вы фактически обрекаете будущие поколения на пользование сомнительным транспортом. Если городские власти заключают такой контракт, значит, они не понимают, что такое временной промежуток в 99 лет. В данном случае было бы разумнее предоставить этой компании субсидии в настоящее время, чтобы она могла привлечь капитал, а не стимулировать инвестиции, предаваясь сомнительному представлению о вечности. Ни у городских властей, ни у представителей компании, обсуждающих контракт, нет чувства реального времени, когда они говорят о 99 годах.
Популярная история — благодатная почва для всевозможной путаницы со временем. Например, для обычного англичанина поведение Кромвеля, нарушение Акта об унии[195], голод 1847 года — это страдания, перенесенные людьми, которых давно нет в живых, и деяния, совершенные в незапамятные времена людьми, с которыми ни у кого из ныне живущих ирландцев или англичан нет никаких реальных связей. Но в сознании патриотически настроенного ирландца это события почти современные. Его память подобна одной из тех исторических картин, на которых изображены сидящие рядом и беседующие между собой Вергилий и Данте. Такие перспективы и ракурсы служат серьезными барьерами в отношениях между людьми. Ведь человеку, принадлежащему одной традиции, очень сложно держать в памяти те исторические факты, которые с точки зрения другого человека являются фактами современности.
Практически ничего из того, что подпадает под понятие Исторических Прав или Исторической Несправедливости, не может считаться подлинно объективным взглядом на прошлое. Возьмем, к примеру, спор между Францией и Германией по поводу Эльзаса-Лотарингии. Здесь все зависит от того, какой период вы выбираете в качестве точки отсчета. Если считать с рауриков и секванов[196], то эти земли исторически являются частью Древней Галлии. Если с Генриха I — то это часть территории Германии, если с 1273 года — то они принадлежат Австрии, если с 1648 года и Вестфальского мира — то большая их часть относится к Франции; если с Людовика XIV и с 1688 года — то эта территория почти полностью стала французской. Используя исторические аргументы, на практике вы будете уверены в выборе тех дат, которые поддерживают именно ваше представление о том, что нужно делать в настоящий момент.
Аргументы, в которых используются расы и национальности, обычно демонстрируют тот же самый произвольный взгляд на время. Во время войны под влиянием сильных эмоций различие между «тевтонами», с одной стороны, и «англосаксами» и французами — с другой, считалось вечным: они якобы всегда противостояли друг другу. Однако представители предыдущего поколения историков, подобные Фриману, подчеркивали общее тевтонское происхождение западноевропейских народов, а этнологи, разумеется, настаивали на том, что немцы, англичане и большая часть французов имеют общих предков. Общее правило здесь такое: если данный народ вам сегодня нравится, то вы используете символ ветвей, отходящих от одного ствола, а если не нравится, то вы думаете о нем как о ветви, отходящей от другого дерева. В одном случае вы сосредоточиваете свое внимание на периоде, когда ветви поддавались идентификации как части некоего целого, а в другом — на том периоде, после которого они стали различными. И тот взгляд, который соответствует вашему теперешнему настроению, принимается за «истину».
Простой иллюстрацией данного подхода является семейное древо. Обычно супружеской паре «назначаются» какие-нибудь предки. Если есть возможность, их происхождение связывается с каким-нибудь значимым и почетным событием, типа завоевания Англии норманнами. Сведений о предках этих предков нет. Неизвестно, чьими потомками они являются. Таким образом, высказывание, что Такой-то был основателем рода, означает не то, что он был Адамом своей семьи, а то, что он является конкретным предком, с которого желательно начинать отсчет в истории данного рода, или это самый ранний предок, о котором сохранились сведения. Но генеалогические таблицы обнаруживают один еще более глубокий предрассудок. Если предки по женской линии не были какими-либо выдающимися лицами, то происхождение прослеживается по мужской линии. И лишь в отдельные моменты семейной истории особи женского пола садятся на это древо, как пчелки на старую яблоню.
7
Однако самым сложным из всех является будущее время. Имея дело с будущим временем, всегда соблазнительно перескочить через ряд последовательных шагов, поскольку нами движет желание или сомнение преувеличить или свести к минимуму время, необходимое для завершения разнообразных частей процесса. С этой проблемой мы сталкиваемся, например, при обсуждении роли наемных работников в управлении промышленностью. Ведь управление (management) — это слово, содержание которого указывает на множество функций[197]. Исполнение одних функций не предполагает никакой предварительной подготовки, других — требует небольшой подготовки, и, наконец, исполнение третьих сопровождается обучением в течение всей жизни. Поэтому разумная программа демократизации промышленности должна быть последовательной, где представление о круге обязанностей соединяется с соответствующей программой подготовки кадров. Те, кто предполагает немедленно установить диктатуру пролетариата, пытаются игнорировать фактор временных затрат на подготовку, а полное нежелание разграничивать функции является попыткой отрицать изменение человеческих способностей с течением времени. Примитивные представления о демократии, такие, как ротация кадров и неуважение к квалификации, — это не что иное, как старый миф о богине мудрости, которая появляется на свет совершенно зрелой, выскакивая из головы Зевса в полном военном снаряжении. Сторонники подобных взглядов предполагают, будто то, на изучение чего потребуются годы, вовсе не следует учить.
Когда в основе политики используется фраза «отсталый народ», то представление о времени становится решающим элементом. Так, в Статье XIX Версальского договора об учреждении Лиги Наций говорится, например, что «характер мандата должен различаться в зависимости от стадии развития народа», а также от других характеристик. Далее в этой статье говорится, что отдельные сообщества достигли «такой стадии развития», когда их независимость может быть принята условно, с учетом того, что они получают советы и помощь «до тех пор, пока не смогут существовать самостоятельно». По тому, как держатели мандатов и подмандатные понимают это положение, можно судить, что время глубоко влияет на их отношения. Так, в случае с Кубой оценка американского правительства практически совпадала с оценкой кубинских патриотов. И хотя не обошлось без проблем, история не знает более прекрасной страницы в отношениях между сильными и слабыми. Гораздо чаще в процессе истории оценки не совпадали. В тех ситуациях, когда народ империи, каковы бы ни были его публичные заявления, был убежден, что отсталость столь глубока или столь выгодна, что не имеет смысла ее преодолевать, это отношение отравляло взаимоотношения между странами. В некоторых, весьма немногочисленных, случаях отсталость означала, что правительство должно осуществить такую программу развития народа, которая предусматривала бы определенные нормы и определенные временные оценки. Намного чаще, настолько часто, что это фактически превратилось в правило, отсталость воспринималась как вечный и неизменный знак неполноценности. А любая попытка преодоления отсталости воспринималась как подстрекательство к бунту, чем она в подобных условиях, по существу, и являлась. В расовых войнах в нашей стране видны последствия неспособности осознать, что время постепенно стирает рабскую мораль негров и что механизмы социальной адаптации, основанные на этой морали, начинают ломаться.
Воображая будущее, трудно не подчинить его нашим сегодняшним целям, не уничтожить то, что препятствует немедленному исполнению наших желаний, и не обессмертить то, что стоит между нами и нашими страхами.
8
Объединяя наши общественные мнения, мы должны не только отразить больше пространства, чем мы можем охватить взглядом, и больше времени, чем мы можем осознать. Мы должны описать и оценить больше людей, больше действий, больше вещей, чем мы можем сосчитать или живо себе представить. Нам придется подвести итоги и обобщить, а также выхватить из общей массы примеры и интерпретировать их как типичные случаи.
Выбрать хороший пример, демонстрирующий особенности целого класса явлений или предметов, непросто. Эта проблема относится к области статистики, и это наисложнейшая задача для того, чьи математические знания не выходят за пределы элементарного образования. Я отношу себя именно к этому классу людей, несмотря на то, что в свое время я изучил с полдюжины учебников, в которых, как мне тогда казалось, я вполне разобрался. Единственное, что я из них вынес, — это то, что я стал немного лучше понимать, насколько трудно классифицировать явления и делать выборку.
Недавно группа работников социальной сферы из английского города Шеффилда решила составить точное представление об уровне умственного развития рабочих этого города. Они захотели узнать, опираясь на четкие доказательства, каков же в действительности интеллектуальный уровень рабочих Шеффилда. Поставив перед собой такую задачу, они, как и любой, кто не желает придерживаться своего первого впечатления, сразу же обнаружили массу проблем, сопряженных с выполнением этой задачи. В качестве инструмента анализа было использовано анкетирование. Я не буду останавливаться на характеристике использованной ими анкеты. Отмечу только, что она должна была выявить уровень развития среднего жителя английского города. Теоретически вопросы такой анкеты стоило задать каждому члену этой социальной группы. Однако не так просто определить, кто относится к рабочему классу. Предположим, это известно из результатов переписи населения. Тогда в опросе должны были бы принять участие около 104 000 мужчин и 107 000 женщин. Эти люди должны были дать ответы, призванные развеять расхожие представления о «невежественных» или, наоборот, об «образованных» рабочих. Но никто не мог и подумать о том, чтобы опросить столь большое число людей.
Тогда работники социальной сферы проконсультировались с ведущим специалистом в области статистики профессором Боули[198]. Он рекомендовал опросить не менее 408 мужчин и 408 женщин, которые в совокупности и составят нужную выборку.
Согласно математическим вычислениям, девиация была бы не больше чем 1 к 22[199]. Таким образом, им следовало опросить по меньшей мере 816 человек, прежде чем они смогли бы составить представление о среднем рабочем. Но кого включать в эту выборку?
«Мы могли бы собрать отдельные сведения о рабочих, с которыми каждый из нас был в той или иной мере знаком; мы могли бы действовать через филантропов, контактирующих с некоторыми категориями рабочих через клубы, миссионерскую деятельность, больницы, богослужения, место жительства. Но такой метод выборки привел бы к совершенно бессмысленным результатам. Отобранные подобным образом рабочие ни в коей мере не будут типичными представителями так называемых «обыкновенных рабочих». Они будут представлять не что иное, как маленькие группы, к которым они принадлежат.
Самый верный способ добраться до «жертв» анкетирования — найти их с помощью «нейтральной» или «случайной» (accidental, random) выборки. И мы строго придерживались этого метода, несмотря на большие затраты времени и труда, которые для этого потребовались», — сообщили работники социальной сферы.
В результате тщательного анализа они пришли к выводу, что, согласно их опросу, среди 200 000 рабочих Шеффилда примерно «четверть» была хорошо образованной, «около трех четвертей» была «недостаточно образованна», а примерно «одна пятнадцатая» была плохо образованна.
Сопоставьте эти добросовестные и почти педантичные выкладки с тем, что мы обычно думаем, когда говорим: ирландцы непостоянны, французы логичны, немцы дисциплинированны, славяне невежественны, китайцы честны, японцы не заслуживают доверия и пр. и пр. Все эти обобщения основаны на выборках (samples), а выборки сделаны на основе метода, статистически абсолютно ненадежного. Так, работодатель оценивает рабочий класс на основе своего опыта общения с самым беспокойным рабочим или, наоборот, с самым покорным. А какая-нибудь радикальная группировка вообразит, что это типичные представители пролетариата. Много ли найдется женщин, чьи взгляды на «проблему прислуги» выходят за рамки опыта отношений с собственными слугами. Человек, мыслящий на основе случайных событий и фактов, склонен выдергивать из массы явлений и событий какой-то пример, который служит подтверждением или, наоборот, опровержением его предрассудков, и распространяет его на целый класс.
Масса недоразумений возникает тогда, когда люди не хотят относить себя к тому же классу, к которому относят их исследователи. Если бы они соглашались с нашей классификацией, было бы гораздо легче делать прогнозы. Но в действительности ярлыки типа «рабочий класс» справедливы только относительно некоторых людей и только относительно какого-то промежутка времени. Если вы берете всех, чей уровень доходов ниже определенной границы, и называете эту группу рабочим классом, вы можете ожидать, что люди, отнесенные к этой группе, будут вести себя соответственно вашему стереотипному представлению. Вы не знаете точно, кто эти люди. И если фабричные рабочие и горняки более или менее вписываются в эту группу, то уже сельскохозяйственные рабочие, владельцы небольших ферм, разносчики товаров, мелкие лавочники, клерки, слуги, солдаты, полицейские из нее выпадают. Когда речь идет о «рабочем классе», существует тенденция сосредоточить внимание на двух-трех миллионах более или менее убежденных тред-юнионистов и видеть в них Трудящихся (Labor), а остальным семнадцати-восемнадцати миллионам, которые удовлетворяют статистическим критериям, неявным образом приписывается точка зрения, свойственная организованному ядру. Было, например, совсем некорректно приписывать британскому рабочему классу в 1918–1921 годах точку зрения, выраженную в резолюциях Конгресса тред-юнионов или в брошюрах, написанных интеллектуалами.
Стереотип Рабочего Класса как Освободителя служит инструментом отбора одних данных и игнорирования других. Таким образом, параллельно реальному движению трудящихся существует фиктивное Движение Рабочего Класса, в котором идеализированная масса движется к идеальной цели. Эта фикция связана с будущим. А в будущем возможное практически неотличимо от вероятного, а вероятное — от неизбежного.
Если будущее представляется достаточно отдаленным, то человек может превратить то, что возможно, в то, что очень вероятно, а то, что вероятно, — в то, что должно произойти наверняка. Джемс назвал подобное явление лестницей веры и написал, что «это склон доброй воли, на котором обычно поселяются люди, когда им нужно решать фундаментальные вопросы бытия[200]:
1. Нет ничего абсурдного и противоречивого в том, что некий взгляд на мир является истинным.
2. Такой взгляд при известных условиях мог бы быть истинным.
3. Он может быть истинным даже сейчас.
4. Об его истинности свидетельствует то, что он представляется подходящим.
5. Его следует признать истинным.
6. Он должен быть истинным.
7. Он будет истинным, по крайней мере, для меня».
В другом своем сочинении Джемс добавил: «…ваша деятельность в некоторых особых случаях может быть способом обеспечения его конечной истинности»[201]. Тем не менее никто так выразительно не говорил о том, что, если мы знаем как, не надо вместо исходного пункта движения подставлять цель, не надо приписывать настоящему то, что в результате наших усилий и умения будет создано в будущем. Однако этой простой рекомендации трудно следовать на практике, поскольку любой из нас плохо обучен тому, как составлять выборку.
Если мы полагаем, будто нечто должно быть истинным, то мы можем почти всегда найти или ситуацию, в которой это нечто истинно, или человека, считающего, что оно должно быть истинным. Всегда невероятно сложно, когда конкретный факт иллюстрирует надежду на правильное понимание этого факта. Когда, например, первые шесть человек, которых вы встретили, согласны с вами, трудно подумать, что они могли прочитать за завтраком ту же самую газету, какую прочитали вы. Тем не менее вы не можете рассылать анкету случайно выбранным 816 людям каждый раз, когда хотите оценить вероятность того или иного события. Когда речь идет о любом сколько-нибудь значительном количестве фактов, трудно предположить, что можно составить правильную выборку, действуя, повинуясь первому впечатлению.
9
А когда мы пытаемся сделать следующий шаг, чтобы найти причины и следствия невидимых и сложных ситуаций, то случайное мнение оказывается очень коварным. Существует не так много серьезных сфер общественной жизни, где причина и следствие сразу же становятся очевидными. Они не очевидны даже для ученых, посвятивших годы, скажем, изучению стадий развития бизнеса, или изменению цен и заработной платы, или миграции и ассимиляции народов, или дипломатическим целям иностранных держав. Предполагается, однако, что у каждого из нас есть свое мнение по этим вопросам, и не удивительно, что самой обычной формой является суждение, основанное на интуитивном представлении post hoc, ergo propter hoc[202].
Чем менее подготовленным и образованным является человек, тем легче он приходит к предположению, что существует взаимосвязь между двумя вещами, если те привлекли его внимание одновременно. Выше мы рассуждали, что и как привлекает наше внимание. Мы убедились, что доступ к информации затруднен и неопределенен, что понимание контролируется стереотипами, что факты, имеющиеся в нашем распоряжении, фильтруются иллюзиями самозащиты, престижа, нравственности, пространства и способами выборочного исследования. Следует добавить, что, помимо упомянутых, общественные мнения несут еще большие искажения, по-скольку, наблюдая последовательность событий сквозь призму стереотипа, мы с готовностью принимаем сходство или параллелизм за причину или следствие.
Это происходит особенно часто тогда, когда идеи вызывают одинаковое чувство. Если они появляются одновременно, неудивительно, что они вызывают сходные чувства, но, даже когда они не возникают одновременно, сильное чувство, связанное с одной из них, с большой степенью вероятности вызовет в памяти идею, ассоциированную с подобными впечатлениями. Так, существует тенденция, согласно которой все, связанное с болью, объединяется в целостную систему причинно-следственных связей. То же самое происходит и с приятными ощущениями.
11 дня, 11 месяца (1675). В этот день я слышу, что Бог послал стрелу в самое сердце города. Осла, появившаяся в таверне, — это знак Лебедя; имя содержателя таверны — Виндзор. Этой болезнью поражена его дочь. Замечено, что эта болезнь начинается с пивных, дабы показать, как недоволен Бог грехом пьянства и разрастанием числа пивных[203].
Именно этими особенностями восприятия причинно-следственных отношений продиктованы сочинения Инкриса Мейтера[204]. Ими же обусловлены комментарии, сделанные в 1919 году профессором небесной механики по поводу теории Эйнштейна: «Вполне возможно, что… большевистские восстания — это на самом деле видимые следы некоторых глубоких психологических нарушений, имеющих всемирный характер… Тот же самый дух беспокойства овладел и наукой»[205].
Если мы что-то сильно ненавидим, то легко связываем это причинно-следственной связью с другими вещами, которые мы тоже ненавидим или которых боимся. Между ними может быть не больше связи, чем между эпидемией оспы и пивными или между теорией относительности и большевизмом, но они связаны между собой одним и тем же чувством. В сознании, обремененном предрассудками, как в сознании профессора небесной механики, чувство подобно потоку кипящей лавы, который захватывает и увлекает за собой все, что встречается ему на пути. Если произвести в таком сознании «раскопки», то, как и в городе, погребенном под слоями застывшей лавы, можно найти огромное количество вещей, причудливо связанных друг с другом. Факт может быть связан с любым другим, при условии, что они объединены каким-то чувством. В таком состоянии сознание не способно оценить, насколько причудливы его представления. Старые страхи, усиленные новыми, сплетаются в клубок связей, где любой страх, в свою очередь, порождает новый страх.
10
Обычно все это приводит к созданию двух систем: одна воплощает в себе все добро, другая — все зло. Так проявляется наша любовь к абсолютному. Ведь мы не любим уточняющих наречий[206]. Они загромождают предложения и мешают предаваться чувствам, которым так трудно сопротивляться. Мы предпочитаем превосходную степень сравнительной; мы не любим такие словечки, как «скорее всего», «вероятно», «если», «или», «но», «существует тенденция к», «не совсем», «почти», «временно», «частично». Однако почти каждое мнение об общественных делах должно сопровождаться каким-то словом подобного рода. Зато, когда мы свободны в своих реакциях, мы раздаем характеристики в абсолютных терминах: «всегда», «везде», «в ста процентах случаев».
Нам недостаточно сказать, что мы более справедливы, чем наш враг, что наша победа над врагом будет больше способствовать развитию демократии, чем победа врага над нами. Нам нужно подчеркнуть, что наша победа положит конец войне навсегда и подготовит весь мир к наступлению демократии. А когда, окончив войну, мы сталкиваемся с гораздо меньшим злом, чем то, над которым мы одержали победу, относительность результата уходит на задний план, а абсолютность настоящего зла овладевает нашим духом, и мы чувствуем свою беспомощность, потому что не оказались абсолютно непобедимыми. Маятник качается между всемогуществом и бессилием.
Реальное время, реальное пространство, реальные цифры, реальные связи, реальный вес и объем утрачиваются. Перспектива, основа и параметры действия сжимаются и застывают в стереотипе.
Часть 4 ИНТЕРЕСЫ
Глава 11 Привлечение интереса
1
Сознание — это не фотопленка, которая раз и навсегда сохраняет каждое впечатление, полученное человеком, смотрящим на мир через объектив. Человек наделен способностью к бесконечному творчеству. Картины мира в нашем сознании блекнут и наслаиваются друг на друга. Образы то сгущаются, то размываются по мере того, как мы осваиваем их. Они не лежат мертвым грузом на дне сознания, а преобразуются с помощью нашего поэтического дара. Мы самовыражаемся, меняем акценты, действуем.
Для этого мы персонифицируем количественные величины и драматизируем отношения. Если человек не обладает исключительными аналитическими способностями, то мир представляется ему в виде своего рода аллегории. Социальные Движения, Экономические Силы, Национальные Интересы, Общественные Мнения предстают как персонажи, а личности, подобные Папе Римскому, президенту, Ленину, Моргану, Кингу, становятся идеями или институтами. Наиболее глубоко укорененным из всех является стереотип, построенный на антропоморфизации неодушевленных вещей или целого собрания предметов.
Обескураживающая пестрота уже отфильтрованных впечатлений обычно вынуждает нас и в наших аллегорических средствах выражения стремиться к экономии. Масса воспринимаемых нами предметов и явлений столь велика, что мы не способны долго держать их в памяти. Поэтому обычно мы даем им имена, которые заменяют нам впечатления. Однако имя подобно своеобразному пористому образованию. Старые значения оно теряет, а новые легко впитывает; и попытка сохранить его полное значение столь же утомительна, сколь утомительна попытка вспомнить исходные впечатления. Тем не менее имена — это неполноценная валюта, когда речь идет об обращении мысли. Они слишком абстрактны, и мы начинаем видеть имя сквозь некий личный стереотип, переносить на него свои впечатления и, наконец, видеть в нем воплощение некоего человеческого качества.
Однако человеческие качества смутны и неясны. Их лучше всего запоминать по внешним, физическим признакам. И поэтому человеческие качества, в которых воплощены имена, сами по себе могут быть визуализированы в физических метафорах. Англичане и английская история сосредоточиваются в понятии «Англия», а Англия становится Джоном Булем[207], весельчаком и толстяком, не слишком умным, но способным позаботиться о самом себе. Миграция может одному представляться в виде течения извилистой реки, а другому — в виде паводка, сметающего все на своем пути. Смелость, которую выказывают люди, можно уподобить скале, их цели — представить себе как дорогу, сомнения — как развилку, сложные задачи — как ямы и ухабы, а прогресс — как плодородную долину. Когда мобилизуют дредноуты, говорят «меч извлекается из ножен». Если армия сдалась — страна «повержена наземь». Если людей угнетают, о них говорят, что они «томятся в застенках».
Чтобы события в общественной жизни, популяризируемые в речах, газетах, пьесах, кино, карикатурах, романах, скульптуре или живописи, вызвали интерес, надо сначала абстрагироваться от оригинала. Затем необходимо оживить абстракцию. Нас не могут интересовать или волновать вещи, которых мы не видим. Мы мало интересуемся событиями в общественной жизни, пока кто-то, обладающий даром художника, не перенесет их в кино. Поскольку мы не всеведущи и не вездесущи, мы не можем сами наблюдать все то, о чем мы думаем и говорим. Как существа из плоти и крови, мы не можем довольствоваться скучными теориями, именами и названиями.
Будучи своего рода художниками, мы пишем картины, ставим пьесы и рисуем карикатуры из абстракций.
Или, если нам это удается, мы отыскиваем одаренных людей, способных к визуализации, чтобы они сделали это за нас. Ведь не все люди наделены одинаковыми художественными способностями. Тем не менее, по-видимому, можно утверждать вслед за Бергсоном, что практический разум очень тесно связан со способностями восприятия пространства[208]. Ясность ума обычно сочетается с прекрасной способностью к визуализации. Но по той же причине — из-за кинематографичности — человек ясного ума в той же мере поверхностен и мало чувствителен. Ведь люди, обладающие интуицией, обычно воспринимают качество события и внутреннюю сторону действия гораздо лучше, чем люди со способностью к визуализации. Они лучше ориентируются в тех ситуациях, где главным элементом является скрытое желание, проявленное в виде слабого жеста или изменения ритма речи. Визуализация может фиксировать стимул и результат. Но все промежуточное и временное человек, нацеленный на визуализацию, передает абсолютно карикатурно, как иногда случается, когда композитор, создавая партию для юной девушки, включает в нее очень высокие ноты.
В то же время люди с развитой интуицией, обладая обостренным чувством справедливости, не могут проявить ее в жизни. Социальное взаимодействие зависит от коммуникации; и даже если внутренне такой «интуитивист» настроен на благорасположение, ему может быть трудно явить эти добродетели другим и реализовать их в конкретных поступках. Когда он говорит о них, то кажется, что он вещает из туманной дали. Поскольку, хотя интуиция и обеспечивает более четкое представление о человеческом чувстве, разуму с его пространственными и тактильными предрассудками эти представления мало что дают. Таким образом, когда действие зависит от единодушия и общих представлений участвующих в нем людей, наверное, справедливо будет сказать, что ни одна идея не годится для практических решений, пока она не приобретает визуальную или тактильную форму. Справедливо также, что ни одна визуальная идея не важна, пока не задевает наши личные интересы. До тех пор, пока она не освобождает или не подавляет, не усиливает или не заглушает наши собственные устремления, она для нас ничего не значит.
2
Изображение всегда было одним из средств передачи идей. Следующими по своей способности возбуждать в нашей памяти определенные картины и образы всегда были слова. Однако передаваемая идея не осознается нами как вполне наша до тех пор, пока мы не можем идентифицировать себя с одним из аспектов этой картины. Идентификация, или то, что Вернон Ли[209] назвала эмпатией, может быть исключительно тонкой и символичной, даже неосознанной. Иногда она приводит в ужас те стороны личности человека, которые отвечают за его самоуважение. У людей утонченных она может ассоциироваться не с судьбой героя, а с идеей в целом, вобравшей в себя как героя, так и злодея.
В популярных картинах и литературных произведениях ключи идентификации почти всегда как-то обозначены. Вы сразу же понимаете, кто герой. И никакое произведение не может быстро и легко стать популярным, если ключи не обозначены ясно[210]. Но этого недостаточно. Аудитория все-таки должна что-то делать, а в созерцании истины, добра и красоты действие отсутствует. Для того чтобы публика не была пассивной, созерцая некий образ или картину, — а это в полной мере относится как к газетным сообщениям, так и к художественной литературе и кино, — ее нужно вовлекать в активное сопереживание с помощью образов. Существует две формы вовлечения в такое активное сопереживание. Эти формы превосходят все другие — как по степени легкости, с которой люди им предаются, так и по тому, с какой готовностью для них отыскиваются стимулы. Это сексуальные переживания и драки. И обе эти формы столь тесно связаны друг с другом, что драка на почве секса по своей притягательности для аудитории намного превосходит любую другую тему. Переплетение мотива драки с сексуальным мотивом не знает культурных границ.
В американской образной системе, связанной с политикой, сексуальные мотивы практически отсутствуют. Исключение составляют некоторые экстатические моменты батальных картин, отдельные скандалы или этапы расового конфликта между неграми и азиатами. Только в кино, романах и художественной литературе, публикуемой в периодике, производственные отношения, конкуренция в бизнесе, политика и дипломатия осложнены отношениями между мужчинами и женщинами. Но мотив драки появляется на каждом повороте сюжета. Политика интересна только тогда, когда она оборачивается дракой или, как принято говорить, когда она сопряжена с проблемной ситуацией. А для того чтобы сделать политику популярной, проблемные ситуации должны быть найдены, даже если различия в суждениях, принципах или фактах не приводят к стычке между оппонентами[211].
Если подобного противостояния не существует, тем из нас, кто не вовлечен в эту ситуацию непосредственно, трудно сохранить интерес к произведению. Зато те, кого она касается, могут полностью погрузиться в действие даже тогда, когда никаких проблем нет. Они могут приобщиться к активному восприятию, просто испытывая радость от своей вовлеченности, незаметного соперничества или изобретательности. Но у тех, кому проблема кажется чуждой или надуманной, эти способности остаются не задействованными. Для того чтобы слабый образ события приобрел для них смысл, им нужно дать возможность ощутить жажду борьбы, напряженность ожидания и восторг победы.
По мнению Фрэнсис Пэттерсон, «напряженное ожидание… в фильмах, демонстрируемых в кинотеатрах «Риволи» или «Риальто», составляет их принципиальное отличие от шедевров живописи в музее Метрополитен». Если бы она сказала со всей определенностью, что шедевры лишены доступного способа идентификации, а их сюжеты непопулярны среди наших современников, то она была бы совершенно права, утверждая, что это «объясняет, почему в Метрополитен люди приходят парами и небольшими группами, а в «Риволи» и «Риальто» устремляются сотнями. Небольшие группы посетителей, если они не являются искусствоведами, коллекционерами живописи или студентами, смотрят на картину в музее Метрополитен менее десяти минут. Сотни посетителей кинотеатров смотрят картину более часа. Если говорить о красоте, то эти произведения не подлежат сравнению. Тем не менее кино привлекает больше людей и удерживает их внимание дольше, чем музейные шедевры. И не потому, что у кино больше достоинств, а потому, что оно показывает сюжет в динамике, и аудитория ждет финала, затаив дыхание. Кино содержит стихию борьбы, с неизбежным для нее элементом напряженности»[212].
Для того чтобы отдаленная от нас ситуация не мерцала серой тенью на границах восприятия, ее нужно переместить в кинокартину или в сценическое действие, которые обеспечат возможность идентификации. Если этого не происходит, то она лишь ненадолго заинтересует небольшое количество людей. Ситуация будет увидена, но не прочувствована, она коснется органов восприятия, но не заденет мысли. Чтобы заинтересоваться происходящим, мы должны встать на чью-то сторону. В тайниках нашего сознания мы должны превратиться из зрителя в участника событий и геройски сражаться за победу добра над злом. Мы должны вдохнуть в аллегорию дыхание собственной жизни.
3
Таким образом, вопреки критикам, выносится вердикт в старом споре по поводу реализма и романтизма. Драма — этого требует наш популярный вкус — должна развиваться в условиях достаточно реалистических, чтобы была возможна идентификация. Однако она должна завершиться в условиях достаточно романтических, чтобы они нас порадовали, но не слишком романтических, чтобы сделать драму непонятной. Канон развития событий между началом и концом вполне либерален, однако реалистическое начало и счастливый конец являются необходимыми вехами. Киноаудитория отрицает последовательное развитие фантастического сюжета, поскольку в чистой фантазии нет точек опоры для людей эры технического прогресса. Она также отрицает строгое следование реализму, поскольку ей не доставит удовольствия то, что герой терпит поражение в борьбе, которой зрители сопереживали на протяжении всего фильма.
То, что принимается как истинное, реалистическое, доброе, злое, желанное, не является установленным раз и навсегда. Эти понятия фиксируются с помощью стереотипов, усвоенных из более раннего опыта и перенесенных в суждения о более позднем опыте. Предположим, что финансовые вложения в каждый фильм или в популярный журнал не были бы столь значительны и не обеспечивали бы их быструю и высокую популярность. Тогда люди, наделенные талантом и воображением, могли бы использовать экран и периодическую печать для уточнения, проверки и критики образов, возникающих в нашем воображении. Однако, ввиду затрат на производство популярной продукции, создатели фильмов, подобно церковным и светским художникам прошлых веков, должны придерживаться уже сложившихся стереотипов или идти на риск. Стереотипы могут быть изменены, но нельзя надеяться, что это произойдет за те шесть месяцев после выхода фильма на экраны, в течение которых его создатели мечтают добиться популярности.
Люди, которые действительно изменяют стереотипы, — передовые художники и критики — испытывают вполне законный гнев против менеджеров и редакторов, защищающих свои финансовые вложения. Они рискуют всем… Почему другие не рискуют? И эти рассуждения не совсем честны, так как в праведном гневе творческие личности забывают о своих наградах, которые далеко превышают любые вознаграждения, на какие могут рассчитывать их работодатели. Они не могли бы и не стали бы, если бы это было возможно, меняться местами с последними. Художники забывают еще об одной подробности, столь важной в войне с обывательщиной. Они забывают, что измеряют свой успех такими мерками, о которых художники и мудрецы прошлого никогда и не мечтали. Сегодня творческие личности рассчитывают на такие аудитории, о которых вплоть до недавнего времени не могли и помыслить. А когда они не собирают таких аудиторий, их постигает разочарование.
Люди, схватывающие смысл ситуации, — это те, кому, подобно Синклеру Льюису в «Главной улице», удалось четко выразить желание великого числа людей. «Ты сказал это за меня!» Они утверждают новую форму, которая затем бесконечно копируется до тех пор, пока не становится стереотипом восприятия. Следующему пионеру чрезвычайно сложно увидеть и показать Главную улицу как-то иначе. И он, подобно предтечам Синклера Льюиса, вступает в конфликт с публикой.
Это противостояние обусловлено не только конфликтом стереотипов, но благоговением художника-пионера перед материалом. Какую бы перспективу он ни выбрал, он остается верен ей. Если он имеет дело с истинной природой события, он следует к развязке, несмотря на сопряженную с этим боль. Он не будет прибегать к изощренным фантазиям, чтобы оказать помощь герою, или провозглашать мир там, где его нет. Это его Америка. Но широкая аудитория не способна переваривать такую суровую пишу. Их больше интересуют они сами, а не мир вокруг них. Они уверены, что произведение искусства — это средство передвижения, которое унесет их в страну, где часы не отбивают время и не нужно мыть посуду. Для удовлетворения этих нужд существует промежуточный класс художников, способных и готовых сместить перспективы, а из замыслов и изобретений великих людей создать романтико-реалистическую смесь. И тем самым, как советует Фрэнсис Пэттерсон, обеспечить «то, что так редко случается в реальной жизни: триумфальное разрешение множества проблем и превращение существующих в жизни мук добродетели и торжества греха… в торжество добродетели и вечное наказание ее противника»[213].
4
Политические идеологии не подчиняются этим правилам. Они всегда придерживаются реализма. Рассуждения идеологов рисуют картину некоего реального зла, будь то немецкая угроза или классовое противоречие. В них обязательно присутствует описание определенного аспекта мира, который убедителен в силу соответствия знакомым идеям. Но поскольку идеология имеет дело с невидимым будущим, равно как и с весьма осязаемым настоящим, она довольно быстро и незаметно выходит за пределы области, поддающейся проверке. Описывая настоящее, вы более или менее привязаны к опыту, общему для большинства людей. Описывая то, что еще никто не испытывал, вы вольны строить любые предположения. Вы стоите у последней черты, но вы, вероятно, отстаиваете интересы Добра. Начало, подлинное с точки зрения принятых норм, и счастливый конец. Любой марксист тверд как скала в своих представлениях о жестокостях настоящего и жизнерадостен как солнечный свет в видении будущего, которое наступит на следующий день после установления диктатуры пролетариата. Таким же точно стратегиям следовали и пропагандисты во время войны: не существовало ни одного низкого качества человеческой натуры, которого они не приписывали бы всем, кто живет к востоку от Рейна. Немецкие пропагандисты писали то же самое, но про тех, кто находился к западу от Рейна. Им нужны были именно люди-звери. После победы эти фантомы исчезли. Наступил вечный мир. Эти образы создавались весьма цинично. Опытный пропагандист знает, что хотя вы и должны начать с реального анализа, но вскоре скука реального политического процесса убьет всякий интерес. Поэтому пропагандист ограничивается умеренно реальным началом, а затем нагнетает интерес, размахивая перед носом пассажиров билетом на небеса обетованные.
Этот рецепт срабатывает тогда, когда распространенная в обществе фикция переплетается с индивидуальными потребностями. Но, раз смешавшись, — в пылу битвы — исходное Я и исходный стереотип, ответственный за это наложение, исчезают из виду.
Глава 12 Новый взгляд на индивидуальные интересы
1
Итак, одна и та же история звучит по-разному для всех, кто ее слушает. Каждый воспринимает ее под своим углом зрения, по-своему реагирует на нее и привносит собственные переживания. Бывает, что художник силой таланта вводит нас в жизненный мир, совершенно не похожий на наш, и этот мир на первый взгляд кажется нам скучным, отвратительным или эксцентричным. Но это происходит редко. Почти в каждой истории, привлекшей наше внимание, мы становимся каким-то персонажем и играем в ней собственную роль. Эта роль может быть важной или незаметной, может органично вписываться в данную историю или, наоборот, быть грубо пригнанной к ней. Но она возбуждает чувства, которые, с нашей точки зрения, соответствуют этой роли. Таким образом, исходная тема подчеркивается, видоизменяется и приукрашивается всеми сознаниями, через которые она проходит. Это происходит так, как если бы пьеса Шекспира переписывалась каждый раз во время представления в зависимости от настроений труппы и публики.
Нечто подобное происходило с сагами и легендами до того, как они были записаны. В наше время напечатанный текст обуздывает все богатство фантазии отдельного человека. Однако контроля над сплетнями практически не существует, и исходный рассказ, будь то повествование о подлинных событиях или вымышленная история, по мере распространения постепенно обрастает крыльями и рогами, копытами и клювами. От версии первого рассказчика не остается ни формы, ни пропорций. Сплетня видоизменяется и перекраивается всеми, кто ее слышал, пересказывал знакомым или размышлял над ней[214].
Поэтому, чем более смешанной является аудитория, тем разнообразнее она реагирует на повествование. Ведь по мере увеличения аудитории в рассказе все меньше остается от его первоначальной основы. Он становится все более абстрактным. Если у рассказа нет собственного точного характера и его слышат люди, обладающие разными характерами, то они приписывают ему собственные качества.
2
Характер, который индивид приписывает данному рассказу, варьируется не только в зависимости от его пола и возраста, расы, религии и социального положения. На него влияют также более неопределенные свойства человека, связанные с наследственной или приобретенной комплекцией, врожденными способностями, карьерой, развитием, настроениями и проблемами или его участием в реальной жизненной драме. Если до человека доходят какие-то события общественной жизни — отдельные строчки публикаций, фотографии, анекдоты, собственный опыт, то он воспринимает их через призму своих мировоззренческих моделей (patterns) и реконструирует через призму собственных эмоций. Он не считает свои личные проблемы частью происходящего во внешнем мире. Он воспринимает доходящие до него рассказы о мире как миметическое расширение его частной жизни.
Но не той частной жизни, какую человек рисует для себя, поскольку в его частной жизни возможность выбора весьма ограничена и большая часть его личности свернута, находится вне поля зрения и не может напрямую управлять внешним поведением. Поэтому помимо обычных людей, которые связывают счастливые стороны своей жизни с общей доброй волей, а свои несчастья — с ненавистью и подозрительностью мира вообще, существуют еще и внешне счастливые люди, которые проявляют жестокость по отношению ко всем, кроме своего самого близкого окружения. Существует и такая категория людей, которые, все больше ненавидя свою семью, друзей, работу, преисполняются все большей любовью к человечеству в целом.
По мере того как вы переходите от общего к деталям, становится все очевиднее, что подходы людей к решению своих проблем четко не определены. Вероятно, сущность людей имеет общую основу и общие качества, однако их ответвления приобретают разные формы. Различаются подходы к ситуациям. Характер человека тоже меняется с течением времени, поскольку человек не автомат. Он меняется не только в зависимости от времени, но и под влиянием обстоятельств. История об англичанине, попавшем на необитаемый остров и продолжавшем каждый день бриться и надевать черный галстук к обеду, свидетельствует о его подсознательном страхе утратить привычки. Точно так же дневники, альбомы, сувениры, старые письма, старая одежда и любовь к неизменному порядку свидетельствуют, что мы осознаем, как трудно дважды вступить в одну и ту же реку.
Не существует неизменного Я. И поэтому при формировании общественного мнения очень важно, о каком Я идет речь. Предположим, японцы спрашивают разрешения поселиться в Калифорнии. Эту просьбу можно расценить как желание выращивать фрукты или как желание жениться на дочери белого человека. Если два государства оспаривают друг у друга территорию, то очень важно, как люди оценивают переговоры по этому поводу: как вопрос о недвижимости или как насилие и попытку их унизить. То Я, которое задействовано в мыслях о лимонах и отдаленных землях, совершенно отлично от Я, которое возмущенно представляет себе перспективу породниться с японцем. В первом случае личное чувство, формирующее мнение, прохладно, а во втором — раскалено добела. И хотя утверждение, что мнение определяется индивидуальными интересами, является тавтологией, смысл этого утверждения не прояснится до тех пор, пока мы не узнаем, какое Я из всего наличного множества отбирает и направляет данный конкретный интерес.
Религиозные учения и народная мудрость всегда выделяли несколько личностей в каждом человеческом существе. Их называли Высший и Низменный, Духовный и Материальный, Божественный и Плотский. И хотя можно не вполне соглашаться с данной классификацией, нельзя не признать факт существования различий. Вместо двух противоположных Я современный аналитик, вероятно, усмотрит в человеке гораздо больше сущностей. Он может сказать, что различие, проведенное богословами, было внешним и произвольным, поскольку многие различные Я были отнесены ими к Высшим в соответствии с теологическими нормами. Однако он не будет возражать против того, что в этом делении содержался ключ к разнообразию человеческой природы.
Мы научились распознавать множественные Я и привыкли проявлять меньшую категоричность в их оценке. Мы понимаем, что в одном и том же человеке может быть заключено много разных людей — в зависимости от того, с кем он имеет дело: с равным, с нижестоящим или с вышестоящим. Занимается ли он любовью с женщиной, на которой может жениться, или с женщиной, на которой не может жениться; ухаживает ли он за женщиной или считает ее своей собственностью; общается он со своими детьми, со своими партнерами, с преданными подчиненными или с начальником, от которого полностью зависит его судьба. Борется ли он за выживание или за больший успех своего предприятия; имеет ли он дело с дружественным ему иностранцем или с презираемым чужаком; угрожает ли ему серьезная опасность или он находится в полной безопасности; поехал ли он один в Париж или пребывает в кругу семьи в Пеории.
Разумеется, люди существенно отличаются друг от друга твердостью характера. Эти отличия значительны, и они покрывают огромный спектр, на одной стороне которого — раздвоенная душа доктора Джекила[215], а на другой — исключительно прямолинейные Бранд[216], Парсифаль или Дон Кихот.
Если черты характера в человеке слишком слабо связаны друг с другом, мы ему не доверяем. Если же они слишком однообразны и односторонни, мы считаем его скучным, упрямым или эксцентричным. В репертуаре характеров — в меньшей степени для самодостаточных и склонных к уединению, в большей — для изменчивых и способных к адаптации, существует целый ряд личностей. Те, что возглавляют ряд, достойны предстать перед Богом, а на те, что его замыкают, мы сами не осмеливаемся взглянуть. Из них можно составить набор ролей внутри семьи: отец, Иегова, тиран; муж, собственник, мужчина; любовник, распутник. Существуют также общественные роли: работодатель, хозяин, эксплуататор; соперник, интриган, враг; подчиненный, придворный льстец, сноб. Некоторые из них никогда не проявляются на публике. Другие проявляются только при каких-то особых обстоятельствах. Характер формируется из представления человека о ситуации, в которой он оказывается. Если его окружает фешенебельное общество, то он будет проявлять черты характера, уместные для данного общества. Этот характер будет своего рода модулятором, определяющим его манеру держаться, речь, выбор тем для разговора, систему ценностей. Значительная часть комических ситуаций разворачивается именно в этих условиях, то есть когда люди попадают в непривычное окружение: профессор оказывается среди антрепренеров, дьякон — за карточным столом, горожанин — в деревне, фальшивый бриллиант — среди настоящих.
3
На формирование характера влияет множество факторов, которые трудно выделить[217].
Анализ этих факторов, вероятно, остается столь же проблематичным, каким он был в V веке до н. э., когда Гиппократ сформулировал учение о темпераментах, разделив людей на сангвиников, меланхоликов, холериков и флегматиков и связав их свойства соответственно — с кровью, черной желчью, желтой желчью и флегмой. Новые теории, разработанные Кэноном[218], Адлером[219] и Кемпфом[220], по-видимому, следуют тому же способу анализа, при котором осуществляется переход от внешнего поведения и внутреннего сознания к физиологии. Но, несмотря на значительное улучшение техники анализа, едва ли кто-то может сказать, что были получены надежные результаты, позволяющие отличить врожденные черты характера от приобретенных. Только в работах, названных Джозефом Джастроу «трущобами психологии», изменение характера считается фиксированной системой, которая может быть использована френологами, хиромантами, предсказателями судьбы, теми, кто читает мысли, а также некоторыми профессорами-политологами. В подобных работах вы все еще можете найти высказывания вроде «китайцы любят яркие цвета и очень часто поднимают брови», тогда как «у калмыков головы сдавлены сверху, но расширяются в стороны, вокруг органа, который создает предрасположенность к приобретательству. Склонность этой нации к воровству и пр. признана специалистами»[221].
Современные психологи склонны представлять внешнее поведение взрослого в виде уравнения, в котором действие некоторого числа переменных, таких, как сопротивление окружению, подавленные желания разной степени зрелости, уравнивается с внешними проявлениями личности[222]. Значит, можно предположить (хотя я не встречал этого в четко сформулированном виде), что подавление желаний или контроль над ними фиксируется не у всей личности в целом и не в течение всей ее жизни, а у разных ее Я. Так, есть поступки, которые человек не совершит как патриот, но которые он совершит, не думая о себе как о патриоте. Конечно, существуют импульсы, в какой-то степени проявляющиеся в детстве, но никогда не возникающие во взрослой жизни, за исключением тех случаев, когда они выступают в сочетании с другими импульсами. Но и это не бесспорно, поскольку подавление импульсов поддается восстановлению. Социальные ситуации, подобно психоанализу, могут вывести на поверхность глубоко скрытый импульс[223]. Когда наше окружение спокойно и нормально, когда от нас ждут поступков, согласующихся с нашими принципами, мы можем и не знать о наших наклонностях. Когда же случается нечто неожиданное, мы узнаем о себе такое, о чем ранее не подозревали.
Личности, которые мы конструируем под чьим-либо влиянием, предписывают нам, какие из наших импульсов должны быть задействованы в определенных ситуациях, насколько они должны быть задействованы и куда направлены. Для любой типической ситуации существует характер, контролирующий внешние проявления всего нашего существа. Например, жгучая ненависть, которая может привести к совершению убийства, в обычной жизни находится под контролем. Даже пылая от гнева, вы — в качестве родителя, сына или дочери, работодателя, политика — не можете проявить его в полной мере. Вы не захотите обнаружить личность, способную на убийство в припадке гнева. Вы хмурите брови, когда видите нечто подобное, и люди вокруг вас реагируют аналогично. Но если разразится война, появится вероятность, что люди, которыми вы восхищаетесь, будут чувствовать себя вправе убивать и ненавидеть. Сначала выход для этих чувств будет очень узким. Те, кто отправляется на фронт, настроены на подлинную любовь к своей стране. Подобного рода чувства вы можете найти у Руперта Брука[224], в речи сэра Эдварда Грея[225], произнесенной им 3 августа 1914 года, в обращении президента Вильсона к Конгрессу 2 апреля 1917 года[226]. Реалии войны при этом вызывают отвращение, и постепенно осознается, что такое война на самом деле. От предыдущих войн остались лишь романтизированные воспоминания. На стадии «медового месяца» люди, хорошо представляющие себе, что такое война, совершенно справедливо отмечают, что нация еще не проснулась, и успокаивают друг друга, говоря: «Подождем списков убитых и раненых». Постепенно импульс убивать становится основным, а все качества, которые могли бы его модифицировать, исчезают. Этот импульс становится главным, ему придается ореол святости. Так, постепенно, он становится неуправляемым и находит выход не только в идее врага, но также направляется на людей и объекты, которые традиционно являлись объектом ненависти. Ненависть по отношению к врагу законна. Ненависть по отношению к другим объектам узаконивает себя с помощью грубейших аналогий и сопоставлений, ранее казавшихся совершенно искусственными. Если контроль над этим импульсом утрачен, то потребуется много времени, чтобы обуздать его. Поэтому даже после окончания войны необходимо время, чтобы восстановить контроль и переключить внимание на проблемы мирного времени.
Современная война, как сказал Герберт Кроули[227], заложена в политической структуре общества, но идеалы этого общества ставят ее вне закона. У гражданского населения нет кодекса ведения войны, подобного кодексу солдата или рыцаря. У гражданского населения нет соответствующих норм, за исключением тех, которыми лучшие его представители пользуются стихийно. Согласно этим нормам, война — нечто отвратительное. Но даже в том случае, если война неизбежна, они морально не готовы к ней. Только самые высшие ярусы их личностей располагают кодексом и моделями поведения (patterns). Но когда они должны действовать в той сфере, которую высший ярус их Я считает низшим, то возникают всякого рода нарушения.
Подготовка характера ко всякого рода ситуациям, в которых может оказаться человек в течение жизни, является одной из функций нравственного воспитания. Поэтому очевидно, что успех здесь зависит от искренности и знания, с помощью которого познается окружающая среда. Ведь если мир понят неправильно, то наши качества также понимаются неверно и мы ведем себя неправильно. Таким образом, моралист должен выбирать: предложить модель поведения для каждого этапа жизненного пути, какими бы неприятными эти этапы ни были, либо гарантировать, что его ученики никогда не столкнутся с ситуациями, им не одобряемыми. Он должен упразднить войну или научить людей, как пережить войну с минимальными психологическими потерями. Он должен упразднить экономическую жизнь человека и питать его звездной пылью и росой или исследовать все перипетии экономической жизни и предложить ученикам модели поведения, приложимые в мире, где ни один человек не может быть абсолютно независим от других. Но доминирующая нравственная культура обычно именно это и отказывается делать. Лучшие ее формы не касаются сложностей современного мира. А самые худшие — просто малодушны. Таким образом, изучают ли моралисты экономику, политику и психологию, или обществоведы обучают моралистов, — это уже не играет никакой роли. Каждое поколение входит в мир неподготовленным, если его не научили понимать, какого типа личность оно должно представлять собой в условиях, ожидаемых с наибольшей вероятностью.
4
Наивный взгляд на индивидуальные интересы не принимает во внимание большую часть из сказанного выше. Те, кто придерживается такого взгляда, забывают, что человеческое Я и его интересы каким-то образом осмысляются и что обычно они осмысляются в соответствии с общепринятыми представлениями. Чаще всего, рассматривая индивидуальные интересы, эти когнитивные моменты не учитывают. Сторонники наивного взгляда слишком сосредоточены на том факте, что человек соотносит все происходящее с собой, и не замечают, что представления людей обо всем на свете, включая самих себя, являются не инстинктивными, а благоприобретенными.
Так, можно согласиться с Джеймсом Медисоном[228], написавшим в Десятой статье из серии «Записки Федералиста», что «интересы — земельный, производственный, коммерческий, денежный, наряду с другими, более частными, интересами, — вырастают из необходимости в цивилизованных государствах и способствуют разделению на различные классы, которые приводятся в движение различными чувствами и взглядами»[229]. Однако, если внимательно проанализировать контекст сочинения Медисона, можно обнаружить то, что, по-моему, проливает свет на представление об инстинктивном фатализме, который иногда называется экономическим пониманием истории. Медисон высказывается в пользу федеральной конституции. И среди «многочисленных преимуществ союза» он называет «возможность пресечь и контролировать насилие со стороны группировок». Группировки — вот что волновало Медисона. А причины возникновения узких группировок он видел в «природе человека», скрытых склонностях, которые «привносятся в различные уровни активности, зависящие от различных материальных условий гражданского общества. Людям свойственна жажда иметь свое особое мнение относительно религии, управления и многих других вопросов, касающихся как теории, так и практики. Им также свойственна приверженность различным лидерам, амбициозно претендующим на власть и превосходство, или людям, судьба которых по той или иной причине влекла к ним сторонников. Все это, в свою очередь, разделило человечество на партии, возбудило в них взаимную вражду и создало гораздо большую склонность к ненависти и стремлению угнетать друг друга, чем к кооперации во имя общего блага. Эта предрасположенность человечества ко взаимной вражде столь велика, что, даже когда никаких предпосылок к столкновениям не было, оказывалось достаточно самых ничтожных и причудливых различий, чтобы возбудить неприязнь людей друг к другу и спровоцировать жесточайшие конфликты между ними. Но самым распространенным и постоянным источником возникновения узких группировок стало разнообразное и неравное распределение собственности».
Таким образом, теория Медисона сводится к тому, что склонность к группировкам и вражде между ними хотя и может порождаться религиозными или политическими мнениями и лидерами, но чаще является результатом распределения собственности. Однако обратите внимание на то, что, согласно Медисону, люди разделены отношением к собственности. Он не говорит, что собственность и мнения — это причина и следствие. Он говорит только, что причиной различия мнений служат различия собственности. Ключевое слово в его рассуждениях — «различный». Из существования различий в имущественном положении вы можете предположительно заключить о существовании различия мнений, но вы не можете заключить, каковы именно будут эти мнения.
Такая оговорка радикально ограничивает сферу действия этой теории в том виде, в каком эта теория обычно высказывается. То, что эта оговорка необходима, можно понять из колоссальных разногласий между догмой и практикой у ортодоксальных социалистов. Они утверждают, что следующий этап социальной эволюции является неизбежным результатом текущего этапа. Но для того чтобы перейти к следующему этапу, они занимаются пропагандой, направленной на формирование «классового сознания». Встает вопрос: почему экономическое положение не порождает в каждом человеке сознание класса? Не порождает, и все. Следовательно, социалисты зря утверждают с гордостью, будто их философия основана на пророческой разгадке судьбы. Она основана на гипотезе о характере человеческой природы[230].
Социалистическая практика исходит из убеждения, что люди разного экономического положения склонны придерживаться разных мнений. Нет сомнений, это может быть действительно так, как, например, происходит в случае собственников земли и арендаторов, работодателей и наемных работников, квалифицированных и неквалифицированных рабочих, работников, находящихся на окладе, и работников, получающих сдельную оплату, продавцов и покупателей, фермеров и их посредников, экспортеров и импортеров, заимодавцев и должников. Различия в доходах существенно влияют на возможности контактов и жизненные перспективы. Люди, работающие с механизмами, как блестяще показал Веблен[231], склонны относиться к опыту иначе, чем торговцы или ремесленники. Если бы материалистическая концепция политики этим ограничивалась, она была бы исключительно ценной гипотезой для любого толкователя мнений. Хотя и в этом случае толкователю стоило бы периодически отступать от теории и все время быть настороже. Ведь при анализе общественного мнения вовсе не очевидно, какое из многих социальных отношений, в которые вступает данный человек, на его конкретное мнение повлияло. С чем связано мнение Смита? С его проблемами как владельца недвижимости, импортера, владельца акций железной дороги или работодателя? А чем обусловлено мнение Джонса? Тем, что он работает на текстильной фабрике, или тем, что он заимствовал это мнение у своего хозяина? Соперничеством с новыми иммигрантами? Или счетами своей жены? Или договором с фирмой, которая продает ему машину марки «Форд» и дом? Или очередным взносом за эти покупки? Без специального исследования этих вопросов нельзя вынести окончательное решение. Следовательно, экономический детерминист здесь бессилен.
Разнообразные экономические контакты человека ограничивают или расширяют спектр его мнений. Но какой из контактов в данный момент задействован, в какой форме и в рамках какой теоретической схемы, материалистическая концепция политики показать не в состоянии. Она предсказывает с высокой вероятностью, что если человек владеет фабрикой, то его статус собственника будет каким-то образом фигурировать в его мнениях по поводу фабрики. Но каким образом проявит себя его статус собственника, ни один экономический детерминист сказать вам не сможет. Ни по одному вопросу не существует фиксированного количества мнений, которые были бы неотделимы от статуса собственника фабрики. Ни по вопросу о труде, ни по вопросу о собственности, ни по вопросу об управлении, не говоря уже о более общих областях. Детерминист может предсказать, что в девяноста девяти случаях из ста собственник будет сопротивляться попыткам лишить его собственности или что он будет поддерживать законодательство, которое, с его точки зрения, будет увеличивать его доходы. Но собственность не дает волшебного средства узнать наверняка, какие законы ведут к процветанию. А потому экономический материализм не может предложить причинно-следственной цепи, позволяющей каждому предсказывать, как поведет себя собственник в данной ситуации: исходя из далеких перспектив или из близких, следуя соревновательной стратегии или кооперативной.
Если бы эта теория обладала объяснительной силой, которую ей так часто приписывают, она позволяла бы нам делать прогнозы. Мы могли бы анализировать экономические интересы людей и на этой основе прогнозировать их действия. Маркс попытался это сделать, но, начав с прекрасных догадок, далее пошел совершенно неверным путем. Первый социалистический эксперимент вопреки его предсказанию был осуществлен не в западной стране, достигшей кульминации капиталистического развития, а в результате коллапса докапиталистической системы на Востоке. Почему он ошибся? Почему ошибся его величайший ученик Ленин? Потому что марксисты думали, будто экономическое положение людей неизбежно приведет их к ясному пониманию их экономических интересов. Они считали, что у них самих такое ясное представление имелось, а остальное человечество, в конце концов, узнает то, что знают они. Однако развитие событий не только показало, что ясное представление об интересе не возникает автоматически у каждого человека, но что оно не возникло даже у Маркса и Ленина. Несмотря на все, ими написанное, социальное поведение человечества по-прежнему остается неясным. Все было бы иначе, если бы только экономическое положение определяло общественное мнение. Допустим, их теория верна. Тогда экономическое положение не только разделяло бы людей на классы, но также определяло бы представление каждого класса о своем интересе и последовательную политику для его достижения. А между тем, уж если что и является определенным, так это вечная неспособность людей — независимо от классовой принадлежности — понять, в чем же их интересы[232].
Это подрывает силу экономического детерминизма. Ведь если наши экономические интересы строятся из разнообразных представлений о классовых интересах, то тогда эта теория как главный ключ к социальным процессам терпит крах. Согласно этой теории, люди принимают только один вариант своих интересов, а когда примут, обязательно стремятся реализовать его на практике. Классовый интерес можно понять широко или узко, эгоистично или неэгоистично. Он может быть принят под воздействием отдельных или многих фактов, истины и лжи. Таким образом, подрывается и предлагаемый марксистской теорией способ разрешения классового конфликта[233]. Этот способ заключается в том, что если вся собственность будет обобществлена, то классовые различия исчезнут. Однако такое допущение ложно. Собственность может стать общей, но при этом не восприниматься как целое. И в любой момент, когда какая-либо группа людей не сможет понять коммунизм на коммунистический манер, люди разделятся на классы в зависимости от того, как они поняли социальную реальность.
В вопросе о существующем социальном порядке марксистский социализм делает упор на конфликте по поводу собственности и рассматривает его как фактор формирования мнения; в вопросе о рабочем классе (определяемом достаточно свободно) он игнорирует конфликт по поводу собственности как основу агитации; в вопросе о будущем он представляет общество, свободное от конфликтов как таковых и, следовательно, свободное от конфликтов мнений. При существующем социальном порядке случаев, когда один человек должен потерять, чтобы другой мог приобрести, может быть даже больше, чем при социализме. Однако на каждый случай, при котором один должен потерять, чтобы другой приобрел, приходится множество других, когда люди воображают себе конфликт вследствие недостатка образованности. А при социализме, хотя и устраняется каждый случай абсолютного конфликта[234], тем не менее частичный доступ отдельного человека ко всей области фактов порождает конфликт. Социалистическое государство не сможет обойтись без образования, морали или свободной науки, хотя, согласно жесткому материализму, общественная собственность должна сделать их не нужными. Коммунисты в России не стали бы проповедовать свою веру с такой неослабевающей энергией, если бы экономический детерминизм был единственным фактором, определяющим мнение населения страны.
5
Социалистическая теория человеческой природы, подобно гедоническому исчислению[235], является примером ложного детерминизма. Обе эти теории полагают, что инстинктивные склонности неизбежно, но разумно порождают определенный тип поведения. Социалист считает, что человек стремится к соблюдению интересов своего класса, а гедонист — что он стремится получить удовольствие и избежать страдания. Обе теории основываются на наивном представлении об инстинкте, то есть на точке зрения, которая была охарактеризована (хоть и категорично) Джемсом как «способность действовать так, чтобы добиваться определенных целей, не задумываясь о конечном эффекте и не имея предварительной подготовки к данному типу деятельности»[236].
Весьма сомнительно, что инстинктивное действие подобного рода вообще имеет место в социальной жизни человечества. Ведь тот же Джемс указывал, что «любое инстинктивное действие у животного, обладающего памятью, перестает быть «слепым» уже после первого же повторения»[237]. Какими бы ни были навыки особи при рождении, врожденные склонности (dispositions) с самого раннего детства погружены в опыт, определяющий, какой стимул их будет активизировать. «Они «запускаются», — пишет Мак-Дугалл, — не только под влиянием восприятия таких объектов, которые способны непосредственно активизировать врожденные склонности, естественные или врожденные проявления инстинкта, но и под влиянием идей таких объектов, а также восприятий и идей объектов другого рода»[238].
Только «центральная часть склонностей, — говорит далее Мак-Дугалл, — сохраняет свой специфический характер и остается общей для всех индивидов и ситуаций, в которых активизируется данный инстинкт»[239]. Когнитивные процессы и движения тела, с помощью которых инстинкт достигает своей цели, могут быть бесконечно сложными. Другими словами, человек обладает инстинктом страха, однако то, чего он будет бояться и как он будет пытаться избежать того, что вызывает страх, является не врожденным, а приобретенным качеством.
Было бы трудно объяснить разнообразие человеческой природы иными факторами, чем разнообразие опыта. Все склонности человеческого существа: его вкусы, любовь, ненависть, любопытство, сексуальные желания, страхи и агрессивность — произвольно связаны со всякого рода объектами как стимулами, так и способами удовлетворения его желаний и пр. Если это учитывать, сложность человеческой природы не кажется столь непостижимой. А когда вы принимаете во внимание, что каждое новое поколение является невольной жертвой способа детерминации характера предыдущего поколения людей, а также наследниками уже сложившейся среды, то становятся ясными все возможные комбинации и перестановки.
Люди склонны стремиться к определенным целям или вести себя определенным образом. Но не существует никаких абсолютных доказательств, что человек создан так, что его стремления или поведение определены раз и навсегда. Как стремление к чему-то, так и определенные виды поведения усваиваются, и следующее поколение может усваивать их иначе. Аналитическая психология и социальная история единодушны в этом утверждении. Психология указывает, насколько случайной является связь между конкретным стимулом и конкретной реакцией. Антропология (в самом широком смысле этого слова) также поддерживает это мнение: то, что возбуждает человеческие страсти, и средства, которые люди использовали для их реализации, варьируют от одной эпохи к другой, от одного места к другому
Люди добиваются реализации своих интересов. Но пути реализации не являются жестко определенными, и поэтому, пока эта планета будет способна поддерживать жизнь людей, человек не сможет ограничить творческую энергию. Ему не удастся обречь человечество на автоматизм. Он может сказать, если он обязан это сделать, что на протяжении его жизни не произойдет никаких положительных изменений. Но, произнося этот вердикт, человек ограничивает свою жизнь тем, что может увидеть своими глазами, отвергая то, что может усмотреть с помощью разума. В качестве меры блага он принимает ту меру, которой располагает. Он откажется от своих самых заветных надежд и интеллектуального поиска, только если сочтет непознанное непознаваемым и если решит, что неизвестное никто не может узнать и ему никогда нельзя научить.
Часть 5 СОЗДАНИЕ ОБЩЕЙ ВОЛИ
Глава 13 Перенос интересов
1
В этой главе мы покажем, что впечатления каждого человека о невидимом мире включают в себя множество переменных. Меняются цели контактов с внешним миром, стереотипные ожидания, но наиболее тонки вариации интересов. У многих людей впечатления от пережитого исключительно индивидуальны и сложны. Как же устанавливается связь между сознанием и тем, что находится в окружающей среде? Каким образом, если пользоваться языком теории демократии, огромное число людей, столь индивидуально воспринимающих эту абстрактную картину, развивают общую волю? Каким образом простая и неизменная идея возникает из комплекса переменных? Как такие феномены, как Воля Народа, Цели Государства или Общественное Мнение выкристаллизовываются из столь случайной совокупности образов?
Сложность этого процесса хорошо видна на примере выступления весной 1921 года американского посла в Англии, вызвавшего неодобрение большого числа американцев. Господин Харви, обедая в обществе англичан, поведал без тени сомнения о мотивах, которыми руководствовались американцы в 1917 году[240]. Его высказывание шло вразрез с выступлением президента Вильсона, в свое время объявившего о вступлении США в Первую мировую войну. Ни Харви, ни Вильсон, как и никто из числа их критиков и сторонников, не могли ни количественно, ни качественно оценить, что происходило в тридцати-сорока миллионах умов. Но всякий знает, что в войне участвовало множество людей, приложивших колоссальные усилия для победы. Однако никто не знает, каковы были мотивы этих людей и насколько они совпадали с мотивами, указанными Вильсоном или Харви. Люди поступали на военную службу, сражались, работали, платили налоги, жертвовали собой во имя общих целей, и тем не менее никто не может наверняка сказать, что двигало каждым конкретным человеком, когда он участвовал в том или ином деле. Бессмысленно говорить солдату, что он сражается ради прекращения войны, если солдат так не думал.
В той же речи Харви сформулировал, что происходило в 1920 году в сознании избирателей. Опрометчивость его высказывания кроется в том, что, если вы утверждаете, будто все голосовавшие за ваш список кандидатов голосовали так же, как вы, — это обман. Согласно статистике, шестнадцать миллионов американцев отдали голоса республиканцам, а девять — демократам. Они голосовали, заявляет Харви, соответственно «за» и «против» Лиги Наций. В качестве подтверждения своих слов он приводит просьбу Вильсона о проведении референдума и тот неопровержимый факт, что демократическая партия и Кокс настаивали, что предметом референдума должна быть Лига Наций. Действительно, среди избирателей оказалось девять миллионов демократов. Но имеете ли вы право считать, что все они были ярыми сторонниками Лиги Наций? Разумеется, нет. Многие миллионы проголосовали, чтобы традиционно поддержать социальную систему, существующую на Юге. Но как бы они ни относились к Лиге, они не стремились выказать отношение к судьбе этой организации своим голосованием. Сторонники Лиги, несомненно, были удовлетворены, что демократическая партия поддерживала ее. Противники Лиги роптали. Но обе группы южан голосовали за один и тот же список.
Были ли республиканцы единодушны в своем мнении? Среди них встречались и ярые противники Лиги Наций, такие, как сенаторы Джонсон и Нокс[241], и ее сторонники, в частности Гувер[242] и председатель Верховного суда Тафт[243]. Никто не может со всей определенностью сказать, кто как относился к Лиге Наций и как это повлияло на голосование. Когда существует только два способа выразить огромный спектр мнений, то невозможно узнать, какая комбинация приводит к тому или иному результату. Сенатор Бора[244] и Лоуэлл[245] считали, что предвыборный бюллетень республиканцев будет способствовать росту числа голосов, отданных за республиканцев. Но электорат республиканцев состоял не только из тех, кто считал, что победа республиканцев убьет Лигу Наций, но также из тех, кто не сомневался, что это укрепит Лигу, и тех, кто надеялся, что в результате прихода республиканцев к власти Лига будет реформирована. Всеми избирателями двигало их собственное желание, смешанное с желаниями других избирателей, улучшить бизнес, или удержать рабочих в повиновении, или наказать демократов за вступление в войну, или наказать их за то, что страна вступила в войну так поздно. Быть может, они хотели избавиться от Берлсона, увеличить цену на пшеницу или снизить налоги, остановить Дэниэлса или помочь Хардингу[246].
Несмотря на разнообразие мотивов, голосование состоялось, и Хардинг переехал в Белый дом. Победа республиканцев явилась единственным результатом, полученным после разрешения всех противоречий. Но его оказалось достаточно, чтобы изменить политику на четыре года. Конкретные мотивы голосования в тот ноябрьский день 1920 года неизвестны. Они не зафиксировались даже в сознании избирателей, но они множились и видоизменялись. Поэтому общественное мнение, с которым пришлось иметь дело Хардингу во время президентства, отличается от того, которое привело к его избранию. Точно так же в 1916 году Вильсон был избран президентом, вероятно, потому, что удержал страну от участия в войне, однако именно он через несколько месяцев правления привел страну к участию в войне.
Проявление воли народа всегда требовало объяснения. Те, кого особенно поражала ее изменчивость, нашли пророка в лице Густава Лебона[247]. Они также одобряли обобщения в духе Роберта Пила[248], назвавшего общественное мнение «великолепной смесью из глупости, слабости, предрассудков, ошибочных мнений, верных мнений, упрямства и отрывков из газетных публикаций». Другие считали, что из бессвязности и пассивности рождаются четкие цели благодаря существованию свыше некоего таинственного устройства, которое упорядочивает случайные мнения. Его называют по-разному: общей душой, национальным сознанием, духом времени. Эта сверхдуша кажется необходимой потому, что эмоции и идеи членов группы не обнаруживают ничего столь же простого и четкого, как формула, принимаемая этими индивидами в качестве выражения их Общественного Мнения.
2
По-моему, эти факты могут быть объяснены и без помощи сверхдуши. Ведь умение убедить людей, думающих по-разному, проголосовать одинаково используется в любой избирательной кампании. Так, во время кампании 1916 года кандидат от республиканской партии должен был добиться победы, склонив на свою сторону республиканцев с различными точками зрения. Обратимся к первой речи Чарлза Хьюза после его официального выдвижения кандидатом на пост президента[249]. Контекст ситуации еще сохранился в нашей памяти, поэтому мы можем отказаться от подробных объяснений. Кандидат обладал необычайной способностью к ясному изложению. В течение нескольких лет Хьюз держался вне политики и не принимал участия в важных решениях. Он не обладал мудростью, которая присуща таким популярным лидерам, как Рузвельт, Вильсон или Ллойд Джордж, ни артистизмом, который позволяет политикам завоевывать симпатии последователей. Однако он хорошо владел техническими приемами профессионального политика. Хьюз принадлежал к числу людей, которые знают, как что-то сделать, но не умеют делать это сами. Из них скорее получаются хорошие учителя, нежели виртуозы, для кого искусство — органическая часть натуры, и они творят, не задумываясь. Утверждение, что те, кто могут, делают сами, а те, кто не могут, становятся учителями, — не столь уж парадоксально, как кажется на первый взгляд.
Хьюз понимал всю важность ситуации и тщательно подготовил речь. В одной из лож сидел Теодор Рузвельт, только что вернувшийся из штата Миссури. В других ложах и на сцене сидели участники предыдущих выборов 1912 года, в добром здравии и в умильном расположении духа. А где-то за пределами аудитории пребывали люди, настроенные прогермански, и влиятельные сторонники Антанты. На Востоке страны и в крупных городах преобладали приверженцы партии войны, на Среднем и Дальнем Западе — партии мира. Ряд американцев всерьез задумывались о ситуации в Мексике. Чарлзу Хьюзу предстояло сформировать прореспубликанское большинство из людей, взгляды которых представляли полный спектр мнений между симпатиями к Тафту и к Рузвельту; между прогерманскими и просоюзническими настроениями; между участием в войне и нейтралитетом; поддержкой интервенции в Мексику или несогласием с ней.
Нас здесь, разумеется, не интересуют вопросы морали или мудрости. Нас интересует только метод, с помощью которого лидер группы, члены которой придерживаются столь различных мнений, формирует однородную картину голосования.
Это представительное собрание — счастливый знак. Оно означает силу воссоединения. Оно означает, что партия Линкольна восстановлена…
Выделенные курсивом слова являются связками. «Линкольн» в такой речи, разумеется, не имеет никакого отношения к Аврааму Линкольну. Это просто стереотип, использованный, чтобы благоговение перед именем было перенесено на выступавшего перед аудиторией кандидата от республиканцев. Слово «Линкольн» напоминает республиканцам, членам Партии Лося и Старой Гвардии, что до раскола у них была общая история. О расколе никто не осмеливается говорить, хотя он постоянно дает о себе знать как незаживающая рана.
Оратор призван залечить ее. Раскол 1912 года возник на почве вопросов внутренней политики; воссоединение 1916 года, как заявил Т. Рузвельт, должно было быть основано на общем осуждении международной политики В. Вильсона. Но международные дела только подливали масла в огонь. Было необходимо найти такой зачин, который позволил бы обойти как ситуацию 1912 года, так и взрывоопасные конфликты 1916-го. Оратор разумно выбрал для обсуждения систему распределения дипломатических должностей среди членов партии, победившей на предыдущих выборах. Фраза «достойные демократы» звучала дискредитирующе, и Хьюз не преминул ею воспользоваться. Факты говорили сами за себя, и атака оказалась успешной. С логической точки зрения подобный ход оказался идеальным для создания общего настроения.
Затем Хьюз обратился к состоянию дел в Мексике, начав с исторического экскурса. Ему пришлось учесть господствующее мнение, что, хоть дела в Мексике шли из рук вон плохо, войны тем не менее следует избежать. Кроме того, он должен был учесть противоречивое отношение к Уэрте. Одни американцы полагали, что президент Вильсон был прав, не признав Уэрту, другие — что хотя Уэрта предпочтительнее Каррансы[250], но лучшим способом разрешения конфликта была бы интервенция. Уэрта оказался первой болезненной точкой, которой коснулся Хьюз…
Он, конечно, фактически являлся главой мексиканского правительства.
Но моралистов, которые считали Уэрту пьяным убийцей, нужно было как-то успокоить.
Следует ли признать его или нет — вот проблема, которую надо решать со всей трезвостью и осторожностью, в соответствии с верными принципами.
Таким образом, вместо того чтобы сказать, что Уэрту следует признать, кандидат заявляет, что в этом вопросе следует прибегнуть к верным принципам. Каждый верит в правильные принципы, в то, что именно он и является их носителем. Чтобы еще больше запутать вопрос, политика президента Вильсона описывается как «вмешательство» или «интервенция». С юридической точки зрения политика Вильсона, возможно, и являлась интервенцией, но она не являлась интервенцией в том смысле, который придавался слову в обыденной речи. Расширив значение слова таким образом, что оно покрыло и действия Вильсона, и то, чего хотели сторонники подлинной интервенции, оратор погасил спор между двумя группировками.
Обозначив два ключевых момента с помощью слов «Уэрта» и «интервенция» и успокоив приверженцев основных вариантов дальнейшего развития отношений с Мексикой, оратор перешел на время к более спокойной теме. Он коснулся Тампико, Веракруса, Вильи[251], Санта-Исабели, Колумбуса и Каррисаля. Хьюз был конкретен — потому ли, что факты в том виде, в каком они подаются в газетах, вызывают раздражение, а может потому, что подлинное объяснение, например, событий в Тампико слишком сложно. Однако в конце выступления кандидату пришлось четко обозначить свою позицию, поскольку аудитория ожидала этого. Обвинение исходило от Рузвельта: согласится ли господин Хьюз с предложенным методом решения проблемы — интервенцией?
Наше государство не намерено проявлять агрессию по отношению к Мексике. Мы не претендуем ни на какую часть ее территории. Мы желаем Мексике мира, стабильности и процветания. Мы готовы помочь ей залечить раны, справиться с голодом и нищетой, предоставить ей бескорыстную помощь. Поведение нынешней администрации создало определенные сложности, которые мы собираемся преодолеть… Мы должны будем следовать новой политике, политике твердой и непротиворечивой. И только благодаря такой политике мы можем обеспечить дружеские отношения с Мексикой.
Тема дружбы адресована противникам интервенции, тема «новой» и «твердой» политики — ее сторонникам. Та часть, в которой не обсуждаются спорные вопросы, изобилует деталями, спорная часть предельно затемнена.
Относительно войны в Европе Хьюз использует весьма остроумную формулировку:
Я выступаю за неуклонное соблюдение всех прав Америки на море и на суше.
Оценить силу этого утверждения в соответствующем историческом контексте можно, если вспомнить, что каждая фракция в период нейтралитета считала, будто те европейские государства нарушают права Америки, против которых выступает эта фракция. Просоюзнически настроенной части аудитории Хьюз как бы говорил: «Я бы сдержал Германию, но прогермански настроенные силы настаивают, что британский флот нарушает большинство наших прав».
Приведенная формулировка охватывает диаметрально противоположные цели с помощью символической фразы «права Америки».
Однако оставалась проблема «Лузитании»[252]. Подобно расколу 1912 года она была непреодолимым препятствием к гармонии.
Я уверен, что можно было бы избежать гибели американских граждан в результате потопления «Лузитании».
Таким образом, то, что не поддается компромиссу, должно быть сглажено, а когда возникает проблема, в которой нельзя достичь единого мнения, можно сделать вид, что такой проблемы не существует. О будущем американо-европейских отношений Хьюз умолчал. Ничто из того, что он мог сказать, не понравилось бы обеим непримиримым группировкам, поддержки которых он добивался.
Вряд ли нужно говорить, что не Хьюз изобрел этот тактический прием и не он использовал его с наибольшим успехом. Но он показал, насколько затуманенным бывает общественное мнение, складывающееся из расходящихся мнений, и каким образом из смешения многих цветов возникает его нейтральная окраска. Там, где целью является внешняя гармония, а в основе отношений лежит конфликт, обскурантизм в публичных выступлениях неизбежен. Неопределенность в изложении принципиальных вопросов во время дебатов почти всегда свидетельствует о ведении словесной игры (cross-purposes).
3
Почему неясная идея так часто обладает силой, объединяющей глубоко прочувствованные мнения? Напомним, что эти мнения, какими бы глубокими они ни были, не находятся в постоянном контакте с фактами, которые они якобы отражают. Если мы не принимаем непосредственного участия в событиях — будь то революция в Мексике или война в Европе, — то степень понимания ситуации оказывается слабой, хотя переживания по поводу этих событий могут быть сильными. Исходные картины и вызванные ими словесные реакции не имеют ничего общего с силой чувства. Описание случившегося за пределами нашего восприятия, в месте, где нам никогда не приходилось бывать, никак не связано с реальностью (если не считать мимолетных образов, возникающих во сне). Но оно может порождать гораздо больше эмоций, чем непосредственное столкновение с реальностью, поскольку реакция может быть вызвана не одним, а разными стимулами.
Стимул, который вызвал некую реакцию, мог быть серией изменчивых образов, порожденных прочитанным или услышанным. Картины блекнут и меняются, очертания изображений и их ритм колеблются. Постепенно вы понимаете, что именно вы чувствуете, но без полной уверенности в том, почему вы чувствуете именно это. Поблекшие образы замещаются другими образами, их сменяют имена или символы. Однако эмоции сохраняются, возникая под влиянием образов-субститутов и имен-субститутов. Субституция имеет место даже в процессе строгого мышления, поскольку, если человек пытается сравнить две сложные ситуации, он скоро обнаруживает, что очень обременительно держать в голове все детали этих ситуаций. Он использует сокращения в виде имен, знаков и образцов (samples). Но если он забывает о совершённых замещениях и упрощениях, то вскоре скатывается в пустословие, употребляя слова вне связи с объектами. И он не заметит, когда имя, которое он отделил от первого объекта, начнет ассоциироваться с другим объектом. Еще более сложно отслеживать тайные подмены в таком нерегулярном деле, как политика.
Психологам хорошо известно, что эмоциональная реакция не стимулируется исключительно одной идеей. Существует бесконечное число причин, которые могут породить определенную эмоциональную реакцию, а также бесконечное число способов, которые могут ее удовлетворить. Особенно ярко это проявляется в тех случаях, когда стимул воспринимается смутно и опосредованно и когда цели не ясны. Ведь вы можете связать эмоцию, скажем страх, с какой-то прямой угрозой, затем — с идеей чего-то, несущего в себе угрозу, затем — с аналогом этой идеи и т. д. Вся человеческая культура в целом так и устроена: в каком-то отношении она является усложнением и развитием стимулов и реакций, фиксированным центром которых остаются исходные эмоции. Несомненно, качество эмоций изменилось в ходе истории. Однако время не изменило ни скорости их возникновения, ни того, что их возникновению способствует множество факторов.
Люди значительно отличаются друг от друга по степени восприимчивости идей. Для одних представление о голодающем ребенке в России столь же реально, сколь непосредственное лицезрение голодного ребенка. Но есть и такие, которых совершенно невозможно тронуть какой-то абстрактной идеей. Между этими двумя типами существует множество градаций. Кроме того, встречаются люди, абсолютно нечувствительные к фактам, но легко поддающиеся воздействию идей. Но когда эмоция возникает под влиянием идеи, ее нельзя удовлетворить непосредственным участием в событиях. Представление о голодающем русском ребенке порождает желание его накормить. Но человек, у которого такое желание возникло, не может его реализовать. Он может только пожертвовать деньги некоей безликой организации или персонифицированному агенту, которого он называет «мистер Гувер»[253]. Эти деньги поступают не конкретному ребенку. Они идут в общий фонд, средства которого могут быть использованы для того, чтобы накормить множество детей. В этой ситуации как сама идея, так и реакция на нее являются вторичными. Однако опосредованное знание порождает прямые последствия. Таким образом, процесс состоит из трех частей. Стимул исходит извне, реакция возникает также за пределами поля зрения человека, и только эмоция полностью развивается внутри него. Голод ребенка для данного человека — это только идея, равно как и облегчение участи ребенка — тоже только идея, но желание помочь он испытывает непосредственно. Главное здесь — чувство, испытываемое человеком. И оно первично.
В меняющихся границах возможен перенос как стимула, так и реакции. Таким образом, если среди нескольких людей, склонных к разным реакциям, вы можете найти стимул, порождающий у них одну и ту же эмоцию, то вы можете заменить этим стимулом исходный. Если, например, один не любит Лигу Наций, другой ненавидит Вильсона, а третий боится рабочего класса, то вы можете объединить их всех, если найдете антитезис всего, что эти люди ненавидят. Предположим, это — антиамериканизм. Первый человек будет интерпретировать его как сохранение изоляции Америки (он может называть его независимостью), второй — как неприятие политика, не соответствующего его идеалу американского президента, третий — как призыв к подавлению революции. Буквальное значение данного символа не совпадает ни с одной из этих интерпретаций. Однако бывает и так, что сам символ не ассоциируется ни с чем. И именно поэтому он может служить основой для простейших чувств, даже если эти чувства исходно связаны с кардинально различными идеями.
Когда политические партии или газеты делают ставку на Американизм, Прогрессивность, Закон и Порядок, Справедливость, Человечность, они надеются создать эмоциональный сплав конфликтующих группировок, которые непременно разделились бы, начни они вместо этих символов обсуждать конкретные программы. Но когда коалиция вокруг какого-то символа сложилась, то чувства сближаются, а не концентрируются на критическом анализе политических мер. Поэтому, я считаю, будет правильно называть подобные «многозначные» фразы символическими. Они передают не конкретные идеи, а служат своего рода смычкой между идеями. Эти фразы подобны стратегическим железнодорожным узлам, где сходится множество дорог, независимо от их исходных пунктов и конечных направлений. Но тот, кто завладел символами, в которых на данный момент сконцентрировалось общественное чувство, может контролировать подходы к общественной политике. А если данный символ обладает способностью сплачивать, то амбициозные группировки будут сражаться за обладание им. Возьмем, к примеру, имена Линкольна или Рузвельта. Лидер или группа заинтересованных лиц, способные сделаться хозяевами современной символики, способны управлять текущей ситуацией. Разумеется, чтобы установить господство, символику надо использовать в разумных пределах. Слишком грубое насилие над фактами, которые, по мнению народа, этот символ представляет, или чересчур серьезное сопротивление новым целям, оказываемое под прикрытием этого символа, может, так сказать, взорвать сам символ. Что и произошло в 1917 году, когда внушительные символы Святой Руси и Царя-батюшки рухнули под ударом страдания и поражения в войне.
4
Мощные последствия российской катастрофы чувствовались на всех фронтах и всеми народами. Они вылились в поразительный эксперимент по кристаллизации общественного мнения на основе огромного разнообразия мнений, возбужденных войной. «Четырнадцать пунктов»[254] были адресованы всем правительствам — стран-союзников, противников и нейтральных государств — и всем народам мира. Это была попытка в одном документе связать все проблемы мировой войны. Документ оказался новой точкой отсчета, поскольку то была первая война, в которой человечество одновременно могло думать об одних и тех же идеях или, по крайней мере, об одних и тех же именах идей. Без телефона, радио, телеграфа и ежедневной прессы эксперимент по обсуждению «Четырнадцати пунктов» был бы невозможен. Это была попытка использовать современную технику связи, чтобы постепенно вернуться к «общему сознанию» (common consciousness) во всем мире.
Однако сначала мы должны проанализировать некоторые исторические обстоятельства, которые сложились к концу 1917 года, то есть ко времени, когда создавался этот документ, поскольку в окончательном варианте все эти соображения в той или иной форме присутствуют. Летом и осенью 1917 года произошли события, глубоко повлиявшие на настроение людей и на ход войны. В июле русские предприняли последнее наступление. Оно оказалось неудачным и дало толчок процессу деморализации, который в конце концов привел к большевистскому перевороту. Несколько раньше французы были разбиты в Шампани, что повлекло за собой серию военных мятежей и антивоенную агитацию среди мирного населения. Англия страдала от рейдов подводных лодок и от страшных потерь во Фландрии. А в ноябре в сражении при Камбре британские войска потерпели поражение, ужаснувшее и армию, и руководство страны. Исключительная усталость от войны охватила всю Европу.
На самом деле, агония и разочарование мешали простым людям сосредоточиться на принятой версии войны. Их интересы уже больше не выражались в официальных определениях. Внимание людей рассеялось и стало сосредоточиваться на собственных страданиях, на классовых или партийных целях, на недовольстве правительством. Начало разрушаться восприятие официальной пропаганды, то, что называется боевым духом. Повсеместно люди искали новые средства, сулящие облегчение их участи.
Внезапно они столкнулись со страшной драмой. На восточном фронте наступило рождественское затишье, предвещавшее конец бойни и вселявшее надежду на мир. В Брест-Литовске свершилась мечта всех простых людей: стали возможными переговоры. Это означало, что появился способ прекратить мучения, не уничтожая при этом друг друга. Робко, но напряженно люди начали смотреть на Восток. Почему бы и нет? Для чего все это? Знают ли политики, что творят? Действительно ли мы сражаемся за то, что они провозглашают? Можно ли добиться тех же целей не военными средствами? В условиях цензуры лишь немногие из этих соображений попадали в печать, но, когда выступал лорд Лансдаун[255], его слова находили отклик в сердцах людей. Символы, игравшие важную роль на первых этапах войны, износились и почти утратили свою объединяющую силу. В глубине каждой из стран-союзниц назревал глубокий раскол.
Нечто подобное происходило и в Центральной Европе. Там первоначальный импульс войны также ослаб. Священный союз был разрушен. Вертикальные трещины, которые он дал во время боев, пересекались разнонаправленными горизонтальными. Моральный кризис войны наступил раньше, чем обозначились военные решения. Президент Вильсон и его советники все это понимали. Исчерпывающей информацией они, конечно, не обладали, но то, что я коротко осветил выше, им было известно.
Они также знали, что правительства стран-союзниц были связаны рядом обязательств, которые по своей букве и духу шли вразрез с распространенными представлениями о характере войны. Резолюции Парижской экономической конференции были, разумеется, обнародованы, а серию секретных соглашений опубликовали большевики в 1917 году[256]. Условия соглашений были общеизвестны, однако не возникало никаких сомнений, что эти условия не имели ничего общего с идеалистическими лозунгами о праве народа на самоопределение и о мире без аннексий и контрибуций. Простые люди стали задаваться вопросами: скольких тысяч английских жизней стоят Эльзас-Лотарингия или Далмация; скольких французских жизней стоили Польша или Месопотамия. Нельзя сказать, что подобными вопросами не задавались американцы. Из-за отказа участвовать в переговорах в Брест-Литовске то дело, за которое сражались союзники, оказалось поставлено под угрозу.
Так сформировалось исключительно щепетильное настроение, не замечать которое не мог ни один разбирающийся в ситуации лидер. Идеальной реакцией на него было бы объединенное действие стран-союзниц. Но на конференции союзников в октябре (Interallied Conference) эта идея не была принята. Однако к октябрю давление оказалось столь сильным, что Ллойд Джордж и Вильсон независимо друг от друга почувствовали необходимость как-то отреагировать на сложившуюся ситуацию. Президент Вильсон выбрал для этого форму манифеста условий мира, который состоял из четырнадцати пунктов. Предложения, содержавшиеся в документе, были пронумерованы с двумя целями: изложить идею как можно более точно и произвести впечатление делового документа. Идея сформулировать «условия мира», а не «цели войны» возникла оттого, что необходимо было создать реальную альтернативу бреет-литовским переговорам. Интерес публики надо было переместить со спектакля русско-германских переговоров на гораздо более величественное зрелище публичных дебатов мирового масштаба. А после привлечения интереса требовалось его удерживать, независимо от поворотов ситуации. Условия, сформулированные в программе, должны были быть восприняты большинством союзников как достойные выполнения. Они должны были соответствовать чаяниям каждого народа и в то же время ограничивать эти чаяния таким образом, чтобы ни одно государство не чувствовало себя орудием в руках другого. Условия программы должны были удовлетворять официальным интересам, но при этом не приводить к межправительственным разногласиям. И в то же время — соответствовать представлениям рядовых граждан, чтобы препятствовать распространению деморализации. Короче говоря, они были направлены на то, чтобы сохранить и утвердить единство Союза на случай продолжения войны.
Но, кроме того, им необходимо было сыграть роль условий возможного мира, тогда в случае волнений германского центра и германских левых они смогли бы послужить ударом против правящего класса. Таким образом, им надлежало приблизить правительства союзников к их народам, отдалить германское правительство от его народа и наметить линию взаимопонимания между союзниками, неофициальной Германией и народами Австро-Венгрии. «Четырнадцать пунктов» явились смелой попыткой поднять знамя, которое могло бы объединить практически всех. Если достаточное число враждебных друг другу людей готовы к заключению мира — будет мир, а если нет — тогда союзники подготовятся к тому, чтобы лучше переносить тяготы войны.
Все эти соображения сыграли свою роль в составлении «Четырнадцати пунктов». Никто, вероятно, не обдумывал все эти пункты сразу, но заинтересованные лица размышляли о некоторых из них. Учитывая эти обстоятельства, проанализируем некоторые аспекты данного документа. Первые пять из четырнадцати пунктов посвящены «открытой дипломатии», «свободе морей», «равным возможностям для торговли», «сокращению вооружений», отказу от «империалистических аннексий колоний» и Лиге Наций[257]. Их можно описать как формулировку общих правил, в которые тогда верил каждый. Особое место занимает третий пункт. Он посвящен резолюции Парижской экономической конференции и рассчитан на то, чтобы уменьшить опасения немецкого народа, будто условия мирного договора его задушат.
Пункт шестой — это первый пункт программы, посвященный конкретному государству. Его формулировка была своего рода ответом на подозрения России по поводу союзников, и красноречие обещаний этого пункта звучит как эхо драмы, разыгранной в Брест-Литовске[258]. Пункт седьмой касается Бельгии и свидетельствует об отсутствии ясности как по своей форме, так и по цели. В этом смысле он мало отличается от представлений всего мира, включая большую часть Центральной Европы. На пункте восьмом мы должны задержаться. Вначале в нем высказывается требование полного освобождения и восстановления французской территории, а затем поднимается вопрос об Эльзасе-Лотарингии. Формулировка этого требования служит идеальной иллюстрацией публичного высказывания, предназначенного для того, чтобы в сжатой форме передать целый комплекс интересов. «И несправедливость, причиненная в 1871 году Франции Пруссией в вопросе об Эльзасе-Лотарингии и на пятьдесят лет нарушившая мир в мире, должна быть исправлена…»[259]. Каждое слово в этом высказывании выбрано с особой тщательностью. Несправедливость должна быть исправлена… Почему не заявить, что Эльзас-Лотарингия должна быть возвращена? Но в то время было неясно, станут ли французы упорно добиваться реаннексии, если им предложат провести плебисцит. И потому, что еще менее было ясно, поддержат ли французов англичане и итальянцы. Поэтому в данной формуле должны были быть заложены оба варианта решения проблемы. Термин «исправлена» должен был гарантировать Франции возмещение нанесенного ущерба, однако он не должен был означать признание факта аннексии.
Но зачем было говорить о несправедливости, причиненной Пруссией в 1871 году? Слово «Пруссия», конечно, было предназначено для напоминания южным немцам, что Эльзас-Лотарингия принадлежала не им, а Пруссии. Зачем было говорить о нарушении мира на протяжении «пятидесяти лет» и зачем понадобилось упоминание 1871 года? Во-первых, и французы, и весь остальной мир помнили эту дату — с ней были связаны все их обиды. Но не только поэтому. Авторы «Четырнадцати пунктов» знали, что французские официальные лица рассчитывали на большее, чем Эльзас-Лотарингия по договору 1871 года. Секретные дипломатические ноты, которыми обменялись царские министры и официальные представители Франции в 1916 году, включали пункт об аннексии долины реки Саар и расчленении Рейнской области. Планировалось подвести долину реки Саар под термин «Эльзас-Лотарингия», потому что она была частью Эльзаса-Лотарингии в 1814 году, хотя и была отделена от нее в 1815-м и не входила в состав этой территории на завершающем этапе франко-прусской войны. Официальная формула представителей Франции относительно аннексии Саара состояла в том, чтобы рассматривать Эльзас-Лотарингию периода 1814–1815 годов. Настаивая на 1871 годе, президент Вильсон в действительности определял окончательную границу между Германией и Францией, делал отсылку на тайный договор и отвергал его.
Пункт девятый гораздо менее тонко, но примерно в том же духе говорит об Италии. В нем сказано о «ясно различимых национальных границах»[260], то есть о таких, которые в корне отличались от предусмотренных Лондонскими соглашениями[261]. Эти границы были отчасти стратегическими, отчасти экономическими, отчасти империалистическими, отчасти этническими. Но только та из них могла вызвать симпатии союзников, которая восстановила бы подлинную Italia Irredenta[262]. Установление всех остальных, как было хорошо известно информированным людям, просто оттягивало югославское восстание.
5
Было бы ошибкой предполагать, что всеобщий энтузиазм, вызванный «Четырнадцатью пунктами», свидетельствовал о согласии с изложенной в них программой. Каждый находил в этом документе что-то, что ему нравилось, и подчеркивал понравившуюся деталь или аспект. Но никто не рисковал вступать в дискуссию. Фразы, столь чреватые внутренними конфликтами цивилизованного мира, были приняты. Хотя они и выражали идеи, противоречившие друг другу, но возбуждали общие эмоции, следовательно, сыграли определенную роль в объединении западных народов на долгие десять месяцев войны, которые им еще предстояло пережить.
Поскольку «Четырнадцать пунктов» имели дело с неясным и счастливым будущим, когда завершится агония войны, то реальные противоречия интерпретации не были обнародованы. Они представляли собой планы обустройства совершенно невидимой среды. Поскольку эти планы вдохновляли все заинтересованные группы, каждая из которых лелеяла свои собственные надежды, то эти отдельные надежды складывались в одну общую. Ведь гармонизация, как мы уже видели на примере речи Хьюза, — это иерархия символов. Когда вы возводите эту иерархию с целью привлечения все большего числа людей, вы можете на какое-то время сохранить эмоциональную связь между ними, утратив интеллектуальную. Но эмоции тоже слабеют. По мере того как вы все дальше отходите от реальных фактов, вы переходите на более высокий уровень обобщения или тонкости. Когда вы поднимаетесь на воздушном шаре, вам приходится выбрасывать за борт все больше и больше конкретных предметов. Когда же вы достигли высшей точки, произнеся что-нибудь вроде «Права Человечества» или «Мир, Безопасный для Демократии», то вы, с одной стороны, уже находитесь очень высоко и далеко от всего конкретного, а с другой — видите очень мало. Тем не менее люди, чьи эмоции вы возбуждаете своими речами, тоже не остаются пассивными. По мере того как общественный призыв обращается ко все более широкой аудитории и касается все большего числа предметов, по мере того как эмоции становятся все интенсивнее, а смыслы — приблизительнее, частным смыслам начинает придаваться универсальное значение. Предметом ваших вожделений становятся Права Человечества, ведь эта фраза, пустеющая на глазах, вскоре начинает означать практически все что угодно. Высказывания Вильсона были поняты во всех уголках мира по-своему. При этом не был обсужден и не был обнародован ни один документ, в котором были бы скорректированы неясности[263]. Так что, когда наступил день подписания соглашения, каждая сторона ожидала от него буквально всего. У европейских авторов договора был огромный выбор, но они предпочли реализовать те ожидания, которые исходили от их соотечественников, обладавших наибольшей властью.
Они спустились вниз по иерархии от Прав Человечества до Прав Франции, Британии и Италии. Они не отказались от использования символов. Они отказались лишь от тех из них, которые после войны не укоренились в сознании законодателей их стран. Используя символизм, они сохранили единство Франции, но они ничем не стали бы рисковать ради единства Европы. Символ единой Франции глубоко укоренился, а символ новой Европы был достаточно новым. Однако различие между единой Европой и символом, подобным Франции, не такое уж существенное. История государств и империй знает времена, когда популярность идеи объединения растет, и времена, когда она падает. Нельзя сказать, что люди постепенно переходят от идеи более узкого сообщества к идее более широкого, поскольку это не подтверждается историческими фактами. Римская империя и Священная Римская империя разбухли гораздо больше, чем наднациональные объединения XIX века, на которых строят свои аналогии те, кто верит в Мировое Государство. Тем не менее реальная интеграция действительно возросла, несмотря на периодическое расширение и сжатие империй.
6
Такая реальная интеграция, безусловно, имела место в истории Америки. В десятилетие, предшествовавшее 1789 году, многие люди, видимо, считали, что их сообщество было реальным, тогда как конфедерация штатов была нереальной. Их штат, их флаг, их наиболее заметные лидеры, представлявшие Массачусетс или Виргинию, были подлинными символами. То есть они выросли из подлинных опытов детства, определенного рода занятий, образа жизни, характерного для данного места, и пр. Пространство человеческого опыта редко выходило за пределы данного штата. Практически все, что большинство виргинцев когда-либо знали или чувствовали, имело при себе прилагательное «виргинский». Это была самая широкая политическая идея, которая действительно соприкасалась с их опытом.
С опытом, но не с нуждами, поскольку эти нужды определялись их реальной средой, которая в те времена состояла из тринадцати колоний. Им нужна была общая оборона. Им нужен был финансовый и экономический режим в объеме Конфедерации. Но поскольку их окружала псевдосреда штата, то их политический интерес исчерпывался символами штата. Идея отношений между штатами, наподобие Конфедерации, была слишком абстрактной и слабой. Это был не символ, а скорее многозначная идея, не способная объединить различные группы населения.
Тем не менее за десять лет до того, как была принята Конституция, существовала необходимость единства. Пока эта необходимость оставалась вне поля зрения, дела шли вкривь и вкось. Постепенно определенные классы в каждой колонии начали выходить за пределы опыта своего штата. Личные интересы заставляли их пересекать границы и тем самым приобретать опыт взаимодействия между штатами. Так, постепенно, в их сознании сложилась картина американской среды, которая по своему масштабу была поистине государственной. Для них идея федерации стала подлинным символом. Самым богатым воображением среди этих людей обладал Александр Гамильтон[264]. Так получилось, что ему не была свойственна первобытная привязанность к какому-то одному штату, поскольку родился он в Вест-Индии и с самого начала жизни был погружен в общие интересы всех штатов. Для большинства людей того времени вопрос, где должна быть столица — в Виргинии или в Филадельфии, — был чрезвычайно важным, поскольку они были исполнены локального патриотизма. Для Гамильтона этот вопрос не имел никаких эмоциональных коннотаций. Его интересовало принятие ответственности за долги штатов. Это способствовало бы расширению союза, к которому он так стремился. Поэтому он с легкостью обменял местоположение Капитолия за два недостававших голоса людей, представлявших район Потомака. Для Гамильтона Соединенные Штаты были символом, который представлял все его интересы и весь его опыт. Для Уайта и Ли с Потомака символ их провинции был высшей политической сущностью, и они служили ей, хотя предложенная сделка им не нравилась. Они согласились голосовать так, как их просили, но «Уайт сделал это, испытывая спазмы в желудке, доходившие почти до конвульсий»[265].
При кристаллизации общественной воли всегда найдется такой Александр Гамильтон.
Глава 14 Да или нет
1
Символы так часто оказываются полезными и так часто несут в себе таинственную мощь, что кажется — от самого слова «символ» исходит волшебная сила. Когда думаешь о символах, то возникает искушение относиться к ним так, будто они обладают независимой энергией. Даже когда символам, в свое время вызывавшим восторг, приходит конец, их воздействие полностью не прекращается. Однако при этом музеи и книги по фольклору полны мертвых символов и заклинаний, поскольку единственным источником силы символа является ассоциация в сознании человека. Символы, утратившие свою силу, и символы, постоянно нам предлагаемые, но не способные укорениться, напоминают нам о том, что если бы мы набрались терпения и подробно исследовали циркуляцию символа, то смогли бы увидеть совершенно иную светскую историю.
В речи Хьюза, произнесенной во время предвыборной кампании, в «Четырнадцати пунктах», в проекте Гамильтона используются символы. Но они используются кем-то в конкретный момент. Слова сами по себе не могут оформить случайное настроение. Слова должны произноситься в подходящий момент людьми, занимающими стратегическую позицию. Иначе это просто сотрясение воздуха. Использование символов должно служить определенной цели. Сами по себе они ничего не значат, а разнообразие символов всегда столь велико, что мы, подобно буриданову ослу, стоящему между двумя охапками сена, обречены на гибель, если будем выбирать между символами, которыми можем воспользоваться.
Вот, к примеру, что пишут в газету некоторые рядовые граждане, объясняя свой выбор кандидата (незадолго до выборов 1920 года).
Сторонники Хардинга пишут так:
Тех патриотов, которые сегодня выбирают Хардинга и Кулиджа, наши потомки будут считать подписавшими нашу вторую Декларацию независимости.
Вильмот, изобретатель.Он позаботится о том, чтобы Соединенные Штаты не вступали в «союзы-ловушки». Кроме того, Вашингтон как город значительно выиграет от того, что управление правительством перейдет от демократов к республиканцам.
Кларенс, продавец.А вот выдержки из писем сторонников Кокса:
Народ Соединенных Штатов понимает, что наш долг, который мы провозгласили на полях Франции, — присоединиться к Лиге Наций. Тем самым мы поддержим наше стремление крепить мир во всем мире.
Мэри, стенографистка.Мы потеряем самоуважение и уважение к себе других государств, если откажемся вступить в Лигу Наций во имя достижения мира между народами.
Спенсер, статистик.Обе подборки высказываний одинаково благородны, одинаково истинны и практически взаимозаменяемы. Хотели ли Кларенс и Вильмот хотя бы на минуту допустить, что они откажутся от клятв, данных на полях Франции, или что они не стремятся к миру между народами? Конечно, нет. Смогли бы Мэри и Спенсер допустить, что они являются сторонниками союзов-ловушек или отказа от независимости Америки? Вместе с вами они стали бы говорить, что Лига, согласно президенту Вильсону, — это союз, несущий освобождение (disentangling alliance), Декларация независимости для всего мира и доктрина Монро применительно ко всей планете[266].
2
Раз выбор символов столь обширен, а значение, которое можно им приписать, столь гибко, то каким образом конкретный символ может укорениться в сознании конкретного человека? Он насаждается другим человеком, который признается авторитетом. Если символ укореняется достаточно глубоко, то того, от кого мы его восприняли, мы можем назвать авторитетом позднее, после того как укоренение уже произошло. Но в первом случае символы становятся близкими нашим настроениям и важными для нас потому, что мы воспринимаем их от близких нам по духу людей.
Мы появляемся на свет не из яйца и не в возрасте восемнадцати лет, уже наделенные реалистическим воображением. Мы все еще живем, как напоминает нам Б. Шоу, в эпоху Берджа и Лубина[267], и в детстве наши контакты зависят от людей более старшего поколения. Поэтому мы устанавливаем связи с внешним миром посредством любимых и уважаемых нами людей. Они являются первым мостиком в воображаемый мир. И хотя постепенно мы можем сами освоить многие стороны этой расширенной среды, всегда остается мир еще более широкий, который нам не известен. И с этим, неизвестным нам, миром мы связаны посредством авторитетов. Когда факты находятся вне поля зрения, подлинная информация или правдоподобная ошибка звучат и воспринимаются одинаково. Исключая те немногие предметы, которые мы хорошо знаем, мы не можем сделать выбор между истинными и ложными объяснениями. Поэтому мы выбираем между надежными и ненадежными корреспондентами[268].
Теоретически нам надо определить самого квалифицированного эксперта в каждой области. Но выбор эксперта, хоть он и значительно легче, чем выбор истинного суждения, все-таки сложное и обычно практически невыполнимое дело. Сами эксперты не всегда уверены, кто из них является самым авторитетным. И даже если такой эксперт определен, велика вероятность того, что он будет слишком занят, чтобы дать консультацию, или к нему вообще невозможно попасть на прием. Однако существует категория людей, которых мы можем идентифицировать достаточно легко, так как они обычно бывают в курсе происходящего. Прежде всего, это родители, учителя и друзья, которые имеют на нас влияние. В данном контексте нет необходимости вдаваться в рассмотрение трудного вопроса, почему дети доверяют одному родителю больше, чем другому, учителю истории — больше, чем преподавателю воскресной школы, и пр. Мы не будем также анализировать, как доверие может постепенно распространяться через газету или знакомого, интересующегося общественными делами, на общественных деятелей. Объяснение этих процессов можно найти в литературе по психоанализу.
Так или иначе, но мы доверяем определенным людям, которые открывают нам мир неизведанного. Достаточно странно то, что эту доверчивость иногда считают недостойной и она рассматривается как признак нашего родства с обезьянами и баранами. Но полная независимость человека в нашем мире немыслима. Если бы мы не могли практически все принимать без доказательств, то нам пришлось бы всю жизнь потратить на банальности. Самое простое, что может сделать взрослый человек, стремящийся к абсолютной независимости, — это податься в отшельники. Область действия отшельника очень узка. Действуя исключительно для себя, он может действовать только в рамках очень узкого круга вещей и ставить перед собой предельно простые цели. Если у него остается время думать о высоком, то он, несомненно, принял на веру огромный объем трудно усваиваемой информации: как не замерзнуть, как не умереть с голоду и какие проблемы мироздания предпочтительней обдумывать.
Практически во всех областях нашей жизни наибольшая независимость, которой мы можем достигнуть, обеспечивается за счет увеличения круга авторитетов, к которым мы готовы прислушиваться. Будучи по своей природе любителями, в поисках истины мы сбиваем с толку экспертов и заставляем их реагировать на любую, хоть сколько-нибудь убедительную, ересь. Участвуя в дебатах экспертов, мы обычно выполняем функцию судьи, оценивающего, кто добился диалектической победы, но практически мы безоружны перед ложной посылкой, которую никто из участников дебатов не подверг критике. То же самое происходит и в ситуации, когда никто из участников дебатов не рассмотрел какого-то аспекта вопроса. Мы увидим ниже, что демократическая теория строится на противоположном допущении. Она предполагает, что для государственного управления существует неограниченный «запас» (supply) самодостаточных индивидов.
Те люди, от которых зависят наши контакты с внешним миром, по-видимому, и управляют им[269]. Но они могут управлять только очень малой частью этого мира. Когда нянька кормит ребенка, купает его и укладывает спать, то это не придает ей авторитета в области физики, зоологии и Высокой Критики. Мистер Смит управляет фабрикой или, например, нанимает человека, управляющего фабрикой. Это не делает его авторитетом в области Конституции Соединенных Штатов или последствий тарифа Фордни[270]. Мистер Смут руководит отделением республиканской партии штата Юта. Это не означает, что он лучший консультант по налогам. Тем не менее нянька может какое-то время решать, в каком объеме ребенок должен изучать зоологию, а мистер Смит может многое сказать о том, что конституция означает для его жены, его секретаря и, возможно, даже для его духовника и кто должен ограничивать полномочия сенатора Смута.
Священники, помещики, капитаны и короли, партийные лидеры, торговцы, начальники — каким бы образом они ни приобрели свое положение: по рождению, в результате действия наследственного права, завоевания или выборным путем, — они и их организованные последователи управляют людьми. Они — власть предержащие. Один и тот же человек может быть маршалом у себя дома, младшим лейтенантом — в конторе и «шестеркой» — в политике. Во многих социальных институтах такая иерархия чинов является неясной или скрытой. Но тем не менее в каждом социальном институте, который предполагает взаимодействие многих людей, подобная иерархия все-таки есть[271]. В американской политике это называется механизмом, или «организацией».
3
Существует ряд важных различий между руководителями организации и ее рядовыми членами. Руководители, руководящий комитет и приближенные к ним находятся в прямом контакте со средой. Конечно, у них может быть очень ограниченное представление о том, что следует определять как среду, но они имеют дело не только с абстракциями. Существуют конкретные люди, которых они хотят видеть избранными, конкретные балансовые отчеты, которые они хотят видеть улучшенными, конкретные цели, которые должны быть достигнуты. Я не хочу сказать, что они не подвержены склонности к стереотипному восприятию. Стереотипы, которым они следуют, часто превращают их в нелепых рутинеров. Но, несмотря на свою ограниченность, вожди имеют доступ к ряду ключевых аспектов более широкой среды. Это они принимают решения. Это они издают приказы. Это они торгуются. В результате происходит что-то конкретное, пусть и не всегда так, как они себе представляли.
Их подчиненные не связаны с ними общими убеждениями. То есть второстепенные члены организации не проявляют свою лояльность согласно независимому суждению относительно мудрости вождей. В иерархии каждый зависит от высшего чина и, в свою очередь, занимает более высокую позицию по отношению к другим, зависимым от него членам. Эта организация сохраняется благодаря системе привилегий. Последние варьируют в зависимости от возможностей и вкусов тех, кто к ним стремится, и включают в себя всё — от непотизма и покровительства (в самых разнообразных видах) до клановости, культа героя или навязчивой идеи. Они варьируют от армейских чинов, права землевладения и барщины при феодализме до должностей и публичной известности при современной демократии. Вот почему вы можете сломать данный механизм, отменив его привилегии. Но я считаю, что со временем он должен восстановиться. Ведь привилегия относительна, а единообразие невозможно. Попробуйте представить себе абсолютный коммунизм, где никто не обладает ни одной вещью, которая в то же время не принадлежала бы остальным. И тем не менее, если данное коммунистическое общество занимается хоть какой-то деятельностью, то, скажем, достаточным фактором кристаллизации внутренней структуры могут послужить дружеские отношения с оратором, который обеспечил себе блестящей речью большинство голосов.
Таким образом, не обязательно изобретать коллективный разум, чтобы объяснить, почему суждения какой-то группы людей обычно более последовательны и больше соответствуют форме, чем высказывания человека с улицы. Один человек или несколько могут развивать какую-то мысль, но группа, которая стремится к некоему согласованному анализу, может достичь большего, чем просто согласие или несогласие. Члены иерархии могут иметь общую традицию. Будучи подмастерьями, они учатся ремеслу у мастеров своего цеха, которые, в свою очередь, научились этому ремеслу в то время, когда сами были подмастерьями. В рамках любого более или менее устойчивого общества изменение состава правящей иерархии происходит достаточно медленно, чтобы стала возможна передача общих стереотипов и образцов поведения (patterns of behavior). Определенные способы видения и делания передаются от отца к сыну, от прелата к послушнику, от ветерана к кадету. Эти способы настолько укореняются, что признаются и непосвященными.
4
Лишь отстраненность делает привлекательной точку зрения, согласно которой людские массы кооперируются для решения сложных задач сами по себе, без центральной организации, управляемой несколькими людьми. «Никому, кто имеет опыт нескольких лет работы в законодательных или административных органах, не удавалось пройти мимо того факта, что миром правит очень ограниченная группа людей», — пишет Брайс[272]. Он, конечно же, имеет в виду государственное управление. Если взглянуть на все области человеческой деятельности в целом, то мы увидим, что число людей, осуществляющих руководство, достаточно велико. Но если вы возьмете любой конкретный институт, будь то законодательный орган, партия, профсоюз, националистическое движение, фабрика или клуб, то число реально управляющих ими составит лишь незначительную долю тех, кто теоретически должен заниматься управлением.
Полная победа на выборах одной из групп может привести к выключению определенного механизма управления и включению другого; а революции иногда приводят к полному упразднению существовавшего механизма. Демократическая революция запускает два сменяющих друг друга механизма, каждый из которых раз в два года пожинает плоды ошибочных действий другого. Но нигде такой механизм не исчезает совсем. И нигде не находит реализации идиллическая теория демократии: ни в профсоюзах, ни в социалистических партиях, ни в коммунистических правительствах. Существует внутренний круг, опоясанный концентрическими кругами, в которых степень заинтересованности постепенно снижается, в конце концов переходя в однородную среду рядовых членов организации, не интересующихся корпоративными проблемами.
Демократы никогда не могли смириться с этой банальностью в жизни сообществ и неизменно считали ее ошибочной. Ведь существует две интерпретации демократии. Одна исходит из предпосылки самодостаточного индивида, а другая — из предпосылки существования Сверхдуши, которая регулирует все и вся. Из двух этих интерпретаций Сверхдуша имеет некое преимущество, поскольку она, по крайней мере, признает, что большинство принимает решения, которые не возникают в результате их стихийного зарождения в душе каждого члена общества. Но Сверхдуша как руководящий гений корпоративного поведения является избыточной тайной, если мы сосредоточиваем внимание на механизме. Механизм — это вполне прозаическая вещь. Он состоит из человеческих существ, которые носят одежду, живут в домах, которые могут быть названы по именам и описаны. Они выполняют все обязанности, которые обычно приписываются Сверхдуше.
5
Этот механизм существует не потому, что человеческая природа извращена. Дело в том, что общая идея не может возникнуть сама по себе, из личных (private) представлений группы. Ведь число способов, с помощью которых некая совокупность людей может напрямую влиять на ситуацию, находящуюся за пределами ее воздействия, ограничено. Некоторые люди мигрируют в той или иной форме, другие могут бастовать или бойкотировать какие-то действия, могут принять их на «ура» или освистать. С помощью подобных методов они могут сопротивляться тому, что им не по душе, или применить силу по отношению к тем, кто им мешает достичь желаемого. Но с помощью массовых действий ничего не может быть создано или придумано. Они не могут вылиться в переговоры или успешное управление делом. Общественность как таковая, вне организованной иерархии, может отказаться что-то покупать, если цены на данный продукт слишком высоки, она может отказаться работать, если заработок слишком низок. Профсоюз с помощью забастовки способен сломить сопротивление и добиться своего от руководителей предприятия. Например, добиться права совместного контроля. Но осуществить это право он может только с помощью организации. Нация может выступить с шумной кампанией в поддержку войны, но, если она вступает в войну, она должна подчиняться приказам генерального штаба.
Границами непосредственного действия, направленного на любую практическую цель, является способность ответить «ДА» или «НЕТ» на вопрос, интересующий массы[273]. Ведь только в простейших случаях подобный вопрос спонтанно предстает перед всеми членами общества одновременно. Начинаются стихийные забастовки и бойкоты, не только работников промышленных предприятий, поскольку основания для недовольства столь велики, что у многих людей возникают одинаковые реакции. Но даже в этих элементарных случаях начинают действовать люди, которые гораздо раньше остальных понимают, чего они хотят, — они и становятся импровизированными (impromptu) лидерами. А там, где они не появляются, толпа бесцельно кружится, озабоченная своими личными целями, или обреченно стоит на месте, как это недавно произошло, когда толпа примерно в пятьдесят человек наблюдала за человеком, совершавшим самоубийство.
То, во что мы превращаем большинство впечатлений, получаемых нами из невидимого мира, — это своего рода пантомима, разыгрываемая в мечтах. Относительно событий, которые разворачиваются вне нашего поля зрения, мы осознанно принимаем какие-то решения очень редко, и поэтому мнение каждого человека о том, что он мог бы предпринять, выражено довольно слабо. Весьма редко при этом встают вопросы практического порядка, и поэтому у нас нет навыка принимать решение. Это было бы еще очевиднее, если большая часть достигающей нас информации не содержала бы в себе намек на то, как нужно отнестись к новостям. Этот намек нам совершенно необходим, и если мы не находим его в новостях, то обращаемся к редакционным статьям или к надежному консультанту. Если мы чувствуем себя вовлеченными в ситуацию, мечты причиняют нам дискомфорт до тех пор, пока мы не осознаем нашу позицию, то есть до тех пор, пока факты не будут сформулированы так, что в ответ мы можем сказать «ДА» или «НЕТ».
Когда группа людей в полном составе говорит «ДА», то у каждого члена этой группы могут быть самые разные основания для такой реакции. Обычно такие основания существуют, поскольку картины мира в сознании людей, как мы уже отмечали выше, различаются тонкими внутренними деталями. Но все эти тонкости кроются у них в сознании. Они выходят на поверхность посредством символических фраз, которые несут в себе какую-то особую эмоцию, после того как большая часть присущего им смысла уже утрачена. Иерархия (или — при наличии соперничества — две иерархии) ассоциирует символы с определенным действием, ответом «ДА» или «НЕТ», отношением pro или contra. Тогда Смит, выступающий против Лиги, и Джонс, выступающий против Статьи X, и Браун, выступающий против Вильсона и всех его инициатив, — каждый, имея свои собственные причины, и все вместе, действуя во имя примерно одной и той же символической фразы, отдают свой голос против демократов, голосуя за республиканцев. Так выражается общая воля.
Итак, должен был быть предоставлен конкретный выбор. Этот выбор должен был быть связан с индивидуальным мнением путем переноса (transfer) интересов с помощью символов. Профессиональные политики усвоили это задолго до философов демократии. Поэтому они создали такие формы, как фракционное совещание, комитет по выдвижению депутатов и организационный комитет для формулирования определенного выбора. Каждый, кто хочет добиться чего-то такого, что требует кооперации большого числа людей, следует их примеру. Иногда это делается достаточно грубо, как, например, это произошло, когда мирная конференция ограничила себя Советом Десяти, а Совет Десяти впоследствии был преобразован в Большую Тройку или Большую Четверку, написавшую договор. К нему могли присоединиться или не присоединиться как менее важные (minor) союзники, бывшие членами Совета, так и враги[274]. Существенным обстоятельством здесь является то, что небольшое число руководителей предоставляет ситуацию выбора более широкой группе.
6
Оскорбления в адрес организационного комитета (steering committee) привели к различным нововведениям, таким, как законодательная инициатива, референдум и прямые первичные выборы. Но эти предложения только затемнили необходимость механизма, усложнив выборы, или, как очень точно заметил однажды Герберт Уэллс, отборы. Ведь никакое масштабное голосование не может сделать очевидной необходимость сформулировать проблему (будь то какая-то мера или кандидат), по поводу которой избиратели могут сказать «ДА» или «НЕТ». На самом деле, не существует такой вещи, как «прямое законодательство». Что же происходит там, где считается, что оно существует? Гражданин идет на выборы, получает бюллетень, в котором перечислено несколько мер (почти всегда в сокращенной форме). И если он вообще как-то высказывается, то говорит «ДА» или «НЕТ». Ему может прийти в голову самая лучшая в мире поправка. Но своим бюллетенем он говорит либо «ДА», либо «НЕТ». Называя это законодательной деятельностью, вы совершаете насилие над языком. Я, конечно, не согласен, что у этого процесса, как бы вы его ни называли, не существует преимуществ. Но неизбежная простота любого массового решения — очень важное обстоятельство из-за неизбежной сложности мира, в котором эти решения действуют. Наиболее сложная из предлагаемых форм голосования, насколько я знаю, — это преференциальное голосование. При таком голосовании избирателю предлагается бюллетень, где перечислено несколько кандидатов. И вместо того, чтобы сказать «да» по поводу одного кандидата и «нет» по поводу остальных, ему предлагается выстроить их по порядку предпочтения. Но даже при таком, существенно более гибком, голосовании действие масс зависит от качества предоставленных им вариантов выбора[275].
Глава 15 Лидеры и рядовые члены общества
1
Поскольку символы имеют важное практическое значение, политическим лидерам, чтобы добиться успеха, необходимо культивировать символы, способствующие сплачиванию их последователей. Символы играют для рядовых членов организации ту же роль, какую играют привилегии внутри иерархии. Они поддерживают единство. Тотемный столб и государственный флаг; деревянный идол и Господь Бог; волшебное заклинание и упрощенные варианты концепций Адама Смита или Бентама[276] — все эти символы культивировались лидерами, многие из которых сами в них не верили, поскольку существовали на пересечении множества различных путей. Сторонний наблюдатель может злословить по поводу «звездно-полосатого» ритуала, окружающего этот символ, подобно королю, который сказал себе, что Париж стоит мессы[277]. Но лидер по опыту знает, что только тогда, когда символы сделали свое дело, он получает рычаги воздействия на толпу. Эмоциональный заряд, который несет в себе данный символ, направляется на определенную цель, а особенности реальных идей в нем стерты. Не удивительно, что лидер ненавидит то, что сам считает деструктивной критикой, которую свободные умы иногда называют искоренением чепухи. «Помимо всего прочего, — пишет Бейджхот, — члены королевской семьи должны почитаться. Но если вы начнете проявлять любопытство к их жизни, вы уже не сможете относиться к ним с почтением»[278]. Ведь удовлетворение любопытства путем построения прозрачных определений и высказывания прямых суждений служит всем высоким целям, какие известны человечеству, кроме поддержания общей воли. Любопытство, как подозревает всякий лидер, нарушает переход эмоции из отдельного сознания в институциональный символ. И первым результатом этого процесса является, как он справедливо замечает, хаос индивидуализма и воюющих между собой сект. Разрушение великих символов, наподобие Святой Руси или Железного Диаса[279], всегда ведет к длительному бунту.
Великие символы, благодаря передаче из поколения в поколение, заключают в себе все те мельчайшие аспекты восприятия древнего и стереотипизированного общества, которые ассоциируются с лояльностью данному обществу. Они возбуждают в сознании чувства, связанные у каждого индивида с пейзажем, обстановкой, лицами, а также воспоминания, являющиеся для него главной, а в статическом обществе — единственной реальностью. Ядро образов и символов преданности данному обществу, без которых человек сам себя не мыслит, — это национальность. Великие символы вбирают в себя идею преданности и могут вызывать ее в сознании, не актуализируя исходные образы. В менее значительных символах публичных дискуссий и более случайных элементах политической болтовни всегда содержится отсылка к этим протосимволам и, если возможно, — ассоциация с ними. Вопрос о правильной цене билета на метро переводится на символический язык столкновения между Народом и Коммерческим Интересом. Затем Народ интегрируется в символ Американца, так что в конечном итоге в пылу дискуссий цена в 10 центов становится антиамериканской. Отцы-основатели умерли, чтобы не допустить этого. Линкольн страдал, чтобы этого не произошло, сопротивление этому можно усмотреть и в смерти тех, кто покоится на кладбищах Франции.
В силу способности перекачивать эмоции из разрозненных идей символ является как механизмом солидарности, так и механизмом эксплуатации. Он воодушевляет людей на труд во имя общей цели. Но так как узкая группа людей занимает стратегическое положение, позволяющее ей определять конкретные задачи, символ становится инструментом, благодаря которому эта группа жирует за счет многих, приобретает неуязвимость перед критикой и соблазняет людей идти на смерть во имя целей, им не понятных.
Многие аспекты нашей зависимости от символов кажутся малоприятными, когда мы думаем о себе как о трезвомыслящих, самодостаточных и способных управлять собой личностях. Тем не менее невозможно сделать вывод о том, что символы — это исключительно орудие дьявола. Для ученого и созерцателя они, несомненно, выступают в качестве стимулов. В мире действия они могут быть полезными, иной раз даже необходимыми, пусть даже эта необходимость — результат воображения. Однако когда необходимо получить немедленный результат, манипулирование массами с помощью символов может быть единственным способом его добиться. Зачастую важнее действовать, чем понимать, что делаешь. Бывает, что действие обречено на провал, если каждый понимает суть происходящего. Существуют дела, которые не могут ждать референдума или не могут быть преданы огласке. Бывают ситуации, например, во время войны, когда нация, армия и даже командование должны вверить разработку стратегии нескольким умам, когда два противоречащих друг другу мнения, пусть одно из них и верно, гораздо опаснее, чем единственное, пусть и ложное. Ложное мнение может привести к дурному результату, тогда как два мнения могут привести к катастрофе в результате разрушения единства[280].
Так, Фош и сэр Генри Вильсон[281], предвидевшие серьезные проблемы в армии Гофа, возникшие в связи с растянутостью резервов, поделились своими опасениями с узким кругом лиц, зная, что риск сокрушительного поражения был бы менее деструктивен, чем оживленное обсуждение этой проблемы в газетах. Ведь в напряженных ситуациях, подобных той, что сложилась к марту 1918 года, правильный стратегический шаг значит меньше, чем уверенность в надежности командования. Если бы Фош обратился к народу, он, вероятно, выиграл бы в дискуссии с оппонентами, но задолго до того, как он добился бы желанного результата, армии, находящиеся под его командованием, были бы рассеяны, поскольку зрелище скандала на Олимпе играет деструктивную и отвлекающую роль.
Но не менее пагубно и конспиративное молчание. Так, капитан Райт говорит по этому поводу следующее: «Именно среди высшего командования, а не на передовой чаще применяется искусство камуфляжа, причем здесь оно достигает своих вершин. Все начальство повсеместно замаскировано в результате неусыпных трудов бесчисленных публицистов, так что издалека мы можем принять их за наполеонов… Сместить этих наполеонов невозможно, как бы ни была низка их квалификация, — из-за огромной публичной поддержки, создаваемой им с помощью маскировки их неудач и преувеличения или придумывания успехов… Но наиболее пагубное влияние оказывает эта маскировка на самих генералов: будучи по большей части скромными и патриотичными людьми (поскольку только такие люди выбирают благородную профессию военного), они сами, в конце концов, начинают подвергаться воздействию всеобщих иллюзий об их непобедимости, сколько бы поражений ни потерпели. Кроме того, пребывание в составе командования генералы начинают священной целью, которая, с их точки зрения, оправдывает применение любых средств… Эти средства, среди которых особое место занимает обман, в конце концов, освобождают все генеральные штабы от любого контроля. Они живут уже не во имя нации: нация живет, или, скорее, умирает, за них. Победа или поражение перестают быть их главным интересом. Для этих полунезависимых корпораций имеет значение только вопрос о том, кто будет стоять во главе: милый старина Вилли или бедный старина Генри, а также вопрос, какая партия будет доминировать: партия Шантильи или партия бульвара Инвалидов»[282].
Но капитан Райт, который столь красноречиво и столь озабоченно высказывался по поводу опасностей умолчания, вынужден был одобрить молчание Фоша, опасавшегося публично развеять всеобщие иллюзии. В этом заключен сложнейший парадокс, возникающий, как мы рассмотрим ниже, в результате того, что традиционный демократический взгляд на жизнь связан не с экстремальными ситуациями и опасностями, а со спокойствием и гармонией. И поэтому там, где массы людей должны взаимодействовать в условиях непредсказуемой и взрывоопасной среды, необходимо обеспечить единство и гибкость на фоне отсутствия реального согласия. Это и делает символ. Он затемняет личные намерения, нейтрализует дискриминацию и экранирует личные цели. Он сковывает личность и в то же время чрезвычайно обостряет намерения группы и сплачивает ее. В состоянии кризиса ничто другое не может так сплотить группу для достижения определенной цели. Символ мобилизует массу и демобилизует личность. Он является инструментом, с помощью которого за короткое время масса выходит из состояния инерции — инерции нерешимости или инерции опрометчивого действия. Благодаря этому ее можно вести по извилистому пути, порожденному сложностью ситуации.
2
Однако на протяжении пути взаимодействие между ведущими и ведомыми усиливается. Слово, которое чаще всего используется рядовыми членами, чтобы описать состояние сознания их вождей, — это «мораль». Считается правильным, когда отдельные личности выполняют свои функции с максимальной энергией, когда человек мобилизует все свои силы, услышав команду руководителя. Отсюда следует, что любой лидер должен строить планы, учитывая это обстоятельство. Он обязан принимать решение не только исходя из обстоятельств, но и учитывая возможное влияние этого решения на последователей, поддержка которых ему необходима. Если это генерал, составляющий план атаки, он должен иметь в виду, что части регулярной армии обратятся в беспорядочное бегство, если потери будут слишком велики.
Во время Первой мировой войны в ходе военных действий были нарушены все предварительные расчеты, поскольку «из девяти человек, ушедших воевать во Францию, пятеро не вернулись»[283]. Границы терпения оказались гораздо шире, чем кто-либо мог предположить. Но в конце концов терпение иссякло. Именно поэтому ни одно командование не решилось опубликовать подлинные данные о потерях. Во Франции количество убитых и раненых вообще не разглашалось. В Англии, Америке и Германии публикации данных растягивались на длительный срок, чтобы сгладить общее впечатление. Только те, кто наблюдал ситуацию изнутри, узнавали достаточно быстро, какой ценой достались битва на реке Сомме или сражения на полях Фландрии[284]. Безусловно, Людендорф[285] имел гораздо более точное представление о потерях, чем любое частное лицо в Лондоне, Париже или Чикаго. В каждом лагере руководители делали все от них зависящее, чтобы ограничить доступ гражданских лиц или рядового состава к достоверной информации о войне. Но, разумеется, ветеранам, например солдатам французской армии, участвовавшим в сражениях 1917 года, было известно о войне больше, чем гражданским лицам. Такая армия начинает оценивать командование исходя из меры собственных страданий. И когда очередное экстравагантное обещание скорой победы оборачивается кровавым поражением, один незначительный просчет может вылиться в мятеж[286], подобный тому, который начался в 1917 году после провала наступления Нивеля. Революции и мятежи обычно следуют за серией крупных неудач[287].
Сфера действия политики определяет отношение между лидером и его последователями. Если исполнители, предусмотренные его планом, удалены от места действия, а последствия скрыты или отсрочены; если индивидуальные обязательства опосредованны или еще не определены и, кроме того, согласие возбуждает приятные эмоции, то лидер, как правило, свободен в действиях. Наибольшей популярностью пользуются программы, не затрагивающие повседневных привычек последователей. К примеру, трезвенники будут приветствовать введение сухого закона. Именно поэтому правительства пользуются такой свободой в международных делах. Большая часть трений между двумя государствами выливается в ряд непонятных многословных споров, иногда касающихся пограничных районов, но чаще всего — регионов, о которых в школьных учебниках географии не содержится вразумительных данных. Для Чехословакии Америка выступает в роли освободителя. Но из сообщений американских газет, из мюзиклов или разговоров рядовых граждан остается неясным, какую страну американцы освободили: Чехославию или Югословакию.
В международных делах радиус действия политики в течение длительного времени не выходит за пределы невидимой среды. Ничто из происходящего в этой сфере не осознается как полностью реальное. А поскольку в предвоенный период никто не должен сражаться и никому не нужно платить, правительства действуют по своему собственному усмотрению, не обращая внимания на свой народ. Во внутренних делах издержки политики проявляются более наглядно. Поэтому все лидеры, за редким исключением, предпочитают вести такую политику, расходы на которую являются максимально опосредованными. Они не любят прямого налогового обложения. Они не любят сразу же платить за свои действия. Они любят долгосрочные обязательства. Им нравится внушать избирателям, что платить будут иностранцы. Лидеры всегда вынуждены просчитывать уровень благосостояния с позиции производителя, а не потребителя, поскольку сфера деятельности потребителя охватывает множество мелких аспектов. Руководители профсоюза предпочитают говорить о повышении заработной платы, а не о снижении цен. Внимание общественности приковано к доходам миллионеров. Их сумма известна, но она не является серьезной общественной проблемой. Гораздо более важной является проблема отходов промышленных предприятий. Количество этих отходов исключительно велико, но информация о них труднодоступна. Местные законодательные органы, занимающиеся проблемой нехватки жилья, которая существует, так как зафиксирована в официальных документах, это еще одно подтверждение данного правила. Во-первых, потому, что они ничего не делают для увеличения количества домов, во-вторых, потому, что наказывают жадного землевладельца, и, в-третьих, потому, что расследуют случаи спекуляции среди строителей и рабочих. Ведь строительная политика направлена на отдаленные и неинтересные факторы, тогда как жадный землевладелец или спекулирующий оборудованием сантехник у всех на виду.
Но хотя люди с легкостью верят в то, что в неведомом будущем в неведомых местах будет осуществляться политика, направленная на решение их проблем, реальный политический процесс при этом следует иной логике. Скажем, население страны можно убедить в том, что взвинчивание ставки стоимости перевозок приведет к процветанию железных дорог. Но это не сделает железные дороги процветающими, если в результате новых ставок грузоперевозок фермеры и перевозчики грузов поднимут товарные цены выше пределов покупательной способности потребителей. Способность потребителя платить за товар зависит не от того, соглашался ли он девять месяцев назад с предложением поднять ставки и спасти бизнес, а от того, настолько ли сильно он хочет иметь новый автомобиль, чтобы покупать его по возросшей цене.
3
Лидеры обычно претендуют на то, что создали программу, родившуюся из недр сознания общественности. Если он и сам в это верит, то обычно заблуждается. Программы не самозарождаются одновременно в головах множества людей. И это происходит не потому, что множество сознаний рядовых граждан обязательно находится на более низком уровне, чем сознание лидеров, а потому, что мысль является функцией организма, а масса людей — это не организм.
Этот факт неочевиден, потому что массе постоянно предъявляют суггестивную информацию. Люди читают не просто новости, а новости с аурой намека на действие, которое будет осуществлено. Они слушают сообщения о событиях, то есть получают не объективное знание о фактах, а уже подогнанный под определенный стереотип образец поведения. Так, официальный лидер часто обнаруживает, что реальным лидером является могущественный владелец газеты. Но если бы можно было произвести эксперимент и удалить из опыта людей все внушения и директивы, то, по-моему, в результате такого эксперимента мы получили бы следующее. Реакции масс, подвергшихся воздействию одного и того же стимула, можно было бы отобразить в виде многоугольника ошибок. Ряд участников эксперимента будут воспринимать события примерно одинаково, на основании чего их можно объединить в одну классификационную группу. На обоих полюсах сообщества складываются разные настроения. Эта классификация становится более четкой, когда индивиды в каждой из групп озвучивают свои реакции. То есть, когда смутные чувства облекаются в слова, люди будут более четко понимать, что именно они чувствуют, и их ощущения станут более определенными.
Лидеры, соприкасающиеся с настроениями народа, немедленно осознают их изменения. Они понимают, что высокие цены угнетают народ или какие-то классы людей становятся непопулярными, а отношение к какому-либо государству становится доброжелательным либо, наоборот, враждебным. Но если репортер не предлагает конкретной формулировки настроения масс (а ведь именно это ставит репортера в позицию лидера), то в настроениях масс не окажется ничего, что определило бы выбор конкретной политики. Единственное требование широкой публики состоит в том, чтобы развитие политики и ее изложение если не логически, то хотя бы путем аналогий и ассоциаций было связано с ее первичным настроением.
Таким образом, когда встает вопрос о проведении новой политики, она предварительно объявляется сообществу, как это сделал Марк Антоний в своей речи перед последователями Брута[288]. Сначала лидер озвучивает господствующее мнение массы. Он идентифицирует собственную позицию с позициями слушателей. Для этого он иногда рассказывает байки, иногда выказывает свой патриотизм, а иногда жалуется на жизнь. Когда аудитория после некоторых колебаний убеждается, что оратор заслуживает доверия, она может начать к нему прислушиваться. Однако на этой стадии от лидера ожидают услышать план дальнейших действий. Но он не сможет обнаружить этот план в лозунгах, выражающих настроения массы. В тех случаях, когда сфера действия политики является отдаленной, единственно важный момент — это вербальная и эмоциональная связь программы с тем, что было озвучено перед аудиторией. Люди, пользующиеся доверием и выполняющие знакомую роль, если они к тому же согласны с принятыми символами, могут довольно долго продвигаться вперед самостоятельно, не объясняя сущности своей программы.
Мудрые лидеры этим не довольствуются. Когда они считают, что гласность не слишком усилит оппозицию, а обсуждение не отсрочит начало действий, то добиваются определенной степени согласия. Они начинают готовить если не всю массу, то, по крайней мере, подчиненных, которым доверяют, к тому, что должно произойти, чтобы тем казалось, будто они по своей воле будут добиваться этого результата. Но, каким бы искренним ни был наш лидер, в этих консультациях всегда присутствует определенная доля иллюзии, поскольку невозможно, чтобы все случайные факторы были понятны всему обществу в той же мере, в какой они понятны наиболее опытным и наделенным наибольшим воображением членам общества. Значительная доля людей должна согласиться с предложенной программой, не имея ни времени, ни квалификации для оценки вариантов, предлагаемых лидером. Однако никто и не настаивает на большем. Только теоретики. Ведь если бы нам предоставляли время для публичного высказывания пожеланий, и наши пожелания при этом выслушивались, и в результате получалось бы хорошо, то большинство из нас только и размышляли бы о том, как сильно влияет наше мнение на текущие дела.
Следовательно, если пришедшие к власти люди разбираются в ситуации и хорошо информированы, а при этом еще пытаются учитывать настроения масс и устранять некоторые причины их недовольства, то, как бы медленно они ни продвигались вперед, — если их продвижение заметно, им нечего бояться. Нужно совершить огромное число ошибок и проявить беспредельное отсутствие такта, чтобы спровоцировать революцию снизу. Дворцовые перевороты, межведомственный передел власти — совсем иное дело. Равно как и демагогия. Все это прекращается, как только вследствие открытого выражения настроений ослабевает напряжение. Но государственным мужам известно, что такое снижение напряженности — временное явление и если к нему приходится прибегать слишком часто, то складывается нездоровая обстановка. Поэтому они заботятся о том, чтобы не возбуждать никаких настроений, которые нельзя было бы направить на осуществление программы, связанной с фактами, возбуждающими данные настроения.
Но не все лидеры являются государственными мужами. Зато все лидеры не любят слагать с себя обязанности, к тому же значительное число лидеров с трудом верят в то, что при плохом стечении обстоятельств их преемник не усугубит положение. Они не ждут в бездействии, пока общество начнет разбираться в их политике, поскольку, чем лучше общество в ней разбирается, тем более шатким становится их положение, а периодически укрепляют свои позиции.
Укрепление позиций состоит в том, что время от времени обществу предлагается козел отпущения, сообщается о небольших проблемах, затрагивающих интересы важного лица или группировки, реорганизуются некоторые сферы профессиональной занятости, умиротворяется группа людей, создающих в своем родном городе склады оружия, вводится закон, предупреждающий какие-то преступления. Посмотрите, чем занимается в течение рабочего дня какой-нибудь государственный деятель, положение которого зависит от результатов выборов, и вы сможете расширить список. Регулярно переизбираемые конгрессмены обычно не склонны тратить энергию на общественные дела. Они предпочитают оказывать мелкие услуги большому числу людей по незначительным поводам, а не ввязываться в осуществление грандиозных проектов, никому конкретно не адресованных. Но любая организация может помочь только ограниченному числу людей, и поэтому умные политики стараются ублажить либо кого-то чрезвычайно влиятельного, либо настолько вызывающе невлиятельного, что сам факт внимания к нему служит знаком сенсационного великодушия. При этом огромное количество тех, кто лишен протекции — анонимное большинство, — получают дозу пропаганды.
Полномочный лидер любой организации имеет значительные естественные преимущества. Считается, что он располагает лучшими источниками информации, такими, как книги и материалы докладов. Он участвовал во многих конференциях, встречался с важными людьми. Он привык к ответственности. Поэтому ему легче привлечь к себе внимание и говорить убедительным тоном. И кроме того, он контролирует доступ к фактам. Каждое официальное лицо в известной мере является цензором. А поскольку никто не может полностью заглушить поток информации ни путем ее умалчивания, ни путем сокрытия ее от публики, то любой лидер в какой-то мере является пропагандистом. Если руководитель, занимающий стратегически важные позиции, вынужден делать выбор между внутренне одинаково непротиворечивыми, но не согласными между собой идеалами безопасности данного института, — такой руководитель должен сам все более осознанно решать, какие факты, в каком контексте и в какой форме представлять обществу.
4
Вряд ли кто-то усомнится в том, что сам процесс установления согласия — работа ювелирная. Этот процесс, в результате которого возникает общественное мнение, конечно, не менее сложен, чем его описание на страницах данной книги, а возможности манипулирования, открывающиеся перед любым человеком, знающим толк в его технологии, достаточно очевидны.
Установление согласия — искусство не новое, а очень старое. И предполагается, что оно умерло с рождением демократии. Но оно не умерло. Оно на самом деле чрезвычайно усложнилось технически, поскольку теперь в значительно большей степени оно основывается на анализе, а не на сугубо практических навыках. Таким образом, основанная на результатах психологического исследования в сочетании с современными средствами коммуникации практика демократии ушла в тень. В настоящее время происходит революция, бесконечно более значимая, чем любое изменение в сфере экономической власти.
На протяжении жизни одного поколения, которое сейчас контролирует ситуацию, убеждение превратилось не только в осознанное искусство, но и в обычный рычаг управления народом. Никто из нас еще не понимает последствий этого феномена. И не будет большим откровением, если я скажу, что умение приходить к согласию способно изменить любой политический расчет и перестроить любой политический фундамент. Под влиянием пропаганды, не обязательно понимаемой как нечто дурное, старые константы нашего мышления стали переменными. Например, больше невозможно верить в исходную догму демократии, что знание, необходимое для управления делами людей, возникает стихийно в недрах человеческой души. Когда в своей деятельности мы полагаемся на идею стихийного возникновения этого знания, то предаемся самообману и начинаем использовать формы убеждения, которые не можем верифицировать. Итак, мы показали, что нельзя полагаться на интуицию или на повороты случайного мнения, если необходимо оперировать в мире, находящемся за пределами нашей досягаемости.
Часть 6 ОБРАЗ ДЕМОКРАТИИ
Признаюсь, что в Америке я вижу больше, чем Америку. Я нахожу здесь воплощение демократии.
Алексис де ТоквильГлава 16 Эгоцентричный человек
1
Поскольку считается, что Общественное Мнение — это первичный двигатель демократии, то можно было бы ожидать, что этой теме посвящено множество трудов. Однако это не так. Написаны отличные книги об управлении и партиях, то есть о механизмах, которые теоретически фиксируют общественные мнения, после того как они уже сформировались. Однако источники общественного мнения, как и процессы, в результате которых оно формируется, освещены достаточно плохо. Существование силы, называемой Общественным Мнением, в основном принимается как само собой разумеющееся. Американских политологов интересовало или то, как заставить правительство выражать общую волю, или то, как помешать общей воле подрывать цели, ради которых, по их мнению, существует правительство. Эти политологические традиции требовали либо приручать общественное мнение, либо подчиняться ему. Так, редактор ряда серьезных учебников на эту тему пишет, что «самая сложная и самая важная задача правительства состоит в том, как преобразовать силу индивидуального мнения в публичное действие»[289].
Но существует еще более важная проблема: как проверить наши частные представления о политической сфере? Как я попытаюсь показать ниже, существует перспектива радикального улучшения ситуации путем развития уже действующих принципов. Но это развитие будет зависеть от нашей способности применять знание о том, как наши мнения складываются в систему, чтобы контролировать наши мнения, когда они уже образовали такую систему. Ведь случайное мнение, будучи продуктом частичного контакта, традиции и личных интересов, не может по определению благожелательно относиться к методу политического мышления, основанному на точном измерении, анализе и сравнении. Те качества сознания, которые определяют, что будет казаться интересным, важным, знакомым, личным и волнующим, как раз прежде всего и разрушаются под воздействием реалистичного мнения. Таким образом, если в сообществе в целом не присутствует постоянно растущее убеждение в том, что предрассудок и интуиция не достаточны, то выработка реалистичного мнения, требующая времени, денег, вложения труда, сознательных усилий, терпения и спокойствия, не найдет достаточной поддержки. Это убеждение возрастает по мере роста самокритики. Оно позволяет нам распознавать нелепости, презирать самих себя, если мы их используем, и быть начеку, чтобы их обнаружить. Без укоренившейся привычки анализировать мнение в процессе разговора, чтения или принятия решений большинство из нас вряд ли почувствуют необходимость более четких представлений, вряд ли заинтересуются ими и, наконец, вряд ли смогут предупредить манипулирование новой техникой политического мышления.
Однако демократические системы, если судить по старейшим и мощнейшим из них, сделали из общественного мнения тайну. Они превратились в опытнейших организаторов мнения, которые достаточно глубоко проникли в эту тайну, чтобы добиться в день выборов необходимого большинства голосов. Тем не менее политологи относились к этим организаторам как к недотепам или как к досадной помехе, но не как к носителям практических знаний о способах создания и управления общественным мнением. Люди, которые озвучивали идеи демократии, пусть и не принимая участия в их развитии, а также студенты, ораторы, издатели склонны расценивать Общественное Мнение так, как представители других общественных групп смотрят на зловещие силы, которые, по их мнению, вершат судьбами Земли.
Почти в каждой политической теории заключен элемент непостижимого, который в период расцвета этой теории остается неисследованным. За внешними теоретическими формами стоит Судьба, или Ангелы-Хранители, или Избранные, или Божественная Монархия, или Посланник Небес, или Высокородные. Ангелы, бесы и цари как более тривиальные сущности из демократического мышления исчезли. Но потребность верить в существование направляющих метафизических сил осталась. Наши современники восприняли ее от тех мыслителей XVIII века, которые спроектировали форму демократии. Образ бога, которому они поклонялись, был бледен и неясен, но они поклонялись ему со всем жаром своих сердец, и в учении о народном суверенитете они нашли ответ на волновавший их вопрос о надежной основе нового социального порядка. Тайна в этом учении присутствовала, и только враги народа касались ее своими грубыми руками.
2
Они не приоткрыли завесу над этой тайной, так как были политиками-практиками, посвятившими жизнь тяжелой борьбе. Они сами испытывали стремление к демократии, намного более сильное и глубокое, чем к любой другой теории управления. Утверждение человеческого достоинства их занимало в той же мере, что и борьба с предрассудками. Их волновало не столько то, имел ли Джон Смит четкие взгляды на какую-либо актуальную общественную проблему, сколько то, что Джон Смит, чьи предки были низкого рода, не должен отныне пресмыкаться перед другими людьми. Вид пролетария, гордого собой, доставлял блаженство тем, «кому посчастливилось жить на заре новой жизни»[290]. Но любой аналитик стремится принизить это достоинство, отрицает, что все люди все время разумны или все они образованны и информированы, замечает, что народ одурачивают, что он не всегда осознает свои интересы и что не все люди равно способны к управлению.
Критиков приветствовали примерно с такой же радостью, с какой приветствуют маленького мальчика, упражняющегося в игре на барабане. Каждое из указанных выше соображений относительно человеческих слабостей эксплуатировалось ad nauseam[291]. Если бы демократы признали, что в аргументах аристократов содержится доля истины, то они показали бы слабость своих позиций. Поэтому точно так же, как Аристотелю приходилось настаивать на том, что раб является рабом от природы, демократам приходилось настаивать на том, что свободный человек является законодателем и управленцем по своей природе. Они должны были постоянно объяснять, что в человеческой душе, возможно, еще не присутствует или никогда до сих пор не присутствовало соответствующее техническое обеспечение для осуществления этих функций, однако у нее есть неотчуждаемое право не превращаться в инструмент в руках других людей. Носители высшей власти были еще слишком сильны и слишком беспринципны, чтобы воздержаться от использования столь искреннего утверждения в своих целях.
Таким образом, первые демократы настаивали на том, что людские массы стихийно порождают разумную справедливость. Многие из них надеялись и верили в это, хотя мудрейшие из демократов, подобно Томасу Джефферсону, высказывали целый ряд конкретных оговорок. Но одно было очевидно: в те времена господствовало убеждение, что общественное мнение может проявиться только стихийно. В своей основе политическая наука, на которой основывалась демократия, напоминала учение Аристотеля. Демократов и аристократов, роялистов и республиканцев роднила одна общая предпосылка: искусство управления — это прирожденный дар.
Политические противники расходились в определении, кому именно этот дар дан от природы. Однако они соглашались, что самое главное — выявить, кто обладает этой врожденной мудростью. Роялисты были уверены, что врожденным даром управления наделены короли. Александр Гамильтон считал, что хотя «сильные умы можно встретить в любом сословии… представительный орган, который способен оказать какое-то влияние на характер управления государством, должен состоять из землевладельцев, торговцев, богословов, правоведов и медиков»[292]. Джефферсон думал, что Господь наделяет способностью к политической деятельности фермеров и плантаторов, а иногда говорил, что ее можно обнаружить у любого человека[293]. Главная предпосылка была у всех одинаковой: управление — это инстинкт и он проявляется (в зависимости от социальных преференций того, кто формулирует эту предпосылку) у одного человека, или у нескольких избранных, или у всех мужчин, или у всех белых мужчин начиная с двадцати одного года, а возможно даже у всех мужчин и у всех женщин.
При обсуждении вопроса о том, кто способен к управлению, знание мира принималось как само собой разумеющееся. Аристократ считал, что соответствующим инстинктом обладают те, кто имел дело с масштабными делами, а демократы думали, что все люди обладают этим инстинктом и поэтому могут справляться с масштабными делами. Ни те, ни другие не считали, что одна из задач политической науки состоит в том, чтобы донести знания о мире до правителя. Если ты стоишь за народ, тебе не нужно думать о том, как информировать избирателя. Считалось, что к двадцати одному году человек обладает политическими способностями в силу природы. Имели значение добрая душа, способность думать и высказывать разумные суждения. Все это должно было приходить с возрастом, поэтому не стоило озадачиваться тем, как напитать разум и снабдить информацией эту добрую душу. Предполагалось, что воспринимать факты — это так же естественно, как дышать.
3
Однако объем фактов, которые люди могли воспринимать легко и естественно, был ограничен. Они могли знать обычаи и характерные особенности места, где жили и работали. Но когда речь шла о внешнем мире, то они должны были затрачивать усилия на его постижение, и в процессе этого они не могли основываться на инстинктивных реакциях или поглощать достоверные сведения. Таким образом, единственной средой, в рамках которой возможна стихийная политика, является та, которая очерчивается границами прямого и определенного знания. Нет возможности избежать этого вывода там, где обнаруживается управление, основанное на естественных границах человеческих способностей. Аристотель писал: «Для того чтобы на основе справедливости выносить справедливые решения, чтобы распределять должности по достоинству, граждане непременно должны знать друг друга — какими качествами они обладают; где этого не бывает, там и с замещением должностей, и с судебными разбирательствами дело неизбежно обстоит плохо»[294].
Очевидно, что эта максима была необходимой составляющей каждой школы политического мышления. Но она создавала определенные проблемы для демократов. Те, кто считал, что управлять должен определенный класс, вполне могли утверждать, что при дворе короля или в сельских домах помещиков люди хорошо знали характеры друг друга. А поскольку остальная часть человечества была пассивной, то единственные характеры, которые следовало знать, — это характеры людей, принадлежавших правящему классу. Но желание демократов возвысить достоинство всех людей привело к тому, что они столкнулись с огромными размерами и невероятной разнородностью правящего класса — мужского электората. Согласно их науке, политика была инстинктом и этот инстинкт действовал в рамках узкой среды. В соответствии со своими ожиданиями они обязаны были верить в то, что все мужчины в пределах обширной среды способны к управлению. Единственный способ выхода из противоречия между идеями и наукой для демократов состоял в том, чтобы без особых дискуссий допустить, что глас народа был гласом Божьим.
Парадокс был слишком острым, ставки — слишком высоки, а идеал — слишком значимым, чтобы подвергать его критической оценке. Они не могли показать, как житель Бостона, не покидая города, мог понять взгляды виргинца и как последний, оставаясь в Виргинии, мог иметь реальное мнение о правительстве в Вашингтоне, а конгрессмен в Вашингтоне мог иметь мнение о Китае или Мексике. Ведь в те времена у людей не было возможности оценить невидимую среду. Разумеется, в этом отношении со времен Аристотеля был достигнут некоторый прогресс. Издавались газеты, книги, улучшились дороги и возросла надежность морских судов. Но существенных достижений в XVIII веке не было, и политические представления оставались, в сущности, такими же, как и на протяжении двух тысячелетий. Первые демократы не располагали материалом, необходимым для разрешения противоречия между размером кругозора среднего представителя той эпохи и их неограниченной верой в человеческое достоинство.
Их теоретические предпосылки закладывались тогда, когда еще не было не только современных газет, международной журналистской сети, кинематографии, но и, что более важно, тогда, когда еще не были приняты универсальная система мер и весов, количественный и сравнительный анализ, каноны сбора эмпирических данных и методы психологического анализа для корректировки и учета предрассудков, свойственных свидетелям. Я имею в виду, что с тех пор были сделаны ключевые изобретения, позволившие ввести невидимый мир в поле суждений. Эти открытия не были совершены во времена Аристотеля, и они не были еще достаточно важны для политической теории времен Руссо, Монтескье или Томаса Джефферсона. Далее я постараюсь показать, что даже в более поздних вариантах теории преобразования человека (human reconstruction), а именно в гильдейском социализме, глубинные предпосылки были заимствованы из этой старой системы политического мышления.
Эта система — в тех случаях, когда она была компетентной и честной, — должна была допустить, что никто не может иметь неограниченный опыт общественной жизни. Человек может уделять ей лишь незначительное время, и этот тезис имеет исключительно важные следствия. Но старые теоретики вынуждены были допустить не только то, что люди могли уделять лишь незначительное внимание вопросам общественной жизни, но и то, что это внимание должно было быть ограничено весьма узким кругом вопросов. В те времена казалось совершенной фантастикой, что придет время, когда отдаленные и сложные события будут сообщаться, анализироваться и представляться в такой форме, которая будет помогать обычным людям делать разумные выводы. Это время уже не за горами. Уже не остается никаких сомнений в том, что постоянное информирование публики о ненаблюдаемой среде вполне возможно. Подобное информирование обычно ведется на низком уровне, но сам факт его существования подтверждает возможность его осуществления, а его низкий уровень показывает, что оно может осуществляться лучше. С разной степенью умения и честности информация об отдаленных проблемах каждый день доносится инженерами и бухгалтерами до бизнесменов, секретарями — до государственных чиновников, разведкой — до генерального штаба, отдельными журналистами — до отдельных читателей. Это самые предварительные, но, в то же время, радикальные начинания, гораздо более радикальные, чем повторяющиеся войны, революции, отречения от престола и реставрации монархии. Они так же радикальны, как изменения масштабов человеческой жизни, которые позволили Ллойд Джорджу обсуждать проблемы добычи угля в Уэльсе после завтрака в Лондоне и судьбу арабов — перед обедом в Париже.
Ведь возможность введения любого аспекта человеческой жизни в сферу суждения разрушило заклинание, лежавшее на политических идеях. Разумеется, существовало множество людей, не осознававших, что основной предпосылкой политической теории служила широта кругозора. Они возводили свои теории на песке. Они сами служили прекрасным примером влияния весьма ограниченного и эгоцентричного знания о мире. Но для серьезных политических мыслителей, начиная с Платона и Аристотеля, Макиавелли и Гоббса и кончая теоретиками демократии, все рассуждения вращались вокруг эгоцентричного человека, который смотрел на мир через призму нескольких картин, содержащихся в его сознании.
Глава 17 Самодостаточное сообщество
1
Всегда было очевидно, что обособленные группы людей вынуждены вести борьбу за существование в том случае, если между ними возникают трения. Именно это имел в виду Гоббс, когда в своем знаменитом отрывке из «Левиафана» писал: «хотя никогда и не было такого времени, когда бы частные лица находились в состоянии войны между собой, короли и лица, облеченные верховной властью, вследствие своей независимости всегда находятся в состоянии непрерывной зависти и в состоянии и положении гладиаторов, направляющих друг на друга оружие и зорко следящих друг за другом»[295].
2
Для того чтобы обойти это заключение, одна из величайших школ человеческой мысли, имеющая множество последователей, выдвинула представление об обществе как об идеально справедливой модели (pattern) человеческих отношений, в рамках которой каждый обладает четко определенными правами и обязанностями. Если человек добросовестно выполняет предназначенную ему роль, то правильность его мнений не имеет значения. Он выполнил свой долг, его сосед — свой, и все верные своему долгу люди образуют гармоничный мир. Иллюстрацией этого принципа служит любая кастовая система. Его можно найти в «Государстве» Платона и в сочинениях Аристотеля, в феодальном идеале общественного устройства, в кругах Рая Данте, в бюрократическом социализме, в принципе laissez-faire, в огромной мере — в синдикализме, гильдейском социализме[296], анархизме и системе международного права, построенной Робертом Лансингом[297]. Все они исходят из допущения предустановленной гармонии: врожденной, привнесенной извне или внушенной свыше. Благодаря этой гармонии личность, класс или сообщество, обладающие собственным мнением, образуют с остальным миром слаженно играющий оркестр. Более авторитарно настроенные воображают, что этим оркестром руководит дирижер, а у каждого исполнителя есть своя партия. Анархически настроенные склонны думать, что божественная гармония зазвучит в том случае, если каждый исполнитель будет импровизировать.
Однако во все времена существовали философы, которые считали схемы, построенные на правах и обязанностях, слишком скучными. Они полагали, что конфликт — это нечто само собой разумеющееся, и стремились увидеть, как именно их сторона может выйти из этого конфликта победителем. Они сохраняли трезвость мыслей, даже будучи озабоченными ситуацией, поскольку занимались только обобщением непосредственного опыта. Классическим представителем этой школы является Макиавелли — человек, которого беспощадно поносили, потому что он стал первым, кто прибегнул к ясному языку в области, ранее считавшейся вотчиной ученых, занимавшихся сверхъестественным[298]. Он обладает наихудшей репутацией, зато имеет наибольшее число последователей по сравнению с остальными политическими мыслителями, когда-либо жившими на Земле. Макиавелли честно описал технику существования самодостаточного государства (self-contained state). Именно поэтому у его учения нашлись последователи. Его плохая репутация связана в основном с пристрастным отношением к семье Медичи, поскольку он, сидя в своем кабинете, воображал себя государем и превращал желчное описание состояния дел в панегирик способа их ведения.
В самой знаменитой главе своего сочинения он написал, что «князь должен особенно заботиться, чтобы с уст его никогда не сошло ни одного слова, не преисполненного <…> пятью добродетелями, чтобы, слушая и глядя на него, казалось, что князь — весь благочестие, верность, человечность, искренность, религия. Всего же важнее видимость этой последней добродетели. Люди в общем судят больше на глаз, чем на ощупь; глядеть ведь может всякий, а пощупать — только немногие. Каждый видит, каким ты кажешься, немногие чувствуют, какой ты есть, и эти немногие не смеют выступить против мнения толпы, на стороне которой величие государства; а ведь о делах всех людей, и больше всего князей, над которыми нельзя потребовать суда, судят по успеху. <…> Есть в наше время один князь — не надо его называть, — который никогда ничего, кроме мира и верности, не проповедует, на деле же и тому и другому великий враг, а храни он верность и мир, не раз лишился бы и славы, и государства»[299].
Это цинизм. Но это цинизм человека, который видел истинную картину вещей, даже не зная, зачем он видит эту картину. Макиавелли размышляет о правлении людей и князей, которые «судят больше на глаз, чем на ощупь», что означает в его устах то, что они субъективны в суждениях. Он был человеком слишком приземленным, чтобы считать современных ему итальянцев людьми, воспринимающими мир стабильно и целостно. Ему было не свойственно предаваться фантазиям, да у него и не было материала, чтобы вообразить себе породу людей, научившихся корректировать свое восприятие внешнего мира.
Мир, с точки зрения Макиавелли, состоит из людей, чье восприятие редко поддается корректировке, и он знал, что эти люди, рассматривая все общественные отношения через призму частных интересов, являются участниками постоянной борьбы. Они видят свою личную, классово-династическую или продиктованную муниципальными интересами версию ситуации, которая в действительности гораздо шире пределов их восприятия. Они имеют собственный взгляд на происходящее и считают это видение правильным. Но они сталкиваются с другими людьми, которые тоже сосредоточены на самих себе. Поэтому им угрожает опасность, или, по крайней мере, они считают, что им угрожает опасность. Цель, неизбежно погруженная в реальный, пусть и частный, опыт, оправдывает средства. Они пожертвуют любым из своих идеалов, чтобы спасти остальные, поскольку… «Важен не метод, а результат».
3
Этим элементарным истинам противостояли философы демократического направления. Может, осознанно, а может, и нет, но они понимали, что область политического знания ограничена, что область самоуправления должна быть ограничена, а самодостаточные государства, сталкиваясь друг с другом, оказываются в положении гладиаторов. Однако они также хорошо понимали, что люди хотят сами распоряжаться своей судьбой и находить способ мирного сосуществования, не навязанный с помощью силы. Каким образом они могли примирить желаемое и действительное?
Они огляделись вокруг. В городах-государствах Греции и Италии они находили летопись коррупции, интриг и войн[300]. В современных им городах они наблюдали ложь, страх, раздоры. Подобная среда не казалась благоприятной для расцвета демократического идеала. Она не была похожа на место, где группа независимых и равно компетентных людей стихийно управляла своими делами. Они стали смотреть дальше и, возможно, вдохновленные Жан-Жаком Руссо, обратили свой взор на отдаленные, не испорченные цивилизацией селения. Того, что они увидели, оказалось достаточно, чтобы убедить себя в том, что там и воплотился их идеал. В частности, так считал Джефферсон, а Джефферсон сделал больше чем кто-либо другой для формирования американского образа демократии. Именно маленькие провинциальные городки должны были обеспечить голоса, которые привели партию Джефферсона к власти. Именно в фермерских общинах Массачусетса и Виргинии, если закрыть глаза на существование рабства, воплотился идеал демократии.
«Вспыхнула Американская революция, — писал де Токвиль, — принцип народовластия вышел за пределы общины и распространился на сферу деятельности правительства…»[301] Это учение, конечно, охватило умы тех людей, которые формулировали и популяризировали стереотипы демократии. «Беречь и охранять людей было нашим принципом», — писал Джефферсон[302]. Но люди, которых он берег и охранял, были практически без исключений мелкими фермерами: «Те, кто работает на земле, — избранники Бога, если у него вообще есть избранники, души которых он сделал хранилищем главной и истинной добродетели. Это средоточие, в котором Бог сохраняет горящим свой священный огонь — иначе он бы исчез с лица Земли. Ни одного примера разложения нравственности нельзя найти у людей, обрабатывающих землю, ни у одного народа, ни в какие времена»[303].
Несмотря на то, что рассуждение пропитано духом романтического возврата к природе, в нем содержится элемент здравого смысла. Джефферсон был прав, полагая, что группа независимых фермеров подходит к реализации требований стихийной демократии ближе, чем любое другое сообщество. Но если нужно сохранить идеал, то вам следует отгородить эти идеальные коммуны от мерзостей окружающего мира. Если фермеры должны управлять своими делами, то их деятельность не должна выходить за пределы привычных занятий. Джефферсон сделал все эти логические выводы. Он не одобрял мануфактуры, иностранную торговлю и морской флот, нематериальные формы собственности и теоретически — любую форму правления, которое не осуществляется небольшой самоуправляющейся группой людей. Его концепция подвергалась критике со стороны современников. Один из них, в частности, писал: «…сосредоточенные на полноте своей собственной значимости и при этом в самом деле достаточно могущественные, чтобы защитить себя от любого внешнего нашествия, мы можем вечно наслаждаться радостями сельской жизни, пребывая в апатии и предаваясь опрощению под покровом эгоистичной, удовлетворенной индифферентности»[304].
4
Демократический идеал, в том виде, в каком его сформулировал Джефферсон, вобравший в себя представление об идеальном окружении и избранном классе, не противоречил политической науке того времени. Однако он противоречил реалиям. А поскольку этот идеал был сформулирован в абсолютных терминах, частично — под влиянием избытка чувств, а частично — в рамках избирательной кампании, то люди довольно быстро забыли, что эта теория изначально разрабатывалась для весьма конкретных условий. Она стала политическим евангелием и поставляла стереотипы, через призму которых американцы, вне зависимости от партийной принадлежности, смотрели на политику.
Это евангелие было создано в силу того, что во времена Джефферсона ни у кого не могло возникнуть общественного мнения, которое не было стихийным или субъективным. Поэтому демократическая традиция всегда стремится видеть такой мир, где люди интересуются исключительно теми делами, причинно-следственный механизм которых действует внутри региона их проживания. Никогда демократическая теория не возникала в контексте широкой и непредсказуемой среды. Она подобна вогнутому зеркалу. И хотя демократы понимают, что занимаются внешними делами, они абсолютно уверены в том, что любой контакт замкнутой группы с внешним миром несет угрозу демократии в ее изначальной форме. Это вполне обоснованный страх. Если демократия должна быть стихийной, то интересы демократии должны оставаться простыми, понятными и легко управляемыми. Условия должны приближаться к условиям изолированной сельской общины, где поступление информации обусловлено случайным опытом. Социальная среда должна ограничиваться рамками прямых и очевидных знаний каждого человека.
Демократ понял, что должен демонстрировать анализ общественного мнения. При взаимодействии с невидимой средой принимаются случайные решения, чего, по словам Аристотеля, не должно быть[305]. Поэтому он всегда старался как-то минимизировать значение этой невидимой среды. Он опасался иностранной торговли, поскольку она предполагает иностранные связи; не доверял мануфактурам, поскольку они вели к возникновению крупных городов и увеличению концентрации населения. Если же ему все-таки приходилось признавать факт существования мануфактур, то он стремился обеспечить свою независимость от них. Если демократ не обнаруживал этих условий в реальном мире, то мысленно устремлялся в отдаленные области и находил утопические сообщества, не контактирующие с внешним миром. В выдвигаемых им лозунгах проявляются его предрассудки. Демократ выступает за Самоуправление, Самоопределение, Независимость. Ни в одной из этих идей нет допущения о согласии или сообществе, выходящих за пределы самоуправляющихся групп. Область демократического действия ограничена. Внутри укрепленных границ необходимо было обрести самодостаточность и при этом избежать затруднений. Подобное правило едва ли применимо к внешней политике, так как жизнь за пределами государственных границ является более чуждой, чем жизнь, протекающая в их пределах. И, как показывает история, демократические правительства во внешней политике обычно должны были выбирать между величественной изоляцией и дипломатией, противоречащей их идеалам. В действительности, наиболее успешные демократии — Швейцария, Дания, Австралия, Новая Зеландия и Америка — вплоть до недавнего времени не вели внешней политики в европейском смысле этого понятия. Даже правило, подобное доктрине Монро[306], возникло в результате стремления создать на американском континенте защитную полосу из стран, которые были бы достаточно республиканскими, чтобы не иметь никакой внешней политики.
Если опасность является серьезным, возможно, абсолютно необходимым условием автократии[307], то безопасность рассматривается как необходимое условие функционирования демократии. Замкнутое сообщество основывается на идее минимальных волнений и беспокойств. Отсутствие безопасности предполагает возможность сюрпризов. Это означает, что существуют люди, которые влияют на твою жизнь, но которых ты не можешь контролировать и с которыми ты не можешь советоваться. Это также означает действие сил, нарушающих привычный ход событий, создающих новые проблемы, которые требуют быстрых и нетривиальных решений. Каждый демократ ощущает нутром, что опасные кризисы несовместимы с демократией, потому что ему известно, что, вследствие инерции масс, для принятия быстрых мер необходимо, чтобы решения принимались весьма небольшим числом людей и чтобы остальные слепо им подчинялись. Это не превратило демократов в непротивленцев, но при этом все войны, в которых участвовали демократические государства, велись ими во имя мира. Даже когда войны, по сути своей, были захватническими, то их искренне считали войнами в защиту цивилизации.
Эти разнообразные попытки отгородиться от мира были вызваны не малодушием, трусостью и апатией или, как говорил один из критиков Джефферсона, желанием установить монастырскую дисциплину. Демократы были нацелены на то, чтобы каждый человек, освободившись от воздвигнутых самими же людьми ограничений, реализовал великолепную возможность подняться во весь рост. На основании тех знаний об искусстве управления, которыми они располагали, они, как и Аристотель, могли создать общество независимых индивидов только при условии его простоты и отгороженности от остального мира. Демократы не могли основываться ни на каких других посылках, если стремились добиться того, чтобы все люди могли стихийно управлять общественными делами.
5
Они приняли эту посылку, поскольку она соответствовала их надеждам и чаяниям, но они пошли дальше и построили на ее основании некоторые другие выводы. Поскольку для стихийного самоуправления необходимо иметь простое, замкнутое на самом себе сообщество, демократы приняли как само собой разумеющееся, что при управлении этим простым и ограниченным кругом дел один человек может быть столь же компетентным, сколь и его последователь. Более того, доктрина абсолютно компетентного гражданина обладает практической истинностью в сельских условиях. Каждый деревенский житель рано или поздно оказывается причастным ко всему, чем занимается данная деревня. В местном управлении происходит ротация мастеров на все руки. Доктрина абсолютно компетентного гражданина не встречала никаких серьезных трудностей до тех пор, пока демократический стереотип не нашел всеобщего применения. Тогда получилось, что, глядя на сложнейшую цивилизацию, люди видели замкнутый мир одной деревни.
Отдельный гражданин не только мог решать все общественные дела, но и принадлежал обществу душой и телом. Он был достаточно глубоко вовлечен в дела своей общины, где знал всех ее членов и был в курсе их дел. Представление о том, что квалификации обычного человека достаточно для управления общиной, легко превращалось в идею, что ее достаточно для любой цели, так как (и мы отмечали это выше) количественное мышление не входило в данный стереотип. Но существовал и еще один аспект этого представления. Поскольку предполагалось, что каждый проявляет достаточный интерес к важным делам, важными считались лишь те дела, которые вызывали всеобщий интерес.
Это означало, что взгляд на внешний мир формировался на основании не подвергавшихся критике картин мира в сознании людей. А эти картины поступали в их сознание в виде стереотипов, которые передавались им родителями и учителями и практически не корректировались под воздействием их собственного опыта. Лишь немногие из них выезжали по делам за пределы своего штата. И еще меньшее число людей путешествовало за границу. Большая часть избирателей жила почти всю свою жизнь в одном месте. Располагая лишь несколькими газетенками и брошюрами, слушая политические речи и сплетни, они должны были как-то понять большой мир коммерции и финансов, войны и мира. Число общественных мнений, основанных на любом объективном сообщении, было очень мало по сравнению с теми, которые строились на случайных догадках и фантазиях.
Таким образом, по многим причинам самодостаточность была духовным идеалом эпохи становления. Физическая изоляция маленьких поселений, одиночество пионеров, теория демократии, протестантская традиция, ограниченность политической науки — все это заставило людей поверить, что они могут извлечь политическую мудрость из собственного сознания. Не удивительно, что выведение законов из абсолютных принципов отняло у них так много энергии. Американская политическая мысль должна была жить за счет своего капитала. В законничестве она нашла проверенный корпус правил, из которых могли быть сплетены новые правила без использования данных опыта. Их формулировкам была придана столь курьезная сакральность, что внимательный иностранный наблюдатель не мог не подивиться контрасту между динамикой практической энергии американцев и статической теоретичностью их общественной жизни. Эта непоколебимая любовь к твердым принципам была единственным известным путем достижения самодостаточности. Но это означало, что общественные мнения о внешнем мире любого сообщества состояли, в основном, из нескольких стереотипных образов, организованных в систему (pattern), выведенную из их правовых и моральных кодексов и оживленную чувствами, пробужденными местным опытом.
Так демократическая теория, начав с прекрасного, по своей сущности, восприятия человеческого достоинства, в силу отсутствия инструментов познания окружающей реальности была вынуждена откатиться назад, к мудрости и опыту, который смог накопить в течение своей жизни избиратель. Господь Бог, согласно Джефферсону, сделал души людей «своим особым хранилищем подлинной и крепкой добродетели». У этих избранных людей, живших в самодостаточном окружении, все события разворачивались непосредственно перед глазами. Им не были нужны гарантии надежности источников информации, поскольку те являлись очевидными и равно доступными для всех. Не было также необходимости беспокоиться о конечных критериях правдивости информации. В самодостаточном сообществе человек допускал или, по крайней мере, мог допустить единообразный моральный кодекс. Следовательно, единственным местом, где могли существовать различные мнения, было логическое применение принятых стандартов и принятых фактов. Поскольку мыслительная способность была также вполне стандартизирована, ошибка в рассуждениях становилась предметом всеобщего обсуждения. Отсюда следовало, что истина достигалась путем свободного движения в ограниченных рамках. Данное сообщество могло воспринимать поступавшую информацию, не требуя доказательств. Свои кодексы оно передавало через школу, церковь и семью. А главной целью воспитания ума являлась способность делать заключения на основании посылок, а отнюдь не способность формулировать посылки.
Глава 18 Роль силы, патроната (patronage)[308] и привилегии
1
«Произошло то, чего следовало ожидать, — писал Гамильтон. — Меры со стороны Соединенных Штатов не были приняты; нарушения со стороны каждого из штатов постепенно, шаг за шагом, достигли апогея, что в конце концов затормозило государственное управление и привело к ужасному его состоянию… [поскольку] в нашем случае для полного осуществления каждой важной меры, которая исходит от Соединенных Штатов, в условиях конфедерации необходима согласованность тринадцати различных суверенных воль». Как же могло быть иначе, вопрошает он, если «Правители соответствующих членов Соединенных Штатов… сами оценивают адекватность принимаемых мер. Они рассматривают соответствие предложений или требований своим непосредственным интересам или целям; учитывают явные преимущества и неблагоприятные для себя моменты, связанные с принятием данных мер. Они смотрят на эти меры с подозрением и озабочены местными проблемами, не опираясь при этом на знание общей ситуации в стране и принципов государственного управления, столь необходимое для правильного суждения. К тому же, они очень привержены местным целям, которые не могут не привести к заблуждению. Точно такой же процесс, вероятно, повторяется в каждой части этого органа. И выполнение планов, составленных советами как целостными объединениями, всегда находится в зависимости от интересов и полномочий плохо информированных и полных предрассудков мнений каждого участника совета. Те, кто хорошо знаком с работой народных ассамблей, кто видел, как при отсутствии внешнего давления обстоятельств бывает трудно подвести их к принятию единодушных решений по важным вопросам, легко поймут, насколько сложно вдохновить несколько таких ассамблей, заседающих на значительном расстоянии друг от друга и в разное время, а также находящихся под впечатлением от различных событий, на длительное сотрудничество с общими взглядами и едиными целями»[309].
Продолжавшиеся в течение десяти лет яростные споры в конгрессе, который, согласно Джону Адамсу, «был только дипломатической ассамблеей»[310], послужили вождям войны за независимость «полезным, но горьким уроком», поскольку показали, что происходит, когда ряд замкнутых сообществ заключен в одной среде. Таким образом, когда они отправились в Филадельфию в мае 1787 года, объявив своей целью пересмотр Статей Конфедерации, у них уже сложилось резко отрицательное отношение к фундаментальной посылке демократов XVIII века. Они не только встали в сознательную оппозицию к демократическому духу своего времени, будучи убежденными, по словам Медисона, что демократии «всегда представляли собой зрелище бурной стихии разногласий и споров». Но также, если брать внутреннюю политику государства, эти лидеры были полны решимости создать противовес идеалу самоуправляющихся сообществ в рамках самодостаточного окружения. Они прекрасно видели коллизии и неудачи анклавной демократии, при которой люди стихийно управляют делами. Проблема в их понимании заключалась в том, чтобы восстановить управление (government)[311] в противовес демократии. Они понимали управление как возможность самовластно принимать государственные решения и продвигать их в народ. А демократия, по их мнению, представляла собой отстаивание своих требований на самоопределение местными сообществами и различными классами в соответствии с текущими интересами и целями.
Они не могли рассчитывать на такую организацию знания, при которой отдельные сообщества действовали бы одновременно, основываясь на одинаковой версии понимания фактов. Мы только начинаем видеть такую возможность для некоторых частей мира, где существует свободная циркуляция новостей и общий язык, и то — применительно лишь к некоторым областям жизни. Сама идея добровольного федерализма в промышленности и в мире политики до сих пор столь рудиментарна, что, как мы увидим на собственном опыте, она очень медленно и очень осторожно проникает в нашу практическую политику. То, что мы, более века спустя, можем воспринимать только как программу для приложения серьезных интеллектуальных усилий нескольких поколений, авторы конституции имели право вообще не видеть. Для создания общегосударственного управления (national government) Гамильтон и его единомышленники должны были основывать свои планы не на концепции, что люди будут сотрудничать потому, что у них есть понимание общего интереса, а на концепции, что людьми можно управлять, если власть служит противовесом их особым интересам. «Одним амбициям, — заметил однажды Медисон, — должны противостоять другие амбиции»[312].
Эти люди не собирались, как предполагали некоторые авторы, обеспечивать противовес каждому отдельному интересу, что парализовало бы управление. Они собирались блокировать лишь местные и классовые интересы. «При выработке системы управления, задача которой состоит в том, чтобы одни люди управляли другими, — писал Медисон, — самая большая сложность заключается в следующем: прежде всего, нужно сделать так, чтобы те, кто управляет, могли контролировать управляемых, а затем — заставить управляющих контролировать самих себя»[313]. Таким образом, в одном важном случае принцип взаимозависимости и взаимоограничения законодательной, исполнительной и судебной власти позволил лидерам-федералистам решить проблему общественного мнения. Они не видели никакого другого пути заменить «кровавую работу меча» на «умеренное влияние государственных чиновников»[314], кроме как изобрести хитрый механизм нейтрализации права общин устанавливать местные законы (local opinion)[315]. Они разбирались в способах манипулирования большим электоратом не лучше, чем в возможностях достижения всеобщего согласия, основываясь на принципах общедоступности информации. Конечно, Аарон Берр преподал Гамильтону впечатляющий урок, получив власть над Нью-Йорком в 1800 году при поддержке Таммани-холл[316]. Но Гамильтон был убит прежде, чем сумел оценить этот урок, и, как говорит Форд[317], пуля Берра вышибла мозги у партии федералистов[318].
2
Когда была написана конституция, «политику еще можно было вести с помощью конференций и джентльменских соглашений»[319], и Гамильтон в своем проекте управления государством обратился к джентри[320]. Он предполагал, что они будут управлять государственными делами, когда местные предрассудки будут уравновешены конституционной системой взаимозависимости и взаимоограничения ветвей власти. Безусловно, Гамильтон, который принадлежал к джентри не по рождению, симпатизировал этому классу. Но этого недостаточно для объяснения его принципов государственного управления. Разумеется, нет сомнений в его всепоглощающей страсти к объединению. И я думаю, вместо того, чтобы говорить, что он создал Соединенные Штаты для защиты классовых привилегий, лучше сказать, что он использовал классовые привилегии, чтобы создать Соединенные Штаты. «Мы должны принимать человека таким, какой он есть, — говорил Гамильтон, — и если мы ожидаем от него, что он будет служить народу, то мы должны разжечь его энтузиазм»[321]. Для управления страной ему требовались такие люди, чей энтузиазм мог быть быстро направлен на осуществление государственных интересов. Это и были представители джентри, общественные кредиторы, предприниматели, промышленники, транспортники, торговцы[322]. И вероятно, в истории не существует лучшего примера приведения в соответствие практических мер и ясных целей, чем те финансовые решения, с помощью которых Гамильтон привлек важных людей на местах к управлению государством.
Хотя конвент работал при закрытых дверях и конституция была ратифицирована голосованием «вероятно, не более чем одной шестой взрослых мужчин»[323], при этом подтасовок или было крайне мало, или их не было вовсе. Федералисты голосовали за союз (union), а не за демократию, и даже само слово «республика» звучало неприятно для Джорджа Вашингтона, бывшего на протяжении более чем двух лет республиканским президентом. Конституция была искренней попыткой ограничить область народного правления (popular rule). Единственный демократический орган, на который, согласно конституции, должно опираться правительство, — это палата представителей (the House), основывавшаяся на избирательном праве, существенно ограниченном имущественным цензом. При этом палата представителей считалась столь своевольной частью правительства, что ее деятельность ограничивалась сенатом, коллегией выборщиков, президентским вето и правом судебной власти на толкование законов[324].
Таким образом, в то время, когда Французская революция разжигала во всем мире народную идею, американские борцы за независимость приняли конституцию, которая, насколько это было возможно, подражала консервативной модели Британской монархии. Однако реакция не могла длиться долго. Ее сторонники составляли меньшинство, их мотивы казались подозрительными, и, когда Вашингтон отошел от дел, положение джентри не было столь прочным, чтобы они могли выдержать неизбежную битву за преемственность. Несоответствие между планами отцов-основателей и нравственными настроениями эпохи было слишком значительным, чтобы им не воспользовался хороший политик.
3
Джефферсон говорил о своем избрании как о «великой революции 1800 года». В наибольшей степени эта революция коснулась сознания людей. Основная политическая линия не изменилась, зато была установлена новая традиция. Ведь именно Джефферсон научил американский народ рассматривать конституцию как инструмент демократии, и именно ему принадлежат ставшие стереотипными образы, идеи и устойчивые выражения, с помощью которых американцы описывают друг другу политику. Победа на уровне сознания людей была столь полной, что двадцатью пятью годами спустя де Токвиль, вхожий в дома к федералистам, отмечал, что даже те, кто пострадал от этой победы, на публике достаточно часто расхваливали «доброту республиканского правительства и преимущества демократических форм правления»[325]. Создатели конституции при всей своей мудрости не смогли увидеть, что избиратели вряд ли будут долго терпеть откровенно недемократическую конституцию. Самоуверенное отрицание народного правления должно было послужить удобной мишенью для человека вроде Джефферсона, не намного более готового, чем Гамильтон, отдать правление в руки «грубой» воли народа[326]. Лидеры федералистов придерживались определенных убеждений, которые высказывали открыто и прямолинейно. Их официальные высказывания практически совпадали с их частными мнениями.
Сознание Джефферсона было достаточно противоречиво, и виной тому не недостатки его восприятия, как считали Гамильтон и биографы Джефферсона, а его вера и в возможность союза, и в стихийную демократию, а эти два понятия политическая наука того времени совместить не могла. Джефферсон путался в мыслях и делах потому, что руководствовался новой грандиозной идеей, которая до этого детально не разрабатывалась. И хотя никто ясно не представлял, что такое народный суверенитет (popular sovereignty), это понятие звучало столь многообещающе с точки зрения улучшения жизни людей, что никакая конституция не могла открыто его отвергнуть. Поэтому открытое отрицание суверенитета изгонялось из сознания, а документ, который на первый взгляд казался истинным примером ограниченной конституционной демократии, обсуждался и мыслился как инструмент прямого народного правления. На самом деле Джефферсон, в конце концов, решил, что федералисты извратили конституцию, а потому они больше не являются ее авторами. Поэтому конституция была «мысленно» переписана. Отчасти благодаря реальным поправкам, как, например, в пункте о коллегии выборщиков, а главным образом, благодаря использованию другой системы стереотипов ее фасад больше не выглядел олигархическим.
Американский народ начал верить, что его конституция является инструментом демократии, и начал к ней соответственно относиться. Однако это не что иное, как консервативная фикция, появившаяся благодаря победе Томаса Джефферсона.
Можно предположить, что если бы конституцию трактовали так, как трактовали ее авторы, то она была бы категорически отвергнута, потому что ее дух не совместим с идеалами демократии. Джефферсон разрешил этот парадокс, научив американский народ читать конституцию как выражение демократии. Сам он на этом и остановился. Но за двадцать пять лет, или около того, социальные условия изменились столь радикально, что Эндрю Джэксон[327] осуществил политическую революцию, почву для которой подготовил Джефферсон[328].
4
Политическим ядром этой революции был вопрос о патронате. Для тех, кто стоял у истоков управления, государственная должность (public office) была разновидностью собственности, которая должна была оставаться в полной неприкосновенности, и они, разумеется, надеялись, что должности останутся в руках представителей их социального класса. Но одним из основных принципов демократической теории было учение о доступности участия в государственном управлении для каждого гражданина (the doctrine of the omnicompetent citizen). Поэтому, когда люди начали рассматривать демократическую теорию как инструмент демократии, сохранение государственных постов за одними и теми же лицами неизбежно стало казаться недемократичным. Естественные амбиции людей в этом вопросе совпали с сильным нравственным импульсом эпохи. Джефферсон популяризировал эту идею, но при этом не занимался насильственным внедрением ее на практике. И поэтому снятие с должности по партийному признаку при президентах из Виргинии было мало распространено. Именно Джэксон ввел практику раздачи государственных должностей сторонникам победившей партии.
Каким бы странным нам это сегодня ни казалось, но принцип ротации лиц, занимающих определенную должность, с короткими сроками полномочий рассматривался в то время как великая реформа. Он не только подтверждал достоинство рядового гражданина, рассматривая его как годного для любой государственной службы, он не только уничтожал монополию небольшого социального класса и открывал карьерные возможности для талантливых людей, но еще и «считался в течение многих веков превосходным средством против коррупции» и единственным способом предупреждения бюрократизации[329]. Практика быстрых изменений в общественном управлении была основана на применении к большой территории образа демократии, сформировавшегося в условиях небольшой деревни.
Естественно, что результаты использования этого принципа в условиях государства отличались от результатов, получаемых в условиях идеального сообщества, а ведь на этом и основывалась демократическая теория. На деле, результат оказался весьма неожиданным, поскольку сформировался новый правящий класс, занявший место смещенных федералистов. Совершенно неожиданно обычай раздавать посты сторонникам победившей партии сделал для широкого электората то, что финансовые меры Гамильтона — для высших классов. Мы обычно не осознаем, в какой мере стабильностью управления мы обязаны этому обычаю. А между тем, именно он оттолкнул прирожденных лидеров (natural leaders) от пристрастия к замкнутому сообществу, ослабил дух сугубо локального патриотизма и объединил людей для мирного сотрудничества. Объединил тех людей, которые, принадлежа к провинциальной элите и не понимая общественного интереса, могли бы разорвать государственный союз на части.
Но, разумеется, приверженцы демократической теории не предполагали, что она приведет к созданию нового правящего класса, и не смогли смириться с этой мыслью. Когда демократ хотел искоренить монополию на отдельные государственные службы, ввести ротацию и короткие сроки полномочий, ему представлялся маленький городок, где любой человек мог какое-то время заниматься общественными делами, а затем спокойно вернуться на свою ферму. Идея особого класса политиков категорически не нравилась демократу. Но он не мог достигнуть своего идеала, потому что демократическая теория отталкивалась от представлений об идеальной среде, а сам он жил в реальном окружении. Чем глубже он чувствовал нравственный импульс демократии, тем меньше он был готов понять глубокую истину утверждения Гамильтона, что отдаленные поселения, принимающие решения на расстоянии, находясь к тому же под впечатлением разных событий, не могут установить долговременное и единодушное сотрудничество. Ведь эта истина означает, что полная реализация демократии в общественных делах невозможна до тех пор, пока не будет радикально усовершенствовано искусство достижения общего согласия. И когда революция Джефферсона и Джэксона породила патронат, который, с одной стороны, дал двухпартийную систему вместо правления джентри, а с другой — обеспечил дисциплину в управлении, что позволило разрешить тупиковую ситуацию, возникшую из-за взаимозависимости и взаимоограничения между различными ветвями власти, новое сменило старое вполне незаметно.
Таким образом, ротация кадров может показаться показной теорией, тогда как на практике государственные должности перетасовываются между людьми одного круга. Определенная должность может не быть монополизированной навсегда, но профессиональный политик оставался в политике навсегда. Управление, как сказал однажды президент Хардинг[330], — простая вещь, но победа на выборах — это утонченное действо (performance). Заработная плата государственного служащего может быть подчеркнуто скромной, как сшитый из домотканой материи костюм Джефферсона, но затраты партийной организации и плоды победы будут впечатляющими. Стереотип демократии контролировал видимое правительство; поправки, исключения и адаптации американского народа к происходящему в реальной среде не должны были бросаться в глаза, даже если все о них знали. Только тексты законов, речи политиков, политические платформы и формальный механизм управления должны были соответствовать первоначальному образу демократии.
5
Если спросить демократа-философа, как замкнутые сообщества должны сотрудничать между собой, при том, что их общественные мнения столь сосредоточены на самих себе, то он указал бы на представительное правительство, воплощенное в конгрессе. И ничто не удивило бы его больше, чем открытие, насколько устойчивым является падение престижа представительного правительства на фоне роста власти президента.
Некоторые критики связали это с обычаем посылать в Вашингтон только местных знаменитостей. Народ почему-то решил, что если конгресс будет состоять из широко известных людей, то жизнь столицы будет более блестящей. Разумеется, так оно и было. Но было бы еще лучше, если бы выходящие в отставку президенты и члены кабинета следовали примеру Джона Куинси Адамса[331]. Но отсутствие знаменитостей не объясняет ситуацию в конгрессе, ведь его упадок начался тогда, когда он был самой важной ветвью власти. На самом деле, скорее всего, верно обратное — конгресс перестал привлекать выдающихся людей, поскольку больше не влиял на формирование национальной политики.
Основная причина недоверия, которая, на мой взгляд, является одинаковой для всего мира, заключена в том факте, что собрание представителей — это, в сущности, группа слепцов, затерянная в огромном незнакомом мире. С небольшими оговорками, единственным методом сбора информации, признаваемым в конституции или в теории представительного правительства, является обмен мнениями между округами (districts). Не существует систематического, адекватного и одобренного способа, с помощью которого конгресс может узнавать, что происходит в мире. Теоретически каждый лучший представитель округа несет наиболее здравые идеи своих избирателей в центр, и все эти истины, собранные вместе, составляют мудрость, нужную конгрессу. Конечно, нет необходимости ставить под вопрос мнения с мест и обмен этими мнениями. Конгресс обладает большой ценностью как базарная площадь нашего континентального государства. В гардеробах, вестибюлях гостиниц, меблированных комнатах на Капитолийском холме, во время чаепитий приближенных к конгрессу матрон и случайных появлений в гостиных космополитичного Вашингтона открываются новые перспективы и новые горизонты. Но даже если бы теоретические положения всегда применялись на практике и округа всегда посылали бы в столицу наимудрейших представителей, то сумма или механическое сочетание местных впечатлений не является достаточно широкой базой для внутренней политики и тем более не является базой для контроля за внешней политикой. Поскольку реальные следствия большинства законов являются весьма тонкими и скрытыми, то их нельзя понять путем фильтрации местного опыта через умы местных представителей. О них можно узнать только с помощью объективного анализа и подлежащего контролю информирования. И точно так же, как руководитель большой фабрики не может узнать об ее эффективности из разговоров с мастером, а должен изучить сведения о затратах и данные, которые он может получить только у бухгалтера, законодатель не может представить себе подлинную картину состояния дел в федеральном государстве просто путем складывания мозаики из картин местной жизни. Он должен познакомиться с местными картинами, но, если он обладает инструментом их проверки, одна картина будет казаться ему лучше другой.
Президент выступает помощником конгресса, сообщая о состоянии дел в государстве в целом. Он в состоянии это делать, потому что возглавляет обширное собрание разных государственных учреждений и их представителей, которые не только занимаются сбором информации, но и действуют. Но он сообщает конгрессу то, что считает нужным. Его нельзя оговаривать, и цензурный контроль над тем, что совместимо с государственным интересом, находится в его руках. Это исключительно одностороннее и сложное отношение, которое иногда достигает такого абсурда, что конгресс, получая доступ к какому-то важному документу, должен быть благодарен пронырливым чикагским газетчикам или преднамеренной болтливости какого-нибудь официального лица. Доступ законодателей к необходимым фактам столь плох, что им приходится полагаться либо на взятки, либо на легализованное злодейство, то есть расследование, осуществляемое конгрессом, когда конгрессмены, изголодавшиеся ввиду отсутствия законной пищи для ума, пускаются в дикую и опасную охоту на людей и не останавливаются перед каннибализмом.
Если не считать незначительных порций информации, которые дают такие расследования, а также случайных сообщений отделов исполнительной власти, объективных и необъективных данных, собранных частными лицами, публикаций в газетах, периодических изданиях, книг, читаемых конгрессменами, результатов новой и весьма замечательной практики экспертной оценки органов, подобных Комитету по межштатному транспорту и торговле, Федеральной торговой комиссии и Комиссии по тарифам, то создание мнения конгресса — это инцест. Отсюда следует, что или законопроекты национального характера подготавливаются несколькими информированными членами данной организации и проводятся с помощью узкопартийных сил, или что законопроект разбивается на множество местных пунктов, каждый из которых вводится в действие по причинам местного свойства. Тарифные сетки, портовые мастерские и склады, армейские посты, реки и гавани, почтовые отделения, федеральные здания, пенсии и правила патроната — все это подается замкнутым сообществам как ощутимые признаки преимуществ жизни в рамках государства. Живя в замкнутом мире, они могут наблюдать, как благодаря федеральным фондам растет ввысь белое мраморное здание, предназначенное для увеличения цены местной недвижимости, и используют местных подрядчиков с большей готовностью, чем они могут оценить совокупную стоимость «казенного пирога»[332]. Справедливо будет отметить, что если законодательное собрание состоит из большого числа людей, каждый из которых обладает практическим знанием только своего округа, то законы, которые касаются вопросов, выходящих за пределы этого округа, отвергаются или принимаются большинством конгрессменов без какого бы то ни было творческого участия. Они участвуют в создании только тех законов, которые можно понять как совокупность правил местного значения. Ведь законодательное собрание, не вооруженное эффективными средствами информирования и анализа, либо пребывает в области слепого полагания, либо предпринимает случайные попытки мятежа, либо занимается взаимным восхвалением. И именно взаимное восхваление делает правила приятными, потому что именно посредством взаимного восхваления конгрессмен доказывает своим более активным избирателям, что он блюдет их интересы исходя из того, как они сами эти интересы понимают.
При этом в сложившейся ситуации нельзя считать виноватым любого из конгрессменов, если тот не проявляет самодовольства. Даже самый умный и самый трудолюбивый член палаты представителей не может и мечтать о том, чтобы понять хотя бы часть законопроектов, по которым он голосует. Самое лучшее, что он может сделать, — это специально заняться несколькими законопроектами, но по поводу других ему придется положиться на мнение остальных. Я знавал нескольких конгрессменов во время их работы над какими-то законопроектами. Надо сказать, что так упорно они не занимались с тех самых времен, когда готовились к своим последним экзаменам, выпивая одну за другой чашки черного кофе, сидя с головой, обмотанной мокрым полотенцем, и проч. Им приходилось потом и кровью добывать информацию, проверяя и перепроверяя факты, которые для любого разумно организованного правительства были бы доступны в форме, необходимой для принятия решения. Даже тогда, когда им был действительно хорошо знаком предмет обсуждения, это не спасало их от забот. Дома их ждали критики законопроекта, торговый совет, объединенный профсоюз (central federated union) и женские клубы, которые тоже приложили к этому делу свои силы и готовились проанализировать деятельность конгрессмена с точки зрения местных интересов.
6
Если патронат привязывал политических вождей к национальному правительству, то бесконечное число местных субсидий и привилегий выполняло ту же функцию по отношению к замкнутым сообществам. Патронат и правительственные дотации сплачивают и стабилизируют тысячи частных мнений, претензии местного населения, амбиции отдельных граждан. Существует всего две альтернативы. Одна — это управление, построенное на терроре и послушании, другая — управление, построенное на столь высоко развитой системе информации, анализа и самосознания, что «знание о ситуации в стране в целом и принципах государственного управления» доступно всем. Автократическая система находится в состоянии упадка, добровольческая система находится на зачаточной стадии развития. Таким образом, просчитывая перспективы объединения разных групп людей, таких, как Лига Наций, отдел по управлению промышленностью или федеральный союз штатов, следует исходить из степени общности материала для коллективного сознания. Именно это определяет, в какой мере кооперация будет зависеть от силы или от более мягкой альтернативы силе, то есть от патроната либо привилегий. Секрет великих государственных строителей, подобных Александру Гамильтону, в том, что они знают, как просчитать эти принципы.
Глава 19 Старый образ в новой форме: гильдейский социализм
1
Когда стычки между замкнутыми группами становилось невозможно терпеть, реформаторам прошлого приходилось выбирать одну из двух альтернатив. Они могли выбрать римский путь и навязать воюющим племенам римский мир[333]. Или избрать путь изоляции, автономии и экономической замкнутости. И практически всегда они выбирали не тот путь, по которому шли раньше. Если изначально государство придерживалось мертвящей монотонности империи, то теперь реформаторы более всего пеклись о простой свободе собственного сообщества. Но если они видели, что эта простая свобода растрачивалась в мелких склоках, то начинали мечтать о могущественном государстве, чьи законы действуют на обширной территории.
Какой бы выбор ни делали реформаторы, они сталкивались, в сущности, с одной и той же проблемой. Если решения принимались децентрализованно, то вскоре тонули в хаосе местных мнений. Если решения были централизованными, то политика государства основывалась на мнении узкого круга лиц, принадлежавших к избранному социальному слою столицы. В любом случае, требовалась сила, чтобы защитить один местный порядок от другого, ограничить местные сообщества с помощью закона и порядка, оказать сопротивление центральному правительству или защитить все общество, централизованное или децентрализованное, от внешних варваров.
Современная демократия и промышленная система родились как противодействие монархии и режиму жесткого экономического управления. В промышленности оно приняло форму полного отступления от принципа управления, которое выразилось в так называемом индивидуализме laissez-faire. Каждое экономическое решение должно было приниматься человеком, который имел право на данную собственность. Поскольку практически все недвижимое и движимое имущество имело собственников, то для всякой собственности находился тот, кто ею управлял. Это был, таким образом, множественный суверенитет в полном смысле слова.
Экономическое управление велось в соответствии с экономической философией индивида, хотя предполагалось, что его будут контролировать неизменные законы политической экономии, которые в конце концов приведут ко всеобщей гармонии. Оно породило много прекрасного, но наряду с этим прекрасным — и много отвратительного. Так, оно породило трест (trust), который установил своего рода римский мир в мире промышленности и грабительский империализм — за его пределами. Люди обратились за помощью к законодательной власти. Они воззвали к представительной власти, основанной на образе местного фермера, с целью обуздать практически не поддающиеся контролю корпорации. Рабочий класс обратился к трудовым организациям. За этим последовал период усилившейся централизации, напоминающий своеобразную гонку вооружений. Тресты объединились, цеховые профсоюзы стали федеральными и слились в рабочее движение, политическая система усиливалась в Вашингтоне и слабела в отдельных штатах, по мере того как реформаторы старались укрепить свою власть перед лицом большого бизнеса.
В этот период практически все школы социалистической мысли, начиная с левых марксистов и кончая «новыми националистами», объединившимися вокруг Теодора Рузвельта, рассматривали централизацию как первую ступень эволюции, которая должна привести к поглощению всех полунезависимых монстров бизнеса политическим государством. Однако эволюционный процесс не пошел в этом направлении, если не считать нескольких месяцев в период войны. Этого оказалось достаточно, и начался откат от всепоглощающего государства в пользу нескольких форм плюрализма. Но на этот раз маятник качнулся не в сторону атомарного индивидуализма эконома Адама Смита и фермера Джефферсона, а в сторону молекулярного индивидуализма добровольно объединившихся групп (voluntary groups).
Один из интересных моментов, связанных со всеми этими колебаниями теории, заключается в том, что каждый раз дается обещание построить мир, в котором, для того чтобы выжить, никому не нужно будет следовать учению Макиавелли. Любой новый правопорядок непременно устанавливается насильственными методами, использует насилие для удержания господства и ниспровергается также с применением силы. Тем не менее, приверженцы большинства социальных теорий отвергают насилие, физическую силу или особое положение, патронат или привилегию как составляющие своего идеала. Индивидуалист говорит, что внутренний и внешний мир принесет просвещенный эгоизм. Социалист уверен, что побудительные причины агрессии должны со временем исчезнуть. Плюралист нового толка также надеется на это[334]. Насилие считается иррациональным практически во всех социальных теориях, за исключением теории Макиавелли. Соблазн проигнорировать насилие потому, что оно абсурдно, невыразимо и не поддается управлению, становится непреодолимым для всякого человека, который пытается рационализировать человеческую жизнь.
2
Чтобы не признавать роль силы, умным людям приходится выбирать сложные пути. Это хорошо видно на примере книги Дж. Коула о гильдейском социализме[335]. Современное государство, утверждает он, является, прежде всего, «орудием насилия»; в гильдейском социалистическом обществе не будет суверенной власти (sovereign power), хотя в нем будет некий координирующий орган. Он называет этот орган коммуной (commune).
Далее он перечисляет полномочия коммуны, которая, по его мнению, не является орудием насилия[336]. Коммуна разрешает споры по поводу цен. Иногда она назначает цены, размещает избытки или, наоборот, равномерно распределяет потери. Она распределяет природные ресурсы и контролирует вопрос кредита, а также «распределяет рабочую силу коммуны». Ратифицирует бюджет гильдий и гражданских служб и облегчает тяжесть налогов. «Все вопросы, связанные с доходами», подпадают под ее юрисдикцию. Коммуна «ассигнует» (allocates) часть доходов членам коммуны, не участвующим в процессе производства. Она является конечной инстанцией во всех вопросах политики и юрисдикции, возникающих в отношениях между гильдиями. Коммуна принимает конституционные законопроекты, определяющие функции соответствующих органов, назначает судей. Уполномочивает гильдии осуществлять принуждение и ратифицирует их уставы, если они предполагают принуждение. Объявляет войну и заключает мир. Контролирует вооруженные силы. Коммуна является высшим представителем государства за границей и регулирует вопросы границ внутри государства. Она формирует новые функциональные органы или распределяет новые функции среди старых. Она управляет полицией. Она издает законы, если они необходимы для регулирования поведения людей и личной собственности.
Эти властные полномочия осуществляются не только одной коммуной, но федеральной структурой местных и региональных коммун, которые возглавляются Национальной коммуной (National commune). Разумеется, Коул волен настаивать, что Национальная коммуна не тождественна суверенному государству, но я не могу вспомнить ни об одной функции современных государств, основанной на насилии, которую он забыл упомянуть.
Однако он говорит нам, что гильдейское общество будет свободно от насилия и принуждения — «мы хотим построить новое общество, которое будет восприниматься не в духе насилия, но в духе свободного служения»[337]. Всякий, кто разделяет эту надежду, подобно большинству мужчин и женщин, будет стремиться понять, каким образом гильдейский социализм собирается осуществить собственный проект сведения принуждения к минимуму, хотя сторонники гильдейского социализма уже сегодня заложили в проект коммун самое широкое применение принудительной власти. Совершенно очевидно, что новое общество нельзя образовать путем всеобщего согласия. Коул слишком честен, чтобы скрывать, что для перехода к новому типу общества требуется применение силы[338]. И поскольку очевидно, что он не может предсказать, насколько серьезной будет гражданская война, которая начнется в процессе этого перехода, то совершенно четко говорит о том, что в течение определенного времени потребуется прямое вмешательство профсоюзов.
3
Но давайте отвлечемся от проблем перехода и размышлений о том, как они скажутся на деятельности людей в будущем, когда они уже прорвутся в землю обетованную, и попробуем представить себе уже сложившееся гильдейское общество. Что помогает ему существовать как обществу, лишенному насилия и принуждения?
Коул предлагает два ответа на этот вопрос. Один из них — это ответ в духе ортодоксального марксизма, что упразднение капиталистической собственности устранит само стремление к агрессии. Однако похоже, что он не очень в это верит, потому что в противном случае он, как и всякий марксист, не заботился бы о том, как рабочий класс будет управлять государством, когда придет к власти. Если бы его диагноз был верен, то марксисты были бы правы: если бы заболевание заключалось в классе капиталистов, и только в нем, то спасение автоматически явилось бы результатом его исчезновения. Но Коул чрезвычайно озабочен тем, кто будет управлять обществом после революции: государственный коммунизм, гильдии или кооперативы, демократический парламент или функциональное представительство (functional representation). На самом деле, гильдейский социализм выдвигает новую теорию представительного правительства (representative government).
Сторонники гильдейского управления не ожидают, что исчезновение права на капиталистическую собственность приведет к чуду. Они ожидают — и совершенно правильно ожидают, — что если бы было установлено равное право на прибыль (equality of income), то социальные отношения изменились бы коренным образом. Но их взгляды в одном отношении отличаются от взглядов ортодоксальных русских коммунистов: коммунисты предлагают установить равенство с помощью диктатуры пролетариата, считая, что, как только люди будут уравнены как по доходам, так и по участию в труде на благо общества (service), у них не будет поводов к агрессивному поведению. Сторонники гильдейского социализма также предлагают установить равенство путем применения силы, но они достаточно проницательны, чтобы видеть, что для социального равновесия необходимы институты, которые бы его поддерживали. Таким образом, гильдейцы верят в то, что они считают новой теорией демократии.
Их цель, согласно Коулу, состоит в том, чтобы «наладить механизм и приспособить его, насколько это возможно, к выражению общественной воли людей»[339]. Этот механизм должен предоставлять возможность для выражения этой воли в самоуправлении «в каждом социальном действии и в каждой форме социального действия». За данными словами кроется подлинно демократический импульс, стремление поднять человеческое достоинство, которое, согласно традиционному допущению, унижается, если воля каждого человека не учитывается при управлении всеми касающимися его процессами. Следовательно, гильдеец, подобно первому демократу, ищет вокруг себя такое окружение, в котором может быть осуществлен его идеал самоуправления. Со времен Руссо и Джефферсона прошло более ста лет, и интересы людей переключились с деревенской жизни на городскую. Новый демократ уже не может искать образ демократии в идеализированной сельской местности или небольшом городке. Он обращается к рабочим цехам. «Духу социальной связи должно быть предоставлено свободное пространство там, где он легче всего может быть выражен. И очевидно, что это фабрика, где люди привыкли работать вместе. Фабрика — это естественная и фундаментальная структурная единица промышленной демократии. Отсюда следует, что, во-первых, фабрика должна быть, насколько это возможно, свободной в управлении своими делами и, во-вторых, демократическая единица фабрики должна составлять структурную основу демократии гильдии в целом, а органы управления гильдией и государственное правительство должны быть основаны главным образом на представительстве фабрики (factory representation)»[340].
«Фабрика» у Коула — очень растяжимое понятие. Он хочет, чтобы его читатели подразумевали под ним шахты, верфи, доки, железнодорожные станции и любое место, которое представляет собой «естественный центр производства»[341]. Однако «фабрика» в этом смысле существенно отличается от «промышленности». Фабрика, в понимании Коула, — это место, где люди действительно вступают в личный контакт. Это среда, достаточно тесная, чтобы все рабочие знали друг друга лично. «Эта демократия, для того чтобы быть реальной, должна дойти до каждого отдельного члена гильдии, и она должна осуществляться непосредственно каждым членом гильдии»[342]. Это важно потому, что Коул, подобно Джефферсону, ищет естественную структурную единицу управления. Единственная естественная структурная единица — это абсолютно знакомая среда. Однако завод, система железнодорожного сообщения, угледобывающее предприятие не являются подобными структурными единицами. Поэтому, вероятно, Коул имеет в виду либо совсем маленькую фабрику, либо отдельный цех. Только на таких производствах у людей складывается «привычка и традиция совместной работы». Остальная же часть завода или данной отрасли промышленности — это среда, относительно которой нужно строить предположения.
4
Любой может видеть и почти любой согласится, что самоуправление, относящееся к сугубо внутренним делам цеха, — это управление делами, которые можно охватить одним взглядом[343]. Разногласия могут возникнуть в вопросе о том, что составляет внутренние дела цеха. Очевидно, что самые важные интересы, касающиеся заработной платы, качества выпускаемой продукции, покупки материалов, маркетинга продукции, стратегического планирования работ ни в коем случае не являются сугубо внутренними делами. Демократия цеха обладает свободой, подверженной колоссальным внешним ограничениям. Она в определенной мере распространяется на организацию труда в цехе; в ее компетенцию может входить характер и темперамент работников; она может осуществлять мелкие административные меры, направленные на установление и поддержание справедливости; она может действовать как суд первой инстанции в отдельных более широких спорах. Кроме того, демократия цеха может вступать во взаимодействие с другими цехами на правах отдельной структурной единицы и, возможно, с предприятием в целом. Но ее изоляция невозможна. Единица промышленной демократии глубоко погружена во внешние дела. И именно управление этими внешними отношениями служит проверкой концепции гильдейского социализма.
Подобное управление должно осуществляться репрезентативным правительством, построенным по федеративному принципу в виде цепочки: цех — завод, завод — отрасль промышленности, отрасль промышленности — государство. Эта цепочка прерывается региональными объединениями представителей. Но вся эта структура начинается с цеха, которому приписываются все ее характерные добродетели. Представители, выбирающие представителей, которые, в свою очередь, выбирают представителей, которые, в конечном итоге, и занимаются «координацией» и «контролем» цехов, выбираются, как утверждает Коул, подлинно демократическим путем. Поскольку они происходят из структурных единиц, действующих на основе самоуправления, то весь федеральный организм будет проникнут духом и сущностью самоуправления. Представители будут стремиться осуществлять «действительную волю работников так, как они понимают ее сами»[344], то есть так, как ее понимают отдельные работники цехов.
Управление, построенное на этом принципе, как свидетельствует исторический опыт, может превратиться либо во взаимное восхваление политиков, либо в хаос воюющих между собой цехов. Ведь если рабочий цеха имеет реальное мнение о вопросах, относящихся исключительно к работе цеха, то его «волеизъявление» относительно отношений цеха к заводу в целом, данной отрасли промышленности и государству подвержено всяческим ограничениям, обусловленным объемом доступной ему информации, стереотипами и личными интересами, которые окружают любое другое замкнутое на себе мнение. Его опыт работы в цехе в лучшем случае помогает увидеть отдельные аспекты целого. К своему мнению относительно того, что должно быть сделано в цехе, он может прийти в результате непосредственного знания важных фактов. Мнение рабочего о том, что должно быть сделано в огромной сложной среде, находящейся за пределами видимости, с гораздо большей вероятностью будет неверным, чем верным, если оно представляет собой обобщение его опыта существования в отдельном цехе. Опыт должен показать представителям гильдейского общества, точно так же как он показал руководителям профсоюзов, что по значительному числу вопросов, которые они должны разрешить, у отдельных цехов не существует «действительного волеизъявления».
5
Тем не менее гильдейцы настаивают на том, что подобная критика слепа, поскольку не принимает во внимание великое политическое открытие. Вы можете быть совершенно правы, говорят они, думая, что представители цехов должны будут сформировать свое собственное мнение о вопросах, по которым у цехов нет своего мнения. Но вы можете просто впасть в древний парадокс: вы ищете человека, который представляет группу людей. Вы не можете его найти. Единственный кандидат на эту роль — человек, который выполняет «какую-то определенную функцию»[345]. Таким образом, каждый человек должен помочь выбрать столько представителей, сколько существует «отдельных важных групп функций, которые должны выполняться».
Вообразите, что представители выступают не от имени людей, работающих в данном цехе, а выполняют функции, в которых люди заинтересованы. Они, представьте себе, ведут себя предательски, если не выполняют волю группы, понимают свою функцию иначе, чем ее понимает группа, от имени которой они выступают[346]. Эти функциональные представители время от времени встречаются друг с другом. Их задача состоит в том, чтобы координировать и регулировать. На основании каких норм каждый из них оценивает предложения другого, при том, что существует конфликт мнений между цехами? Поскольку если бы такого конфликта не было, то не было бы необходимости координировать и регулировать.
Далее. Принято считать — особое достоинство функциональной демократии состоит в том, что люди голосуют искренне и в соответствии со своими собственными интересами, которые, как считается, они познают исходя из их повседневного опыта. Они могут делать это в рамках самодостаточной замкнутой группы. Но во внешних отношениях группа как целое или ее представитель имеют дело с вопросами, выходящими за пределы непосредственного опыта. Данный цех не приходит к представлениям о ситуации в целом стихийно.
Следовательно, общественные мнения в цехе относительно прав и обязанностей в данной отрасли промышленности и в обществе — это вопрос образования и пропаганды, а не автоматического продукта самосознания работников цеха. Независимо от того, выбирают ли гильдейцы делегата или представителя, они не могут избежать проблемы ортодоксального демократа. Группа в целом или выбранный ею представитель должны уметь выйти за пределы своего непосредственного опыта. Они должны голосовать по вопросам, поставленным представителями других цехов, касающимся проблем, выходящих за границы конкретной отрасли промышленности. Главный интерес цеха не покрывает даже функции отрасли в целом. Функция отрасли промышленности, округа, государства — это понятие, а не опыт. Оно должно быть изобретено. Его следует нарисовать в воображении, ему следует научить, в него следует поверить. И даже если вы определите эту функцию максимально аккуратно, как только вы допустите, что представление каждого цеха об этой функции не обязательно совпадет с мнением о ней других цехов, то вы автоматически говорите, что выразитель одного интереса обеспокоен предложениями, поступающими от тех, кто представляет другие интересы. Вы говорите, что он должен понимать общий интерес. А голосуя за него, вы выбираете человека, который не просто представляет вашу точку зрения на вашу функцию, то есть то, что вам непосредственно известно, а человека, который представляет ваши взгляды относительно понятий других людей об этой функции. Вы голосуете так же неопределенно, как голосует ортодоксальный демократ.
6
Гильдейцы в собственном сознании разрешили вопрос о том, как понять общий интерес — путем игры со словом «функция». Они рисуют себе общество, в котором основная работа всего мира была аналитически разложена на функции, а эти функции в свою очередь гармонично синтезированы в единое целое[347]. Они исходят из предпосылки существования обязательного соглашения как о намерениях общества в целом, так и о роли каждой организованной группы в выполнении этих намерений. Таким образом, под влиянием добрых чувств они выбрали себе название, которое обязано своим происхождением католическому феодальному обществу. Но они должны помнить, что схема функции, которой руководствовались мудрецы того времени, была разработана не смертными. Остается неясным, как, по мнению гильдейцев, эта схема будет разработана и принята в современном мире. В одних случаях они, видимо, доказывают, что эта схема разовьется из организации профсоюзов, а в других — что структурообразующую (constitutional) функцию группы определят коммуны. Однако с практической точки зрения чрезвычайно важно, верят ли они в то, что группы определяют свои собственные функции, или нет. В любом случае, Коул допускает, что общество может существовать на основе социального контракта, основанного на принятом представлении об «отдельных важных группах функций». Как распознаются эти отдельные важные функции? Насколько я понимаю, Коул считает, что функция — это то, в чем заинтересована группа людей. «Сущность функциональной демократии состоит в том, что человека следует учитывать (count over) столько раз, сколько существует функций, в которых он заинтересован»[348]. Однако существует по крайней мере два значения слова «заинтересован». Оно может использоваться тогда, когда некто непосредственно вовлечен в дело и когда внимание человека отдано какому-то делу. Например, Джона Смита может страшно интересовать бракоразводное дело Стильмана. Он может следить за каждым его поворотом по всем бульварным газетенкам. Тогда как сам молодой Гай Стильман может совершенно не волноваться по этому поводу, несмотря на то, что от этого процесса зависит его судьба. Джона Смита интересует судебное дело, которое не влияет на его «интересы», а Гая совсем не интересует дело, ход которого может определить всю его жизнь. Боюсь, что Коул доверяет Джону Смиту. На очень «глупое возражение», что голосовать на основании функций значит голосовать очень часто, он отвечает так: «Если человек недостаточно заинтересован, чтобы голосовать, и его нельзя достаточно заинтересовать, чтобы он голосовал по, скажем, дюжине различных вопросов, он уклоняется от своего права голосовать, и результат оказывается не менее демократическим, чем если бы он голосовал слепо и без всякого интереса».
Коул считает, что необразованный избиратель «уклоняется от своего права голосовать». Отсюда следует, что голоса образованных показывают их интерес, а их интерес определяет функцию[349]. «Таким образом, Браун, Джоунс и Робинсон должны иметь не один голос каждый, а столько разных функциональных голосов, сколько имеется важных вопросов, требующих совместных действий, в которых они заинтересованы»[350]. Я весьма сомневаюсь, что Коул считает, будто Браун, Джоунс и Робинсон должны оценивать при каждых выборах, в чем они заинтересованы, или некто неизвестный определяет функции, в которых они должны быть заинтересованы. Если бы меня попросили оценить соображения Коула, то я бы сказал, что он сглаживает проблемы, делая исключительно странное допущение, будто необученный избиратель уклоняется от голосования. И на этом основании он делает вывод: независимо от того, организовано ли функциональное голосование вышестоящими или нижестоящими на основе принципа, что человек может голосовать тогда, когда он заинтересован в голосовании, только обученный избиратель будет голосовать в любом случае, а потому данный институт жизнеспособен.
Но существует два типа обученных избирателей. Один человек не знает и знает, что он не знает. И он обычно является просвещенной личностью. Это тот, кто уклоняется от голосования. Но есть и такой, который не обучен и не знает этого, или его это не заботит. И его всегда можно привлечь в избирательный пункт, если работает партийная машина. Его голос — это основа для действия машины. А поскольку коммуны гильдейского социализма обладают большой властью в области налогообложения, заработной платы, цен, кредитов и природных ресурсов, то преждевременно допускать, что за выборы не будет столь страстной борьбы, как за свое собственное дело.
Таким образом, то, как люди проявляют свой интерес, не ограничит функций общества. Существует еще два способа, какими может быть определена функция. Она может быть определена с помощью профсоюзов, поднявшихся на битву, в результате которой возник гильдейский социализм. Такая битва сплотит группы людей в некие функциональные отношения, а эти группы затем станут воплощением интересов гильдейского социалистического общества. Некоторые из них, подобно шахтерам и железнодорожникам, будут очень сильны и, возможно, глубоко привязаны к представлению о своей функции, которую усвоили в битве с капитализмом. Вполне вероятно, что некоторые профсоюзы, занимающие выгодное положение, в условиях социалистического государства станут центром социальных связей и управления. Но гильдейское общество неизбежно будет воспринимать их как особую проблему, поскольку прямые действия обнаружат их стратегическую силу, и, по крайней мере некоторые, профсоюзные лидеры не будут готовы сложить свою власть на алтарь свободы. Для того чтобы «координировать» их, гильдейское общество должно будет собраться с силами, и, я думаю, радикалы при гильдейском социализме будут добиваться создания достаточно сильных коммун, способных определить функции гильдий.
Но если вы хотите, чтобы функции определяло правительство или коммуна, то предпосылка данной теории исчезает. Предполагалось, что схема функций очевидна и замкнутые на себе цехи добровольно установят связь с обществом. Если в голове каждого избирателя не существует сложившейся схемы функций, то у гильдейского социализма не больше возможностей превращения замкнутого на себе мнения в общественное суждение, чем у ортодоксальной демократии. И разумеется, такой сложившейся схемы не может существовать, поскольку, даже если Коул и его единомышленники придумали хорошую схему, цеховые демократии, из которых исходит вся власть, стали бы оценивать эту схему в действии согласно тому, что они о ней узнали и что они могут представить. Гильдии будут смотреть на ту же самую схему иначе. Предполагается, что схема служит скелетом, скрепляющим гильдейское общество. Однако вместо этого основным делом политических деятелей при гильдейском социализме, как и в любом другом обществе, станет попытка определить, какой должна быть эта схема. Если бы мы смогли признать правильность схемы функций у Коула, мы могли бы признать его правоту почти во всем. К сожалению, он ввел в свою предпосылку то, что, с его точки зрения, должно следовать из гильдейского социализма[351].
Глава 20 Новый образ
Урок, который мы извлекли выше, мне кажется, достаточно ясен. Когда отсутствуют институты и образование, с помощью которых информация о среде доносится до людей столь успешно, что реалии общественной жизни могут быть сопоставлены с замкнутым на себе мнением отдельных групп, общие интересы полностью ускользают от общественного мнения и могут управляться только специальным классом, личные интересы которого выходят за пределы местного сообщества. Этот класс не несет ответственности, поскольку действует на основе информации, не являющейся всеобщим достоянием, в ситуациях, которые общество в целом не понимает, и может быть привлечен к ответственности только на основе свершившегося факта.
Демократическая теория, будучи не способной увидеть, что замкнутые на себе мнения не могут обеспечить хорошее управление, вовлечена в постоянный конфликт между теорией и практикой. Согласно этой теории, достоинство человека требует того, чтобы его воля, как говорит Коул, выражалась в «любой и каждой форме социального действия». Предполагается, что выражение воли — это страстное желание людей, поскольку считается, что они от природы обладают инстинктом управления. Но, как показывает опыт, самоопределение является лишь одним из многих интересов человеческой личности. Желание быть хозяином своей собственной судьбы — сильное желание, но оно должно быть согласовано с другими сильными желаниями, такими, как желание хорошей жизни, мира, освобождения от жизненных тягот. В исходные посылки демократической теории была заложена идея о том, что выражение воли каждого человека должно стихийно удовлетворять не только его желание самовыражения, но и его желание хорошей жизни, потому что инстинкт выражать свое Я в хорошей жизни является врожденным.
Таким образом, акцент всегда делался на механизме выражения воли. Демократическое Эльдорадо представлялось некоей идеальной средой — совершенной системой голосования и представительства, в которой врожденная добрая воля и инстинктивная способность к государственной деятельности каждого человека могли претвориться в действие. На ограниченной территории и в течение коротких промежутков времени среда всегда была столь благоприятной, то есть столь изолированной и столь богатой возможностями, что эта теория достаточно хорошо работала и подтверждала представление людей о том, что она верна для всех времен и народов. Затем, когда пришел конец изоляции, структура общества усложнилась, а людям пришлось приспосабливаться друг к другу, демократы начали совершенствовать процедуру голосования кандидатов от политических или административно-территориальных единиц, в надежде, как выразился Коул, «получить идеальный механизм и максимально приспособить его к общественной воле людей». Но пока теоретик демократии занимался поисками, он отдалялся от действительных человеческих интересов. Он был поглощен одним интересом: самоуправлением. Человечество же интересовалось огромным количеством вещей: порядком, правами, процветанием, звуком и изображением. Оно стремилось разными способами избежать скуки. Поскольку стихийная демократия не удовлетворяет других интересов людей, основной их массе большую часть времени она кажется пустым делом. А так как искусство самоуправления не является врожденным инстинктом, то люди и не стремятся к самоуправлению как к таковому. Они стремятся к самоуправлению ради результатов, к которым оно ведет. Именно поэтому импульс самоуправления всегда бывает наиболее сильным, если он выливается в протест против плохих условий существования.
Ошибкой демократии явилась ее сосредоточенность на истоках управления, а не на его процессе и результатах. Демократ всегда исходил из предпосылки, что если политическая власть будет достигнута правильным путем, то она принесет пользу. Он был целиком сосредоточен на источнике власти, поскольку был загипнотизирован верой в то, что самое главное — это выражать волю народа, во-первых, потому, что выражение воли человека составляет наивысший его интерес, и, во-вторых, потому, что эта воля является изначально благой. Но никакие попытки регулировать течение реки у ее истоков не приведут к полному регулированию водного потока. И пока демократы были поглощены поисками хорошего механизма создания социальной власти, то есть хорошего механизма голосования и обеспечения представительства, они игнорировали практически все другие интересы людей. Ведь независимо от того, каков источник власти, главным интересом является то, как эта власть осуществляется. Качество цивилизации определяется тем, приносит ли власть пользу. И эту пользу нельзя контролировать у ее истока.
При попытке контролировать управление исключительно в его истоках, вы неизбежно делаете все жизненно значимые решения невидимыми. Ведь поскольку не существует инстинкта, который автоматически подсказывает политические решения, ведущие к хорошей жизни, люди, фактически наделенные властью, не только не могут выражать волю людей (ведь по большинству вопросов такого волеизъявления не существует), но они проводят в жизнь свои властные полномочия, руководствуясь мнениями, скрытыми от электората.
Если вы убираете из философии демократии взятую в развернутом виде предпосылку о том, что управление является врожденным инстинктом человека и поэтому оно может быть основано на эгоцентричных мнениях, то что происходит с демократической верой в человеческое достоинство? Она обретает новую жизнь, связывая себя с личностью в целом, а не с одним ее узким аспектом. Ведь традиционный демократ рисковал достоинством человека, полагаясь на одно весьма сомнительное допущение: что он инстинктивно явит это достоинство в мудрых законах и хорошем управлении. Избиратели этого не делали, и поэтому демократ всегда казался твердолобым обывателям глуповатым малым. Но если вместо того чтобы ставить человеческое достоинство в зависимость от одного конкретного допущения о самоуправлении, вы настаиваете на том, что человеческое достоинство требует такого уровня жизни, при котором способности человека проявляются должным образом, то изменяется сама постановка проблемы. Тогда, оценивая управление, вы задаетесь вопросом: приводит ли оно к определенному уровню состояния здоровья населения, создает ли оно приличные жилищные условия, удовлетворяет ли оно материальные нужды, а также потребности в образовании, свободе, удовольствиях и красоте, или, принося в жертву все эти потребности, колеблется в тон замкнутым мнениям, клубящимся в сознании людей? В той мере, в какой эти критерии могут быть сделаны точными и объективными, политическое решение, неизбежно зависящее от сравнительно небольшой группы людей, реально ставится в зависимость от их интересов.
В обозримом будущем нельзя надеяться на то, что вся невидимая среда будет столь прозрачной для всех людей, что они стихийно придут к надежным общественным мнениям по поводу всех аспектов управления. И даже если бы была надежда на это, весьма сомнительно, станут ли многие из нас беспокоиться и тратить время на то, чтобы составить мнение о «каждой форме социального действия», которая влияет на нашу жизнь. Единственное, что представляется мне реальным, — это то, что любой из нас в своей области будет все чаще действовать, основываясь на реалистичной картине невидимого мира, и что у нас появится все больше и больше специалистов по созданию реальных картин этого мира. Вне достаточно узкой области нашего возможного внимания социальный контроль зависит от разработки стандартов уровня жизни и методов проверки действий должностных лиц и руководителей промышленности. Мы сами не можем побуждать чиновников к действиям или управлять ими, как это всегда воображал себе демократ-мистик. Но мы можем постоянно усиливать контроль над этими действиями, настаивая на том, что все они должны открыто и тщательно фиксироваться, а их результаты должны объективно измеряться. Вероятно, мне следовало бы сказать, что мы можем все больше и больше надеяться на то, что сможем на этом настаивать. Ведь выработка таких стандартов и методов проверки только началась.
Часть 7 ГАЗЕТЫ
Глава 21 Покупающая публика
1
Идея о том, что люди должны изучать мир для того, чтобы управлять им, играла очень незначительную роль в политической мысли. Она значила очень мало потому, что механизм сообщения информации в любой форме, полезной для правительства, на том этапе, когда были сформулированы предпосылки демократии, претерпел сравнительно немного изменений со времен Аристотеля.
Поэтому если бы спросили пионера демократии, откуда следует черпать информацию об основах человеческой воли, он был бы озадачен этим вопросом. Для него это звучало бы примерно так же, как если бы его спросили, откуда проистекает его жизнь или откуда взялась его душа. Воля народа, по мнению ранних демократов, существовала во все времена. А долг политической науки — работать над системой выборов и представительного правительства. И если они правильно разработаны и применены при правильных условиях, подобных условиям автономной деревни или цеха, то этот механизм каким-то образом может способствовать преодолению ограниченности внимания, которую отмечал Аристотель, и узости его области, из которой молчаливо исходило замкнутое сообщество. Мы показали выше, что даже сейчас социалисты-гильдейцы зациклены на представлении о том, что если будет найдена правильная единица голосования и представительства, то возможно достижение всеобщего благосостояния.
Убежденные в том, что мудрость уже дана, надо только найти ее, демократы относились к проблеме создания общественных мнений как к проблеме гражданских свобод[352]. «Кто знает хоть один случай, когда бы Истина была побеждена в свободной и открытой борьбе?»[353] Считая, что никто никогда не видел, чтобы Истина испытала поражение, должны ли мы в таком случае верить, что истина рождается в борьбе, подобно тому, как огонь рождается при трении? За этим классическим учением о свободе, которое американские демократы воплотили в Билле о правах, стоит, на самом деле, несколько различных теорий происхождения истины. Одна из них — это вера в соревнование между мнениями и в то, что самое верное из них победит, так как истина обладает какой-то особой силой. Это, вероятно, так и есть, если соревнование продолжается достаточно долго. Когда люди рассуждают подобным образом, то имеют в виду вердикт истории, а именно думают о преследовании еретиков при жизни и об их канонизации после смерти. Вопрос Мильтона также основан на убеждении, что способность распознавать истину присуща любому человеку и что истина, если ее распространить среди всех людей, будет ими признана. Он в не меньшей мере основан на опыте, который показал, что люди не могут открыть истину, если они могут ее обнародовать только под недремлющим оком ничего не смыслящего полицейского.
Невозможно переоценить практическую ценность гражданских свобод, а также важность их поддержания. Когда им грозит опасность, то и человеческий дух находится в опасности, а если их приходится урезать, скажем во время войны, то подавление мысли может обернуться риском для цивилизации. А в случае, когда те, кто нагнетал истерию во время войны и эксплуатировал необходимость урезания свобод, составляют группу, достаточно многочисленную, чтобы перенести в мирное общество запреты военного времени, это может привести к невозможности послевоенного восстановления страны. К счастью, люди в своей массе не могут слишком долго терпеть профессиональных инквизиторов, которые постепенно (под влиянием критики тех, кто не желает поддаваться запугиваниям) обнаруживают свою истинную сущность, оказываясь гнусными тварями, которые в девяти случаях из десяти не знают, о чем говорят[354].
Но, несмотря на свое принципиальное значение, гражданская свобода в этом смысле не гарантирует общественного мнения в современном мире. Ведь она всегда предполагает, что либо истина стихийна, либо средства обеспечения истины существуют тогда, когда отсутствует внешнее вмешательство. Но когда вы имеете дело с невидимой средой, то это допущение является ложным. Истина об отдаленных и сложных предметах не является самоочевидной, а механизм сбора информации технически сложен и дорогостоящ. Однако политическая наука, и в особенности демократическая политическая наука, до сих пор не освободилась от исходной посылки Аристотеля, а потому не может сформулировать свои допущения так, чтобы сделать для граждан современного государства невидимый мир видимым.
Эта традиция столь укоренилась, что вплоть до недавнего времени политическая наука преподавалась в колледжах таким образом, будто газет не существует. Я уже не говорю об учебных заведениях, где обучают журналистике, поскольку они представляют собой училища, которые готовят мужчин и женщин к профессиональной карьере. Я говорю о политической науке в изложении, адресованном будущим бизнесменам, юристам, должностным лицам и рядовым гражданам. Любопытный факт — в этой науке не находилось места изучению прессы и источников информации для народа. Для каждого, кто не погружен в рутинные интересы политической науки, практически необъяснимым является то, что ни один американский исследователь системы управления, ни один американский социолог до сих пор не написал книгу о сборе новостей. Встречаются случайные ссылки на прессу и утверждения о том, что она не является «свободной» и «правдивой» или что она должна быть таковой. Но больше я практически ничего не могу обнаружить. И это пренебрежение со стороны профессионалов один в один повторяется в общественных мнениях. Повсеместно признается, что пресса является основным средством контакта с невидимой средой. И практически везде считается, что пресса должна стихийно делать для нас то, что, согласно первичной концепции демократии, каждый из нас должен стихийно делать для самого себя: что каждый день или дважды в день она должна представлять нам подлинную картину всего интересующего нас внешнего мира.
2
Древнее и устойчивое убеждение, что истину не зарабатывают, а она является как дар и откровение, весьма явно проявляется в наших экономических предрассудках в том случае, когда мы выступаем как читатели газет. Мы ожидаем, что газета обеспечит нам истину, какой бы невыгодной она ни была. За этот тяжелый и обычно опасный труд, который мы считаем исключительно важным, мы вплоть до недавнего времени готовы были платить самой мелкой монетой, какую только чеканит монетный двор. Мы приучили себя покупать газету за два или три цента в будние дни, а в воскресенье, приобретая в качестве приложения иллюстрированную энциклопедию и водевиль, мы раскошеливаемся на пять или даже десять центов. Никому не приходит в голову, что за газеты надо платить. Все ожидают бьющих ключом источников истины, при этом не заключая никакого соглашения, юридического или морального, согласно которому они готовы были бы идти на риск, затраты или волнения. Человек платит номинальную цену, если газета его устраивает, а если он пожелает, то может начать покупать другую газету или вообще не тратить деньги на прессу. Кто-то довольно удачно выразился, сказав, что редактора газеты надо переизбирать каждый день.
Эти случайные и односторонние взаимоотношения между читателями и прессой являются аномалией нашей цивилизации. Аналогов этим отношениям не существует, поэтому трудно сравнивать прессу с любым другим бизнесом или институтом. Это не бизнес в чистом виде, отчасти потому, что произведенный продукт продается по заниженной цене, но главным образом потому, что сообщество применяет по отношению к прессе одни критерии нравственности, а по отношению к торговле и производству — другие. По отношению к газете применяются этические критерии, подобные тем, которые применяются к церкви или школе. Но если вы попытаетесь сравнить прессу с этими институтами, то у вас ничего не получится. На содержание бесплатных средних школ идут средства налогоплательщиков, частная школа существует либо за счет пожертвований, либо за счет платы за обучение. Церковь живет на субсидии и пожертвования. Нельзя сравнивать журналистику с правом, медициной или техникой, так как в каждой из этих областей деятельности потребитель сам оплачивает предоставляемые ему услуги. Понятие «свободная[355] пресса», если судить по отношению читателей, означает, что тираж газеты должен раздаваться бесплатно.
Тем не менее критики прессы практически озвучивают моральные нормы сообщества, провозглашая, что этот институт должен жить по тем же принципам, по каким, согласно их представлениям, должны жить школа, церковь и нейтральные профессиональные сообщества. Это лишний раз показывает анклавный характер демократии. Мы не ощущаем потребности в специально добытой информации. Информация должна поступать естественным путем, даром, и если она не изливается прямо из сердца гражданина, то она должна свободно и бесплатно изливаться со страниц газеты. Гражданин платит за телефон, железнодорожный билет, машину, развлечения. Но он не хочет открыто платить за новости.
Однако он как миленький заплатит за то, что про него кто-то прочитает в газетах. Он напрямую заплатит за свои объявления или рекламу. Он косвенно заплатит за чужие рекламные объявления, потому что эта плата, включенная в цену товаров, составляет часть невидимой ему среды, которую он не способен как следует понять. Если бы кто-то предложил заплатить за все мировые новости столько, сколько мы платим за хороший прохладительный напиток, то это предложение показалось бы возмутительным, хотя публика, безусловно, платит такую же, если не более высокую, цену, когда рассчитывается за рекламируемые товары. Публика платит за прессу, но только тогда, когда эта плата является скрытой.
3
Таким образом, средством для достижения цели является тираж. Он становится активом (asset) только тогда, когда его можно продать рекламодателю, который покупает его вместе с прибылью, получаемой посредством косвенного налогообложения читателя[356]. Рекламодатель выбирает объем тиража и пути его распространения в зависимости от того, что он должен продать. Тираж может отличаться своим «качеством» или «массовостью». В целом, не существует резкой разделительной линии между этими типами тиража, поскольку покупателями большинства товаров и услуг, которые продаются благодаря рекламе, не являются ни очень узкий класс богатых, ни беднейшие слои. Покупателями являются люди, имеющие достаточно средств, чтобы не ограничиваться самым необходимым. Так газета, которая приходит в дома вполне благополучных людей, приносит все больше и больше доходов рекламодателю. Она может попадать и в дома бедных, но, за исключением отдельных видов товаров, специалист по рекламе не сочтет эту часть тиража значительным активом, если только, как в случае с отдельными изданиями, принадлежащими Херсту[357], данная газета не издается поистине огромным тиражом.
Газета, которая раздражает тех, кто является адресатом рекламы, — плохой посредник для рекламодателя. А поскольку никто никогда не говорил, что реклама — это филантропия, рекламодатели покупают место в тех изданиях, которые, как им кажется, попадут к их будущим клиентам. Не нужно тратить много времени, беспокоясь о не освещенных в печати скандалах торговцев галантереей. Они в действительности ничего не значат, и инциденты подобного рода значительно менее распространены, чем предполагают многие критики свободной прессы. Реальная проблема состоит в том, что читатели газеты, не привыкшие к тому, чтобы платить за сбор новостей, становятся капиталом, только если их число выражается размерами тиража, который может быть продан производителям и торговцам. А важнее всего превратить в капитал тех, кто имеет больше всего денег и может тратить их на покупки. Такая пресса вынуждена уважать точку зрения покупающей публики. Именно для этой покупающей публики издаются газеты, поскольку без ее поддержки они нежизнеспособны. Газета может глумиться над рекламодателем, она может атаковать могущественных представителей банковской системы или городского транспорта, но если она оттолкнет от себя покупающую публику, то потеряет активы, необходимые для своего существования.
Джон Гивен, работавший в свое время в нью-йоркской газете «Ивнинг сан» (Evening Sun), в 1914 году сообщил, что примерно из 2300 ежедневных газет, выходивших в Соединенных Штатах, около 175 печатались в городах с населением более 100 000 жителей[358]. Эти газеты относятся к типу прессы, которая сообщает «общие новости». Это основные газеты, собирающие новости о крупных событиях, и даже те люди, которые не читают ни одну из упомянутых 175 газет, в конечном итоге в получении информации о внешнем мире зависят именно от них. Ведь они образуют большие пресс-ассоциации, которые сотрудничают друг с другом для обмена новостями. Таким образом, каждая из них является не только информатором для своих собственных читателей, но и местным репортером для газет, издаваемых в других городах. Сельская пресса и специализированная периодика, в общем и целом, заимствуют общенациональные новости из главных газет. Некоторые из этих газет значительно богаче, чем другие, так что получение международных новостей практически всей прессой в государстве зависит от сообщений пресс-ассоциаций и особых услуг нескольких ежедневных столичных газет.
Грубо говоря, экономическая поддержка сбора общих новостей заложена в цене, которая платится за рекламируемые товары жителями процветающих районов городов с населением в более чем сто тысяч жителей. Эта покупающая публика состоит из членов семей, доход которых зависит, в основном, от торговли, торгового посредничества, управления производством и банковским делом. Это именно те клиенты, благодаря которым окупаются расходы на рекламу. Они обладают концентрированной покупательной способностью, по объему, возможно, меньшей, чем совокупная покупательная способность фермеров и рабочих, но заключенной в радиусе распространения ежедневной газеты, в силу чего они являются наиболее быстро достигаемым активом.
4
Они претендуют на двойное внимание. Они не только лучшие клиенты рекламодателя, но некоторые из них и сами являются рекламодателями. Таким образом, впечатление, которое производят газеты на эту публику, имеет большое значение. К счастью, эта публика не является единодушной. Она может быть «капиталистически настроенной», но ее взгляды на природу капитализма и на то, как им следует управлять, могут быть различными. За исключением тех периодов, когда общество подвергается опасности, это заслуживающее уважения мнение существенно разделено и допускает значительные различия в политике. Эти различия были бы более значительными, если бы сами издатели не являлись членами этих городских сообществ и не смотрели на мир через призму представлений своих коллег и друзей.
Они занимаются рискованным (speculative) бизнесом[359], который зависит от общего состояния торговли и, в частности, от размеров тиража, которые основываются не на брачном контракте с читателем, а на свободной любви. Поэтому цель каждого издателя — превратить случайных покупателей, привлеченных к киоску сенсационными новостями, в преданную группу постоянных читателей. Газета, которая может реально зависеть от верности читателей, является столь независимой, сколь вообще может быть независимой газета в условиях экономики современной журналистики[360]. Группа читателей, сохраняющих верность данной газете несмотря ни на что, — это сила, намного превосходящая ту, которую может придать газете отдельный рекламодатель, и сила, достаточно мощная, чтобы разбить любой отряд рекламодателей. Следовательно, когда вы обнаруживаете газету, которая предает своих читателей ради рекламодателя, то можете быть уверены, что издатель искренне разделяет взгляды рекламодателя или думает (возможно, ошибочно), что не может рассчитывать на поддержку читателей, поскольку открыто сопротивляется их диктату. Это еще вопрос, станут ли читатели, которые отказываются платить наличными за новости, платить за них своей верностью.
Глава 22 Постоянный читатель
1
Верность покупающей публики данной газете ничем не обусловливается. Практически в любой другой сфере потенциальный клиент заключает соглашение, в котором оговариваются его самые мимолетные желания. По крайней мере, он платит за то, что получает. В издании периодики наиболее близким аналогом соглашению является оплаченная на определенный период подписка, и она, насколько я знаю, не является значительным фактором в экономике ежедневной газеты, выходящей в большом городе. Читатель является единственным судьей своей верности, и против него нельзя возбудить дело за нарушение обещания или отказ в поддержке.
Хотя все зависит от постоянства читателя, традиция донесения этого обстоятельства до его сознания полностью отсутствует. Постоянство читателя зависит от его самочувствия или привычек. А эти факторы, в свою очередь, зависят не столько от качества новостей, сколько от ряда непостижимых стихий, которые мы, находясь в случайных отношениях с прессой, обычно не стараемся понять и осознать. Самая важная из них — это склонность каждого из нас к суждению о газете (если мы вообще о ней судим) на основании трактовки новостей, к которым мы чувствуем себя причастными. Газета имеет дело с множеством событий за пределами нашего опыта. Но она также имеет дело и с теми событиями, которые находятся в пределах нашего опыта. И именно по тому, как она трактует последние, мы обычно решаем, нравится она нам или не нравится, доверять ей или отказываться от нее. Если в газете предлагается удовлетворительное освещение того, что, как нам кажется, мы знаем — нашей сферы бизнеса, нашей церкви, нашей партии, то совершенно очевидно, что газета неуязвима перед нашей резкой критикой. Неужели для человека, читающего газету за завтраком, есть лучший критерий ее оценки, чем то, что мнение газеты совпадает с его собственным? Большая часть людей полагает, что газета ответственна не столько перед обычными читателями, сколько перед теми, чей конкретный опыт она освещает.
Очень редко бывает так, что кто-либо, кроме заинтересованной в данном вопросе стороны, способен проверить точность сообщения. Если освещаются местные новости и если между отдельными изданиями существует конкуренция, то редактор знает, что человек, считающий, что данное в газете описание — нечестное или неточное, скорее всего, даст о себе знать. Но если новости не местные, то количество уточнений уменьшается с увеличением расстояния между местом публикации и местом, где произошло описанное событие. Только члены организаций, способных нанять специалистов по связям с общественностью, имеют возможность откорректировать неверное, с их точки зрения, отображение фактов в газете, издаваемой в другом городе.
Интересно отметить, что обычный читатель (general reader) газеты не имеет никаких юридических прав, если считает, что был введен в заблуждение новостями. Только потерпевшая ущерб сторона может подать в суд за клевету. При этом она должна доказать нанесение ей материального ущерба. Закон следует традиции, в соответствии с которой общие новости (general news) не должны волновать всех[361], за исключением тех случаев, когда ситуацию можно описать как нарушение морали или социального порядка.
Однако основная часть новостей, хотя она в целом и не проверяется нейтральным читателем, состоит из компонентов, относительно которых у многих читателей есть вполне определенные представления и предрассудки. Эти компоненты служат предметом суждения читателей. А те новости, к которым читатели не прилагают собственных критериев точности, оцениваются ими по другим критериям. Поскольку в этом случае читатели имеют дело с предметом, неотличимым для них от художественной литературы, то критерии истинности здесь неприменимы. Читатели не сосредоточиваются на таких новостях, если те соответствуют их стереотипам, и продолжают их читать, если они кажутся им интересными[362].
2
Существуют газеты, в том числе и в больших городах, издание которых основано на принципе, что читатели хотят читать о самих себе. Согласно этому принципу, если достаточное число людей достаточно часто видит в газете собственные имена, если они могут читать о свадьбах, похоронах, дружеских встречах, зарубежных поездках, профсоюзных заседаниях, школьных наградах, пятидесятилетних юбилеях, шестидесятилетних юбилеях, серебряных свадьбах, экскурсиях, на которых они присутствовали, то обеспечат газете достаточный тираж.
Классическая формула такой газеты содержится в письме, написанном Горацием Грили 3 апреля 1860 года «Другу Флетчеру», собравшемуся издавать местную газету[363].
Начиная дело, следует хорошо понять, что для обычного человека предметом глубочайшего интереса является он сам; затем идут его ближние. Азия и острова Тонго находятся очень далеко от вышеуказанных предметов… Организация новой церкви, появление новых членов в уже существующей общине, продажа фермы, постройка нового дома, запуск мельницы, открытие магазина, а также любой факт, интересный десятку семей в округе, — все это должно быть непременно, пусть и кратко, отражено на полосах вашей газеты. Если фермер срубил дерево, вырастил гигантскую свеклу, небывалый урожай пшеницы или кукурузы, расскажите об этом факте столь коротко и столь выразительно, сколь это возможно.
Функционировать в качестве «печатного дневника родного города», говоря словами Ли, должна в определенной мере каждая газета, независимо от того, где она выходит. А там, где крупнейшие газеты (general newspapers), распространяемые большими тиражами, не могут выполнять эту функцию, к примеру в больших городах, подобных Нью-Йорку, существуют маленькие газеты, издаваемые по модели Грили, для отдельных районов города. В таких районах Нью-Йорка, как Манхэттен и Бронкс, существует, вероятно, в два раза больше местных ежедневных, чем крупнейших, газет[364]. И они дополняются всякого рода специализированными публикациями, рассчитанными на людей определенных профессий, религий, национальностей.
Эти «дневники» печатаются для тех, кто считает собственную жизнь интересной. Но существует также огромное число людей, которые полагают, что живут скучно, и хотят, подобно Гедде Габлер[365], получать больше впечатлений. Для них издаются несколько газет и существуют специальные разделы в обычных газетах, посвященные личной жизни особой породы воображаемых людей, чьи великолепные злодеяния помогают читателю идентифицировать с ними себя. Неослабевающий интерес Херста[366] к сливкам общества угождает людям, не имеющим надежды попасть в высший свет, но тем не менее умудряющимся почувствовать себя более значительными благодаря ощущению причастности к жизни, о которой они читают в газетах. В больших городах «печатный дневник родного города» имеет тенденцию превращаться в печатный дневник событий из жизни фешенебельного общества.
А это — те самые ежедневные газеты, на которых, как мы отмечали выше, лежит ответственность за донесение новостей об отдаленных событиях до частных лиц. Но определенный уровень тиража поддерживают, в первую очередь, не политические и социальные новости, интерес к которым носит эпизодический характер. Лишь немногие издатели полагаются только на него. Поэтому газета публикует материалы на разнообразные темы, которые предназначены для того, чтобы удерживать внимание читателей, не способных критиковать содержание сообщений о важнейших новостях. Более того, в том, что касается информирования читателей о значительных событиях, соревнование между газетами, циркулирующими в данном сообществе, не очень серьезно. Пресс-службы стандартизируют сообщения об основных новостях. И очень редко какой-то газете удается опередить другие в опубликовании сенсации. Очевидно, найдется не так много читающей публики для столь массивного объема информации, который в последнее время превратил «Нью-Йорк таймc» (New York Times) в совершенно необходимое издание для людей самых разных мнений. Большая часть газет для привлечения постоянной публики и создания собственного неповторимого характера должна выйти за пределы общих новостей. Журналисты обращаются к жизни высших слоев общества, пишут о скандалах и преступлениях, спорте, живописи, актрисах, помещают советы для людей, потерпевших крах в сердечных делах, заметки о жизни старших школьников, советы покупателям, кулинарам и садоводам, шахматные задачи, секреты игры в вист, анекдоты — и это не потому, что издатели и редакторы интересуются всем, кроме новостей, а потому, что они должны найти способ удержать внимание вышеупомянутой аудитории, которая, согласно некоторым критикам прессы, страстно жаждет правды и только правды.
Редактор газеты находится в странном положении. Его предприятие зависит от косвенного налога, которым его рекламодатели облагают его читателей, а благосклонность рекламодателей зависит от искусства редактора сохранить эффективную группу покупателей. Эти покупатели выносят суждения на основе своего частного опыта и стереотипных ожиданий, поскольку они в принципе не могут иметь независимого мнения относительно большей части новостей, о которых читают. Если суждение благоприятно, то тираж по крайней мере окупается. Но для обеспечения тиража редактор не может полностью рассчитывать на сведения о более широкой среде. Он, разумеется, старается подать новости в максимально интересной форме, однако качество общих новостей, особенно касающихся общественных дел, не является само по себе достаточным, чтобы большое число читателей смогло различить ежедневные газеты.
Эти причудливые взаимоотношения между газетами и общественной информацией отражаются на заработках газетчиков. Репортажи, теоретически составляющие фундамент всего института прессы, — самая низкооплачиваемая и наименее уважаемая работа в газете. Обычно способные люди занимаются ею либо в силу необходимости, либо для приобретения опыта и стремятся как можно быстрее перейти на другую работу. Ведь репортажи с места событий обычно не приносят лавров. Лавры в журналистском труде могут заслужить люди, создающие особые материалы, типа авторских статей на уровне передовицы; специалисты в каких-то конкретных областях и люди, обладающие собственным творческим почерком. Это, несомненно, обусловлено тем, что экономисты называют доходом с таланта. Но этот экономический принцип проявляется в журналистике с такой силой, что сбор новостей не привлекает того числа способных и подготовленных людей, какое необходимо в этой области в силу ее особой общественной значимости. Тот факт, что способные люди начинают заниматься репортажами с мест, изначально намереваясь оставить эту работу как можно быстрее, является, с моей точки зрения, основной причиной, почему в этой области до сих пор не развились в достаточной мере те корпоративные традиции, которые придают профессии престиж и ревниво оберегаемое самоуважение. Ведь именно эти корпоративные традиции, порождающие профессиональную гордость, способствуют повышению требований допуска в корпорацию, обеспечивают способы наказания за нарушение профессионального кодекса и придают представителям данной профессии силу настаивать на своем особом статусе в обществе.
3
Все это, однако, не касается корней дела. Хотя экономика журналистики такова, что она принижает ценность труда, связанного с созданием репортажей о новостях, я уверен, что это ложный детерминизм, которым нельзя ограничиваться при анализе. Подлинная сила репортера, с моей точки зрения, является столь значительной, а число талантливых людей, которые начинают с репортажей, столь велико, что должна существовать какая-то серьезная причина, по которой предпринимается так мало усилий для подъема этой профессии на уровень медицины, техники или права.
Эптон Синклер, выражая широко распространенное среди американцев мнение[367], говорит, что он обнаружил эту, более глубокую, причину в том, что он называет «Грошовым Чеком» (The Brass Check)[368].
Получая зарплату за неделю, вы обнаруживаете в конверте Грошовый Чек — вы, создающие, печатающие и распространяющие наши газеты и журналы. Грошовый Чек — это цена вашего стыда. Вы овладеваете честным и прекрасным телом истины и продаете его на базарной площади; вы продаете девственные надежды человечества в омерзительный бордель Большого Бизнеса[369].
На основании этого высказывания может сложиться впечатление, что существует тело известной людям истины и множество обоснованных надежд, на которых наживаются вступившие в более или менее сознательный заговор богатые владельцы газет. Если эта теория верна, то из нее следует определенный вывод: прекрасное тело истины останется неприкосновенным в прессе, которая никак не связана с Большим Бизнесом. Но если случится так, что пресса, не контролируемая Большим Бизнесом и даже не находящаяся с ним в дружеских отношениях, каким-то образом все-таки не будет освещать истину, то это будет означать, что в теории Синклера что-то не так.
Такой прессы не существует. Странно, но, предлагая способ борьбы с пороком, Синклер не советует своим читателям подписаться на местную радикальную газету. А почему? Если проблемы американской журналистики связаны с Грошовым Чеком, выписанным Большим Бизнесом, почему средство решения этой проблемы не усматривается в чтении газет, которые не принимают Грошовых Чеков от Большого Бизнеса? Зачем финансировать «Национальные новости», с их огромным советом директоров «всех возможных вероисповеданий и профессий», для того чтобы печатать газету, в которой сообщается о фактах ущерба, «независимо от того, кому наносится ущерб: «Стил траст» (Steel Trust) или профсоюзной организации «Индустриальные рабочие мира» (I.W.W.), «Стандард ойл компани» (Standard Oil Company) или социалистической партии?» Если проблема заключается в Большом Бизнесе, то есть в «Стал траст», «Стандард ойл компани» и т. п., то почему не призывать людей к чтению газет, выпускаемых «Индустриальными рабочими мира» или социалистической партией? Этого Синклер не объясняет. Причина, по которой он этого не делает, проста. Он не может убедить никого, даже самого себя, что антикапиталистическая пресса является средством борьбы против капиталистической прессы. Он не принимает во внимание антикапиталистическую прессу ни в теории Грошового Чека, ни в конструктивных предложениях. Но если вы хотите поставить диагноз американской журналистике, то вы не можете не принимать ее во внимание. Если вас интересует «прекрасное тело истины», то вы не можете допустить грубую логическую ошибку, собрав все примеры нечестного поведения и лжи, которые можно найти в ряде одних газет, проигнорировав все подобные примеры, которые можно найти в ряде других газет, и затем приписать производство лжи исключительно кругу тех изданий, которыми вы ограничили свое исследование. Если вы хотите обвинить в ошибках прессы «капитализм», то вам придется доказать, что эти ошибки существуют только в изданиях, находящихся под контролем капитализма. То, что Синклер не может этого сделать, видно из того факта, что если свой диагноз дефектов он строит, апеллируя исключительно к капитализму, то, прописывая лекарство от этих дефектов, он игнорирует как капитализм, так и антикапитализм.
Невозможность взять какую-то некапиталистическую статью в качестве модели истинности и знания дела должна была бы заставить Синклера и тех, кто с ним соглашается, посмотреть более критично на свои исходные посылки. Они должны были бы задаться, например, вопросом: где найти прекрасное тело истины, на котором проституирует Большой Бизнес, но к которому у Противников Большого Бизнеса, по-видимому, нет доступа? Ведь этот вопрос подводит, насколько я понимаю, к самому сердцу этого дела, то есть к вопросу о том, что такое новости.
Глава 23 Природа новостей
1
Даже если бы все репортеры мира работали двадцать четыре часа в сутки, они не смогли бы быть свидетелями всех происходящих в мире событий. Да и вообще, репортеров в мире не так много. И ни один из них не обладает способностью находиться в данный момент времени более чем в одном месте. Репортеры не ясновидцы, они не могут посмотреть в хрустальный шар и увидеть, в соответствии с их желанием, любую часть мира. Они не умеют перемещаться в пространстве силой мысли. Если бы их работа не представляла собой стандартизованную рутину, считалось бы чудом, что сравнительно немногочисленная группа людей охватывает столь большое информационное поле.
Газеты не стремятся к тому, чтобы неусыпно следить за всем человечеством[370]. Они посылают наблюдателей в определенные места, такие, как главное управление полиции, приемная следователя, администрация округа, муниципалитет, Белый дом, Сенат, Палата представителей и т. п. Они наблюдают или, в большинстве случаев, принадлежат к объединениям, нанимающим специальных людей для наблюдения за «сравнительно небольшим числом мест, куда поступает информация, если чья-то жизнь… отклоняется от обычного течения или происходят события, заслуживающие освещения в прессе. Представим себе такую ситуацию. Джон Смит становится брокером. В течение десяти лет он спокойно следует по своему жизненному пути и никого особенно не интересует, за исключением близких друзей и клиентов. Для газет он не существует. На одиннадцатый год своей работы он терпит тяжелые убытки; и когда его ресурсы окончательно иссякают, Смит обращается к адвокату и договаривается о встрече, чтобы составить документ о передаче прав. Адвокат отвечает ему через приемную администрации округа, и соответствующий чиновник делает отметку в документах. Этого достаточно, чтобы материал о Джоне Смите попал в газеты. Покуда чиновник пишет некролог на бизнес Смита, репортер заглядывает ему через плечо, и несколькими минутами спустя журналисты узнают о проблемах Смита и становятся столь же осведомленными о положении его дел, как если бы специальный репортер дежурил у дверей его конторы ежедневно, в течение всех десяти лет ее существования»[371].
Когда Гивен говорит, что газетам становится известно о проблемах Смита и состоянии его дел, Гивен не имеет в виду, что репортеры знакомы со Смитом или что Арнольд Беннетт[372] знает их всех, раз он сделал Смита героем своего трехтомного романа. Газетам стали известны «буквально через пять минут» только голые факты, зафиксированные в приемной администрации округа. С помощью этого физического действия «обнаруживаются» новости, касающиеся Смита. Будет ли эта тема развиваться — другой вопрос. Прежде чем ряд событий становятся новостями, они обычно должны проявиться в некотором более или менее открытом действии. Чаще всего это действие бывает подчеркнуто открытым. Друзья Смита в течение многих лет могли знать, что он любит рисковать. Эти слухи могли достигать ушей редактора раздела финансовых новостей, если эти друзья были не в меру разговорчивы. Но, не говоря уже о том, что подобные слухи нельзя опубликовать, так как они были бы расценены как клевета, в них не содержится конкретных фактов, на основании которых можно было бы сделать газетный материал. Должно произойти нечто определенное и имеющее однозначную форму. Это может быть акт объявления себя банкротом, пожар, столкновение, оскорбление, массовые волнения, арест, расторжение договора, принятие постановления, речь, голосование, митинг, выступление известного человека, редакционная статья в газете, распродажа, график выплаты заработной платы, изменение цен, предложение о постройке моста, демонстрация… Ход событий должен принять определенную форму, и до тех пор, пока он не вступит в такую фазу, когда некий его аспект является свершившимся фактом, новости не могут быть выделены из массы возможных истин.
2
Естественно, существует много разных мнений относительно того, какой должна быть форма событий, чтобы репортер мог сообщить о них в газете. Хороший журналист чаще находит новости, чем литературный поденщик. Если опытный журналист видит опасно накренившееся здание, то ему не нужно ждать, пока оно упадет, чтобы подготовить материал для колонки новостей. Воистину гениальным был репортер, который угадал, кто станет следующим вице-королем Индии, услышав, что лорд имярек интересовался климатом. Истории журналистики известны случаи гениальных догадок и открытий, однако число людей, способных сделать их, невелико. Обычно именно стереотипная форма, которую принимает некое событие, происходящее в обычном для происшествий месте, помогает увидеть в нем сюжет для освещения в разделе новостей. Чаще всего это случается там, где люди соприкасаются с органами государственной власти. De minimis поп curat lex[373]. Именно в казенных учреждениях становится известно о заключении браков, регистрации рождений и смерти, заключении контрактов, объявлении банкротства, прибытиях и отъездах, правовых спорах, беспорядках, эпидемиях и стихийных бедствиях.
Следовательно, новости являются не зеркалом социальных обстоятельств, а сообщением об обозначившемся событии. Из новостей вы не узнаете, как в семечке, помещенном во влажную почву, просыпается жизнь, но журналисты сообщат вам, когда первый росток пробьется на поверхность земли. Вы также можете узнать, что сказал какой-нибудь человек о процессе зарождения этой жизни. Вам непременно сообщат, если росток не появился вовремя. И чем больше моментов, когда могут быть зафиксированы, описаны, измерены и названы какие-то события, тем больше моментов, в которые могут появиться новости.
Так, если в один прекрасный день законодательное собрание, исчерпав все возможные способы улучшения человеческого рода, запретит ведение счета во время игры в бейсбол, возможность играть в какую-то похожую игру сохранится. В ней рефери, согласно своим собственным представлениям о честной игре, будет определять продолжительность матча, очередность подачи и называть победителя. Если бы такая игра освещалась в разделе новостей, то журналисты сообщали бы о решениях рефери, о выкриках болельщиков, а также, в лучшем случае, делились бы смутными впечатлениями о том, как люди, не занимающие определенной позиции на поле, перемещались по неразмеченной части спортивной площадки. Чем больше вы пытаетесь представить себе логику столь абсурдной ситуации, тем яснее становится, что для сбора новостей (не говоря уже об участии в игре) невозможно ничего сделать без инструментов и правил присваивания имен, ведения счета и записи. Поскольку этот механизм далеко не совершенен, жизнь рефери ужасна. Многие решающие игры он должен судить «на глаз». Остатки спорных моментов могли бы быть устранены из игры, как это произошло в шахматах, где люди подчиняются правилам, если бы кто-то взял на себя труд фотографировать каждую игру. Именно киносъемка позволила разрешить сомнения многих репортеров, возникшие из-за медлительности человеческого глаза, какой именно удар Демпси сразил Карпентьера.
Там, где существует хорошая техника записи, современная служба новостей работает с большой точностью. Такая техника используется на фондовых биржах, где новости о колебаниях цен моментально высвечиваются на табло. Схожий механизм используется при подсчетах голосов на выборах, и когда подсчеты и составление таблиц выполняются точно и аккуратно, результаты выборов в государственные органы обычно становятся известными в ночь после выборов. В цивилизованных обществах данные о смертях, рождениях, заключении браков и разводах фиксируются и являются доступными, за исключением тех случаев, когда они либо скрываются, либо не принимаются во внимание. Существует техника учета некоторых (но далеко не всех) аспектов функционирования промышленности и органов управления, в частности (с разной степенью точности) служб безопасности, финансовых структур, важнейших рынков, безналичных расчетов между банками, риэлтерских сделок, шкал заработной платы. Она применяется для регистрации импорта и экспорта, так как осуществляются через таможню и поэтому могут быть напрямую зафиксированы. Она значительно реже применяется во внутренней торговле, в особенности в тех случаях, когда сделки заключаются без посредников.
Полагаю, со временем будет обнаружена прямая связь между надежностью новостей и системой их записи. Если вы вспомните пункты главных обвинений реформаторов против прессы, то увидите, что они относятся к тем сюжетам, где газеты выступают в позиции судьи бейсбольного матча, в котором не ведется счет. Все новости о состоянии сознания относятся к этому типу. Сюда же можно отнести все описания личностей, искренности, вдохновения, мотивации, намерений, массовых настроений, национальных чувств, общественного мнения, политики иностранных государств, а также большую часть событий, которые должны вот-вот произойти, вопросы, связанные с частной прибылью, личным доходом, заработной платой, условиями труда, эффективностью труда, возможностями получения образования, безработицей, здоровьем, дискриминацией, несправедливостью, ограничениями торговли, отходами, «отсталыми народами», консерватизмом, империализмом, радикализмом, свободой, честью и справедливостью. Данные, касающиеся этих тем, записываются, в лучшем случае, эпизодически. Эти данные могут быть скрыты из-за цензуры или традиций приватности. Они могут отсутствовать потому, что никто не считает нужным их регистрировать, или потому, что их регистрация считается примером бюрократизации или никто до сих пор не придумал объективной системы их измерения. Поэтому новости об этих темах или вызывают споры, или их вообще игнорируют. О событиях, которым нельзя вести счет, сообщают либо как о личных или общепринятых мнениях, либо они не являются новостями. Они не принимают специальной «новостной» формы до тех пор, пока кто-то не выразит протеста, не займется их исследованием или публично (в этимологическом смысле этого слова) не сделает их предметом обсуждения.
Для этого и существует представитель по связям с прессой (press agent). Из-за колоссальной неопределенности того, какие события и какие впечатления заслуживают освещения в прессе, любая организованная группа людей, независимо от того, хочет ли она избежать публичности или, напротив, добиться ее, не может полагаться на репортеров. Спокойнее нанять представителя по связям с общественностью для выполнения роли посредника между группой и газетами. После того как он нанят, возникает сильное искушение использовать его стратегическое положение. «Незадолго до войны, — пишет Фрэнк Кобб, — нью-йоркские газеты предприняли подсчет агентов по связям с прессой, которых регулярно нанимали на работу и регулярно аккредитовывали. Они обнаружили, что существует около тысячи двухсот специалистов данного профиля. Не могу сказать, сколько их в настоящее время (1919), но я точно знаю, что многие прямые каналы поступления новостей были перекрыты и информация на пути к общественности фильтруется агентами по связям с прессой. Они служат в больших корпорациях, в банках, на железных дорогах, в частных предприятиях, социально-политических организациях, являясь источниками новостей. Их услугами пользуются даже государственные деятели»[374].
Если бы репортаж сводился исключительно к обнаружению очевидных фактов, то задачи специалиста по связям с прессой были бы ненамного шире задач обычного чиновника. Но поскольку факты, касающиеся большинства важных тем, не просты и отнюдь не очевидны, а являются вопросом выбора и мнения, то естественно, что каждый желает сам выбирать факты, подлежащие освещению в печати. Именно этим занимается агент по связям с общественностью. И, делая это, он, разумеется, избавляет репортера от массы хлопот, представляя ему ясную картину ситуации, из которой тот без помощи посредника не смог бы извлечь ничего интересного. Однако отсюда следует, что публика получит картину, устраивавшую агента. Он цензор и пропагандист и несет ответственность только перед работодателями. Доля ответственности представителя по связям с общественностью перед истиной зависит от того, насколько истина согласуется с представлением работодателя о его собственных интересах.
Развитие функции, которую выполняет агент по связям с общественностью, явно говорит о том, что факты современной жизни облекаются в публичную форму не сами собой. Им придают эту форму специалисты. Поскольку погруженные в ежедневные профессиональные заботы репортеры этим заниматься не могут, а беспристрастных умов существует мало, потребность в оформлении фактов удовлетворяется заинтересованными лицами.
3
Хороший агент по связям с общественностью понимает, что положительные стороны освещаемого им вопроса не могут служить предметом новостей, за исключением тех, что резко выделяются в рутине повседневной жизни. И это не потому, что газеты не любят позитив, а потому, что не имеет смысла говорить, что ничего не произошло, если никто не ожидал никаких происшествий. Поэтому если агент по связям с общественностью хочет на что-то обратить внимание публики, то он, если точно выразиться, должен что-то устроить. Он прибегает к помощи трюков: останавливает движение, пристает к полиции и каким-то образом умудряется связать своего клиента или его дело с событием, которое является само по себе новостью. Это знали сторонники равноправия женщин. Они не испытывали особенного удовольствия от этого знания, но действовали в соответствии с ним, и им удавалось сохранять избирательное право в качестве темы для новостей в течение долгого времени после того, как аргументы «за» и «против» избирательного права для женщин навязли у всех в зубах и люди уже почти привыкли считать, что суфражистское движение — это один из обычных институтов американской жизни[375].
К счастью, суфражистское движение, в отличие от феминистского, ставило перед собой вполне конкретную и очень простую цель. То, что символизирует участие в выборах, — совсем не просто. Это было хорошо известно как наиболее компетентным сторонникам женского равноправия, так и его противникам. Но право голоса является простым и знакомым правом. В полемике о проблемах труда, которая сейчас является, пожалуй, главным пунктом обвинения против газет, право на забастовку, подобно избирательному праву, является достаточно простым. Но причины и цели данной конкретной забастовки, подобно причинам и целям женского движения, являются исключительно тонкими.
Предположим, что забастовка вызвана плохими условиями труда. Но как оценивается качество этих условий? Согласно определенной концепции нормального жизненного уровня, гигиены, экономической безопасности и достойного существования. Условия труда в данной отрасли промышленности могут далеко отставать от теоретических норм данного сообщества, но рабочие могут быть слишком измученными, чтобы протестовать. Условия труда могут находиться выше теоретической нормы, но при этом рабочие могут выражать сильный протест. Таким образом, норма в лучшем случае является очень неопределенным условием начала забастовки. Однако допустим, что условия труда и быта находятся ниже нормы, как она понимается редактором газеты. Поэтому, не дожидаясь, пока рабочие начнут угрожать началом забастовки, и послушавшись совета социального работника, он посылает репортеров, чтобы они разузнали обстановку, и тем самым привлекает внимание к плохим условиям труда и жизни рабочих. Понятно, что он не может делать этого часто. Ведь добывание подобной информации стоит времени, денег, особого таланта. Кроме того, освещение этой темы занимает много места на полосе. Для того чтобы репортаж об условиях труда и жизни выглядел убедительно, он должен занять несколько колонок. К примеру, чтобы сообщить правду о сталелитейщиках в округе Питсбурга, потребовалось создать специальную группу для расследования ситуации, было затрачено много времени, а печатные материалы составили несколько толстых томов. Невозможно предположить, что какая-нибудь ежедневная газета может ставить одной из своих задач регулярные Обследования Социально-экономической Ситуации в Питсбурге или даже Межцерковные Доклады о Состоянии Дел в Сталелитейной Промышленности. Поиск новостей, которые достаются такими трудами, не под силу ежедневной газете[376].
Плохие условия жизни и труда как таковые не являются новостями, потому что за исключением каких-то необычных ситуаций журналистика не является сообщением о фактах, полученных из первых рук. Это сообщение о материале после того, как он уже подвергся стилизации. Так, плохие условия могут стать новостями, если Комиссия по Здравоохранению сделает сообщение о необычайно высокой смертности в каком-нибудь промышленном районе. Не подвергнутые подобной обработке факты не могут стать новостями, до тех пор пока рабочие не объединятся в организацию и не предъявят свои требования работодателям. И даже если они предъявляют требования, но сделка между сторонами легко достижима, то ценность новостей низка, независимо от того, решается ли в результате проблема улучшения условий труда и жизни или нет. Но если отношения между сторонами выливаются в забастовку или захват здания, то ценность новостей повышается. Если прекращение работы влечет за собой нарушение обслуживания, в котором заинтересованы читатели газеты, или нарушение порядка, то ценность новостей возрастает еще больше.
Социальная проблема фигурирует в новостях в виде некоторых легко распознаваемых симптомов: выдвижения требований, забастовок, беспорядков. С точки зрения рабочего или нейтрального сторонника справедливости, выдвинутое требование, забастовка или беспорядок являются лишь составляющими сложного процесса. Но поскольку все непосредственные реалии лежат за пределами непосредственного опыта как репортера, так и особой публики, благодаря которой существует большинство газет, они обычно должны ждать какого-то сигнала в виде явного действия. Когда этот сигнал поступает, — скажем, где-то начинается забастовка или вызывают полицию, — он активизирует стереотипные представления людей о стачках и беспорядках. Реальные перипетии внутренней борьбы сторон недоступны для публики. Они наблюдают за ней как за абстракцией, и эта абстракция впоследствии оживляется непосредственным опытом читателя и репортера. Очевидно, их опыт существенно отличается от опыта бастующих, которые на своей шкуре испытывают гнев бригадира, раздражающую монотонность станка, духоту цеха, поденную работу жен, шалости детей, шумные ссоры соседей по дому. Лозунги забастовки наполнены этими чувствами. Но репортер и читатель видят только стачку и плакаты. Они наполняют это зрелище собственными чувствами. А они чувствуют, что могут потерять место из-за того, что бастующие задерживают поставку материалов, необходимых им для работы, что возникнет дефицит и поднимутся цены и что все это чертовски неудобно. И это тоже реальность. А когда они осмысливают короткое сообщение о том, что забастовка была объявлена, то, понятное дело, их симпатии оказываются не на стороне рабочих. Природа существующих производственных отношений такова, что новости, связанные с бедами и надеждами рабочих, практически всегда подаются читателю как неприкрытая атака на производство.
Таким образом, существуют жизненные обстоятельства во всей своей сложности; явное действие, которое сигнализирует о наличии этих обстоятельств; стереотипный бюллетень, который освещает этот сигнал; значение, которое читатель ему придает, выводя его из непосредственно влияющего на него опыта. Таким образом, опыт читателя, связанный с забастовкой, может быть, в действительности, очень важным, но с точки зрения главной проблемы, спровоцировавшей забастовку, он весьма эксцентричен. Однако это, странное, значение автоматически становится наиболее интересным[377]. Вникнуть путем воображения в главную проблему для читателя означает выйти за границы собственного Я и вступить в совершенно другую жизнь.
Отсюда следует, что при сообщении о забастовках простейший путь — обнаружить новости посредством какого-то явного действия и при описании события рассказать, какими жизненными сложностями оно грозит читателю. Именно так привлекается его внимание и возбуждается интерес. Значительная (и, по-моему, основная) часть того, что рабочему и реформатору кажется преднамеренным искажением, допущенным газетами, возникает из-за практической сложности доведения новостей до читателя и психологической сложности превращения отдаленных фактов в интересные сообщения, если мы, как говорит Эмерсон, не можем «воспринять (их) всего лишь как новый вариант знакомого нам опыта» и не «можем сразу же заняться их переносом на параллельно протекающие события нашей жизни»[378].
Если вы обратитесь к исследованию того, как забастовки освещаются в прессе, то увидите, что социальная проблема очень редко выносится в заголовок или описывается в первых абзацах публикации. Иногда о ней вовсе не упоминается. Трудовой спор, разворачивающийся в другом городе, должен быть крайне важным, чтобы в новостях появилась какая-то определенная информация о предмете спора. Такова рутина новостей, которая с небольшими вариациями имеет место и в случае политических и международных новостей. Новости — это описание явных стадий события, которые представляют интерес. При этом на газету оказывается давление с той целью, чтобы она придерживалась этой рутины. Оно оказывается из-за экономии, которая требует замечать только стереотипизированную стадию ситуации. Давление осуществляется в связи с тем, что сложно найти журналистов, которые могут видеть то, что их не учили видеть. Оно также исходит от практически неизбежной сложности нахождения достаточного пространства, в рамках которого даже лучший журналист может показать как вероятную — точку зрения, не являющуюся общепринятой. Давление исходит от экономической необходимости заинтересовать читателя максимально быстро и от экономического риска, заключенного в ситуации, когда его не удалось заинтересовать совсем или когда журналисты неожиданно обидели его тем, что плохо или недостаточно подробно описали какие-то новости. Все эти сложности в сумме заставляют редактора колебаться, когда речь идет об опасных публикациях, и, естественно, приводят к тому, что он отдает предпочтение несомненному факту и такой его трактовке, которую легче всего приспособить к интересу читателя. Несомненный факт и легко вызываемый интерес — это сама забастовка и неудобства читателя, ею вызванные.
Все более тонкие и глубокие истины при современной организации промышленности становятся очень ненадежными. Сюда относятся суждения об уровне жизни, производительности труда, правах человека, которые могут служить предметом бесконечных дискуссий в условиях отсутствия точной их записи и количественного анализа. А поскольку их в промышленности не существует, то новости о ее организации могут, как сказал Эмерсон, процитировав Исократа, «сделать из канав горы, а из гор — канавы»[379]. Там, где в промышленности не существует конституционной процедуры и ни один эксперт не занимается оценкой фактов и претензий, сенсационным для читателя оказывается тот факт, который будет искать практически каждый журналист. При текущем состоянии дел в промышленности даже там, где имеют место его обсуждение и арбитраж, но не существует независимого отбора фактов, необходимых для принятия решений, проблема, представленная читающей публике, не будет совпадать с проблемой, актуальной для промышленности. Таким образом, попытка обсуждать актуальные проблемы на страницах газеты возлагает на газеты и читателей бремя, которое они не способны нести. Постольку поскольку реальных закона и порядка не существует, большая часть новостей, если она сознательно и героически не корректируется, работает против тех, кто не располагает законными и упорядоченными методами самоутверждения. Сообщения с места действия скорее сообщат о проблемах, которые привели к затруднениям в результате борьбы за права, чем о причинах этой борьбы.
4
Этими сообщениями занимается редактор. Он читает их, сидя в кабинете, и ему очень редко представляется возможность наблюдать за развитием описываемых событий в течение продолжительного времени. Редактор должен добиваться внимания по крайней мере части своих читателей каждый день, потому что они, не задумываясь, оставят его газету, если конкурирующее издание затронет их воображение. Он находится под колоссальным давлением, потому что в соревновании между газетами часто счет идет на минуты. Каждое сообщение требует немедленного, но сложного суждения. Оно должно быть осмыслено, соотнесено с другими, тоже осмысленными, сообщениями, принято к печати или отвергнуто в зависимости от того, насколько вероятен, в понимании редактора, интерес к нему со стороны публики. Без усреднения, без стереотипов, без банальных суждений, без безжалостного огрубления редактор быстро скончался бы от избытка чувств. Окончательный вариант полосы имеет определенный размер и должен быть готов к определенному сроку; на полосе должно содержаться определенное число заголовков, и в каждом заголовке должно быть определенное число букв. Всегда существуют сомнительные потребности покупающей публики, закон о клевете и возможность для бесконечных волнений. И всем этим нельзя было бы управлять без систематизации, поскольку стандартизированный продукт дает экономию времени и усилий, а также частичную гарантию против неудачи.
Именно тут части газеты влияют друг на друга особенно сильно. Так, когда разразилась война, американские газеты столкнулись с тематикой, в освещении которой у них до сих пор не было опыта. Некоторые ежедневные издания, достаточно богатые, чтобы оплачивать телеграфные сообщения, получали новости первыми, и их способ представления новостей стал образцом для всей прессы. Но откуда происходил этот образец?
Он был взят из английских газет, но не потому, что американскими газетами владел Нортклифф[380], а потому, что, во-первых, им было проще покупать английские информационные сводки, и, во-вторых, потому, что американским журналистам было проще читать английские газеты, чем какие-либо другие. Лондон стал телеграфным центром новостей, и именно в Лондоне возникла определенная техника репортажей о военных новостях. Аналогичный процесс протекал во время русской революции. В этом случае доступ в Россию был закрыт военной цензурой, как русской, так и союзнической, и он усугублялся трудностями русского языка. Но, кроме того, он был закрыт для эффективного сообщения новостей в силу того, что труднее всего на свете — делать репортаж о хаосе, хотя этот хаос возникал постепенно. Поэтому создание российских новостей у самых их истоков в Гельсингфорсе, Стокгольме, Женеве, Париже и Лондоне было отдано в руки цензоров и пропагандистов. И в течение долгого времени их никто не проверял. И до тех пор, пока они не выставили себя на посмешище, следует признать, что им удалось создать из подлинного водоворота российских событий множество стереотипов, столь насыщенных ненавистью и страхом, что величайший инстинкт журналистов — желание идти, смотреть и сообщать — был надолго заглушен[381].
5
Каждая газета, доходящая до читателя, является результатом серии выборов: какой материал печатать, сколько места он должен занимать в газете, где он должен располагаться, какие акценты в нем необходимо сделать. Здесь не существует никаких объективных норм, никаких конвенций. Возьмите две газеты, вышедшие в одном и том же городе, в одно и то же утро. Заголовки одной гласят: «Британия обещает оказать помощь Берлину против французской агрессии. Франция открыто поддерживает поляков». Заголовок другой сообщает: «Еще одна любовь госпожи Стильман». Какой из них вы предпочтете — вопрос вкуса, и не только вкуса редактора. От его оценки зависит, что в течение получаса будет занимать внимание некоторого числа читателей его газеты. Проблема обеспечения внимания со стороны читателей никоим образом не сводится к проблеме подачи новостей в духе религиозного учения или какой-то формы этической культуры. Это проблема того, как возбудить эмоциональную реакцию читателя, как создать у него ощущение личного участия в событиях, о которых он читает. Новости, не обеспечивающие этой возможности, не могут быть привлекательными для широкой аудитории. Аудитория должна участвовать в новостях, точно так же, как она участвует в театральной драме, идентифицируя себя с героями борьбы. Точно так же, как зритель сдерживает дыхание, когда героиня спектакля в опасности, или замирает, когда Бейб Рут замахивается битой, читатель газеты, пусть и в более незаметной форме, но принимает участие в описываемых новостях. Для того чтобы он смог это делать, он должен обнаружить в тексте какую-то зацепку, и такой зацепкой служат стереотипы. Так, если в газете об ассоциации сантехников говорится как о «группировке», то уместно отнестись к ним враждебно, а если она называется «группой ведущих бизнесменов», то это является сигналом к благосклонной реакции.
Именно в сочетании этих элементов заключена власть создавать мнение. Эта власть усиливается редакционными статьями. Редакционные статьи в ситуациях, когда новости слишком запуганы, дают читателю ключ, посредством которого он становится участником событий. Этот ключ нужен ему, как и большинству из нас, если требуется узнать о новостях на ходу. Читателю требуется указание, следуя которому он, человек, который воспринимает себя так-то, сможет интегрировать свои ощущения и новости, о которых он узнает через газету.
«Кто-то сказал, — пишет Вальтер Бейджхот, — что если вы убедите англичанина, принадлежащего к среднему классу, что на Сириусе водятся улитки, то у него вскоре образуется свое собственное мнение по этому поводу. Его трудно будет в этом убедить, но если он в конце концов в это поверит, то он не сможет оставаться в стороне от обсуждения этого вопроса, он должен принять некое решение. И это относится к любой самой обычной теме. Торговец овощами имеет вполне развернутое мнение относительно зарубежной политики, а его молодая покупательница — исчерпывающую теорию таинств, и оба они не сомневаются в своих мнениях»[382].
В то же самое время у торговца овощами будет масса сомнений относительно ведения дел в своей лавке, а у молодой женщины, абсолютно уверенной в смысле таинств, будет масса сомнений, выходить ли ей замуж за торговца, а если не выходить, то прилично ли принимать его знаки внимания. Способность оставаться в стороне свидетельствует или об отсутствии заинтересованности в результате, или о живом представлении об альтернативных моделях. В случае с зарубежной политикой или таинствами интерес к результатам велик, тогда как возможности проверить свое мнение ничтожны. Отсюда проистекают сложности, на которые наталкивается читатель при ознакомлении с основными новостями. Если он их читает, то должен ими интересоваться, то есть должен как-то участвовать в ситуации и задумываться об ее исходе. Но если читатель в нее вовлекается, то он не может оставаться в стороне, и если не существует средств проверки указаний, полученных им через газету, сам по себе факт, что он интересуется этими новостями, препятствует достижению равновесия мнений, которое может оказаться максимально приближенным к истине. Чем глубже он вовлечен в ситуацию, тем больше будет негодовать не просто по поводу другого мнения, а по поводу мельчайшей детали, не согласующейся с его мнением. Именно поэтому многие газеты однажды обнаруживают, что, честно приобретя приверженцев, они не могут резко изменить позицию, даже если редактор видит, что этого требуют факты. Если такое изменение необходимо, переход к другой позиции должен осуществляться с величайшей деликатностью и умением. Обычно газеты не предпринимают столь рискованных шагов. Гораздо легче и безопаснее загасить огонь, не подкладывая новых дров, то есть постепенно свести информацию о предмете, требующем новой интерпретации, на нет.
Глава 24 Новости, истина и вывод
Чем больше мы углубляемся в анализ прессы, тем большее значение приобретает гипотеза, которой мы придерживаемся. Если, вслед за Синклером и большей частью его оппонентов, мы предположим, что новости и истина — синонимы, то, по-моему, мы никуда не придем. Мы будем доказывать, что в каком-то вопросе газета лжет. А потом будем доказывать, что в другом вопросе Синклер лжет. А потом — что Синклер лгал, когда сказал, что кто-то лгал, и что кто-то лгал, когда сказал, что Синклер лгал. Мы дадим волю своим чувствам, но не добьемся результата.
Гипотеза, кажущаяся мне наиболее плодотворной, состоит в том, что новости и истина — не одно и то же и что они должны четко различаться[383]. Функция новостей в том, чтобы сигнализировать о событии, функция истины — освещать скрытые факты, устанавливать между ними связь и создавать такую картину мира, которая позволяла бы человеку действовать. Только в тех точках, где социальные условия принимают узнаваемую и поддающуюся измерению форму, корпус истинного знания и корпус новостей совпадают. И это сравнительно небольшой сектор всего поля человеческого интереса. В этом и только в этом секторе проверка новостей осуществляется настолько тщательно, что обвинения в искажении или сокрытии фактов становятся более чем узкопартийными оценками. Нет никакого оправдания тому, кто шесть раз повторил, что Ленин умер, если единственная информация, на основании которой были сделаны эти сообщения, исходит из известного своей ненадежностью источника. В этом случае новость состоит не в том, что «Ленин умер», а в том, что «Гельсингфорс говорит, что Ленин умер». И к газете может быть предъявлено требование не делать Ленина более мертвым, чем он есть согласно надежному источнику. Если существует такой предмет, за который редакторы должны нести наибольшую ответственность, то это их оценка надежности источника информации. Но, например, в случае рассказов о том, чего хотят русские люди, такой проверки не существует.
Отсутствие таких точных тестов, по-моему, как ничто другое помогает понять характер профессии журналиста. Журналист располагает очень небольшим корпусом точного знания, для оперирования которым не требуется никаких особых способностей или подготовки. Все остальное зависит от усмотрения самого журналиста. Как только он покинул город, в администрации которого четко зафиксировано, что Джон Смит обанкротился, все жесткие стандарты исчезают. Рассказ о причинах неудачи Джона Смита, о его пороках, анализ экономических условий, из-за которых он разорился, может быть подан по-разному. В прикладной психологии не существует авторитетной установки, подобной установкам в медицине, технике и даже праве, которая бы корректировала мысль журналиста в процессе перехода от новостей к размытой сфере истины. Не существует инструментов ни для управления мыслью журналиста, ни для ограничения суждений читателя или издателя. Версия истины, предлагаемая журналистом, — это исключительно его версия. Как он может продемонстрировать истину в том виде, в каком она ему предстает? Он не может этого сделать. Он способен на это не в большей мере, чем Синклер Льюис способен продемонстрировать, что рассказал всю правду о Главной улице. И чем больше журналист понимает собственную слабость, тем легче ему признать, что при отсутствии объективной проверки его мнение в значительной мере скроено из его собственных стереотипов, согласно его собственному кодексу и вытекает из его интересов. Он знает, что видит мир через очки субъективности. Он не может отрицать, что, используя метафору Шелли, подобен витражу, который, пропуская через себя белый свет вечности, окрашивает его в разные цвета[384].
И это знание умеряет его самоуверенность. Ему могут быть присущи все формы нравственной отваги, и иногда они ему действительно присущи. Но у него отсутствует та уверенность в определенных технических приемах, которые, в конце концов, освободили физические науки от теологического контроля. Именно постепенное развитие неоспоримого метода обеспечило физику интеллектуальную свободу от всех властей мира. Его доказательства стали такими прозрачными, его эмпирические данные так превзошли традицию, что он, в конце концов, сбросил с себя все узы контроля. Но у журналиста нет такой поддержки ни в собственном сознании, ни на деле. Стоящий над ним контроль мнений его работодателей или читателей — это не контроль истины над предрассудком, но одного мнения — над другим мнением, которое, к тому же, не является очевидно истинным. Выбор между утверждением судьи Гэри[385], что профсоюзы уничтожат американские социальные институты, и утверждением Гомперса[386], что они являются ассоциациями, защищающими права человека, в значительной мере определяется желанием верить кому-то из них.
Перед репортером не ставится задача сгладить противоречия между разными позициями и свести их к такому состоянию, когда о них можно сообщить как о новости. Журналист может и должен донести до людей неопределенность истины, на которой основаны их мнения, и путем критики и агитации побудить социальную науку к более практическим формулировкам социальных фактов, а государственных деятелей — к организации более действенных социальных институтов. Иными словами, пресса может сражаться за расширение области истины, о которой можно сообщать в газетах. Но если исходить из того, как организована социальная истина сегодня, то можно сказать, что пресса не способна от номера к номеру поставлять то количество знания, которого требует демократическая теория общественного мнения. И, как показывает качество новостей в радикальной прессе, это связано не столько с Грошовым Чеком, а скорее с тем фактом, что пресса имеет дело с обществом, в котором отсутствует нормальная система записи деятельности правящих сил. Теория, что пресса сама может регистрировать эти силы, лжива. Обычно она может зафиксировать только то, что уже было зарегистрировано для нее действующими социальными институтами. Все остальное — это суждение и мнение, а они колеблются вместе с превратностями, которым подвержены самосознание и разум человека.
Если пресса не является таким бесконечно порочным и злокозненным предприятием, каким его изображает Синклер, она гораздо более хрупка и уязвима, чем это до сих пор считали теоретики демократии. Она слишком хрупка, чтобы нести на себе всю тяжесть народного суверенитета и стихийно являть нам истину, которая, по мнению демократов, является врожденной. И когда мы ждем, что пресса явит нам такой корпус истинных фактов, то используем вводящий в заблуждение способ оценки. Мы неправильно понимаем ограниченную природу новостей и безграничную сложность общества; переоцениваем свое терпение, дух общества и всеобщую компетентность. Мы исходим из предположения о потребности общества в неинтересных истинах, которая не подтверждается беспристрастным анализом наших собственных вкусов.
Таким образом, если на газеты возложить долг информировать нас обо всей общественной жизни человечества так, что на основании этих сообщений каждый взрослый сможет выработать свое собственное мнение по каждому спорному вопросу, они не выполнят своего долга, они обречены на его невыполнение, они не смогут его выполнять и в будущем. Невозможно предположить, что миром, основанным на разделении труда и распределении власти, может управлять универсальное мнение всего народа. Теория невольно постулирует одного всезнающего читателя и возлагает на прессу бремя выполнения того, чего не смогли выполнить представительная власть, промышленное предприятие и дипломатический корпус. Воздействующую на каждого человека в течение тридцати минут в сутки прессу просят создать мистическую силу, называемую Общественным Мнением, которая возместит бездействие общественных институтов. Пресса часто ошибочно воображала, что она на это способна. Она, ценой больших моральных потерь, внушала демократии, все еще опирающейся на исходные посылки, будто от нее, от прессы, можно ожидать, что она стихийно будет поставлять каждому правительственному органу «информационное оборудование» для работы с каждой социальной проблемой, которым эти органы не смогли сами себя обеспечить. Социальные институты, которые не смогли сами обеспечить себя инструментами познания, превратились в клубок проблем. Предполагается, что население в целом, читая прессу, должно само их решать.
Другими словами, пресса стала рассматриваться как орган прямой демократии, которому вменяется в гораздо большем масштабе изо дня в день выполнять функцию, обычно приписываемую законодательной инициативе, референдуму и праву отзыва депутатов. Суд Общественного Мнения, открытый день и ночь, должен беспрерывно формулировать и утверждать законы, регулирующие все сферы жизни. Этого не происходит. А если принять во внимание природу новостей, то это невозможно. Ведь новости, как мы убедились выше, точны настолько, насколько точна изначальная запись события. Если событие не может быть названо, измерено, облечено в конкретную форму и представлено как нечто определенное, то оно либо не может принять характер новостей, либо подвержено случайностям и предрассудкам, неизбежно присутствующим в процессе наблюдения.
Следовательно, в целом, качество новостей, относящихся к современному миру, является показателем его социальной организации. Чем лучше институты, чем больше интересов разных людей формально представлено, тем больше вопросов открывается для обсуждения, тем больше вводится объективных критериев оценки ситуации, тем более адекватно данная ситуация представляется в форме новостей. В наилучшем варианте пресса является слугой и защитником социальных институтов, в наихудшем — служит орудием, с помощью которого небольшая группа людей использует социальную организацию в своих собственных целях. В той мере, в которой институты являются нефункциональными, недобросовестный журналист может ловить рыбку в мутной воде, а добросовестный журналист должен сражаться с неизвестностью.
Пресса не может заменить собой социальные институты. Она подобна прожектору, луч которого, постоянно блуждая, освещает то одно, то другое. Люди не могут вершить свои дела, пользуясь только светом прожектора. Они не могут управлять обществом от эпизода к эпизоду, от инцидента к инциденту, от одного чрезвычайного происшествия к другому. Только тогда, когда они работают при своем собственном устойчивом освещении, пресса, обращая эпизодическое внимание на их труд, выявляет ситуацию, достаточно понятную, чтобы народ мог принимать решения. Проблема, равно как и ее решение, лежит глубже. Решение кроется в социальной организации, основанной на системе анализа и записи событий и во всех следствиях из этого принципа. Оно заключается в отказе от теории о доступности участия в государственном управлении для каждого гражданина, в децентрализации решений, в координации решений путем записи событий в сопоставимых величинах и их последующем анализе. Если в центрах управления осуществляется постоянная проверка и она помогает понять происходящее тем, кто занят данным делом, и тем, кто контролирует его на высшем уровне, то возникающие проблемы не приводят к конфликту между слепцами. И тогда новости поставляются прессе разумно организованной системой, которая еще и способна ее контролировать.
И это фундаментальный способ решения проблемы. Ведь пресса сталкивается с той же самой проблемой, что и представительная власть (будь то власть территориальная или функциональная) и промышленность (будь то промышленность кооперативная, капиталистическая или коммунистическая). Эта проблема — неспособность людей, действующих на основе самоуправления, преодолеть свой случайный опыт и предрассудки путем изобретения, создания и организации механизма знания. Это происходит потому, что они вынуждены действовать, не располагая надежной картиной мира, поскольку правительства, школы, газеты и церкви весьма незначительно прогрессируют в своем движении против наиболее очевидных неудач демократии — против сильных предрассудков и апатии. Их мало волнует то, что народ предпочитает развлекательные сюжеты и любопытные курьезы типа трехногих телят скучным важным вещам. Таков основной недостаток народного правления, недостаток, коренящийся в его традициях. И на мой взгляд, к нему восходят все прочие его недостатки.
Часть 8 ОРГАНИЗОВАННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ
Глава 25 Первый шаг
1
Если бы общество было заинтересовано в лекарстве, то пионерам Америки, подобным Чарльзу Маккарти, Роберту Валентину и Фредерику У. Тейлору[387], не пришлось бы бороться за то, чтобы их выслушали. Однако совершенно ясно, почему им пришлось бороться и почему, точно гадкие утята реформы, возникают бюро правительственных исследований, комитеты по аудиту промышленности и разработке бюджетов. Они обращают вспять процесс, посредством которого формируются интересные общественные мнения. Вместо того, чтобы представлять случайные факты, полномасштабные стереотипы и инсценировать драматические узнавания, они разрушают драму, ломают стереотипы и предлагают людям незнакомую и обезличенную картину фактов. Когда ситуация не болезненна, то она скучна, а те, для кого она болезненна, — продажный политик и член узкой группировки, которому приходится многое скрывать, часто эксплуатируют скуку общественности, чтобы снять свою боль.
2
До сих пор каждое сложное сообщество прибегало к помощи особых людей — авгуров, священников, старейшин. Наша собственная демократия, хоть и была основана на теории всеведущего правителя из народа, в управлении государством и промышленностью прибегает к помощи юристов. Она признала, что человек, получивший специальную подготовку, каким-то неясным образом ориентирован на более широкую систему истин, чем та, которая стихийно возникает в сознании любителя. Но опыт показал, что знаний обычного юриста недостаточно. Великое Общество поднялось и выросло до колоссальных размеров путем применения технического знания. Оно было построено инженерами, которые научились использовать точные измерения и количественный анализ. Как выяснилось, обществом не могут управлять люди, рассуждающие о том, что правильно, а что неправильно, на основе дедукции. Им можно управлять только на основе создавшей его техники. Таким образом, постепенно наиболее просвещенные руководители призвали на службу государству обученных специалистов или сами прошли соответствующую подготовку, для того чтобы сделать части этого Великого Общества понятными для тех, кто им управляет. Эти люди известны под разными именами: статистиков, бухгалтеров, аудиторов, советников промышленных предприятий, различного рода инженеров, специалистов по научным методам управления, специалистов по подбору персонала, исследователей, «ученых», а иногда даже личных секретарей. Они принесли с собой профессиональный жаргон, картотеки, графики, настольные перекидные календари и, кроме того, — респектабельный образ должностного лица, который сидит за чистым столом и, держа перед собой один напечатанный на машинке лист бумаги, принимает решения по вопросам политики, представленным ему в форме, которая требует либо отрицательного, либо положительного решения.
Это был результат не столько стихийной творческой эволюции, сколько слепого естественного отбора. Руководитель, будь то государственный деятель, чиновник, партийный лидер или глава добровольной ассоциации, обнаружил, что если в течение дня нужно принимать участие в обсуждении десятка разных вопросов, то кто-то должен его к этому подготовить. Он настоял на необходимости служебных записок. Он понял, что не может читать всю корреспонденцию, и потребовал, чтобы кто-нибудь выделял цветным карандашом интересные места в самых интересных письмах. Обнаружил, что не успевает усваивать информацию машинописных отчетов, которые грудами копятся у него на столе, и потребовал резюме этих отчетов. Осознал, что не может читать бесконечные рады чисел, и призвал на помощь человека, который стал делать ему цветные диаграммы. Он понял, что не отличает одну машину от другой, и нанял инженеров, умеющих выбирать и оценивать их стоимость и технические возможности. Руководитель снимал с себя один груз за другим, подобно человеку, которому нужно передвинуть с места какой-то тяжелый предмет и который снимает с себя сначала шапку, затем пальто и, наконец, воротничок.
3
Любопытно, что, несмотря на потребность в помощи социолога, руководитель довольно долго к нему не обращался. Химик, физик и геолог встретили гораздо более ранний и гораздо более теплый прием. Для них создавались лаборатории, их труд поощрялся, поскольку весьма ценились победы над природой. Но ученый, исследующий человеческую природу, находится в другом положении. Тому существует множество причин, главная из них — у него слишком мало побед. Небольшое число побед связано с тем, что если он не имеет дело с историческим прошлым, то не может доказать свои теории, до того как выносит их на суд общественности. Ученый-физик может высказать гипотезу, проверить ее, изменить гипотезу несколько сотен раз, и если, в конце концов, он окажется не прав, то никому не придется за это расплачиваться. Тогда как социолог не может подстраховаться, проводя эксперименты, и если его рекомендации оказываются неправильными, то последствия могут оказаться неисчислимыми. Он несет гораздо большую ответственность, но при этом не уверен в результате.
Более того, в экспериментальных науках ученые разрешили для себя дилемму мысли и действия. Физик-экспериментатор осуществляет какое-то действие в специально созданных для этого условиях, где процесс может быть по его желанию повторен, а затем, на досуге, анализирует результаты его протекания. Тогда как ученый-социолог постоянно мучается над этой дилеммой. Если он сидит в библиотеке и на досуге обдумывает интересующие его процессы, то должен полагаться исключительно на случайные и скудные печатные сведения, содержащиеся в официальных отчетах, газетах и интервью. Если же он выходит в «мир», где и происходят социальные процессы, то должен пройти долгий, иногда мучительно пустой путь ученичества, прежде чем получит доступ в святая святых, где принимаются решения. Он не может погрузиться в деятельность, а потом, когда потребуется, оставить ее. Не существует привилегированных наблюдателей. Человек дела, постигающий внутреннюю сторону того, что социолог знает только извне, и признающий, что гипотеза социолога не подлежит проверке лабораторными методами и что верификация этой гипотезы возможна только в «реальном» мире, придерживается не особо высокого мнения о социологах, которые не разделяют его взглядов на государственную политику.
В глубине души социолог разделяет эту оценку, поскольку не испытывает большой уверенности в своей работе. Он только наполовину верит тому, что делает, и, не будучи ни в чем уверенным, не может найти убедительного основания, чтобы настаивать на собственной свободе мысли. Чем может социолог обосновать ее, не вступая в конфликт с совестью?[388] Получаемые им эмпирические данные не точны, верификация невозможна. Самые лучшие его качества — источник разочарований. Ведь если он действительно критически настроен, пропитан духом науки, то не может быть доктринером и биться насмерть против членов правления, студентов, Гражданской федерации и консервативной прессы за теорию, в которой он сам не уверен. Если вы отправляетесь на Армагеддон[389], то должны сражаться за Господа, тогда как политолог всегда сомневается, призвал ли его Господь.
Таким образом, если столь обширная часть социальной науки носит скорее апологетический, чем конструктивный, характер, то объяснение тому кроется в возможностях социальной науки, а не в «капитализме». Ученые-физики добились независимости от церкви, выработав метод исследования, приводящий к таким выводам, которые не могут быть запрещены или проигнорированы. У них появилось чувство собственного достоинства и уверенность в том, за что они сражаются. Социолог обретет чувство собственного достоинства и силу, когда разработает свой метод. Это произойдет, когда он воспользуется потребностью руководителей Великого Общества в механизме анализа, благодаря которому невидимая и огромная среда стала бы понятной. Однако в настоящий момент социолог собирает данные из разнообразных не связанных друг с другом источников. Исполнительная власть фиксирует социальные процессы нерегулярно. Доклад на заседании конгресса, дебаты, расследование, полицейские сводки, перепись населения, тарифные ставки, шкала налогов; материал, подобный черепу древнего человека, найденному в Пилтдауне[390], — все это должно быть собрано воедино в искусную гипотезу, прежде чем студент получит картину изучаемых событий. Несмотря на то, что она связана с сознательной жизнью его сограждан, очень часто она крайне трудна для понимания, потому что ученый, который пытается обобщить данные, не может контролировать, как собираются эти данные. Представьте, что медицинским исследованием занимаются ученые, которых изредка допускают в клиники, которым не разрешено ставить эксперименты на животных и которые вынуждены делать выводы, основываясь на рассказах людей, перенесших болезнь, медсестер, каждая из которых ставила собственный диагноз, статистики, подготовленной Налоговым управлением, исходя из прибыли, полученной фармацевтическими компаниями. Социолог обычно извлекает все возможное из категорий, которые принимаются без критики чиновниками, исполняющими закон, отправляющими правосудие, преследующими, разбирающими иски или собирающими доказательства. Ученому это известно, и, защищаясь, он разрабатывает направление в науке, позволяющее учитывать, что собранная им информация может не приниматься в расчет.
Подобная позиция, безусловно, добродетель, но ее добродетельность меркнет в том случае, если она служит исключительно для исправления нездорового положения, сложившегося в социальной науке. Ученый обречен делать долговременные прогнозы развития событий в неясно понимаемой ситуации. Но эксперт, которого наняли в качестве посредника между представителями и в качестве зеркала и эталона администрации, видит события по-другому. Вместо того чтобы обобщать факты, которые поставляют ему люди действия, эксперт сам готовит факты для людей действия. Это кардинальное изменение его стратегического положения. Он больше не остается в стороне, пережевывая жвачку, предоставленную ему практиками, но принимает непосредственное участие в принятии решений. Сегодня практик обнаруживает факты и, основываясь на них, лично принимает решение; затем, некоторое время спустя, социолог вычисляет отменные причины того, почему практик поступил правильно или неправильно. Эти ex post facto[391] отношения являются, по сути дела, академическими в худшем смысле слова. В идеале же сначала незаинтересованный эксперт находит факты и формулирует, что должен делать практик, а затем строит гипотезы, сравнивая предложенное им решение и систематизированные им факты.
4
Для физики это изменение стратегической позиции началось постепенно, но затем быстро прогрессировало. Некогда изобретатель и инженер были романтическими аутсайдерами, которых все считали чудаками. Торговцы и ремесленники знали все секреты их мастерства. Затем эти секреты становились все сложней и таинственней, и, наконец, физические законы и химические реакции, не видимые глазом и доступные только подготовленному уму, легли в основу развития промышленности. Ученый перебрался со своей почтенной мансарды в Латинском квартале в административные здания и лаборатории. Ведь только он мог сконструировать работающую модель действительности, которая лежала в основе промышленности. От этих новых отношений он получал столько же, сколько отдавал, а то и больше: чистая наука развивалась быстрее, чем прикладная, оттягивая на себя финансирование, вдохновляющие идеи, значимость от постоянных контактов с практическим решением. Но развитие физики затрудняли серьезные ограничения, поскольку люди, принимающие решения, руководствовались только здравым смыслом. Они управляли, не имея научной поддержки, миром, который усложнили ученые. И снова им приходилось иметь дело с фактами, которых они не понимали. И как ранее им пришлось призвать на помощь инженеров, теперь им пришлось обратиться к статистикам, бухгалтерам, экспертам.
Эти исследователи-практики были настоящими пионерами новой социологии. Они пребывали «в согласии с ведущим колесом»[392] и от этого практического взаимодействия науки и практики выиграли обе стороны: практика проясняла гипотезы, а гипотезы поверялись практикой. Сейчас мы находимся в самом начале пути. Но если признать, что во всех крупных формах сотрудничества людей, вследствие их явной сложности, присутствуют лица, ощущающие необходимость экспертной оценки их специфической среды, то воображение получает предпосылку для работы. В обмене техническими тонкостями и результатами внутри штата экспертов, мне кажется, можно увидеть зарождение экспериментального метода в социологии. Когда каждый школьный округ, бюджет, отдел здравоохранения, фабрика и перечень тарифов служат источником знаний для каждого второго, число сопоставимых впечатлений начинает достигать масштабов подлинного эксперимента. В том случае, если велись соответствующие записи и они доступны исследователям, в сорока восьми штатах, 2400 городах, 277 000 школах, 270 000 фабриках, 27 000 шахтах и каменоломнях содержатся невероятные богатство и опыт. И хотя использование метода проб и ошибок слегка рискованно, любая разумная гипотеза должна добросовестно проверяться, не сотрясая при этом основы общества.
Первый шаг в эту сторону был уже сделан не только руководителями промышленных предприятий и государственными деятелями, нуждавшимися в помощи, но и исследовательскими отделами при муниципалитетах[393], библиотеками справочной юридической литературы, специализированными лобби корпораций и профсоюзов и государственных программ, добровольными организациями типа Лиги женщин-избирательниц, Лиги потребителей, Ассоциации производителей, сотнями торговых организаций и гражданских союзов; публикациями, подобными Searchlight on Congress и Survey, и организациями, подобными Отделу общего образования. Нельзя сказать, что они не заинтересованы в результатах такого процесса. Но не в этом дело. Все они начали доказывать необходимость того, чтобы между гражданином и обширной средой, в которую он включен, стоял эксперт.
Глава 26 Информационное обеспечение
1
Практика демократии опередила теорию. Ведь теория гласит: взрослые избиратели, в целом, принимают решение, опираясь на свою волю. Но поскольку в реальном обществе выросли правящие иерархии, которые оказались невидимыми в теории, в избирательном процессе отразилась конструктивная адаптация к этим иерархиям, также не учтенная в представлении о демократии. На практике были найдены способы представления многих интересов и функций, которые обычно остаются невидимыми.
Лучше всего это видно в нашей теории судебных органов, когда мы объясняем их законодательную силу и их вето в соответствии с теорией, что существуют интересы, которые следует учитывать и которые могут быть забыты избранными должностными лицами Но Комиссия по переписи населения, занимаясь подсчетом, классификацией и установлением соотношений между людьми, вещами и изменениями, также говорит о невидимых факторах среды. Геологическая съемка выявляет скрытые запасы минералов, министерство земледелия представляет на заседаниях государственного совета совокупность данных, лишь ничтожная часть которых известна отдельному фермеру. Школьное руководство, Комиссия по тарифам, консульская служба, Налоговое управление представляют людей, идеи и предметы, которые никогда автоматически не оказываются представленными в подобной перспективе с помощью выборов. Комиссия по делам детства также представляет целый комплекс интересов и функций, которые обычно не видны избирателю и поэтому не могут стихийно стать частью его общественного мнения. Так, публикация сравнительных статистических данных детской смертности обычно приводит к снижению уровня смертности среди младенцев. До публикации этих сведений в картине мира муниципальных чиновников и избирателей нет места этим младенцам. Статистика делает их видимыми, как будто сами младенцы принимают участие в выборах членов городского управления, чтобы те реагировали на их жалобы.
В Государственном департаменте сохраняется Дальневосточный отдел. Для чего он нужен? Ведь в Вашингтоне существуют посольства Японии и Китая. Неужели они не достаточно квалифицированны, чтобы говорить от имени Дальнего Востока? Они являются его представителями. Никто не будет спорить, что американское правительство может узнать все необходимое о Дальнем Востоке, проконсультировавшись с послами этих стран. Даже если предположить, что они искренни в меру своих представлений об искренности, их каналы информации все равно ограничены. Поэтому, для того чтобы их дополнить, мы содержим посольства в Токио и Пекине и консульские отделы во многих других местах. Я также допускаю, что у нас есть секретные агенты. Эти люди должны посылать отчеты, которые, поступая в Дальневосточный отдел, попадают затем к государственному секретарю. Чего ожидает секретарь от Дальневосточного отдела? Я знаю одного госсекретаря, который рассчитывал, что этот отдел будет делиться своими ресурсами. Но существуют и такие госсекретари, которым отказывают в услугах, и они вынуждены обращаться за помощью к своим собственным отделам. Меньше всего они нуждаются в тщательном обосновании американской политики.
Госсекретари требуют, чтобы эксперты выложили на стол секретаря Дальний Восток во всех его подробностях, чтобы у него сложилось впечатление полного контакта с этим регионом. Предполагается, что эксперт переведет, обобщит и упростит поступившую к нему информацию. Его вывод должен быть приложим к Востоку, причем он не может основываться только на данных отчета. Если госсекретарь чего-то стоит, то он не потерпит, если эксперты будут проводить свою собственную «политику». Он не хочет знать, нравится ли им японская политика в Китае. Он хочет знать, что разные классы китайцев, японцев, англичан, французов, немцев и русских о ней думают и что они скорее всего сделают, придерживаясь таких взглядов. Госсекретарь желает получить от экспертов сведения, на основе которых можно принимать решения. Чем более точную информацию, не доступную из других источников — от посла Японии в США или посла США в Японии, от сенаторов и конгрессменов с побережья Тихого океана, — предоставит отдел, тем лучше госсекретарь выполнит свои обязанности. Он может принять решение проводить официальную политику на основании мнений, идущих с тихоокеанского побережья, но составит свое представление о Японии на основании данных, поступивших из Японии.
2
Не случайно лучшая дипломатическая служба в мире основана на четком разведении двух типов деятельности: сбора информации и контроля над политикой. Во время войны в британских посольствах и в Министерстве иностранных дел Великобритании практически всегда на службе состояли чиновники или особо уполномоченные лица, которые успешно опровергали доминирующие взгляды на ход войны. Они отказывались играть в глупую игру, требовавшую от каждого быть либо «за», либо «против», отдавать предпочтение одним национальностям перед другими и держать свои мысли при себе, и оставляли это политическому руководству. В то же время в одном американском посольстве я как-то слышал, как посол говорил, что никогда не сообщает в Вашингтон сведений, которые не ободрили бы сограждан. Он очаровывал всех, с кем знакомился, поддерживал многих защитников отечества и великолепно смотрелся на церемониях открытия памятников.
Он не понимал, что сила эксперта зависит от его способности отделять себя от тех, кто принимает решение, от способности не думать, какое решение принимается. Человека, который, подобно нашему послу, занимает определенную позицию и вмешивается в процесс принятия решения, вскоре начинают игнорировать: «Ну, вот еще один… Знает, что надо делать…» Ведь когда он начинает проявлять слишком большой интерес, то начинает видеть то, что хочет, и, тем самым, перестает видеть то, что призван видеть. Эксперт занимает свою должность, чтобы репрезентировать невидимое. Он призван представлять людей, не принадлежащих к числу избирателей, неявные функции избирателей, события, не попадающие в поле зрения, людей, немых от рождения, тех, кто еще не родился, отношения между вещами и людьми. Его избиратели неосязаемы, с таким контингентом нельзя завоевать политическое большинство, ведь голосование — это в конечном итоге проверка силы, сублимированная борьба, а эксперт репрезентирует силу, которая не доступна в ощущении непосредственно. Но он может продемонстрировать свою мощь, спутав расстановку сил. Обратив невидимое в видимое, он предъявляет людям, обладающим материальной силой, новую среду, приводит их мысли и чувства в движение, выбивает их из привычной колеи и, тем самым, оказывает глубочайшее воздействие на принятие решения.
Люди не могут в течение долгого времени действовать, противореча своему восприятию среды. Если они склонны придерживаться определенного способа действий, то должны изменить восприятие среды, подвергнуть ее цензуре и рационализировать. Но если они сталкиваются с каким-то фактом, упрямым настолько, что от него нельзя отмахнуться, то могут выбрать один из трех путей. Люди могут упорно его игнорировать, хотя им придется принуждать себя, утрировать свою роль и, в конце концов, впасть в отчаяние. Они могут принять этот факт во внимание и отказаться от каких-либо действий, заплатив за отказ внутренним дискомфортом и разочарованием. Или, как это обычно бывает, они могут адаптировать свое поведение к расширенной среде.
Представление, что эксперт — влиятельная персона, потому что он предоставляет другим возможность принимать решения, в достаточной мере противоречит опыту. Чем тоньше составляющие, из которых складывается решение, тем более призрачной властью обладает эксперт. Но его власть в будущем явно возрастет, потому что все большее число важных фактов будет ускользать от внимания избирателя и должностного лица.
Все руководящие органы будут стремиться организовывать информационно-исследовательские отделы, которые будут выпускать свои щупальца и расширяться, как расширяются разведывательные органы всех армий мира. Но эксперты сохранят человеческую сущность. Они будут получать удовольствие от обладания властью, испытывать искушение взять на себя роль цензора и тем самым — функцию принятия решения. Если их функция определена нечетко, то они будут испытывать желание передавать только те факты, которые считают относящимися к делу, и соглашаться только с теми решениями, которые одобряют. Короче, они могут превратиться в бюрократию.
Единственным институциональным способом предотвратить подобное развитие событий является абсолютное разведение исполнителей и тех, кто собирает информацию. Это должны быть параллельные, но совершенно разные группы людей, которые нанимаются отдельно, получают зарплату из разных фондов, подчиняются разным лицам и в принципе не интересуются успехами друг друга. В промышленности аудиторы, бухгалтеры и инспекторы должны быть независимы от управляющего, от руководителей высшего звена, бригадиров. Со временем, я думаю, мы убедимся в том, что для осуществления общественного контроля над промышленностью механизм регистрации данных не должен зависеть от совета директоров и акционеров предприятий.
3
При организации отделов по сбору политической и промышленной информации мы не начинаем с нуля. И, оговорив разделение функций, нет смысла подробно оговаривать, в какой именно форме должен осуществляться этот принцип в конкретных случаях. Одни люди верят в сбор информации и обеспечение ею и согласятся с этой формой деятельности; другие ее не понимают, но не могут без нее делать свое дело; третьи будут против нее возражать. Если этот принцип найдет себе определенное место в каждом социальном учреждении, он будет развиваться дальше. Главное — начать ему следовать. Например, в федеральном правительстве нет необходимости распутывать административный клубок и наводить порядок в нелогичном, исторически сложившемся дублировании, для того чтобы найти место информационным бюро, в которых так сильно нуждается Вашингтон. Перед выборами можно пообещать, что вы смело броситесь в атаку на эту путаницу. Но когда вы, на последнем издыхании, достигнете желанной цели, то обнаружите, что за всяким абсурдным элементом организации стоят привычки, сильные заинтересованные группы и обаятельные конгрессмены. Если вы атакуете их ряды, то вызовете ответный огонь из всех видов оружия. Предпринимающий прямую атаку обречен на гибель. Вы можете сократить какой-нибудь допотопный отдел, можете избавиться от горстки клерков, объединить пару подразделений. А потом вы займетесь тарифами и железными дорогами, и эпоха реформ завершится. К тому же, для того чтобы осуществить действительно последовательную реорганизацию правительства, подобную той, которую всегда обещают осуществить кандидаты, вам придется возбудить столько страстей, сколько никогда не удастся успокоить. И каждая новая схема — предположим, что вы ее уже построили, — должна быть обеспечена кадрами. Что бы ни говорили о чиновниках, но даже Советская Россия вынуждена была поклониться старым кадрам, и эти старые кадры, если с ними станут обращаться слишком грубо, начнут саботировать саму утопию.
Никакая схема управления не может работать, не будучи подкрепленной доброй волей, а добрая воля в отношении к незнакомым порядкам невозможна без образования. Самый лучший способ заставить схему работать состоит в том, чтобы ввести в уже действующий механизм (если поймете, как в него проникнуть) такие организации, которые будут день за днем, неделя за неделей служить зеркалом отражения происходящего. Тогда вы можете надеяться сделать этот механизм видимым для тех, кто им управляет, для тех, кто за него отвечает, и для публики, находящейся снаружи[394]. Когда должностные лица начинают видеть самих себя или когда начальники, подчиненные и даже посторонние люди начинают видеть одни и те же факты, или — если вам угодно — одни и те же убийственные факты, то помехи и искажения уменьшатся. Мнение реформатора о том, что какой-либо отдел неэффективен, — это его личное мнение, неприятное как для отдела, так и для эксперта.
Но если работа этого учреждения будет фиксироваться и анализироваться, а затем сравниваться с работой других государственных учреждений и частных корпораций, то уровень аргументации перейдет в другую плоскость.
В Вашингтоне существует десять министерств, чьи главы образуют кабинет министров. Предположим, что в каждом министерстве будет существовать свой информационный отдел. Каковы будут условия эффективности его работы? Прежде всего, чиновники, отвечающие за информационное обеспечение, должны быть независимыми как от комитетов Конгресса, взаимодействующих с этим министерством, так и от министра. Они не должны участвовать ни в принятии решений, ни в их реализации. Независимость чиновников должна касаться трех аспектов: средств, гарантий рабочего места и доступа к фактам. Ведь очевидно, что если какой-то работник Конгресса или министерства может лишить их финансирования, уволит или закроет доступ к архиву, то информационный отдел становится полностью от него зависим.
4
Вопрос о финансовых средствах является одновременно важным и сложным. Никакое ведомство, занимающееся исследованиями, не может быть действительно свободным, если оно зависит от ежегодных подачек Конгресса, который может быть или скупым, или, напротив, — щедрым. Тем не менее общий контроль над средствами нельзя исключать из числа функций законодательной власти. Финансирование информационного отдела должно быть организовано так, чтобы защищать сотрудников от неожиданных атак и подвохов, оградить отдел от коварных посягательств на его уничтожение и в то же время обеспечивать его развитие. Штат информационного отдела должен быть так хорошо защищен, что выступления против его существования должны были бы производиться в открытую. Отдел может работать в соответствии с федеральным указом о создании доверительного фонда и скользящей шкалы на протяжении какого-то периода, на основании выделения средств департаменту, к которому принадлежит информационное бюро. В любом случае, не требуется особых финансовых средств. Доверительный фонд может покрывать накладные расходы и амортизационные отчисления для какого-то минимального штата, скользящая шкала может покрывать расширение штата. Так или иначе, выделение средств должно быть защищено от стихийных ущербов, подобных платежам по долговременным обязательствам. Это гораздо менее серьезный способ «связывания Конгресса по рукам и ногам», чем принятие конституционной поправки или выпуск государственных облигаций. Конгресс может аннулировать указ. Но он должен будет аннулировать его, а помешать его действию он не сможет.
Должность чиновника информационного отдела должна быть пожизненной. При выходе в отставку он должен получать щедрую пенсию. Ему должна предоставляться возможность долговременных отпусков для повышения квалификации. Отстранение от работы должно производиться только при условии экспертной оценки его деятельности. Также должны соблюдаться условия, которые обеспечиваются людям, занимающимся некоммерческим интеллектуальным трудом. Если работа важная, то людям, ее исполняющим, следует гарантировать социальную защищенность. И по крайней мере те из них, кто имеет высшие ранги, должны обладать той свободой ума, которая присуща лишь людям, не обремененным необходимостью принимать немедленные практические решения.
Сотрудники отдела должны иметь свободный доступ к рабочим материалам. Они должны иметь право анализировать все доклады и статьи и задавать вопросы любому как официальному, так и постороннему лицу. Процесс исследования ситуации должен быть непрерывным. Он не должен напоминать сенсационные запросы законодательных органов и эпизодическое выуживание фактов, столь свойственные работе нашего правительства в настоящее время. Отдел должен предлагать департаменту методы ведения бухгалтерии, а если его предложение отвергается или нарушается после принятия, то обладать правом апелляции к Конгрессу на основании уже упомянутого указа.
В идеале каждый информационный отдел служит связующим звеном между Конгрессом и Департаментом, по-моему, гораздо более удачным звеном, чем появление членов кабинета на территории Палаты представителей и Сената, хотя одно не мешает другому. Отдел должен быть оком Конгресса, наблюдающим за исполнением его политики. Это будет ответ министерства на критику со стороны Конгресса. И тогда, поскольку функционирование министерства будет постоянно видимым, Конгресс, вероятно, перестанет чувствовать необходимость мелкого законодательства, рожденного из недоверия и ложного учения о разделении властей, которое так препятствует эффективному управлению.
5
Разумеется, каждый из десяти отделов не может работать в условиях абсолютной изоляции. Их взаимоотношения предоставляют прекрасные шансы для «координации», о которой так много говорится, но которая так плохо осуществляется. Очевидно, что разные отделы должны — там, где это возможно, — принять сопоставимые стандарты измерения. Они должны обмениваться имеющимися в их распоряжении фактами. Таким образом, если военный департамент и министерство почт покупают древесину, нанимают плотников или возводят кирпичные стены, им не обязательно осуществлять эти операции через одно и то же учреждение, поскольку это приведет к громоздкой сверхцентрализации, но они должны пользоваться одними и теми же единицами измерения для одинаковых вещей и иметь в виду, что их деятельность подлежит сравнению. Кроме того, они должны рассматриваться как конкуренты. И чем больше они конкурируют друг с другом, тем лучше.
Ведь ценность конкуренции определяется ценностью стандартов, используемых для ее измерения. Таким образом, вместо того чтобы задаваться вопросом, верим ли мы в конкуренцию, мы должны задаваться вопросом, верим ли мы в то, за что ведется конкуренция. Ни один человек в здравом уме и трезвой памяти не собирается «отменять конкуренцию», поскольку если исчезнут последние следы соперничества, то устремления общества сведутся к механическому подчинению рутине, нарушаемому редкими всплесками инициативы на местах. Тем не менее никто не собирается доводить конкуренцию до абсурда, воплощенного в кровавой борьбе всех против всех. Проблема состоит в том, чтобы выбрать цели соревнования и правила игры. Практически всегда правила игры определяет наиболее видимый и очевидный стандарт измерения. Сюда относятся деньги, власть, популярность, одобрение или вебленовское показное потребление. Какие еще стандарты измерения обычно используются в нашей цивилизации? Как измеряются эффективность, продуктивность, качество обслуживания, за которые мы выступаем?
В общем и целом, здесь не существует никаких количественных мер, поэтому нет и особой конкуренции при достижении этих идеалов. Ведь различие между высокими и низменными мотивами состоит не в различии между альтруизмом и эгоизмом, как это принято считать[395]. Оно состоит в различии между стремлением к более легко достижимым целям и стремлением к смутным и неясным целям. Убедите какого-нибудь человека, что ему нужно получить больший доход, чем получает его сосед, и он будет знать, к чему стремиться. Убедите его в том, чтобы он больше сил уделял служению обществу. Но как он узнает, какую свою деятельность он может считать общественным служением? Как это проверить? Какие здесь мерки? Субъективное представление, чье-то мнение. Скажите человеку в мирное время, что он должен служить своему отечеству, и это прозвучит как ханжество и банальность. Скажите ему то же самое, но в военное время, и слово «служение» наполнится смыслом. Оно будет обозначать ряд конкретных поступков: подписку на государственные облигации или их покупку, экономию продуктов питания, работу за мизерную зарплату, и каждый вид служения он будет обязательно считать частью конкретной цели: способствовать созданию армии, более сильной и лучше вооруженной, чем армия врага.
Таким образом, чем лучше вы анализируете управление и разрабатываете элементы, которые можно сравнивать между собой, тем больше вы изобретаете количественных параметров для измерения качеств, которые вы хотите продвигать в жизнь, тем лучше вы можете использовать конкуренцию для достижения идеальных целей. Если вы можете разработать удобные числовые показатели[396], то вы можете организовать соревнование между рабочими в рамках цеха; соревнование между цехами, фабриками, школами[397], государственными департаментами, дивизиями, штатами, округами и городами. И чем лучше ваша система числовых показателей, тем полезнее соревнование.
6
Возможности, которые дает обмен материалами, очевидны. Каждое министерство постоянно запрашивает сведения, которые уже могли быть получены другим министерством, хотя, вероятно, и в несколько иной форме. Предположим, Государственный департамент хочет знать объем запасов нефти в Мексике, их долю в мировых запасах, кому принадлежат права собственности на мексиканские месторождения нефти, сравнительные цены разных месторождений; значение работающих на дизельном топливе военных кораблей, как уже строящихся, так и тех, строительство которых запланировано. Как сегодня добыть такую информацию? Она, вероятно, рассредоточена по министерствам внутренних дел, юстиции, торговли, труда и военно-морскому министерству. Происходит так: или чиновник Государственного департамента читает статью о мексиканской нефти в справочнике, который может давать неточную информацию, или чей-то личный секретарь звонит другому личному секретарю и просит соответствующую докладную записку. В результате всех этих действий в Государственный департамент является курьер с целым ворохом невразумительных отчетов. А должно быть так: департамент делает запрос в свой информационный отдел, чтобы его сотрудники подобрали нужные сведения таким образом, чтобы они составили фактическую основу для решения дипломатических проблем. А эти сведения дипломатический информационный отдел должен получать из центрального бюро обработки информации[398].
Это учреждение достаточно скоро станет средоточием информации самого необычного рода. И работающие в нем люди осознают, с какими проблемами на самом деле сталкивается правительство. Они столкнутся с вопросами дефиниций, терминологии, техники статистики, логики. Им придется иметь дело с широким спектром социальных наук. Трудно понять, почему весь этот материал, за исключением отдельных дипломатических и военных секретов, не открыт для всех исследователей. Именно в этой области политолог может найти реальные проблемы, которые надо решать, и реальные темы для студенческих работ. Не вся эта работа должна проводиться в Вашингтоне, но она должна делаться с учетом потребностей Вашингтона. Следовательно, центральное бюро должно взаимодействовать с государственным университетом. Штат бюро может набираться из выпускников университета. Студенты могли бы работать над темами диссертаций, сформулированными в результате совместных консультаций преподавателей государственного университета и преподавателей высших учебных заведений, разбросанных по всей стране. Если кооперация между этими учреждениями окажется настолько гибкой, насколько это необходимо, то помимо постоянных работников можно будет привлекать на временную работу специалистов и лекторов из разных университетов. Так обучение и набор кадров будут проходить одновременно. Часть исследований будет осуществляться студентами, и тем самым учебная политология окажется связанной с политикой Америки.
7
В основных чертах этот принцип приложим и к правительствам штатов, городов и сельских округов. Работа по сравнению информации и обмену ею могла бы осуществляться федерациями окружных, городских комитетов и комитетов штатов. А в рамках этих федераций может быть организовано любое объединение организаций, в котором есть необходимость на местном уровне. Если бы системы учета данных были соизмеримыми, то можно было бы избежать дублирования работы. Особенно желательна координация на региональном уровне. Ведь административные границы часто не совпадают с природными. Однако административные границы укоренены в определенных традициях, нарушение которых чревато последствиями. Координируя свои информационные ресурсы, несколько территорий могли бы найти компромисс между независимостью решений и кооперацией. Например, Нью-Йорк уже не подлежит нормальному управлению на уровне муниципалитета. Тогда как во многих сферах, в частности здравоохранении и транспорте, подходящей единицей управления является округ. В этот округ, конечно, могут входить большие города, например Йонкерс, Джерси-Сити, Патерсон, Элизабет, Хобокен, Бейонн. Они не подлежат управлению из одного центра, и тем не менее для выполнения некоторых функций они должны действовать сообща. Вероятно, гибкая схема действия местного управления, предложенная Сидни и Беатрис Вебб, является верным решением этой проблемы[399]. Однако первым шагом должна быть координация, но не решений и действий, а информации и исследований. Пусть представители разных муниципалитетов увидят свои общие проблемы в свете одних и тех же фактов.
8
Было бы бессмысленно отрицать, что подобная сеть информационных бюро в политике и промышленности может стать мертвым грузом и источником неприятностей. Можно легко представить себе, что подобные организации окажутся привлекательными для искателей необременительной работы, для доктринеров и зануд. Воображение рисует волокиту, горы бумаг и анкет по самым пустяковым вопросам, бесконечное размножение каждого документа, подписи, отсрочки, потерянные бумаги, замену «формы 136» на «форму 29б», возвращение документа на доработку, потому что его нужно обязательно писать чернилами, а не карандашом, черными чернилами, а не красными. При этом работа может быть выполнена отвратительно, поскольку не существует общественного института, который проверял бы ее качество.
Но если будет происходить циркуляция между всеми составляющими государственной системы — между государственными департаментами, фабриками, учреждениями и университетами, циркуляция людей, сведений и критики, то опасность того, что система загниет, уменьшится. Неправильно было бы также утверждать, что организация информационных бюро осложнит жизнь. Напротив, она должна упростить ее, выявив всю нечеловеческую сложность социальной системы. Невидимая в своей сущности современная система управления так запутанна, что большая часть людей отчаивается в ней разобраться, а поскольку они и не пытаются этого делать, то поддаются искушению считать ее относительно простой. Тогда как на самом деле она скрыта, неуловима, темна. Использование системы обеспечения информацией будет означать уменьшение числа сотрудников на единицу результата, поскольку это обеспечит доступность любых сведений для каждого заинтересованного лица. Такая система уменьшит необходимость использования метода проб и ошибок и, сделав социальные процессы видимыми, поможет управленцам быть самокритичными. Она не приведет к значительному дополнительному увеличению числа должностных лиц, если принять во внимание то колоссальное время, которое впустую тратится специальными комитетами и комиссиями, коллегиями присяжных, окружными прокурорами, организациями по реформированию разных структур и руководителями учреждений, пытающимися сориентироваться в дебрях разнообразных сведений.
Если анализ общественного мнения и демократических теорий в той их части, которая относится к современной социальной среде, надежен в принципе, то я не вижу, как можно не прийти к выводу о том, что такая работа по обеспечению информации приведет к улучшению ситуации. Я не имею в виду те немногие предложения, которые были изложены в данной главе. Это просто иллюстрации моих соображений. Разработка технического аппарата для выполнения задачи информационного обеспечения находится в руках людей, обладающих соответствующей квалификацией. И даже сегодня они еще не понимают, в какой форме эта задача будет решена, не говоря уже о деталях. Число регистрируемых сегодня социальных явлений невелико, инструменты анализа грубы, концептуальный аппарат неточен и критически не осмыслен. Однако, по-моему, достаточно много было сделано для того, чтобы показать, что достоверные сведения о невидимой среде можно сообщать разным группам людей, причем делать это способами, нейтральными относительно их предрассудков и способствующими преодолению их субъективизма.
Если это так, то при разработке принципа информационного обеспечения (intelligence principle) будет найден способ преодоления главной проблемы самоуправления — проблемы оперирования невидимой средой. Эта проблема в любом самоуправляющемся обществе делала невозможным примирение его потребности в изоляции с необходимостью широких контактов; сочетание независимости и индивидуальности внутренних решений с безопасностью и широкой координацией; обеспечение эффективного лидерства, лишенного жертвенности; достижение полезных общественных мнений, не претендующих на универсальность представлений по всем актуальным вопросам. Поскольку не существовало способа достижения общих представлений о невидимых событиях, общих мерок для оценки отдельных действий, то единственным образом демократии, который работал хотя бы теоретически, был образ, основанный на изолированном сообществе людей, чьи политические способности были ограничены, в соответствии с известной максимой Аристотеля, их полем зрения.
Сейчас появился способ выхода из этого положения, способ достаточно сложный, но все-таки надежный. Фактически, это тот же самый способ, что позволил гражданину Чикаго (зрение которого не лучше, чем зрение афинянина) увидеть и услышать то, что происходит на далеком от него расстоянии. Сегодня это стало просто, завтра будет еще проще, после того как в осуществление этого дела будет вложено еще больше труда, когда будут уменьшены разрывы между воспринимаемой средой и средой, предпринимающей необходимые действия. Когда это будет сделано, федерализм будет все чаще работать на основе согласия и все реже — на основе принуждения. А поскольку федерализм — это единственный возможный метод достижения союза самоуправляющихся групп[400], маятник федерализма качается либо в сторону централизации, либо в сторону местной анархии, если государственный союз не основывается на правильно понятых и общепринятых представлениях о вопросах, имеющих федеральное значение.
Никакая система выборов, никакие манипуляции отдельными территориями, никакие изменения в системе собственности не доходят до корней проблемы. Вы не можете добиться от человеческих существ большей политической мудрости, чем та, которой они наделены. И ни одна реформа, какой бы сенсационной она ни была, не является подлинно радикальной, если она целенаправленно не обеспечивает способа преодоления субъективизма человеческого мнения, основанного на ограниченности индивидуального опыта. Существуют системы управления, голосования и представительства, которые достигают своих целей лучше, чем другие. Но, в конце концов, знание должно исходить не от сознания, а от среды, с которой имеет дело это сознание. Когда люди действуют исходя из принципа обеспечения информацией, они занимаются поиском фактов, на которых можно основывать решения. Когда они игнорируют этот принцип, то погружаются в самих себя и обнаруживают только то, что содержится в них самих. Они развивают собственные предрассудки, вместо того чтобы увеличивать свои знания.
Глава 27 Обращение к общественности
1
В реальной жизни никто не действует исходя из того, что в его распоряжении находится общественное мнение по любой социальной проблеме, хотя этот факт обычно замутнен, если человек считает, что данной социальной проблемы не существует, поскольку по поводу этой проблемы у него нет никакого мнения. Но в теории нашей политики мы продолжаем думать более прямолинейно, чем лорд Брайс, который заметил, что «действие Мнения непрерывно»[401], даже если «его действие… связано только с общими принципами»[402]. Именно потому, что мы пытаемся думать о себе как о людях, мнения которых представляют собой континуум, и при этом плохо представляем себе, в чем состоит этот пресловутый общий принцип, на нас нападает страшная зевота, как только мы наталкиваемся на рассуждение, анализ которого требует чтения отчетов правительства, ознакомления со статистикой, схемами и графиками. Ведь все эти данные столь же запутаны, сколь и узкопартийная риторика, но гораздо менее занимательны.
Очень мало внимания уделяется любой концепции, в которой предполагается, что все граждане государства, изучив публикации всех информационных отделов, разберутся в ситуации и захотят решать те вопросы, которые никогда не вписываются ни в один общий принцип. Я не делаю такого предположения. Прежде всего, информационный отдел — это инструмент для человека дела, представителя народа, готового принимать решения, знающего свое дело. Поскольку этот отдел помогает им понять среду, в которой они работают, то их действия становятся видимыми. Тем самым они становятся более ответственными перед общественностью.
Таким образом, цель состоит не в том, чтобы нагрузить каждого гражданина экспертными мнениями по всем вопросам, а в том, чтобы перенести этот груз на ответственное лицо. Система обеспечения информацией играет роль источника общих сведений, а также средства контроля над ежедневной прессой. Но это ее вторичная роль. Ее главная задача состоит в том, чтобы помогать органам управления как в политике, так и на производстве. Спрос на помощь экспертов — бухгалтеров, статистиков, секретарей и т. п. — исходит не от общественности, а от людей, занимающихся общественными делами, которые уже не могут вести их методом эмпиризма. По своему предназначению и в своем идеале это в большей мере инструмент лучшей организации общественных дел, чем инструмент лучшего понимания, как плохо эти дела ведутся.
2
Отдельный гражданин, выступая как частное лицо или независимый избиратель, не будет разбираться в подобных документах. Однако с этим неизбежно сталкивается участник дискуссии по актуальной проблеме, член законодательного комитета или производственного совета. Отдельный гражданин, заинтересованный в данном конкретном деле, может, как это часто сейчас происходит, присоединиться к какому-нибудь добровольному обществу, которое нанимает специальных людей для изучения документов и проверки деятельности чиновников. Этот материал будет изучен газетчиками, специалистами и политологами. Но у постороннего — а каждый из нас является посторонним по отношению практически ко всем сторонам современной жизни — нет ни времени, ни желания, ни интереса, ни специальных средств для того, чтобы вынести свое суждение по какому-то вопросу. Управление текущими делами общества должно быть возложено на людей, которые видят общественные дела изнутри и работают в соответствующих условиях.
Широкая общественность может судить о том, являются ли эти условия соответствующими, только на основании оценки результата и процедуры до того, как событие имело место. Общие принципы, обеспечивающие непрерывность действия общественного мнения, являются, в сущности, принципами оценки процедуры. Посторонний может попросить экспертов сказать ему, были ли релевантные факты правильно рассмотрены; причем в большинстве случаев он не может сам решить, что релевантно и что заслуживает внимания. Посторонний может, вероятно, оценить, внимательно ли выслушали группы людей, заинтересованных в принятии данного решения; а если состоялось голосование, то было ли оно честным, и, вероятно, его заинтересует, был ли его результат честно принят. Он может следить за процедурой оценки ситуации, когда новости свидетельствуют о том, что за ней следить необходимо. Он может поднять вопрос, является ли сама процедура правильной, если ее результаты раз за разом противоречат его идеалам хорошей жизни[403]. Но если он будет стараться в каждом случае заменить собою процедуру оценки, выводить на сцену Общественное Мнение, подобно тому, как автор пьесы в критический момент развития событий вводит спасающего положение доброго дядюшку, он совершенно запутается. Он не сможет мыслить последовательно ни в одной ситуации.
Ведь практика обращения к общественности по различного рода сложным вопросам почти всегда означает желание избежать критики со стороны профессионалов, поскольку такая практика вовлекает в обсуждение вопросов огромную массу людей, у которых нет никаких шансов узнать, что происходит. Принятие решения зависит от тех, у кого самый громкий или самый завораживающий голос, кто лучше всех подает себя или имеет возможность выражать свое мнение в развернутых газетных статьях. Ведь даже если редактор газеты исключительно честен по отношению к «другой стороне», просто честности оказывается недостаточно. Может существовать несколько других «сторон», не упоминаемых ни одной из организованных и финансируемых узкопартийных групп.
Гражданин как частное лицо, атакуемый узкопартийными группами, претендующими на благосклонность его Общественного Мнения, вскоре, вероятно, убедится, что эти притязания не служат комплиментом его уму, но эксплуатируют его добродушие и оскорбительно занижают его способность понимать очевидное. Когда он вспомнит азы гражданского образования и подумает о сложности своей среды, то начнет анализировать правильность процедуры оценки. Но гражданин не будет лично заниматься проведением этого анализа, а переложит это бремя на плечи своего представителя и отвернется от тех, кто, отчаянно желая победить, бросается от круглого стола, чтобы первым сообщить сенсационную информацию репортерам.
Только настояв на том, что он не должен касаться проблем до тех пор, пока они не прошли процедуру оценки, гражданин современного государства может надеяться, что эти проблемы дойдут до него в доступной для понимания форме. Формулировки вопросов, сделанные человеком с узкопартийными взглядами, практически всегда состоят из целой серии фактов, изложенных в той последовательности, в какой он их наблюдал, но при этом вся масса фактов будет покрыта толстым слоем жира стереотипных фраз, нагруженных его эмоциями. Всегда держа нос по ветру, такой деятель выплывает из зала заседаний с какой-нибудь воодушевляющей идеей вроде Справедливости, Благосостояния, Американского Духа, Социализма. Находящийся извне гражданин на такие идеи реагирует испугом или восхищением, но он не в состоянии дать им оценку. Для того чтобы частное лицо смогло аргументировать свою позицию по данному вопросу, кто-то должен вытопить жир из предложенного ему продукта.
3
Этого можно достичь, если представитель граждан внутри данной системы будет проводить обсуждение ситуации в присутствии третьего лица — председателя или посредника, — направляющего обсуждение на аналитические данные, полученные от экспертов. Так должен функционировать любой представительный орган, рассматривающий вопросы, касающиеся отдаленных ситуаций. Допускается присутствие приверженцев узкопартийных взглядов, но оно должно уравновешиваться присутствием тех, кто не проводит своих личных интересов, кто достаточно владеет материалом и обладает способностью диалектически отличать реалистическое восприятие от стереотипа, от модели (pattern) и от переработанных версий. Это напоминает Сократов диалог, насыщенный желанием пробиться от слов к значениям и выйти на новые горизонты, поскольку диалектика современной жизни должна твориться людьми, столь же тщательно изучившими среду, сколь и человеческое сознание.
Таков, к примеру, тяжелейший спор в сталелитейной промышленности. Каждая сторона, участвующая в споре, выдвигает свой манифест, полный высших идеалов. Единственное общественное мнение, которое на данный момент заслуживает уважения, — это мнение, что нужно провести конференцию. Та сторона, которая говорит, что ее Дело слишком справедливо, чтобы оно было вынесено на обсуждение наряду с другими вопросами, вызывает мало симпатий, поскольку такого Дела нет ни у кого из смертных. Возможно, те, кто возражает против конференции, не говорят о Великом Деле буквально. Возможно, они утверждают, что противоположная сторона слишком безнравственна и они не могут пожать руку предателям. Единственное, что может сделать в такой ситуации общественное мнение, — это организовать слушания в присутствии должностных лиц для ознакомления с доказательствами безнравственности оппонентов. Ведь нельзя полагаться на мнение сторонников узкопартийных взглядов. Но предположим, принято решение о проведении конференции и конференция выбрала нейтрального председателя, за спиной которого стоят эксперты корпорации, профсоюза и, скажем, министерства труда.
Судья Гэри[404] совершенно искренне утверждает, что его люди получают прекрасную зарплату и не работают сверхурочно, а затем переходит к краткому очерку истории России от Петра Великого до убийства царя. За ним поднимается Уильям Фостер[405] и с такой же искренностью сообщает, что люди подвергаются эксплуатации, а затем переходит к истории освобождения человека от социального гнета от Иисуса из Назарета до Авраама Линкольна. В этот момент председатель обращается к сотрудникам информационной службы, чтобы те предъявили публике сведения по заработной плате и вместо слов «получают прекрасную зарплату» и «подвергаются эксплуатации» показали таблицу с данными о том, как на самом деле оплачиваются работники разных разрядов. Считает ли судья Гэри, что все они действительно хорошо оплачиваются? Да, считает. Считает ли Уильям Фостер, что все они подвергаются эксплуатации? Нет, он считает, что подвергаются эксплуатации разряды C, M и X. Что он имеет в виду под эксплуатацией? Он считает, что их зарплата меньше прожиточного минимума. Тогда как судья Гэри считает, что их зарплата соответствует прожиточному минимуму. «Что человек может купить на такую зарплату?» — спрашивает председатель. «Ничего», — говорит Уильям Фостер. «Все, что ему необходимо», — говорит судья Гэри. Председатель запрашивает правительственные статистические данные по бюджету и ценам[406]. Он провозглашает, что разряд X получает зарплату, соответствующую среднестатистическому потребительскому бюджету, тогда как разряды С и M — нет. Судья Гэри отмечает, что он не считает официальную статистику надежной. Бюджет слишком высок, а цены понизились. Фостер также высказывает свое мнение. Бюджет слишком низок, а цены повысились. Председатель провозглашает, что этот вопрос не входит в юрисдикцию конференции, что официальные цифры остаются в силе и что эксперты судьи Гэри и господина Фостера должны обратиться в постоянный комитет объединенного информационного отдела.
«Тем не менее, — говорит судья Гэри, — мы разоримся, если изменим шкалу заработной платы». «Что вы имеете в виду, когда говорите, что вы разоритесь, — спрашивает председатель, — предъявите свои бухгалтерские книги». «Я не могу этого сделать, — говорит судья Гэри, — это частное дело». «Частные дела нас не интересуют», — говорит председатель и делает заявление, что заработная плата рабочих разрядов С и M является настолько-то ниже официального прожиточного минимума и что судья Гэри отказывается повышать их по причинам, о которых не хочет говорить. После подобной процедуры по этому вопросу может существовать общественное мнение в высоком смысле[407] этого слова.
Ценность посреднической роли экспертов состоит не в формировании мнения, призванного убедить сторонников узкопартийных интересов, а в разрушении самой узкопартийной структуры. Судья Гэри и Уильям Фостер могут остаться при своих мнениях, хотя им придется выступать иначе. Но остальные, кто еще не присоединился к какой-то узкой группировке, этого уже не сделают. Поскольку стереотипы и лозунги, которые привлекают людей в такие группировки, легко развеиваются под воздействием подобной диалектики.
4
Наши впечатления, воспоминания и эмоциональные реакции, касающиеся очень многих вопросов, имеющих большое общественное значение и затрагивающих интересы разных людей, превращаются в нашем сознании в запутанный клубок. Одно и то же слово может означать любое число разных идей: эмоции смещаются от образов, к которым они принадлежат, к именам, которые напоминают имена этих образов. В не подвергаемых критике частях сознания лежит огромное количество ассоциаций, основанных на звуковых ассоциациях, взаимодействии и последовательности. Существуют совершенно случайные эмоциональные связи, существуют имена, которые когда-то были именами, а стали масками. В снах, мечтах и в состоянии паники мы обнаруживаем подобную беспорядочность, которая достаточна для того, чтобы увидеть, как организовано наивное сознание, как оно проявляет себя, когда разбужено осознанными усилиями и внешним сопротивлением. И мы убеждаемся в том, что здесь существует не больше естественного порядка, чем в заброшенной кладовке. Мы наталкиваемся на то же отсутствие соответствия между фактом, идеей и эмоцией, которое можно найти в оперном театре, где нерадивый костюмер сбросил в кучу все костюмы и потому Мадам Баттерфляй, одетая как валькирия, в задумчивости ожидает прихода Фауста. «На Святки, — говорится в колонке редактора одной газеты, — сердце человека смягчается. Мысленно возвращаясь в детство, мы вновь обращаемся к христианскому вероучению. Мир уже не кажется таким плохим, когда мы смотрим на него сквозь туман полувеселых, полугрустных воспоминаний о тех, кого мы любили и кто уже пребывает с Богом. Ни одно сердце не остается не затронутым таинственным воздействием этих чувств… Страна подорвана красной пропагандой, однако у нас достаточно веревок и фонарей… пока мир еще вертится, дух свободы будет гореть в сердцах людей».
Человек, который обнаружил в своем сознании эти фразы, нуждается в помощи. Ему нужен Сократ, который отделил бы слова друг от друга, помог бы дать им определения и поставить в соответствие идеям, то есть сделал бы так, чтобы они обозначали конкретный объект и ничего больше. Поскольку эти несколько слов стихийно связались в его сознании простой мыслью, объединившей его воспоминания о Рождестве, его консервативный гнев против красной пропаганды и его гордость наследника революционной традиции. Иногда этот клубок ассоциаций и впечатлений слишком велик и слишком древен, чтобы можно было его быстро распутать. Иногда, как показывает современная психотерапия, он образуется в результате многочисленных наслоений воспоминаний, восходящих к далекому детству, и все эти наслоения должны быть отделены друг от друга и поименованы.
Последствия именования, например последствия утверждения, что разряды С, М (но не X) получают недостаточную заработную плату, вместо утверждения, что Труд подвергается эксплуатации, иногда резки и болезненны. Воспринимаемые образы идентифицируются, возбуждаемые ими эмоции конкретизируются, поскольку подкрепляются широкими и случайными связями всего со всем, начиная с Рождества и кончая Москвой. Освобожденная из запутанного клубка понятий идея, обретя свое собственное имя и соответствующее эмоциональное сопровождение, намного более открыта корректировке под воздействием новых данных по этой проблеме. Первоначально она встроена в личность в целом, интегрирована в Эго, взятое в его целостности, поэтому на любое сомнение человек отзывается всей душой. После того как идея проходит критический анализ, она уже не является частью Меня, она становится чем-то. Она объективируется, перемещается в область, находящуюся в пределах досягаемости. Ее судьба уже связана не с моей судьбой, но с судьбой внешнего мира, в котором я действую.
5
Образование подобного рода поможет нашему общественному мнению войти в соприкосновение со средой. Таким образом могут быть ликвидированы чрезмерная цензура, стереотипирование и механизм драматизирования событий. Там, где релевантная среда открыта познанию, экспозиция сознания может быть поручена критику, учителю и врачу. Однако там, где среда в равной степени затемнена и для аналитика, и для ученика, одной аналитической техники не достаточно. Необходима работа интеллектуального характера. В проблемах политики и промышленности критик может что-то сделать, но, если он не располагает экспертными данными о состоянии среды, его диалектика будет иметь очень узкую область применения.
Поэтому в этой сфере, как и во многих других, «образование» является в высшей мере важным инструментом, а ценность этого образования будет зависеть от эволюции знания. Но наше знание о человеческих институтах до сих пор является необычайно скудным и импрессионистичным. Получение социального знания является в общем бессистемным. Оно не выступает естественным сопровождением действия. Но когда это произойдет, сбор информации не будет осуществляться во имя высшей цели. Он будет осуществляться потому, что этого требует современный механизм принятия решений. По мере того, как это происходит, аккумулируется корпус данных для политологических обобщений, которые образуют концептуальную картину мира. Когда эта картина обретет форму, гражданское образование сможет обеспечить подготовку для оперирования невидимым окружением.
Когда рабочая модель социальной системы становится доступной учителю, он может использовать ее, чтобы четко показать ученику, как его сознание воспринимает незнакомые факты. До тех пор, пока у него нет такой модели, учитель не может как следует подготовить учеников для взаимодействия с тем миром, с которым им предстоит встретиться. Он может подготовить их лишь к тому, чтобы они, взаимодействуя с миром, обращали побольше внимания на то, как действует их собственное сознание. Наставник может, на примере конкретных случаев, привить своему воспитаннику привычку исследовать доступные ему источники информации. Он может, например, приучить его, читая газету, смотреть, на какой полосе помещено заинтересовавшее его официальное сообщение, имя корреспондента, название пресс-службы, авторитет, со ссылкой на который делается это сообщение, обстоятельства, при которых было сделано данное высказывание. Может научить воспитанника задаваться вопросом, видел ли репортер сам то, что описывает, и как ранее этот репортер описывал другие события. Или рассказать о цензуре и секретности и показать примеры того, как проводилась пропаганда в прошлом. Может, путем корректного использования исторических примеров, подвести его к осознанию стереотипа и воспитать в нем привычку анализировать собственные ассоциации и образы, возникающие под воздействием печатного слова. С помощью курсов сравнительной истории и антропологии он подводит своего воспитанника к пониманию того, как коды накладывают свою систему (pattern) на воображение. Учитель может показать ученику, как он идентифицирует себя с этими аллегориями, как у него возникает интерес и как он выбирает жизненную позицию: героическую, романтическую, экономическую, которой придерживается, следуя определенному мнению.
Изучение ошибки является не только исключительно важной профилактической мерой, оно побуждает к изучению истины. По мере того как наше сознание все лучше понимает свою собственную субъективность, мы приобретаем вкус к объективному методу, к которому в противном случае не прибегаем. Мы отчетливо понимаем то, что невозможно понять без соответствующей подготовки, а именно: колоссальный вред и непреднамеренную жестокость наших предрассудков. А успешное избавление от предрассудков, хоть поначалу это весьма болезненно в силу их связи с самоуважением, приносит бесконечное облегчение и гордость. В результате наступает значительное расширение области внимания. Когда исчезают сложившиеся категориальные членения, то жесткая упрощенная картина мира распадается и окружающее предстает перед нами живым и объемным. Так возникает потребность в понимании научного метода, которую в иной ситуации очень трудно сформировать и невозможно постоянно поддерживать. Предрассудки намного легче усваиваются, и они намного интереснее. Ведь если вы учите научным принципам так, как будто они всегда были приняты обществом, их основное достоинство, состоящее в дисциплинировании ума, делает их скучными. Но если вы будете преподавать их как победу над предрассудками сознания, то увлекательный процесс поиска и открытия может помочь вашему воспитаннику совершить переход от своего собственного ограниченного опыта к той стадии, на которой любознательность сочетается с увлеченным разумом.
Глава 28 Обращение к разуму
1
Прежде чем остановиться на данном варианте заключительного раздела, я отправил несколько пробных вариантов в корзину для бумаг. Все они содержали в себе окончательность, налет которой обычно несут на себе последние главы, где каждая идея нашла свое место и все упомянутые автором тайны и загадки разрешены. Если действие разворачивается в сфере политики, то о герое нельзя написать, что он жил долго и счастливо и, завершив дела, скончался. Здесь не существует заключительных глав, поскольку у героя в политике больше будущего, чем прошлого. Писатель приступает к последней главе, когда ему в воображении является вежливый читатель, украдкой посматривающий на часы.
2
Когда Платон почувствовал, что может подвести итог рассуждениям, его уверенность в собственных выводах обратилась в страх, подобный страху перед выходом на сцену, поскольку он понял, насколько абсурдно будут звучать его мысли о месте разума в политике. Предложения, содержащие эту мысль, дались трудно даже Платону. Они столь прозрачны и столь категоричны, что люди не могут ни забыть их, ни жить по ним. Его Сократ говорит Главкону, что навлечет на себя «насмешки и бесславие», высказав свои соображения о том, как построить государство, наиболее близкое к совершенному[408], поскольку эти соображения будут «полностью противоречить общепринятому мнению»[409]. «Пока в государствах не будут царствовать философы либо так называемые нынешние цари и владыки не станут благородно и основательно философствовать и это не сольется воедино — государственная власть и философия… государствам не избавиться от зол, да и не станет возможным для рода человеческого и не увидит солнечного света то [совершенное. — Пер.] государственное устройство, которое мы только что описали словесно»[410].
Произнеся эти роковые слова, он сразу же понял, что они являются советом, как достичь совершенства, и смутился от недостижимого величия своей идеи. Поэтому он тут же поспешил добавить, что «того, кто подлинно способен управлять», «моряки назовут высокопарным болтуном и никудышным человеком»[411].
Однако это печальное добавление, предохраняющее его от древнегреческого эквивалента обвинения в отсутствии чувства юмора, служит своего рода концовкой мрачной идеи. Затем он начинает высказывать вызывающие мысли. Платон говорит своему собеседнику Адиманту, что в бесполезности философов следует «винить тех, кто не находит им никакого применения, а не этих выдающихся людей. Ведь неестественно, чтобы кормчий просил матросов подчиняться ему…»[412]. И на этой высокомерной фразе он поспешно собрал инструменты разума и исчез в стенах Академии, оставив мир Макиавелли.
Так, при первой встрече разума и политики разум предпочел в гневе удалиться. Однако, как сообщает нам Платон, корабль плывет. С тех пор как Платон написал свое сочинение, множество кораблей вышло в открытое море. И сегодня, независимо от того, мудро это или глупо, мы уже не можем называть человека опытным кормчим просто потому, что он умеет учитывать «времена года, небо, звезды, ветры — все, что причастно его искусству…»[413]. Кормчий не может упустить из виду ничего, что помогает кораблю спокойно плыть к месту назначения. А если на борту возник бунт, он не может сказать: «Тем хуже для всех нас… это не в порядке вещей, и я ничего не могу сделать, чтобы подавить этот бунт… философ и не должен заниматься бунтами… Я знаю, как вести корабль… Я понятия не имею, как вести корабль, на котором плывет множество матросов… и если они не понимают, что именно я должен ими руководить, то я ничего не могу поделать. Мы обязательно напоремся на рифы и будем наказаны за их грехи, причем я останусь уверенным в том, что я знал, как надо действовать…»
3
Когда в политике мы обращаемся к разуму, то возникает проблема с использованием данной притчи. Ведь существует принципиальная сложность при применении разума во взаимодействии с неразумным миром. Даже если вы предположите, вслед за Платоном, будто подлинный кормчий знает, что лучше всего для корабля, следует напомнить — настоящего кормчего не так просто распознать, и эта неопределенность держит большую часть команды в состоянии неуверенности. По определению, команда не знает того, что знает кормчий, а тот, увлеченный звездами и ветрами, не знает, как убедить команду в важности его знаний. Во время бунта на корабле, который находится в плавании, трудно превратить каждого моряка в эксперта, оценивающего других экспертов. У кормчего нет времени поговорить с командой, чтобы та выяснила, действительно ли он такой мудрый, каким себя считает. Ведь просвещение занимает годы, а критическая ситуация — вопрос часов. Мы проявили бы неуместный академизм, если бы сказали кормчему, что решение проблемы состоит в образовании, которое научит моряков более верному восприятию фактов. Вы можете сказать это только судовладельцам на суше. В состоянии кризиса единственное, что можно посоветовать, — это воспользоваться оружием, произнести речь, выкрикнуть яркий лозунг, предложить компромисс, использовать любое доступное средство, чтобы подавить мятеж, и оставить в покое обращение с фактами. И лишь на берегу, когда путешествия только планируются, люди могут — а на самом деле должны — ради собственного спасения обращаться к таким проблемам, устранение которых требует длительного времени. И они будут обращаться к этим проблемам на протяжении многих лет, от одного поколения к другому. И сложнейшей проблемой для них будет умение отличать ложные кризисы от настоящих. Ведь когда паника носится в воздухе, кризис сменяется кризисом, а к реальным опасностям примешиваются воображаемые страхи — тогда невозможно конструктивно использовать разум и любой порядок кажется предпочтительнее любого беспорядка.
Только при условии определенной стабильности в течение продолжительного времени люди могут надеяться следовать методу разума. И не потому, что человечество не способно к этому, или потому, что обращение к разуму неосуществимо, а потому, что эволюция разума в сфере политики находится в зачаточном состоянии. Наши рациональные представления о политике по-прежнему являются грубыми обобщениями, намного более абстрактными и намного менее проработанными, чем обобщения, нужные для практической работы. Исключение составляют те случаи, когда интересующая нас совокупность данных достаточно велика, чтобы можно было отбросить индивидуальные особенности и показать значительное единообразие. В делах политических разум особенно незрел в том, что касается предсказания поведения отдельно взятых индивидов, поскольку в поведении людей даже мельчайшее исходное отличие часто оборачивается значительными расхождениями. Именно поэтому, вероятно, когда в неожиданных ситуациях мы настаиваем исключительно на апеллировании к разуму, мы попадаем впросак и становимся мишенью для насмешек.
4
Это происходит потому, что наш разум не поспевает в своем развитии за темпом, в котором людям приходится действовать. Следовательно, при текущем состоянии политической науки одна ситуация сменяет другую до того, как первая была достаточно хорошо осмыслена и понята. Поэтому значительная часть политической критики осуществляется ретроспективно. Как при обнаружении чего-то неизвестного, так и при распространении того, что было испробовано, существует временной дифференциал, который должен гораздо больше, чем раньше, интересовать политических философов. Мы начали, главным образом под влиянием Грэхема Уоллеса[414], исследовать воздействие невидимой среды на наши мнения. Мы пока практически не понимаем стихии времени в политике, хотя она почти напрямую зависит от возможности воплощения на практике любого конструктивного предложения[415]. Например, мы видим, что уместность любого плана зависит от времени, необходимого для его реализации. Потому что с течением времени она зависит от того, останутся ли те фактические сведения, которые заложены в план как данность, неизменными[416]. Здесь имеется фактор, который реалистически мыслящие и опытные люди принимают во внимание, и этот фактор позволяет отличать их от оппортунистов, мечтателей, обывателей и педантов[417]. Но на сегодняшний день мы не обладаем систематическими представлениями, каким образом исчисление времени выступает составной частью политики.
До тех пор, пока эти вопросы не стали нам понятны, мы можем, по крайней мере, иметь в виду, что столкнулись с проблемой, имеющей исключительную теоретическую сложность и важнейшее практическое значение. Это поможет нам стремиться к платоновскому идеалу, не разделяя его поспешного заключения о порочности тех, кто не внимает разуму. Трудно подчиняться разуму в политике, когда вы пытаетесь совместить два процесса, которые развиваются разными темпами. До тех пор, пока разум не станет конкретным и отточенным, текущая политическая борьба будет требовать приложения природного ума, силы и веры, которые разум никогда не может ни обеспечивать, ни контролировать, потому что жизненные факты слишком недифференцированны, чтобы подчиняться ему. Методы социальной науки столь несовершенны, что, принимая многие принципиальные и эпизодические решения, нам не остается ничего другого, кроме как полагаться на собственную интуицию.
Веру в разум мы можем обратить в одно из таких интуитивных представлений. Мы можем использовать природный ум и силу, чтобы создать точку опоры для разума. За картинами мира, которые предстают нашему взору, мы можем попытаться увидеть будущее и там, где это возможно, решать проблемы настоящего, исходя из предполагаемого развития событий. И даже тогда, когда у нас есть желание принять во внимание будущее, мы опять и опять обнаруживаем, что не знаем наверняка, какие наши действия будут согласовываться с диктатом разума. Число человеческих проблем, при решении которых мы можем слушать веления разума, невелико.
5
Однако в милости к ближним, которая исходит от самопознания и твердой веры в то, что ни один человек как общественное животное не одинок в своих поисках более дружественного мира, содержится доля благородного обмана. Люди корчат друг другу столько гримас, что не все из этих гримас кажутся важными. И там, где все столь неопределенно, где столько поступков совершается на основе догадок, где не достает обыкновенной порядочности, нужно жить с верой в торжество доброй воли. Мы не можем доказать в каждом конкретном случае, что это так и будет, мы не можем также показать, почему ненависть, нетерпимость, подозрительность, фанатизм, скрытность, страх и ложь являются семью смертными грехами против общественного мнения. Мы можем только настаивать на том, что им не место в обращении к разуму, что они в конечном итоге отравляют жизнь; и, заняв определенные позиции по отношению к миру, который переживет и наши трудности и нас самих, мы можем испытывать против них искренние предубеждения.
Нам это удастся еще лучше, если мы не допустим, чтобы страх и фанатизм заставили нас брезгливо отвернуться от реальности и потерять к ней интерес по причине утраты веры в будущее человека. Нет причин для подобного отчаяния, потому что все «если», от которых, как сказал Джемс, зависит наша судьба, чреваты последствиями, как оно всегда и было. Мы стали свидетелями жестокости, и именно потому, что она казалась нам неестественной, это не привело к окончательному краху. Это были только Берлин, Москва, Версаль с 1914-го по 1919-й, а не Армагеддон, о котором мы говорили, пользуясь языком метафоры. Чем более реалистично и смело люди смотрели на жестокость и истерию, тем больше права они имели говорить, ссылаясь на эту, еще одну, страшную войну: совсем не глупо считать, что ум, храбрость и инициатива никогда не создадут хорошую жизнь для всех людей.
Однако ужас испытывали не все. Были подкупленные, но были и неподкупные. Была грязь, но были и чудеса добродетели. Было страшно много лжи. Но были и те, кто стремился развеять эту ложь. Нельзя считать суждением, а можно считать только настроением, когда люди отрицают, что такими, какими стали только некоторые, могло оказаться значительно большее число, а то и большинство людей. Вы можете отчаиваться по поводу того, чего никогда не бывало. Вы можете утратить надежду на появление у вас трех голов, хотя Бернард Шоу не оставлял даже этой надежды. Но нельзя терять надежду на появление возможностей, которые могли бы возникнуть благодаря уже проявленному кем-то человеческому качеству. И если посреди всех ужасов этого десятилетия вы не разглядели замечательных людей и не ощутили замечательных мгновений, то и сам Господь Бог не сможет вам помочь.
Примечания
1
Платон. Соч.: В 4 т. М.: Мысль, 1993. С. 55.
(обратно)2
Липпман достаточно рано отошел от иудейской общины, к которой принадлежали его предки, и не занимал позицию слепого адвоката своих соплеменников в обсуждении проблем антисемитизма (см. об этом, напр.: Adams L. L. Walter Lippmann. Boston: Twayne Publishers, a Division of G. K. Hall & Co. 1977. Conclusions. О позиции Липпмана как независимого политического обозревателя см. также: Печатное В. О. Уолтер Липман и пути Америки. М.: Международные отношения, 1994.
(обратно)3
Adams L. L. Op. cit. P. 37, 184. Окончив Гарвардский университет, Липпман проучился в течение семестра в аспирантуре Гарвардского университета, но в 1910 году сделал выбор в пользу журналистики (там же. Р. 23).
(обратно)4
Как показывает В. П. Горан, эта проблематика восходит по крайней мере к Ксенофану (VI–V вв. до н. э.) (см.: Горан В. П. Ионийская философия. Опыт проблемного анализа // Вестник Новосибирского государственного университета. Серия «Философия и право». 2003. Т. 1. С. 130–131.
(обратно)5
Vox populi — vox dei, глас народа — глас божий (лат.).
(обратно)6
Nisbet R. Prejudices. A Philosophical Dictionary. Cambridge et al.: Harvard Univ. Press, 1982. P. 251–252.
(обратно)7
См. также: Ортега-и-Гассет X. История как система // Избр. тр. М., 1997. С. 693.
(обратно)8
Гадамер Х.Г. Истина и метод. М. Прогресс, 1988. С. 61.
(обратно)9
Habermas J. The Structural Transformation of the Public Sphere. An Inquiry into a Category of Bourgeois Society. Cambridge, Massachusetts: The MIT press, 1999. Section 12: Public Opinion — Opinion Publique — Öffentliche Meinung: On the Prehistory of the Phrase. P. 88 и след.
(обратно)10
Luhmann N. The Reality of the Mass Media. Polity Press, 2000. P. 105 (перевод мой. — Т.Б.). Формирование общественного мнения относят к середине — концу XVIII века и другие современные социологи. См., напр.: Шампань П. Делать мнение. Новая политическая игра. М.: Socio-Logos, 1997. С. 47 и след.
(обратно)11
Lang К. Public Opinion // Borgatta Е.F., Montgomery R. J.V. (eds.) Encyclopedia of Sociology. MacMillan, 2000. Vol. 3. P. 2272.
(обратно)12
Там же.
(обратно)13
Бенетон Ф. Введение в политическую науку. М.: Весь мир, 2002. С. 77.
(обратно)14
См., напр.: Мильтон Дж. Ареопагитика. Речь о свободе печати от цензуры, обращенная к парламенту Англии (1644) // Современные проблемы. Вып. 1. М.-Новосибирск, 1997. С. 31–79. Милль Дж. С. О свободе. Глава II. О свободе мысли и критики // Антология западно-европейской классической либеральной мысли. М, 1995. С. 301 и след.
(обратно)15
Шампань П. Указ. соч. С. 71 и след.
(обратно)16
Практически одновременно с работой Липпмана вышла в свет книга Фердинанда Тенниса «Критика общественного мнения» (Berlin: Springer, 1922).
(обратно)17
Steel R. Walter Lippmann and the American Century. N.Y.: Vintage Books. A Division of Random House, 1980. P. 171–172.
(обратно)18
Рус. перев. см.: Манхейм К. Диагноз нашего времени. М.: Юрист, 1994. С. 277–411.
(обратно)19
Шумпетер Й. Капитализм, социализм и демократия. М.: Экономика, 1995.
(обратно)20
Там. же. С. 349–350.
(обратно)21
Рус. перев. доклада Бурдье под названием «Общественное мнение не существует» см.: Бурдье П. Социология политики. М.: Socio-Logos, 1993. С. 159–178.
(обратно)22
Шампань П. Указ. соч. С. 127–128.
(обратно)23
См., напр.: Грушин Б. А. Мнения о мире и мир мнений. М.: Изд-во политической литературы, 1967.
(обратно)24
Даже поверхностный обзор обширной литературы на эту тему не представляется возможным в рамках данного предисловия.
(обратно)25
Павловский Г. Наклейка рождает власть // Пушкин. Тонкий журнал. Читающим по-русски. 1998. # 3(9), С. 17.
(обратно)26
Библиографию работ Липпмана, книг о Липпмане и книг по истории США и международных отношений см.: Печатное В. О. Указ. соч. С. 326–329. Краткий обзор архива У. Липпмана, хранящегося в Йельском университете, аннотированную библиографию и историографию его работ см., напр.: Steel R. Op. cit. P. 632–636.
(обратно)27
Adams L. L. Op. cit. P. 96.
(обратно)28
Сведения о его практической работе можно найти у его биографов.
(обратно)29
Президент Вильсон, раздраженный критикой Липпманом государственной программы пропаганды, писал своему советнику: «Я крайне озадачен, кто поставил Липпмана заниматься вопросами пропаганды… Его суждения показались мне исключительно необоснованными и потому — крайне непригодными для практического использования в вопросах подобного рода, потому что у него… есть свои идеи относительно войны и ее целей, которые кажутся мне совершенно неортодоксальными с моей собственной точки зрения» (цит. по: Steel R. Op. cit. P. 146). Надо заметить, что Липпман видел основную задачу пропаганды в военное время не в победе, а в закладывании фундамента справедливого мира (там же).
(обратно)30
См. об этом: Weingast D. E. Walter Lippmann: A Study in Personal Journalism. New Brunswick: Rutgers Univ. Press, 1949. Section «Lippmann as predictor».
(обратно)31
Именно междисциплинарностью, видимо, можно объяснить то, что Липпман весьма скудно представлен в нормативной отечественной литературе (учебниках и справочниках). Так, в специализированном труде «История социологии в Западной Европе и США» (М.: Изд. Группа Норма-Инфра, 1999) есть специальная глава, посвященная Фердинанду Теннису, но нет упоминания о Липпмане.
(обратно)32
Steel R. Op. cit. P. 172. Печатное В. О. Указ. соч. С. 102.
(обратно)33
Adams L. L. Op. cit.
(обратно)34
Schapsmeier E. L., Schapsmeier F. H. Walter Lippmann Philospher-Journalist. Washington D. C.: Public Affairs Press, 1969. P. 3.
(обратно)35
См. об этом: Steel R. Op. cit. P. 41 и след.
(обратно)36
Следует отметить, что содержание книги не сводится к этим четырем блокам
(обратно)37
Adams L. L. Op. cit. P. 108–110.
(обратно)38
Лучшим подробным изложением мне представляется изложение, выполненное Бенджамином Райтом (Wright В. F. Five Public Philosophies of Walter Lippmann. Austin: University of Texas Press, 1973. Ch. 2 Democracy and the Defects of Public Opinion).
(обратно)39
Luhman N. Op. cit. P. 104.
(обратно)40
См., напр.: Николаева С. М. У.Липпман о роли государства в обществе // Из истории политических движений и общественной мысли США. Самара, 1991. С. 74–83.
(обратно)41
См., напр.: Семендяева О. Ю. Критический анализ концепций «стереотипа» в социальной психологии США // Социологические теории и социальные изменения в современном мире. М., 1986. С. 184–196.
(обратно)42
Гуревич П. С. Стереотип // Современная западная социология. Словарь. М.: 1990. С. 332.
(обратно)43
См. об этом: Печатное В. О. Указ. соч. С. 294.
(обратно)44
Существуют переводы «Общественного мнения» на другие языки. В 1964 году был сделан немецкий перевод, а десятилетие спустя — французский перевод.
(обратно)45
Гастон Калмет — редактор газеты «Фигаро», вел кампанию против мужа г-жи Кайло, государственного деятеля Жозефа Кайло. Когда Г. Калмет пообещал, что опубликует переписку Ж. Кайло с его любовницей, которая к тому времени стала его женой, та застрелила его. Процесс над г-жой Кайло, в результате которого она была оправдана, в течение длительного времени занимал внимание европейцев. См.: The New Encyclopaedia Britannica. Chicago et al. 1994. V. 2. Ch. «Caillaux, Joseph». — Прим. пер.
(обратно)46
28 июля 1914 года Австро-Венгрия объявила войну Сербии, эта дата считается началом Первой мировой войны. — Прим. пер.
(обратно)47
В данном издании принята стандартная система ссылок на Библию: первое число означает номер главы, второе — номер стиха. — Прим. пер.
(обратно)48
Hexaemeron, i. cap. 6. Цит. по: Taylor H.O. The Mediaeval Mind. London: Macmillan, 1911. V. 1. P. 73. Поскольку в оригинальном тексте книги Липпмана выходные данные упоминаемых трудов отсутствуют, здесь и далее выходные данные, а в некоторых случаях также имена авторов и полные названия трудов восстановлены по каталогам Берлинской Государственной библиотеки и Библиотеки Конгресса в Вашингтоне. При этом сверка страниц сносок не производилась. — Прим. пер.
(обратно)49
Козьма Индикоплов — путешественник, географ, купец, впоследствии монах, живший в VI веке — Прим. ред.
(обратно)50
Lecky W.E.H. History of the Rise and Influence of the Spirit of Rationalism in Europe. London: Watts, 1910 (1865). V. 1. P. 276–278.
(обратно)51
Липпман, вероятно, имеет здесь в виду высказывание, принадлежащее другому апостолу — Луке, который, в свою очередь, цитирует Ветхий Завет. Судя по всему, Липпман пользовался английским переводом Библии, называемым Библией короля Якова. См.: The Acts of the Apostles. Chapter 17, verse 26 // The Holy Bible. Old and New Testaments. New King James Version. Thomas Nelson Publishers. Nashville. 1984. — Прим. пер.
(обратно)52
Lecky W.E.H. Op. cit.
(обратно)53
Пири Роберт Эдвин (1856–1920) — американский полярный путешественник. Первым в 1909 году достиг Северного полюса. См.: Фолта Я., Новы Л. История естествознания в датах. М.: Прогресс, 1987. С. 233. — Прим. пер.
(обратно)54
Шекспир В. Гамлет // Трагедии. Сонеты. М., 1968. С. 196. — Прим. пер.
(обратно)55
В английском оригинале эта поговорка звучит так: «No man is a hero to his valet». — Прим. пер.
(обратно)56
Линкольн Авраам (1809–1865) — 16-й президент США (1861–1865), один из организаторов республиканской партии. — Прим. ред.
(обратно)57
Гамильтон Александр (1755 или 1757–1804) — с 1789 года лидер партии федералистов, министр финансов США в правительстве Дж. Вашингтона. — Прим. ред.
(обратно)58
Репингтон Чарльз а Кур (1858–1925) — военный писатель и журналист. Эпитафия Репингтону гласит: «Самый блестящий военный писатель своего времени. Его перо было посвящено исключительно служению Англии и армии, которую он любил». См.: The Letters of Lieutenant-Colonel Charles a Court Repington CMG Military Correspondent of The Times (1903–1918). Selected and edited by A.J.A. Morris. Bodman, Cornwall: Sutton Publishing Limited for the Army Records Society. 1999. P. 45. В книге Липпмана речь идет о дневниках, написанных во время и после Первой мировой войны. — Прим. пер.
(обратно)59
Асквит Марго (урожд. Эмма Элис Маргарет Теннант) (1864–1945) — влиятельный член лондонского общества, известна своим умом, талантами и политическим чутьем. Вторая супруга либерального премьер-министра Англии Г.Г. Асквита. Оставила обширное литературное наследие, включающее дневники, письма и публицистические произведения. — Прим. пер.
(обратно)60
Strachey L. Queen Victoria. L.: Chatto & Windus. 1921. P. 72.
(обратно)61
Жоффр Жозеф Жак (1852–1931) — с 1916 года маршал Франции. В Первую мировую войну главнокомандующий французской армией, добился победы в битве на Марне (1914). — Прим. ред.
(обратно)62
Pierrefeu J. de G. Q. G. Trois ans au grand Quartier Général. Par le rédacteur du Communniqué. Paris: L'én. France 1920. P. 94–95.
(обратно)63
Фош Фердинанд (1851–1929) — с 1918 года верховный главнокомандующий союзными войсками. — Прим. ред.
(обратно)64
Вильсон Томас Вудро (1856–1924) — 28-й президент США (1913–1921) от демократической партии. — Прим. ред.
(обратно)65
Рузвельт Теодор (1858–1919) — 26-й президент США (1901 — 1909) от республиканской партии. — Прим. ред.
(обратно)66
L'union sacrée — священный союз (фр.) — Прим. пер.
(обратно)67
Клемансо Жорж (1841–1929) — премьер-министр Франции (1906–1909, 1917 — 1920). — Прим. ред.
(обратно)68
Ллойд Джордж Дэвид (1863–1945) — премьер-министр Великобритании (1916–1922), один из крупнейших лидеров либеральной партии. — Прим. ред.
(обратно)69
Льюис Синклер (1885–1951) — американский писатель, автор романов «Главная улица», «Бэббит», «Эрроусмит». Лауреат Нобелевской премии (1930). См.: Льюис С. Главная улица // Собр. соч.: В 9 т. М. 1965. Т. 1. — Прим. пер.
(обратно)70
Pierrefeu J. de Op. cit. P. 99.
(обратно)71
Спенсер Герберт (1820–1903) — английский философ и социолог. — Прим. ред.
(обратно)72
James W. Principles of Psychology. V. I–II. New York: Dover Publ. 1890. V. II. P. 638.
(обратно)73
Дэниэлс Джозефус — морской министр в администрации Вильсона. — Прим. ред.
(обратно)74
Д'Аннунцио Габриеле (1863–1938) — итальянский поэт и политический деятель. В годы Первой мировой войны — лидер итальянских националистов. В 1919 году возглавил экспедицию националистов и захватил югославский город Риеку (Фиуме). — Прим. ред.
(обратно)75
Честертон Гилберт Кит (1874–1936) — английский писатель, религиозный мыслитель. — Прим. ред.
(обратно)76
Chesterton G. К. The Mad Hatter and the Sane Householder // Vanity Fair, 1921, January. P. 54.
(обратно)77
Wallas G. Our Social Heritage. New Haven: Yale University Press, 1921. P. 77 at al.
(обратно)78
Понсе де Леон (ок. 1460–1521) — испанский конкистадор. — Прим. пер.
(обратно)79
Гиддингс Франклин Генри (1855–1931) — американский социолог. Один из тех, кому американская социология обязана своим становлением как научной дисциплины, отличной от философского анализа общества. «Сознание рода» — центральное понятие его концепции. — Прим пер.
(обратно)80
Kempf E.J. Psychopathology. London: Н. Kimpton, 1921 P. 116.
(обратно)81
Ibid. P. 151.
(обратно)82
«Гильдейский социализм» — распространившееся в Великобритании в начале XX века направление социализма. Больше всего материалов о нем содержится в трудах английского экономиста и социолога Дж. Коула (1889–1959). Положив в основу модель средневековых гильдий, его приверженцы пропагандировали децентрализованный социализм, опирающийся на рабочий контроль и индустриальную демократию. Они верили, что переход к социализму может быть осуществлен путем национализации предприятий и передачи их в управление «национальным гильдиям» рабочих. — Прим. ред.
(обратно)83
Вероятно, речь идет об оперетте австрийского композитора Оскара Штрауса (Straus), написанной в 1908 году по пьесе Бернарда Шоу «Оружие и человек». Русский вариант названия оперетты — «Храбрый солдат». См.: Энциклопедический музыкальный словарь. М.: Советская энциклопедия. 1966 С. 591. — Прим. пер.
(обратно)84
Pierrefeu J. de G. Q. G. Trois ans au grand Quartier Général. Par le rédacteur du Communniqué. Paris: L'éd. France. 1920. P. 126–129.
(обратно)85
Это случилось 26 февраля 1916 года. См.: Pierrefeu J. de Op. cit. P. 133 at al.
(обратно)86
Это мой собственный перевод. Английский перевод, полученный из Лондона и опубликованный в «Нью-Йорк таймc» (New York Times) от 27 февраля, гласит: «Лондон. 26 февраля 1916 г. Яростное сражение развернулось за форт Дуомон — передовой пост старой оборонительной системы верденских крепостей. Позиции, захваченные сегодня утром противником после нескольких безуспешных штурмов, которые стоили ему исключительно тяжелых потерь, были заняты нашими войсками, которые затем продвинулись дальше. Несмотря на все попытки, врагу не удалось оттеснить наши войска».
(обратно)87
Pierrefeu J. de. Op. cit. P. 134–135.
(обратно)88
Гекатомбы (здесь) — жертвы. Буквальное значение — «жертвоприношение сотни быков, а также всякое большое жертвоприношение по праздникам». См.: Словарь античности. М.: Прогресс, 1989. — Прим. пер.
(обратно)89
Pierrefeu J. de. Op. cit. P. 138–139.
(обратно)90
Ibid. P. 147.
(обратно)91
В 1917 году генерал Р.Ж. Нивель начал наступление с целью прорыва германского фронта. Цель достигнута не была, войска союзников понесли огромные потери. — Прим. ред.
(обратно)92
За много недель до атаки американцев при Сен-Мийеле и Аргонн-Мезе все французы обменивались этой, сверхсекретной, информацией
(обратно)93
В оригинале проводится противопоставление между salary (заработной платой, то есть тем, что работник получает «на руки») и wage (официальным окладом). В современной американской версии английского языка такого различия, по-видимому, не существует в связи с экономической системой так называемого государства всеобщего благосостояния. — Прим. пер.
(обратно)94
В конце 1917 года, в ходе переговоров с Германией о заключении сепаратного мира, большевики опубликовали секретные договоры царского и Временного правительств со странами-союзницами: Англией и Францией (так называемый договор Сайкса-Пикота-Сазонова). Публикация договоров испортила отношения большевистской России со странами Антанты, повлияла на отказ этих стран признать большевистское правительство и осложнило отношения Англии и Франции с их союзниками в азиатском регионе. — Прим. ред.
(обратно)95
Хьюз Чарльз Эванс (1862–1948) — юрист, государственный деятель, член Верховного суда (1910–1916), государственный секретарь (1921–1925), одиннадцатый верховный судья США (1930–1941). Получил известность в 1905 году, когда, будучи членом крупнейшей юридической фирмы Нью-Йорка, работал в качестве советника законодательных комитетов штата Нью-Йорк и расследовал злоупотребления в газовой и энергетической отраслях промышленности. См.: Encyclopaedia Britannica. — Прим. пер.
(обратно)96
Херст Уильям Рэндольф (1863–1951) — американский издатель газет. Создал самую большую национальную газетную сеть. Его методы существенно повлияли на американскую журналистику. См… Encyclopaedia Britannica. — Прим. пер.
(обратно)97
Крил Джордж (1876–1953) — писатель и газетчик. В качестве главы Бюро гласности и пропаганды США во время Первой мировой войны существенно способствовал формированию государственных программ в этой области. См.: Encyclopaedia Britannica. — Прим. пер.
(обратно)98
Creel G. How We Advertised America. New York: Harper & Brothers, 1920.
(обратно)99
Макаду Уильям Гибс (1863–1941) — американский государственный деятель. — Прим. пер.
(обратно)100
Поэтому есть смысл относиться к болтовне серьезно.
(обратно)101
Trotter W. Instincts of the Herd in Peace and War. London: Unwin, 1916.
(обратно)102
Wharton E. The Age of Innocence. London, 1920.
(обратно)103
Тард Габриель (1843–1904) — французский социолог и криминалист-Подражание, с его точки зрения, является фундаментальным принципом существования и развития общества, формирования его ценностей и норм. — Прим. пер.
(обратно)104
Ross E.A. Social Psychology. London, 1909. Ch. IX, X, XI.
(обратно)105
См. прим. 2 на с. 32. — Прим. науч. ред.
(обратно)106
Речь идет о героях романа С.Льюиса «Главная улица». См. прим. 1 на с. 36 — Прим. науч. ред.
(обратно)107
См. ч. 3.
(обратно)108
Willcox D.F. The American Newspaper: A Study in Social Psychology // Annals of the American Academy of Political and Social Science, July, 1900. V. XVI. P. 56. Статистические таблицы воспроизведены по: Rogers J.E. The American Newspaper; Scott W.D. The Psychology of Advertising. 1916. P. 226–248; см. также: Adams H.F. Advertising and Its Mental Laws. Ch. IV (Сведений о публикации этих трех работ найти не удалось — Прим. ред.). Hotchkiss G.B. and Franken R.B. Newspaper Reading Habits of College Students. Published by the Association of National Advertisers, Inc., 15 East 26 Street, N.Y., 1920.
(обратно)109
За исключением тех, которые она считает сомнительными, или тех редких рекламных объявлений, для которых не хватает места.
(обратно)110
Данный перевод — попытка передать следующее газетное сообщение и его закодированный вариант: «Washington, D.C. June 1. — The United States regards the question of German shipping seized in this country at the outbreak of hostilities as a closed incident». — «Wash 1. The Uni Stas rgds tq of Ger spg seized in ts cou at t outbk о hox as a clod incident». — Прим. пер.
(обратно)111
Цит. по: White W. Al. Mechanisms of Character Formation. An introduction to psyhoanalysis. New York: The Macmillan Company. 1916.
(обратно)112
Специальное сообщение Эдвина Л. Джеймса для газеты «Нью-Йорк Таймс» (New York Times), 25 мая 1921 года
(обратно)113
В мае 1921 года отношения между Англией и Францией были напряженными из-за восстания М. Корфанты в Верхней Силезии. Сообщение из Лондона в газете «Манчестер гардиан» (Manchester Guardian) 20 мая 1921 года содержало следующий текст.
Франко-английский словесный обмен
В кругах, хорошо знакомых с французским характером и стилем работы, принято считать, что до время данного кризиса наша пресса и общественное мнение проявили ненужную чувствительность к живому и иногда несдержанному языку французской прессы. Я обратил внимание на этот вопрос благодаря замечанию одного хорошо информированного обозревателя, высказавшегося так:
Слова, подобно деньгам, представляют собой символы ценности. Они репрезентируют значение, и, следовательно, как и у денег, их репрезентационная ценность опускается и поднимается. Французское слово «etonnant» [удивительный] имело колоссальное значение в устах Боссюэ, тогда как сейчас оно его утратило. Аналогичная ситуация имеет место с английским словом «awful» [ужасный]. Одни народы имеют склонность преуменьшать, другие — преувеличивать. То, что англичанин Томми назовет опасным местом, итальянский солдат опишет с помощью богатого словаря, сопроводив свое описание энергичной мимикой и жестикуляцией. Народы, которые преувеличивают, страдают от инфляции своего языка.
Выражения типа «выдающийся ученый», «умный писатель» должны быть переведены на французский язык как «непревзойденный мыслитель» и «великий мастер». Это просто вопрос обмена, подобно тому как фунт равняется 46 франкам. И тем не менее каждый знает, что ценность при этом обмене не увеличивается. Англичанин, читающий французскую прессу, должен производить мыслительную операцию, подобную той, которую осуществляет банкир, конвертирующий франки в фунты, не забывая при этом, что в мирной ситуации курс был 1 к 25, а теперь — 1 к 46, поскольку война порождает флуктуации как в области финансов, так и в области слов.
Это рассуждение, надо думать, справедливо для обеих сторон. И французы должны понимать, что английская сдержанность имеет ту же ценность, какую имеет их собственная языковая избыточность.
(обратно)114
The New Republic. 1920, December 29. P. 142.
(обратно)115
Союзная Лига (Union League) — ассоциация, выступавшая на стороне северных штатов во время Гражданской войны в США. — Прим. пер.
(обратно)116
Ференци Ш. — венгерский психоаналитик. — Прим. ред.
(обратно)117
Internat. Zeitschr., fur Arztl. Psychoanalyse. 1913 / Translated and republished by Dr. Ernest Jones // S. Ferenczi. Contributions to Psychoanalysis. Ch. VIII «Stages in the Development of the Sense of Reality». (Точных сведений о публикации найти не удалось — Прим ред.)
(обратно)118
Ференци как специалист по патологиям не описывает этот, более зрелый, период развития, когда опыт организован в форме уравнений, то есть реалистическую стадию, научно обоснованную.
(обратно)119
Сюда следует отнести, например, Diagnostische Assoziation Studien, которые проводились в Психиатрической клинике Цюрихского университета под руководством К. Юнга. Эти тесты осуществлялись главным образом на основании так называемой «Krapelin-Aschaffenburg» классификации. В них фиксируется время реакции, классифицируется реакция на слово-стимул как внутренняя, внешняя или звуковая (clang), показываются результаты для первой и второй сотни предъявляемых слов-стимулов, дается информация о времени и качестве реакции, когда испытуемый отвлекается, удерживая в сознании какую-то идею, или когда он должен реагировать на слова-стимулы на фоне ударов метронома. Некоторые из этих результатов изложены в работе Юнга «Аналитическая психология» (См.: Jung C.G. Analytical Psychology: Its Theory and Practice. The Tavistock Lectures. London: Routledge & Kegan Paul LTD. 1968. Lecture two).
(обратно)120
Jung C.G. Clark Lectures. (Сведений о публикации найти не удалось. — Науч. ред.)
(обратно)121
Фреге Готлоб (1848–1925) — немецкий математик, философ и логик, основоположник современной математической логики. — Прим пер.
(обратно)122
Пеано Джузеппе (1858–1932) — итальянский математик, основатель символической логики. — Прим. пер.
(обратно)123
Сассета (настоящее имя Стефано ди Джованни) — итальянский художник XV века, считается величайшим сиенским живописцем. — Прим. пер.
(обратно)124
Ср., напр.: Locard Е. L'Enquete Criminelle et les Méthodes Scientifiques. Paris, Flammarion, 1920. За последнее время было собрано огромное количество интересного материала о надежности свидетельских показаний, из которого следует, как отмечено в прекрасной рецензии на книгу доктора Локара («The Times» (London) / Literary Supplement. 1921, August), что достоверность показаний зависит от типа свидетелей и событий, а также от типа восприятия. Так, оказывается, что мало надежны осязательные, обонятельные и вкусовые восприятия. Слух человека ненадежен в оценке источника и направления звука. А когда человек слушает разговор других людей, то «слова, которые не слышит, он добросовестно реконструирует. Пропущенные слова он замещает такими, которые соответствуют его представлению о содержании разговора». Даже зрительные восприятия могут быть ошибочными, как это происходит при идентификации, узнавании, оценке расстояния или количества, например при оценке размера толпы. Если человека специально не обучали, то чувство времени у него также зависит от обстоятельств. Все эти дефекты восприятия осложняются проделками памяти и исключительно творческим характером воображения. (См. также: Sherrington Ch.S. The Integrative Action of the Nervous System. New York: С. Scribner's Sons, 1906. P. 318–327).
Профессор Г. Мюнстерберг в зрелые годы написал об этом популярную книгу «О взгляде свидетеля».
(обратно)125
James W. Principles of Psychology. V.1. P. 488.
(обратно)126
Dewey J. How We Think. London: Heath, 1909. P. 121.
(обратно)127
Ibid. P. 133.
(обратно)128
Речь идет о Парижской мирной конференции 1919–1920 годов, созванной странами-победительницами в Первой мировой войне. — Прим. пер.
(обратно)129
1871 год — год окончания франко-прусской войны. — Прим. ред.
(обратно)130
Gennep von A. La formation des légendes. Paris: Flammarion, 1910. P. 158–159.
Цит. по: Langenhove van F. The Growth of a Legend; a study based upon the German accounts of francstireurs and «atrocities» in Belgium. New York & London, G.P. Putnam's sons, 1916. P. 120–122
(обратно)131
Berenson В. The Central Italian Painters of the Renaissance. New York: Putnam, 1897. P. 60 et al.
(обратно)132
Ср. также комм. Беренсона к «Dante's Visual Images, and His Early Illustrators» в его работе «The Study and Criticism of Italian Art» (First Series. London: Bell, 1901–1916): «Мы не можем не одеть Вергилия как римлянина, не придать ему «классический профиль» и соответствующую его статусу колесницу. Однако дантов визуальный образ Вергилия, вероятно, был не менее средневековым и не более укорененным в критической реконструкции античности, чем его представление о римском поэте в целом. Иллюстраторы XIV века рисовали Вергилия похожим на средневекового ученого, одетого в римскую тогу, и нет оснований полагать, что у Данте был иной визуальный образ Вергилия» (P. 13).
(обратно)133
Berenson В. Op. cit. P. 66–67
(обратно)134
Sauerkraut — немецкое национальное блюдо из капусты (нем.). — Прим. пер.
(обратно)135
Цит. по ст. Bierstadt E.H. // New Republic, June 1, 1921. P. 21. (Название статьи установить не удалось — Науч. ред.)
(обратно)136
Плавильный котел (melting pot) — метафора, служащая для наименования процесса этнической ассимиляции. — Прим. пер
(обратно)137
Бэк-Бэй (Back Bay) — престижный район Бостона. — Прим. ред.
(обратно)138
Гринвич-Вилледж (Greenwich Village) — район Нью-Йорка. — Прим. ред.
(обратно)139
Мэйн-стрит (Main Street) — дословно «Главная улица» — традиционное название центральной улицы в американских городах. Здесь возможна аллюзия на роман С.Льюиса «Главная улица» (см. прим. 1 на с. 36). — Прим. ред.
(обратно)140
Гриффит Дейвид Уорк (1875–1948) — американский кинорежиссер, пионер звукового кино. Речь идет о его фильме «The Birth of a Nation», вышедшем на экраны в 1915 году и оцененном критиками как новаторский с точки зрения развития кинематографа и одновременно как расистский по содержанию. — Прим. пер.
(обратно)141
Wallas G. Our Social Heritage. New Haven. Yale University Press, 1921. P. 17.
(обратно)142
Аристотель. Политика. Соч.: В 4 т. М.: Мысль, 1984. Т. 4. Кн. I, Гл. 5. — Прим. пер.
(обратно)143
Zimmern А.E. Greek Commonwealth. Oxford: Clarendon Pr., 1911. P. 383.
(обратно)144
Аристотель. Там же: С. 383 — Прим. пер.
(обратно)145
Там же. С. 384. — Прим. пер.
(обратно)146
Бикон-стрит (Beacon street) — фешенебельная улица в аристократическом квартале Бэк-Бэй в Бостоне. — Прим. ред.
(обратно)147
Липпман, вероятно, ошибся — при смешении синего с красным должен получиться не зеленый, а фиолетовый. — Прим. ред.
(обратно)148
Арнольд Бенедикт (1741–1801) — участник Американской революции, впоследствии переметнувшийся на сторону англичан и умерший в Лондоне. Поэтому его имя в США служит синонимом предательства (см.: Britannica CD). — Прим. пер.
(обратно)149
Langenhove van F. Op. cit. Автор этой книги — бельгийский социолог.
(обратно)150
Kulturkampf — война культур (нем.). — Прим. пер.
(обратно)151
Langenhove van F. Op. cit. P. 5–7.
(обратно)152
Kriegspiel — игра в войну (нем.). — Прим. пер.
(обратно)153
Маттиас Эрцбергер был убит в 1921 году представителями националистически настроенных слоев. — Прим. пер.
(обратно)154
К сожалению, гораздо сложнее исследовать эту, реальную, культуру, чем систематизировать и комментировать сочинения гения. Культура существует в обществе людей, которые слишком заняты, чтобы предаваться таким странным делам, как формулирование своих собственных идей. Они записывают их лишь в редких случаях, и исследователь обычно не может оценить, насколько данные, полученные путем изучения подобных записей, типичны. Вероятно, лучшее, что мы можем в такой ситуации сделать, — это последовать совету лорда Брайса. Он пишет, что нужно «пройти сквозь всякого рода категории и жизненные условия людей», для того чтобы выявить в каждом жилом квартале человека, свободного от предрассудков и имеющего свое мнение. «В результате обширного опыта и способности относиться к людям доброжелательно вырабатывается особый навык анализа. Опытный наблюдатель умеет учитывать незначительные детали, подобно тому как моряк умеет распознавать признаки приближающегося шторма и делает это лучше обычного человека». (См.: Bryce J. Modern Democracies. London: Macmillan, 1921. V. 1. P. 156). Это значит, при таком исследовании требуется очень часто прибегать к разного рода догадкам. Поэтому не удивительно, что исследователи, стремящиеся к пунктуальности, так часто фокусируют внимание на уточнении формулировок своих коллег.
(обратно)155
См.: «The Times» (London) / Literary Supplement. 1921, June 2. P. 352.
А. Эйнштейн сказал во время своей поездки по Америке в 1921 г., что люди склонны переоценивать влияние его теории и недооценивать ее конкретный смысл.
(обратно)156
Bury J.B. The Idea of Progress. London: Macmillan, 1924. P. 324. Липпман ссылается на более раннее издание этой книги. — Прим. пер.
(обратно)157
Речь идет об английском поэте А. Теннисоне (1809–1892). Видимо, Липпман здесь имеет в виду его богемный образ жизни. — Прим. пер.
(обратно)158
Tennyson A. A memoir / By his son (Hallam Tennyson). London: Macmillan, 1897 V. 1. P. 195 Цит. по: Bury J.B. Op. cit. P. 326.
(обратно)159
Адаме Генри (1838–1919) — американский историк, филолог, автор одной из наиболее известных на Западе литературных автобиографий. Специалист по европейскому средневековью. Занимался также политическим анализом. (См., напр., его книгу «Деградация демократической догмы», 1919) — Прим. пер.
(обратно)160
Уайт Уильям Аллен (1868–1944) — американский журналист, работавший в провинции и известный как «мудрец из Эмпории» (Эмпория — небольшой городок в штате Канзас). Получил Пулитцеровскую премию за написание статьи о свободе слова для местной газеты, которую он редактировал. Умеренный республиканец по своим политическим взглядам, он критиковал принятую в то время линию республиканства. — Прим. пер.
(обратно)161
Достаточно вспомнить обмундирование и транспортировку двух миллионов солдат в Европу. Профессор Уэсли Митчелл указывает, что общий объем производства товаров после вступления Америки в войну существенно не изменился по сравнению с 1916 годом, однако производство в военных целях выросло.
(обратно)162
Речь идет о Парижской мирной конференции 1919–1920 годов. — Прим. пер.
(обратно)163
Карфагенский мир — часть программы консервативной партии, объединявшей промышленную элиту Германии, стремившуюся к сохранению прусской политико-экономической системы. — Прим. пер.
(обратно)164
Laissez-faire — невмешательство (фр.). — Прим. ред.
(обратно)165
Шоу Б. Назад к Мафусаилу // Соч.: В 6 т. М.: Искусство. 1980. Т. 5. С. 44. — Прим. пер.
(обратно)166
Shaw В. The Quintessence of Ibsenism. New York, 1904.
(обратно)167
Роубек Рамсден — герой пьесы Б. Шоу «Человек и сверхчеловек». — Прим. пер.
(обратно)168
Генрих V (1387–1422) — английский король с 1413 года из династии Ланкастеров. В ходе Столетней войны нанес поражение французам в битве при Азенкуре (1415) и захватил север Франции с Парижемюю… Как и Гамлет, Генрих V — персонаж драм В.Шекспира. — Прим. ред.
(обратно)169
The Letters of William James. V. 1–2. London: Longmans, Green & Co., 1920. V. 1. P. 65.
(обратно)170
Two Years of Conflict on the Internal Front. — Русское издание «Два года конфликта на внутреннем фронте». Публикация РСФСР. М., 1920. Английский перевод выполнен Малькольмом У. Дэвисом. См.: New York Evening Post. 1921, January 15.
(обратно)171
Маркс К., Энгельс Ф. Манифест Коммунистической партии (Избр. произв.: В 2 т. М., 1948 Т. 1. С. 8. — Прим. пер.)
(обратно)172
См. прим. 2 на с. 40. — Прим. ред.
(обратно)173
Хардинг (Гардинг) Уоррен (1865–1923) — 29-й президент США (1921–1923) от республиканской партии. — Прим. пер.
(обратно)174
Константин I (1868 — 1923) — король Греции в 1913–1917 и 1920–1922 годах. После поражения в греко-турецкой войне 1919–1922 годов отрекся от престола. — Прим. ред.
(обратно)175
Руритания — название вымышленной страны. (Ср., напр., его использование в кн.: Gellner Е. Nations and nationalism. — Reprint. — Oxford: Blackwell, 1990 /Русское издание: Геллнер Э. Нации и национализм. М.: Прогресс, 1991) Имеет литературное происхождение. Его придумал, согласно Британской энциклопедии, писатель Энтони Хоуп (1863–1933), описавший в своей книге «Prisoner of Zenda» (1894) приключения англичанина в вымышленной стране, которую он и назвал «Руритания». — Прим. пер.
(обратно)176
Трейчке Генрих фон (1834–1896) — немецкий историк и политолог, сторонник политики силы. Критик европейского либерализма и сторонник скептического отношения к американской демократии. Преподавал во многих немецких университетах. Занимался издательской деятельностью. — Прим. пер.
(обратно)177
Баррес Морис (1862–1923) — французский писатель и политический деятель. Получил известность благодаря своему крайнему национализму и индивидуализму. Его романы служили пропагандистским целям во время Первой мировой войны. Однако в своих документальных книгах о Греции, Испании, Азии и пр., написанных по материалам путешествий, он выходит за рамки своей идеологии. — Прим. пер.
(обратно)178
Битва у деревни Кантиньи 28 мая 1918 года — первая серьезная битва для американских дивизий. Во второй битве при Марне (15.07 — 4.08.1918) войска Антанты под командованием маршала Ф. Фоша обескровили наступление немецких войск на Париж, перешли в контрнаступление и сорвали планы Германии склонить Антанту к почетному для Германии миру. — Прим. ред.
(обратно)179
James W. Principles of Psychology. Vol. II. P. 300.
(обратно)180
См. в связи с этим интервью Чарлза Грэсти с маршалом Фошем: «Германия шагает по России. Америка и Япония, способные сделать то же самое, должны встретиться с ней в Сибири». («New York Times», 1918, February 26). См. также резолюцию сенатора Кинга от штата Юта от 10 июня 1918 года, утверждение господина Тафта в газете «Нью-Йорк тайме» (11 июня 1918 года), а также обращение к американцам 5 мая 1918 года А.Дж. Сака, директора Русского информационного бюро: «Если бы Германия была на месте союзников… то через год 3 000 000 ее солдат сражались бы на Восточном фронте».
(обратно)181
The Letters of William James V. I. P. 6.
(обратно)182
В русскоязычной литературе приняты два написания этой фамилии: «Джемс» и «Джеймс», см. Российский энциклопедический словарь. М., 2000. — Прим. науч. ред.
(обратно)183
Джеймс У. Психология. М.: Педагогика, 1991. С. 180. — Прим. науч. ред.
(обратно)184
Там же. С. 180.
(обратно)185
Титченер Эдуард Брэдфорд (1867–1927) — американский психолог, разработал концепцию структурной психологии, основанной на интроспекционизме (См.; Титченер Э.Б. Очерки психологии. СПб, 1898). — Прим. пер.
(обратно)186
Цит. по: Warren Н.С. Human Psychology. Boston: Houghton Mifflin, 1919. P. 225.
(обратно)187
James W. Principles of Psychology. V. I. P. 639
(обратно)188
Бэр Карл Максимович (Karl Ernst von Baer) (1792–1876) — естествоиспытатель, основатель эмбриологии. — Прим. ред.
(обратно)189
Подобный эффект мы можем наблюдать в кино с помощью особой камеры
(обратно)190
James W. Op. cit. V. II. P. 605.
(обратно)191
Wells H.G. The Outline of History. Being a Plain History of Life and Mankind. New York: Garden City Books, 1956. V. II. P. 943 (Липпман, видимо, ссылается на первое издание данной книги (1920). В настоящем переводе ссылка делается на исправленное и дополненное издание, вышедшее уже после смерти Уэллса. — Прим. пер.). См. также: Robinson J.H. The New History. NY: Free Press. 1912. P. 239.
(обратно)192
Wells H.G. Op. cit. P. 943.
(обратно)193
Wells H.G. В оригинале книги Липпмана номер страницы, где содержится это высказывание, не указан. Место этого высказывания в книге Уэллса установить не удалось. — Прим. пер.
(обратно)194
Strunsky S. The Salvaging of Civilization // The literary review of the New York Evening Post. 1921. June 18. P. 5.
(обратно)195
Имеется в виду англо-ирландский договор 1801 года. — Прим. пер.
(обратно)196
Раурики — кельтское племя, населявшее район современного Базеля. В 44 году до н. э. в области рауриков была основана римская колония Августа Раврика. Секваны — кельтское (галльское) племя, жившее между реками Сеной, Роной и швейцарской Юрой (См.: Словарь античности. М.: Прогресс, 1989). — Прим. пер.
(обратно)197
Ср.: Goodrich C.L. The Frontier of Control. London: Bell, 1920.
(обратно)198
Боули Артур Лайон (1869–1957) — экономист-статистик, исследователь теоретических и методологических проблем динамики общества. — Прим. ред.
(обратно)199
Op. cit. p. 65.
(обратно)200
James W. Some problems of Philosophy. London: Longmans, Green & Co, 1911. P. 224. (В русском переводе этого высказывания утрачена идея лестницы-склона. Ср.: «Все это — выражения доброй воли, которой обычно в самых важных вопросах жизни руководствуется большинство людей». (См.: Джемс У. Введение в философию; Расселл Б. Проблемы философии. М.: Республика, 2000. С. 147–148.) Поэтому я даю это высказывание в своем переводе. — Прим. пер.)
(обратно)201
James W.A. Pluralistic Universe. New York: Longmans, Green & Co, 1925. P. 329. (Липпман ссылается на более раннее издание этой книги. — Прим. пер.)
(обратно)202
Post hoc, ergo propter hoc — после этого, следовательно, вследствие этого (лат.). — Прим. ред.
(обратно)203
The Heart of the Puritan; selection from letters and journals ed. by Elisabeth Deering Hanscom. N.Y.: The Macmillan Company, 1917. P. 177. Эпидемии оспы были самыми губительными в XVII веке. Оспой заболела дочь Виндзора, владельца таверны. Но Виндзор — еще и резиденция правящего в то время короля Карла II, который своей политикой стимулировал умножение пивных. — Прим. ред.
(обратно)204
Мейтер Инкрис (1639–1723) — пуританский священник, богослов, президент Гарварда. Автор 130 книг и брошюр по самым разнообразным вопросам. Вероятно, Липпман имеет в виду его сочинения, посвященные роли Провидения в спасении людей от всякого рода несчастий Подробнее см.: Weir D.A. Mather // Dictionary of Christianity in America / Increase Reid D.G. (ed.). Downers Grove, Illinois, 1990. P. 716. — Прим. пер.
(обратно)205
Цит. по: The New Republic. 1919. Dec. 24. P. 120.
(обратно)206
Freud S. Interpretation of Dreams. Ch. VI. P. 288 et al. (Фрейд З. Толкование сновидений, СПб.: «Азбука-классика», 2003. Гл. 6. С. 304 и далее. — Прим пер.)
(обратно)207
Джон Буль (John Bull) — вымышленный персонаж, который в литературе и политической карикатуре служит символом Англии или английского характера. Был придуман Джоном Арбетнотом в 1712 году (Encyclopaedia Britannica) — Прим. пер.
(обратно)208
Bergson H. Creative Evolution. Chs. III, IV. (См. также: Бергсон А. Творческая эволюция. Минск: Харвест, 1999. — Прим. пер.)
(обратно)209
Вернон Ли, настоящее имя Виолет Паже (1856–1935) — писательница, автор трудов по эстетике, исследовательница культуры Италии, разрабатывала понятие вчувствования (эмпатии) — Прим. ред.
(обратно)210
Это обстоятельство сильно зависит от характера новостей. Подробнее см.: ч. 7.
(обратно)211
Patterson F.T. Cinema Craftsmanship. N.Y.: Harcourt, Brace & Co., 1921. P. 31–32: «Если в сюжете отсутствуют необходимые для его развития точки напряжения: 1. Добавьте противника. 2. Добавьте препятствие. 3. Добавьте проблему. 4. Привлеките внимание зрителя к одному из вопросов…»
(обратно)212
Ibid. P. 6–7.
(обратно)213
Patterson F.T. Op. cit. P. 46. «Герой и героиня должны в общем и целом быть молодыми, красивыми, добрыми, способными на самопожертвование и преданность».
(обратно)214
Интересный пример подобного рода описан К.Г. Юнгом. См.: Jung C.J. Zentrablatt für Psychoanalyse. 1911. Bd. 1. S. 81. (Сведений о публикации найти не удалось. — Прим. науч. ред.)
(обратно)215
Герой повести английского писателя Р.Л. Стивенсона (1850–1894) «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда» (1886). — Прим. пер.
(обратно)216
Герой одноименной поэмы норвежского драматурга Г. Ибсена (1828–1906). — Прим. пер.
(обратно)217
Наиболее глубокую попытку объяснить характер можно найти в интересном очерке Дж. Джастроу. См: Jastrow J. The Psychology of Conviction. Ch.: «The Antecedents of the Study of Character and Temperament». Boston, New York: H. Mifflin, 1918.
(обратно)218
Cannon W.B. Bodily Changes in Pain, Hunger, Fear, and Rage. New York, London: D. Appleton, 1920.
(обратно)219
Adler A. Über der nervösen Charakter. Grundzüge einer vergleichenden Individualpsychologie und Psychotherapie. Wiesbaden: Bergmann, 1912. (Липпман ссылается на английский перевод этой книги. — Прим. пер.)
(обратно)220
Kempf E.J. Psychopathology; Idem. The Autonomic Functions and the Personality. New York & Washington, 1921. Ср. также: Berman L. The Glands Regulating Personality. London: MacMillan, 1926. (Липпман ссылается на более раннее издание этой книги. — Прим. пер.)
(обратно)221
Jastrow J. Op. cit. P. 156.
(обратно)222
Кемпф в своей «Психопатологии» (Kempf E.J. Op. cit. P. 74) представляет это в следующем виде:
(обратно)223
См. об этом в очень интересной книге: Martin E.D. The Behavior of Crowds. New York, London: Harper, 1920. См. также об этом у Гоббса в «Левиафане» (Гоббс Т. Левиафан // Соч: В 2 т. М.: Мысль, 1991. Ч. II. Гл. 25 — Прим. пер.)
(обратно)224
Брук Руперт (1887–1915) — английский поэт, погибший во время Первой мировой войны. — Прим. пер
(обратно)225
Грей, сэр Эдвард (1862–1933) — британский государственный деятель. — Прим. пер.
(обратно)226
См.: Мировые войны XX века. В 4 кн. Кн. 2. Первая мировая война. Документы и материалы. М.: Наука, 2002. С. 443–445. — Прим. пер.
(обратно)227
Кроули Герберт (1869–1930) — американский политический философ, журналист и издатель. Основатель либерального еженедельника «The New Republic» (1914). — Прим. пер.
(обратно)228
Медисон Джеймс (1751–1836) — 4-й президент (1809–1817) и один из отцов-основателей США. — Прим. пер.
(обратно)229
«Записки Федералиста» («Federalist Papers») — 85 политических эссе, содержащих программу в защиту принципов конституции 1787 года. Статьи написаны А. Гамильтоном, Дж. Медисоном и Дж. Джеем, подписаны псевдонимом «Публий». Статьи представляют собой классическое описание системы федеральной власти, являются классикой политической философии Наиболее известна «Статья 10», в которой говорится о политической природе человека, о разделении властей, о плюралистичности общества. — Прим. науч. ред.
(обратно)230
Veblen Th. The Socialist Economics of Karl Marx and His Followers // The Place of Science in Modern Civilization. New York: Viking Press, 1919. P. 413–418.
(обратно)231
Veblen Th. The Theory of Business Enterprise. New York: Scribner, 1927. (Липпман ссылается на более раннее издание этой книги. — Прим. пер.)
(обратно)232
В действительности, когда дело дошло до проверки обсуждаемой теории, Ленин совершенно отказался от материалистического понимания политики. Если бы он искренне придерживался марксовой формулы, когда захватывал власть в 1917 году, то сказал бы себе: «Согласно учению Маркса, социализм разовьется из зрелого капитализма… А вот я взял власть над государством, которое только вступает на путь капиталистического развития… Верно то, что я социалист, но кроме того я и научный социалист… Отсюда следует, что в настоящее время идея социалистической республики не стоит на повестке дня… мы должны развивать капитализм, чтобы мог идти эволюционный процесс, предсказанный Марксом». Но Ленин не сказал и не сделал ничего подобного. Вместо того чтобы ждать результатов эволюционного процесса, он, опираясь на волю, силу и образование, предпринял попытку пойти вопреки историческому процессу в том его виде, в каком он был задан в его же теории.
С тех пор как это было написано, Ленин отказался от коммунизма на том основании, что Россия не обладает необходимой основой для зрелого капитализма. Теперь он говорит, что Россия должна создать капитализм, который создаст пролетариат. А пролетариат в дальнейшем построит коммунизм. По крайней мере, это соответствует марксистской догме. Но этот пример показывает, как мало детерминизма во мнениях детерминиста.
(обратно)233
В русской марксистской традиции термину «conflict» соответствует термин «противоречие», а термину «absolute conflict» соответствует термин «антагонистическое противоречие». — Прим. пер.
(обратно)234
В отечественной традиции — антагонистического противоречия. — Прим. пер.
(обратно)235
Гедоническое исчисление (hedonic calculus) — принцип утилитаристской этики И. Бентама. Липпман употребляет этот термин в несколько видоизмененной форме: hedonistic calculus. — Прим. пер.
(обратно)236
James W. Principles of Psychology V. 2. P. 383.
(обратно)237
Ibid. P. 390.
(обратно)238
McDougall W. An Introduction to Social Psychology (13th edition). Boston, 1918. P. 31–32. (Липпман ссылается на 4-е издание этой книги. — Прим. пер.) «Большая часть определений инстинктов и инстинктивных действий принимает во внимание только волевые аспекты… общераспространенной ошибкой здесь является игнорирование когнитивных и аффективных аспектов инстинктивных психических процессов» (См.: McDougall W. An Introduction to Social Psychology. Footnote P. 29)
(обратно)239
Ibid. P. 34.
(обратно)240
New York Times. 1921, May 20. В 1917 году США вступили в войну на стороне Антанты. — Прим. науч. ред.
(обратно)241
Имеются в виду Джонсон Херем Уоррен (1866–1945), сенатор от Калифорнии, и Нокс Филандер Чейз (1853–1921). сенатор от Пенсильвании (База данных Конгресса США). — Прим. пер.
(обратно)242
Гувер Герберт Кларк (1874–1964) — 31-й президент США (1929–1933) от республиканской партии. В 1921–1928 годах — министр торговли. — Прим. ред.
(обратно)243
Тафт Уильям Говард (1857–1930) — 27-й президент США (1909–1913) от республиканской партии и десятый Верховный судья США (1921–1930). — Прим. пер.
(обратно)244
Бора Уильям (1865–1940) — сенатор-республиканец от штата Айдахо в течение 33 лет. Знаменит тем, что в конце Первой мировой войны помешал вступлению США в Лигу Наций. — Прим. пер.
(обратно)245
Лоуэлл Эбот Лоренс (1856–1943) — американский юрист и педагог. Будучи президентом Гарвардского университета, весьма способствовал его развитию — Прим. пер.
(обратно)246
См. прим. 2 на с. 136. — Прим. ред.
(обратно)247
Лебон Густав (1841–1931) — французский социолог. Один из первых выдвинул теорию «массового общества». — Прим. пер.
(обратно)248
Пил Роберт (1788–1850) — британский премьер-министр и основатель консервативной партии. — Прим. пер.
(обратно)249
Речь была произнесена в концертном зале Карнеги-холл (Нью-Йорк) 31 июля 1916 года.
(обратно)250
Карранса Венустиано (1859–1920) — один из лидеров мексиканской революции 1910–1917 годов, затем (1917–1920) президент Мексики. — Прим. пер.
Уэрта Адольфо де ля (1881–1955) — мексиканский политик, участник Мексиканской революции. В 1920 году участвовал в свержении президента Каррансы. — Прим. пер.
(обратно)251
Вилья Франсиско (настоящее имя Доротео Аранго; известен также под именем Панчо Вилья) (1877–1923) — один из участников Мексиканской революции. — Прим. пер.
(обратно)252
«Лузитания» — британский океанский лайнер, который 7 мая 1915 года на пути из Нью-Йорка в Ливерпуль был торпедирован немецкой подводной лодкой. Корабль затонул, погибли 1198 человек, в том числе 128 граждан США. Считается, что гибель «Лузитании» была одной из причин вступления США в Первую мировую войну. — Прим. пер.
(обратно)253
Имеется в виду Г.К. Гувер. См. прим. 2 на с. 195. — Прим. ред.
(обратно)254
Программа, предложенная в январе 1918 года американским президентом В. Вильсоном, в которой содержались идеи по организации жизни мирового сообщества в послевоенный период. — Прим. пер.
(обратно)255
Лансдаун Генри Чарлз Кейт (1845–1927) — ирландский аристократ и британский дипломат. Был вице-королем в Канаде и Индии; секретарем по военным делам и секретарем по иностранным делам. Открытое «Письмо Лансдауна» (1917), в котором он призывал обнародовать намерения стран-союзников, вызвало большой общественный резонанс и было оценено как противоречащее государственной политике Великобритании. — Прим. пер.
(обратно)256
Президент Вильсон заявил на конференции с сенаторами, что он не слышал об этих договорах, пока не приехал в Париж. Это его заявление обескураживает. Как следует из текста «Четырнадцати пунктов», они не могли быть сформулированы без знания о секретных договорах. Сущность этих соглашений была известна президенту и полковнику Хаузу [помощник президента. — Пер.], когда они готовили окончательный текст «Четырнадцати пунктов».
(обратно)257
См.: «Четырнадцать пунктов» Вильсона об условиях мира. Из его послания Конгрессу 8 января 1918 года // Мировые войны XX века. В 4 кн. Кн. 2: Первая мировая война: Документы и материалы. М.: Наука, 2002. С. 450. — Прим. пер.
(обратно)258
Там же. С. 451.
(обратно)259
Там же.
(обратно)260
Там же.
(обратно)261
Имеется в виду Лондонская конференция 1916 года, в которой принимали участие представители стран Антанты. — Прим. науч. ред.
(обратно)262
Ирредентизм (от итал. irredento — неосвобожденный) — общественное движение в Италии конца XIX — начала XX века за присоединение к Италии земель Австро-Венгрии, Франции, Швейцарии, Великобритании, населенных итальянцами (Трентино, Триеста, Ниццы, острова Мальта и пр.). — Прим. пер.
(обратно)263
Американская интерпретация «Четырнадцати пунктов» была растолкована официальным представителям союзников непосредственно перед перемирием.
(обратно)264
См. прим. 4 на с. 31. — Прим. ред.
(обратно)265
Jefferson Th. Works. Vol. IX. P. 87. Цит. по: Beard Ch. О. Economic Origins of Jeffersonian Democracy. New York: The Macmillan Co., 1915. P. 172.
(обратно)266
Доктрина Монро — внешнеполитическая программа правительства США, провозглашена в 1823 году в послании президента США Дж. Монро конгрессу. Декларировала принцип взаимного невмешательства стран Американского и Европейского континентов во внутренние дела друг друга. Доктрина Монро препятствовала приобретению европейскими державами колониальных территорий на Американском континенте и их вмешательству во внутренние дела независимых американских государств (Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия. 2002). — Прим. пер.
(обратно)267
Бердж и Лубин — персонажи сочинения Б. Шоу «Назад к Мафусаилу», которые считаются карикатурами на крупных деятелей времен Первой мировой войны Ллойд Джорджа и Асквита. (Шоу Б. Соч.: В 6 т. Т. 5. Примечания. С. 666.) — Прим. пер.
(обратно)268
См. об этом в интересной и занимательной, но довольно старой книге: Lewis G.C. An Essay of the Influence of Authority in Matters of Opinion. London, Longmans, Green & Co, 1875.
(обратно)269
Bryce L. Modern Democracies. V. 1–2. London: Macmillan, 1921. V. 2. P. 544–545.
(обратно)270
Протекционистская ставка тарифа, введенная законом Фордни — Мак Камбера в 1922 году. — Прим. ред.
(обратно)271
Острогорский М. Демократия и организация политических партий. М., 1997. (Автор пользовался более ранним изданием. — Прим. пер.) Michels R. Political Parties; a sociological study of the oligarchical tendencies of modern democracy, tr. By Elen & Cedar Paul, New York, Hearst's Internation Library Co., 1915. Bryce L. Modern Democracies. New York, The Macmillan company, 1921. См. в особенности Ch. LXXV; Ross E.A. Principles of Sociology. New York: Century & Co, 1926. Ch. XXII–XXIV.
(обратно)272
Bruce L. Op cit. V. II. P. 542
(обратно)273
James W. Some Problems of Philosophy. P. 227. «Но в большинстве экстремальных ситуаций мы не можем принимать решения по отдельности (fractional), независимо от других. Действовать по отдельности мы можем в редких случаях» (перев. мой. — Т. Б.). В стилистически более изысканном русском переводе этого высказывания идея отдельности «стерта» в силу отсутствия в нем анафорической связи двух фрагментов высказывания и в силу замены понятия «отдельности» на понятие «дробности», что наводит на мысль о пошаговом решении проблемы: «Но в превратностях нашей судьбы в большинстве случаев мы не имеем к нашим услугам страхового общества, и разрешение трудных положений вышеописанным дробным способом невозможно. Да и действуем мы таким способом лишь в редких случаях» (См. Джеймс У. Проблемы философии. М.: Республика, 2000. С 149–150). — Прим. пер.
(обратно)274
«Совет Десяти», состоявший из представителей США, Англии, Франции, Италии, Японии — по два человека от каждой страны, позднее был преобразован в «Большую Тройку», членами которой являлись президент США Вильсон, премьер-министр Англии Ллойд Джордж и президент Франции Клемансо. В состав «Большой Четверки» входили представители Англии, Франции, США и Италии — Прим. науч. ред.
(обратно)275
Ср. высказывание Х.Дж. Ласки по этому поводу: «…пропорциональное представительство… которое на первый взгляд ведет к групповой системе… может лишить избирателей права выбирать своих лидеров» (Laski H.J. Foundations of Sovereignty and other essays. London: Allen & Unwin, 1931. (2nd impr.) P. 224). Групповая система, как утверждает Ласки, безусловно, способствует более опосредованному выбору исполнительной власти, но нет сомнений, что она также способствует формированию законодательных органов, где разные мнения представлены шире. Хорошо это или плохо, нельзя определить a priori. Но можно сказать, что успешное взаимодействие и ответственность в законодательном органе, который обеспечивает большее представительство, требуют более высокой организации политического разума и политического поведения, чем жесткая двухпартийная система. Эта политическая форма сложнее, и поэтому она может работать хуже.
(обратно)276
Бентам Иеремия (1748–1832) — английский философ, социолог и юрист, родоначальник философии утилитаризма. — Прим. ред.
(обратно)277
Высказывание «Париж стоит мессы» приписывается французскому королю Генриху IV (1553–1610), который принял католичество, отказавшись от протестантства, с целью достижения своих политических целей. — Прим. пер.
(обратно)278
Bagehot W. The English Constitution. D.: Appleton & Company, 1914. P. 127.
(обратно)279
Вероятно, Липпман имеет здесь в виду Порфирио Диаса (1830–1915), известного тем, что, будучи президентом, он установил жесткий диктаторский режим. — Прим. пер.
(обратно)280
По вопросу секретности и единства командования имеет смысл внимательно ознакомиться с работой капитана Питера Райта «На высшем военном совете» (Wright Peter S. At the Supreme War Council. New York, London, C.P. Putman's sons, 1921) Тем не менее можно категорически не согласиться с его оценкой лидеров союзников.
(обратно)281
Вильсон Генри (1864–1922) — британский фельдмаршал, главный военный советник премьер-министра Ллойд Джорджа в последний год Первой мировой войны. — Прим. пер.
(обратно)282
Right P.S. Op. cit. P. 98, 101–105.
(обратно)283
Ibid. P. 37. Цифры, которые приводит капитан Райт, были взяты им из статистического обзора войны, находящегося в архивах военного министерства. Очевидно, что эти цифры относятся к потерям англичан, но, возможно, и к потерям французов.
(обратно)284
Ibid. P. 34. Потери в битве при Сомме составили 500 000 человек. Потери британской стороны во время наступлений в районе Арраса и во Фландрии в 1917 году оцениваются в 650 000 человек.
(обратно)285
Людендорф Эрих (1865–1937) — немецкий военачальник, генерал (1916), один из идеологов германского милитаризма. В Первую мировую войну, являясь помощником генерала П. Гинденбурга, фактически руководил военными действиями на Восточном фронте в 1914–1916 годах, а в 1916–1918 годах — всеми вооруженными силами Германии. — Прим. пер.
(обратно)286
Поражения союзников бывали и более кровавыми, чем то, которое настигло их на Шмен-де-Дам.
(обратно)287
Ср., напр., объяснение причин Суассонских мятежей и способов их подавления, применявшихся Петеном, которое дает Пьерфе (Pierrefeu J. de. G.Q.G. Trois ans au grand Quartier Général. Par le rédacteur du Communniqué. Paris: L'éd. Françe 1920. V. I. Part III et seq.).
(обратно)288
Эта речь была прекрасно проанализирована в работе: Martin E.D. The Behavior of Crowds. New York, London: Harper, 1920.
(обратно)289
Предисловие Харта Альберта Бушнелла к книге: Lowell A.L. Public Opinion and Popular government. New York [usw.]: Longmans, Green & Co., 1913.
(обратно)290
Липпман цитирует здесь строчку из стихотворения У. Вордсворта «Французская революция»:
Bliss was it in that dawn to be alive, But to be yung was very heaven!См.: Wordsworth W. Shorter Poems. N. Y.: The Macmillan company: London, Macmillan & Co., Itd., 1903. P. 122–123. — Прим. пер.
(обратно)291
Ad nauseam — до тошноты (лат). — Прим. ред.
(обратно)292
Federalist. № 35, 36. Ср. комментарии по поводу этой публикации в книге: Ford И J. The Rise and Growth of American Politics: A Sketch of Constitutional Developments. New York: Macmillan, 1898. Ch. V.
(обратно)293
См. об этом далее.
(обратно)294
Аристотель. Политика. Кн. VII (H), Гл. IV, 15. Соч.: В 4 т. Т. 4. С. 598. — Прим. пер.
(обратно)295
Гоббс Т. Левиафан. Соч.: В 2 т. М.: Мысль, 1991. Т. 2. С. 97
(обратно)296
См. прим. 1 на с. 51. — Прим. ред.
(обратно)297
Роберт Лансинг (1864–1928) — юрист, писатель, эксперт и советник президента Т.В. Вильсона. В 1915–1920 годах — государственный секретарь США. — Прим. науч. ред.
(обратно)298
Ф.С. Оливер в своей книге «Александр Гамильтон» говорит о Макиавелли так: «Допустив, что существующие условия — природа человека и вещей — неизменны, он развивает свои мысли в спокойном аморальном тоне, подобно лектору по морфологии земноводных, показывая, как смелый и мудрый правитель поворачивает события в свою пользу, обеспечивая устойчивость правления своей династии» (Oliver F.S. Alexander Hamilton. London: A. Consteble & Company, limited, 1906. P. 174).
(обратно)299
Макиавелли H. «Государь» и другие произведения. М.: Мысль, 1997. Гл. XVIII. С. 85–86. — Прим. пер.
(обратно)300
«Демократии всегда представляли собой зрелище бурления и борьбы… их жизнь была столь же краткой, сколь жестокой была их смерть» (Madison J. Federalist, № 10).
(обратно)301
Де Токвиль А. Демократия в Америке. М.: Прогресс, 1992. С. 63. — Прим. пер.
(обратно)302
Цит. по: Beard Ch. Economic Origins of Jeffersonian Democracy. New York: The Macmiilan Co., 1915. Ch. XIV.
(обратно)303
Джефферсон Т. Заметки о штате Виргиния // Автобиография. Заметки о штате Виргиния. Л.: Наука, Ленинградское отд. 1990. С. 232. — Прим. пер.
(обратно)304
Там же. С. 426.
(обратно)305
Аристотель. Политика, Книга VII, Глава IV. — Прим. пер.
(обратно)306
См. прим. 1 на С. 216. — Прим. пер.
(обратно)307
Фишер Эймс, напуганный демократической революцией 1800 года, писал Руфусу Кингу в 1802 году: «Нам, как и любому государству, необходимо наличие серьезного внешнего соседа, который одним своим присутствием внушал бы народу более сильный страх, чем тот страх перед правительством, который внушают народу демагоги-политики» (цит. по: Ford H. The Rise and Growth of American Politics: A Sketch of Constitutional Developments. New York: Macmillan, 1898. P. 69).
(обратно)308
Слово patronage в политической терминологии США дословно означает раздачу должностей и постов победившей на выборах партией своим сторонникам (см. Большой англо-русский словарь). — Прим. науч. ред.
(обратно)309
Federalist, № 15.
(обратно)310
Ford H. Op. cit., P. 36.
(обратно)311
Термин «government» не имеет однозначного способа перевода в отечественной традиции перевода текстов по либеральной теории. Так, при переводе названия сочинения Дж. Локка «Two Treatises of Government» (1690) используется термин «правление». В современных работах по соответствующей тематике в зависимости от контекста используется «правление», «управление» и «правительство» (см., напр.: Шелдон Г. Политическая философия Томаса Джефферсона. М.: Республика, 1996). — Прим. пер.
(обратно)312
Federalist, № 51. Цит. по: Ford H. Op. cit. P. 60.
(обратно)313
Ibid.
(обратно)314
Federalist. № 15.
(обратно)315
Local opinion — право жителей города (округа и т. п.) голосованием регулировать (разрешать или запрещать) что-либо (продажу спиртных напитков и т. п.) (англ.). — Прим. ред.
(обратно)316
Таммани-холл — исполнительный комитет демократической партии в Нью-Йорке. — Прим. пер.
(обратно)317
Ford H. Op. cit. P. 119.
(обратно)318
В данном фрагменте речь идет о конфликте между партией республиканцев и партией федералистов и о дуэли между федералистом Александром Гамильтоном и республиканцем Аароном Берром (1804), в результате которой Гамильтон был убит. — Прим. пер.
(обратно)319
Ibid. P. 144.
(обратно)320
Джентри — нетитулованное мелкопоместное дворянство. — Прим. ред.
(обратно)321
Ibid. P. 47.
(обратно)322
Beard Ch.A. An Economic Interpretation of the Constitution of the United States. New York: Macmillan, 1925. (Липпман ссылается на более раннее издание этой книги. — Прим. пер.)
(обратно)323
Ibid. P. 281.
(обратно)324
Имеется в виду, что судебная власть имеет право толкования законов (в том числе статей конституции) и ее толкование является обязательным для других ветвей власти. — Прим. науч. ред.
(обратно)325
Де Токвиль А. Указ. соч. С. 147. — Прим. пер.
(обратно)326
Ср. его соображения по поводу конституции Виргинии, его идеи сената для собственников и его взгляды на юридическое вето. См.: Beard al. Economic Origins of Jeffersonian Democracy. New York: The Macmillan Co., 1915. P. 450 et al.
(обратно)327
Джэксон Эндрю (1767–1845) — американский государственный деятель, 7-й президент США (1829–1837), один из основателей Демократической партии (1828). — Прим. пер.
(обратно)328
Читатель, который сомневается относительно степени революционности, которая отделяла взгляды Гамильтона от практики Джэксона, должен обратиться к книге Генри Форда «Возникновение и развитие американской политики» (Ford.H. The Rise and Growth of American Politics…).
(обратно)329
Ford H. Op. cit. P. 169.
(обратно)330
См. прим. 2 на с. 136.
(обратно)331
Адамc Джон Куинси (1767–1848) — 6-й президент США (1825–1829), не сумев переизбраться на второй срок, возвратился в Брейнтри, откуда он был родом; в 1831 году был избран в палату представителей конгресса США от своего избирательного участка (Брейнтри) и регулярно переизбирался в последующие годы до конца своих дней. — Прим. науч. ред.
(обратно)332
«Казенный пирог» (pork barrel) — мероприятие, проводимое правительством для завоевания популярности. — Прим. пер.
(обратно)333
Имеется в виду «pax Romana» — принцип государственного устройства Римской империи, согласно которому подчиненные ей государства и племена не должны были воевать между собой, но только с врагами империи. — Прим. науч. ред.
(обратно)334
Cole G.D.H. Social Theory. London: Methuen, 1923. P. 142. (Липпман ссылается на более раннее издание этой книги. — Прим. пер.)
(обратно)335
Cole G.D.H. Guild Socialism. London: Parsons, 1921. P. 107. (См. также: Коль Г. Гильдейский социализм. М., 1925. К сожалению, это издание при подготовке перевода оказалось переводчику и редактору недоступно. Поэтому цитаты и ссылки приводятся по оригиналу. В тексте фамилия автора передается в современной транскрипции: Дж. Коул. — Прим. ред.)
(обратно)336
Ibid. Ch. VIII.
(обратно)337
Ibid. P. 141.
(обратно)338
Ibid. Ch. X.
(обратно)339
Ibid. P. 16.
(обратно)340
Ibid. P. 40.
(обратно)341
Ibid. P. 41.
(обратно)342
Ibid. P. 40.
(обратно)343
Аристотель. Политика. Кн. VII. Гл. IV // Соч.: В 4 т. М.: Мысль, 1984. Т. 4.
(обратно)344
Cole G.D.H. Guild Socialism. P. 42.
(обратно)345
Ibid. P. 23–24.
(обратно)346
См. ч. 5.
(обратно)347
См. Cole G.D.H. Op. cit. Ch. 19.
(обратно)348
Cole G.D.H. Social Theory. P. 102 et al.
(обратно)349
См. гл. 18 его книги (Ibid.), где говорится: «Поскольку допускается, что каждый достаточно заинтересован в важных делах, то только те дела и кажутся важными, в которых каждый заинтересован».
(обратно)350
Cole G.D.H. Guild Socialism. P. 24.
(обратно)351
Я рассмотрел концепцию Коула, а не опыт Советской России, потому что, во-первых, имеющиеся в моем распоряжении данные о последней фрагментарны, а во-вторых, все специалисты согласны в том, что Россия в 1921 году не может рассматриваться как пример налаженного коммунистического государства. Россия находится в состоянии революции, и на ее примере можно увидеть, что такое революция. Но каким будет коммунистическое общество, по ней пока понять нельзя. Однако исключительно значимым является то, что русские коммунисты сначала как революционеры-практики, а затем — как государственные деятели полагались не на стихийный демократизм русского народа, а на дисциплину, особый интерес и noblesse oblige особого класса — верных и идеологически подкованных членов коммунистической партии. В «переходный период», временной предел которого не был определен, средство лечения классового управления и принудительного государства может быть только гомеопатическим.
Встает также вопрос, почему я выбрал книги Коула, а не построенную на более тщательной аргументации книгу Сидни и Беатрис Вебб «Конституция социалистического Содружества Великобритании» (Sidney and Beatrice Webb. Constitution for the Socialist Commonwealth of Great Britain. London, New York: Longmans, Green and Co., 1920). Меня восхищает эта книга, но я не смог убедить себя в том, что это не интеллектуальный tour de force (tour de force — ловкий трюк (фр.) — Прим. ред.). Мне кажется, что книга Коула гораздо ближе по своему духу социалистическому движению, и потому представляется мне более надежным материалом.
(обратно)352
Лучшим исследованием на эту тему является труд профессора Зекарайи Чейфи, результаты которого изложены в его книге «Свобода слова» (Zechariah Chafee. Freedom of Speech. New York: Harcourt, Brace and Howe, 1920).
(обратно)353
Мильтон Дж. Ареопагитика. Речь о свободе печати от цензуры, обращенная к парламенту Англии (1644) (Современные проблемы. М. — Новосибирск, 1997. Вып. 1. С. 74. — Прим. пер.)
(обратно)354
Ср., напр., публикации «Lusk Committee» в Нью-Йорке, а также публичные высказывания и пророчества Митчела Палмера, который был министром юстиции во время болезни президента Вильсона.
(обратно)355
Слово «free» означает в английском языке и «свободный», и «бесплатный». — Прим. пер.
(обратно)356
«Прочно стоящая на ногах газета имеет право на установление таких тарифов на рекламу, что ее выручка от продажи тиража в книге доходов и расходов может быть занесена в графу «кредит». Для того чтобы вычислить сумму чистой выручки, я бы предложил вычитать из прибыли расходы на рекламу самой газеты, на ее распространение, а также прочие расходы, связанные со сбытом тиража». Из Обращения Адольфа С. Окса, издателя газеты «Нью-Йорк таймс» на Филадельфийском съезде Ассоциации рекламных клубов мира 26 июня 1916 г. (Цит. по: Davis E. History of «The New York Times», 1851–1921. New York: The New York Times, 1921. P. 397–398).
(обратно)357
См. прим. 3 на С. 63.
(обратно)358
Given J.L. Making a Newspaper. New York: Holt, 1907. London: G. Bell & Sons, 1907. P. 13. Это, насколько мне известно, лучшее специальное издание, которое следует прочитать каждому, кто занимается прессой. Дж. Б. Дайбли, написавший исследование «The Newspaper» (Ноте University Library), утверждает, что знает «только одну хорошую книгу, написанную о прессе для представителей прессы, и это книга Гивена» (P. 253).
(обратно)359
Иногда настолько рискованным, что для того чтобы добиться доверия, издатель должен организовать дело так, чтобы попасть в зависимость от своих кредиторов. Информацию по этому вопросу очень трудно добыть, и поэтому ее важность обычно сильно преувеличивается.
(обратно)360
«Аксиому издания газеты можно сформулировать так: чем больше читателей, тем больше независимости от рекламодателей; чем меньше читателей, тем больше зависимости от рекламодателей». Противоречивым может показаться утверждение: «чем больше число рекламодателей, тем меньше влияние, которое они в отдельности могут оказать на издателя». Несмотря на кажущуюся противоречивость, оно верно (А.С. Окс. См. прим. 1 на с. 304).
(обратно)361
Читатель не должен понимать это как призыв к цензуре. Однако было бы хорошо, если бы существовали компетентные судебные органы, предпочтительно негосударственные, которые рассматривали бы обвинения в лживости и нечестности общих новостей. См.: Lippmann W. Liberty and the News. New York: Harcourt, Brace and Howe, 1920. P. 73–76.
(обратно)362
Например, обратите внимание, что Эптон Синклер не выражает никакого гнева против социалистических газет, даже против тех, которые столь же нечестны по отношению к наемным работникам, сколь некоторые цитируемые им газеты нечестны по отношению к радикалам.
(обратно)363
Цит. по: Lee J.M. The History of American Journalism. Boston, New York, Houghton Wifflin company, 1917. P. 405.
(обратно)364
Given J.L. Making a Newspaper. New-York: Holt, 1907. London: G. Bell & Sons, 1907. P. 13.
(обратно)365
Гедда Габлер — героиня одноименной драмы Г. Ибсена, написанной в 1890 году — Прим. пер.
(обратно)366
См. прим. 3 на с. 63.
(обратно)367
X. Беллок практически под тем же самым углом зрения анализирует английские газеты. См.: Belloc H. The Free Press… London: G. Allen & Unwin ltd, 1918.
(обратно)368
The Brass Check (букв.) — медный жетон, который получает посетитель дешевого публичного дома в обмен на плату за посещение заведения. Буквальное перенесение этой метафоры в настоящий перевод не удалось. — Прим. пер. и науч. ред.
(обратно)369
Sinclair U. The Brass Check: (A Study of American Journalism). Pasadena, 1919. P. 436.
(обратно)370
См. об этом в очень содержательной главе из книги Джона Л. Гивена, посвященной данному вопросу (Given J.L. Making a Newspaper. New York: Holt. 1907. London: G. Bell & Sons, 1907. Ch. V: Uncovering the News.).
(обратно)371
Ibid. P. 57.
(обратно)372
Беннетт Арнольд (1867–1931) — британский романист, драматург, критик и эссеист. — Прим. пер.
(обратно)373
De minimis non curat lex — закон не уделяет внимания мелочам (лат.). — Прим. пер.
(обратно)374
Cobb Fr. Address Before the Women's City Club of New York. December 11, 1919 // New Republic, 1919, December 31. P. 44.
(обратно)375
Ср.: Haynes Irwin I. The Story of the Woman's Party. New York: Harcourt, Brace, 1921. Эта работа — не только прекрасное объяснение важнейшей части прекрасной агитационной кампании, но и кладезь материала по успешной нереволюционной, неконспиративной агитации при современном состоянии общественного внимания, общественного интереса и политических привычек.
(обратно)376
Недавно Бейб Рут (популярный американский бейсболист (1895–1948). — Пер.) был задержан полицией за превышение скорости. Когда его освободили, непосредственно перед игрой, в которой он участвовал, он прыгнул в свой автомобиль и наверстал то время, которое провел в заключении. Ни один полицейский его не остановил, но нашелся репортер, который прохронометрировал его езду и опубликовал отчет о своем хронометраже в утреннем выпуске газеты. Бейб Рут — исключительный человек. Газеты не могут проследить за каждым автомобилистом. Им приходится черпать новости о превышении скорости из полицейских сводок.
(обратно)377
См. гл. 11.
(обратно)378
Это высказывание из его эссе, озаглавленного «Искусство и критика». Цит. по: Brown R.W. The Writer's Art by those, who have practiced it, selected and arranged. Cambridge, Harvard University Press [etc., etc.], 1921. P. 87.
(обратно)379
Ibid.
(обратно)380
Нортклифф, виконт (1865–1922) — согласно Британской энциклопедии, самый удачливый газетный издатель в истории Англии, основатель современной популярной журналистики.
(обратно)381
Lippmann W. Merz Ch., assisted by Faye Lippmann. A Test of the News // New Republic, 1920, August 4.
(обратно)382
Bagehot W. On the Emotion of Conviction // Literary Studies by the late Walter Bagehot with a prefatory memoir, ed. by Richard Holt Hutton. London, Lougmans, Green, 1879. Vol. III. P. 172.
(обратно)383
Когда я писал свою работу «Свобода и новости», я не понимал это различие настолько хорошо, чтобы сформулировать его. Однако ср.: гл. 10, раздел 4 настоящей книги.
(обратно)384
Липпман использует здесь образ из стихотворения П.Б. Шелли «Адонаис»:
Heaven's light forever shines, Earth's shadows fly; Life, like a dome of many-coloured glass, Stains the white radiance of Eternity, Until Death tramples it to fragments.Липпман цитирует этот текст в вольном пересказе. Русский поэтический перевод звучит так:
Жить одному, скончаться тьмам несметным. Свет вечен, смертны полчища теней. Жизнь — лишь собор, чьим стеклам разноцветным Дано пятнать во множестве огней Блеск белизны, которая видней, Когда раздроблен смертью свод поддельный…(Цит. по: Поэзия английского романтизма. М.: Худож. лит., 1975. С. 456–457). — Прим. пер.
(обратно)385
Гэри Элберт Генри (1846–1927) — американский юрист и промышленник. Дважды избирался на пост судьи графства, после чего получил прозвание «Судья Гэри». Создал несколько сталелитейных компаний, в том числе в 1901 году — Американскую сталелитейную корпорацию (U.S. Steel Corp.), председателем совета директоров которой оставался до конца своих дней. Проводил политику сотрудничества между руководством и трудовым коллективом компании, устраивая знаменитые «ужины у Гэри», где обсуждались дела компании и заключались неформальные соглашения. В корпорации Гэри установил высокую зарплату, заботился о социальном обеспечении и охране труда работников, ввел систему их акционерного участия в капитале предприятия, но категорически не признавал профсоюзов. Эта политика, а также большая продолжительность рабочего дня в сталелитейной промышленности способствовали тому, что в 1919 году отрасль охватила крупномасштабная стачка. Несмотря на поражение забастовщиков, под давлением общественного мнения Гэри впоследствии сократил рабочий день (The Columbia Encyclopedia, Sixth Edition. 2001). — Прим. науч. ред.
(обратно)386
Гомперс Сэмюэл (1850–1924). — Видный деятель профсоюзного движения, один из создателей и председатель Американской федерации труда (American Federation of Labor). Выступал против участия рабочих союзов в политической борьбе, за ограничение деятельности профсоюзов экономическими вопросами. Инициатор модернизации профсоюзных объединений своего времени и общенациональной организации рабочих. — Прим. науч. ред.
(обратно)387
Тейлор Фредерик У. — основоположник «научного управления» (scientific management). Про двух других упоминаемых здесь деятелей никакой информации найти не удалось. — Прим. науч. ред.
(обратно)388
Merriam Ch.E. The Present State of the Study of Politics // American Political Science Review. 1921. V. XV, № 2, May.
(обратно)389
Армагеддон (греч. ΄Αρμαγεδδων) — в христианских мифологических представлениях место эсхатологической битвы на исходе времен, в которой будут участвовать «цари всей земли вселенной». Также упоминается как место кровавых битв и умерщвления Иосии в IV Книге Царств (XXIII:29) и Книге Судей (V:19). Название это стало символом ужасных событий в судьбах Христовой Церкви. См.: Библейская энциклопедия. М., 1990. С. 60. — Прим. науч. ред.
(обратно)390
В Пилтдауне (Сассекс) в 1908–1915 годах были найдены человеческие и звериные кости, в частности — фрагменты черепа человека и обезьянья челюсть. Ученые сочли их комплексом и объявили «недостающим звеном». Однако проведенная в 1953 году проверка с помощью фторного анализа и других методов установила, что череп в действительности принадлежал современному человеку, челюсть — орангутану, кости — различным животным. Останки эти подвергались обработке с целью создания иллюзии их одновременного происхождения. «Пилтдаунский человек» оказался фальсификацией (У.Брей, Д.Трамп. Археологический словарь. М. Прогресс, 1990). Обращаю внимание на то обстоятельство, что то, что Пилтдаунский человек — фальшивка, обнаружилось уже после выхода данной книги. — Прим. ред.
(обратно)391
Ex post facto — после совершения факта (лат.). — Прим. ред.
(обратно)392
The Address of the President of the American Philosophical Association, Mr. Ralph Barton Perry, Dec. 28, 1920. Опубликовано в the Proceedings of the Twentieth Annual Meeting.
(обратно)393
Число этих организаций в Соединенных Штатах очень велико. Одни из них функционируют, другие — нет. Они быстро изменяются. Их названия предоставили мне: доктор Л.Д. Апсон (Детройтское управление государственных исследований), Ребекка Б. Ранкин (Городская справочная библиотека Нью-Йорка), Эдвард А. Фитцпатрик (секретарь Государственной комиссии по образованию, Висконсин), Сейвел Зиманд (Нью-Йорк). Общий список содержит несколько сотен организаций.
(обратно)394
В этом фрагменте содержится еще одна отсылка к платоновской аллегории пещеры, которую Липпман использовал в качестве эпиграфа к данной книге. — Прим. пер.
(обратно)395
См. гл. 12.
(обратно)396
Я не употребляю понятие «числовые показатели» в техническом значении. Под «числовыми показателями» я подразумеваю любой аппарат для сравнительного измерения социальных явлений.
(обратно)397
См., например: Ayers L.P. An Index Number for State School Systems. Russell Sage Foundation, 1920. Принцип квотирования был очень успешно применен Объединенным советом морского транспорта (Allied Maritime Transport Council) в гораздо более сложных условиях при организации кампании «Заем в поддержку свободы» (Liberty Loan Campaigns).
(обратно)398
Этот тип услуг получил широкое развитие в торговых ассоциациях. Пример неправильного использования такого рода услуг был вскрыт в расследовании дела New York Building Trades (1921).
(обратно)399
Webb В., Webb S. The Reorganization of Local Government // A Constitution for the Socialist Commonwealth of Great Britain. London, New York: Longmans, Green & Co; 1920. Ch. IV.
(обратно)400
Laski H.J. The Foundations of Sovereignty and Other Essays. London: Allen & Unwin, 1931 (2nd impr.). См. в особенности очерк «Основания суверенитета», а также очерки «Проблемы административных единиц», «Теория народного суверенитета» и «Плюралистическое государство».
(обратно)401
Bryce J. Modern Democracies. V. 1–2. London: Macmillan, 1921. V. 1. P. 159.
(обратно)402
Ibid P. 158.
(обратно)403
См. гл. 20.
(обратно)404
См. прим. 2 на с. 334.
(обратно)405
Фостер Уильям (1881–1961) — деятель Коммунистической партии США. — Прим. пер.
(обратно)406
См. статью «Прожиточный минимум и сокращение заработной платы» (The Cost of Living and Wage Cuts) в «New Republic» (1921, July 27), написанную доктором Лео Вольманом (Leo Wolman). В этой статье проведен блестящий анализ наивного использования таких цифр и «псевдопринципов» Это очень важное предупреждение, так как оно исходит от экономиста и статистика, который сделал большой вклад в улучшение техники промышленных споров.
(обратно)407
То есть в том смысле, в каком это понятие используется в работе Лоуэлла «Общественное мнение и народное правление» (Lowell A.L. Public Opinion and Popular government. New York [usw.]: Longmans, Green & Co., 1913).
(обратно)408
Платон. Государство. Кн. 5, 473. Соч.: В 4 т. М.: Мысль, 1994. Т. 3. С. 252.
(обратно)409
Там же. С. 253.
(обратно)410
Там же. С. 252–253.
(обратно)411
Там же. 489. С. 268.
(обратно)412
Там же.
(обратно)413
Там же. 488. С. 267.
(обратно)414
Уоллес Грэхем (1858–1932) — британский просветитель, государственный деятель и политический мыслитель. Считается одним из отцов-основателей современной социологии. — Прим. ред.
(обратно)415
См. об этом в первых главах книги Г. Уэллса «Человечество в процессе развития» (Mankind in the Making).
(обратно)416
Чем лучше осуществляется аналитическая работа в информационных бюро любого социального института, тем, конечно, больше вероятности, что завтра люди будут решать свои проблемы в свете событий, произошедших вчера.
(обратно)417
Не все, но некоторые из различий между реакционерами, консерваторами, либералами и радикалами обусловлены, с моей точки зрения, различными интуитивными оценками скорости изменения социальной ситуации.
(обратно)
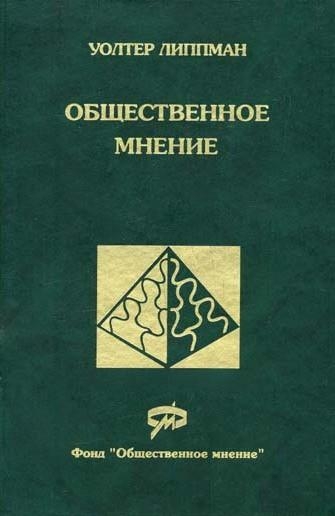




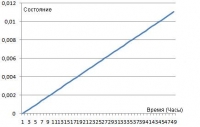



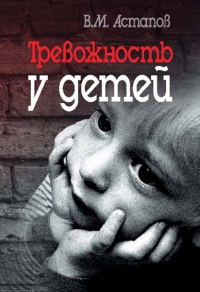


Комментарии к книге «Общественное мнение», Уолтер Липпман
Всего 0 комментариев