Алексей Алексеевич Леонтьев Прикладная психолингвистика речевого общения и массовой коммуникации
От составителей
Среди многочисленных как опубликованных, так и неопубликованных работ Алексея Алексеевича Леонтьева (1936—2004) большое место занимают его работы, посвященные конкретным вопросам прикладной психолингвистики в социальной и массовой коммуникации. Эти работы охватывают период от конца 1960-х гг., когда А.А. Леонтьев создал и возглавил исследовательскую группу по психолингвистике и теории коммуникации в Институте языкознания АН СССР, и до последних лет его жизни, когда он принимал активнейшее участие в междисциплинарных исследовательских проектах по языку СМИ и психолингвистической экспертизе СМИ, делал целый ряд лингвистических и психолингвистических экспертиз. К сожалению, вклад А.А. Леонтьева в прикладную психолингвистику известен хуже, чем в психолингвистику фундаментальную, основателем которой в нашей стране он считается по праву. Во многом это связано с тем, что до сих пор публикации А.А. Леонтьева по прикладной психолингвистике не были собраны в книгу. Хотя ряд исследований был обобщен и изложен в учебных пособиях А.А. Леонтьева «Психология общения» и «Основы психолингвистики», практически все его публикации на эту тему разрознены, опубликованы в малодоступных и малотиражных изданиях и никогда не переиздавались. Вместе с тем, актуальность проблем психолингвистического анализа социальной и массовой коммуникации растет с каждым годом, поэтому этот тематический сборник не только отдаст дань памяти ученого, но и будет несомненно востребован широкими кругами ученых и практиков.
Структура и членение данного сборника во многом условны. В него включены работы разных лет, затрагивающие бытование языка и текста за пределами непосредственного межличностного или лекционного общения, которому посвящены другие работы А.А. Леонтьева. Мы постарались собрать в данном издании наиболее содержательные и наименее пересекающиеся между собой тексты, в частности, написанные А.А. Леонтьевым главы в брошюре А.А. Леонтьева, А.М. Шахнаровича и В.И. Батова «Речь в криминалистике и судебной психологии» (М., 1977) и в коллективной монографии «Скрытое эмоциональное содержание текстов СМИ и возможности его психологической диагностики» под ред. А.А. Леонтьева и Д.А. Леонтьева (М., 2004), статьи, публиковавшиеся в самых разных изданиях, а также ранее не публиковавшиеся тексты, в частности, два выступления первой половины 1990-х гг., посвященные рекламе.
Редакционная работа составителей над текстами ограничивалась минимальной стилистической правкой и оформлением текстов в соответствии с сегодняшними издательскими стандартами. В некоторых местах можно встретить неизбежные в таких случаях повторы. Эта книга рассматривалась составителями не столько как памятник научной мысли, сколько как актуальное издание, способное помочь в решении задач сегодняшней науке. Появление этой книги позволит по-новому увидеть возможности психолингвистического анализа в работе над актуальнейшими проблемами жизни общества.
I. Прикладная психолингвистика речевого воздействия
Основные направления прикладной психолингвистики в СССР [1]
Психолингвистика сейчас «в моде». Из года в год появляются все новые книги, растут исследовательские группы и центры. В рамках международных конгрессов собираются секции и симпозиумы – все под тем же флагом психолингвистики (так было, в частности, на XVIII и XIX психологических конгрессах, на X Международном конгрессе лингвистов в Бухаресте в 1967 г.). Появляются статьи и доклады под названием «Психолингвистика и…» (например, «и стилистика», «и массовая коммуникация»); пришло время и для таких книг, как «Введение в психолингвистику».
Впрочем, как это бывает довольно часто, обозначаемое этим термином понятие не вполне соответствует термину. Хорошо известно, что термин «психолингвистика», хотя он и был впервые употреблен Н. Пронко ( Pronko , 1946) в достаточно широком смысле, получил общее распространение лишь применительно к довольно узкому направлению, возглавляемому Ч. Осгудом и нашедшему особенно яркое выражение в известной книге 1954 г. (Psycholinguistics, 1954). Если мы сохраним это значение для термина «психолингвистика», то едва ли правомерно употреблять его, скажем, для обозначения направления американской науки, возглавляемого сейчас Н. Хомским и Дж. Миллером. Еще менее он пригоден для других зарубежных школ и направлений, пользующихся, однако, им весьма свободно, например для группы П. Фресса во Франции или группы Т. Слама-Казаку в Румынии. И уж совсем не годится термин «психолингвистика» при таком подходе для советских работ по пограничным проблемам психологии и языкознания, опирающихся нередко на методологические и конкретно-научные предпосылки, едва ли не диаметрально противоположные осгудовскому направлению – ср.: Теория речевой деятельности, 1968.
С другой стороны, термин «психолингвистика» во многом соблазнителен. Модель, по которой он образован, смело можно назвать продуктивной для метаязыка современной науки. Это вполне понятно ввиду резкого тяготения не только гуманитарных, но и точных и естественных дисциплин к заполнению «белых пятен», образовавшихся на стыках этих дисциплин, и к созданию если не новых наук, то принципиально новых направлений исследования, характеризующихся общей чертой – комплексностью. Астробиология и гистохимия, этнопсихология и медицинская антропология не вызывают сейчас удивления у широкой публики, не говоря уже о специалистах. Психолингвистика естественно становится в этот ряд. Это очень удобный «ярлык» для очень разных теорий и конкретных экспериментальных исследований, такое общее знамя, под которое сочли возможным стянуть свои полки ученые, по своим научным убеждениям достаточно далекие друг от друга. Поэтому за термином «психолингвистика» уместно сохранить его традиционно сложившееся расширенное значение.
Что же объединяет под общим знаменем психолингвистики столь далеких по своим интересам и убеждениям людей? Мы едва ли поймем это, если будем трактовать психолингвистику как комплекс имманентно развивающихся теоретических идей, как новую «науку», претендующую на то, чтобы потеснить «традиционную» психологию речи (или соответственно лингвистику). Реальные процессы развития идут иначе. Естественное развитие прикладных исследований привело (в разных областях в разное время) к тому, что психология речи, оперирующая исключительно традиционно-психологическим научным аппаратом, и лингвистика, оперирующая исключительно традиционно-лингвистическими понятиями и методами, оказались в равно невыгодном положении перед лицом новых задач. Какие же это задачи? Самый общий ответ будет следующим: это задачи, для решения которых необходимо не только знать общие характеристики речи как процесса или высшей психической функции и не только иметь построенную на основе анализа текстов модель системы языка. Это задачи, к которым можно приступить лишь через исследование строения и закономерностей функционирования речевых механизмов человека, обеспечивающих конкретную операционную организацию речевой деятельности на разных этапах ее формирования, в различных проблемных ситуациях и при пользовании языками разных типов.
Приведем примеры. Перед ленинградским психологом И.М. Лущихиной встала задача – исследовать, как зависит успешность восприятия речевых команд в условиях шума от лингвистических характеристик этих команд, например так называемой «глубины». Это была задача типично психолингвистическая. Другой случай, может быть, еще более показательный, относится к области афазиологических исследований. Чтобы восстанавливать нарушенную речь, необходимо представлять себе достаточно ясно, какие психологические механизмы обслуживают ее на разных уровнях. В частности, подобная задача – применительно к психологической сущности предикации и вообще перехода от отдельного слова к связному высказыванию – встала перед Л.С. Цветковой. Наконец, укажем на такую задачу в области конкретной методики обучения иностранному языку, как механизм и способы «опоры на родной язык», где заведомо недостаточно простого типологического сопоставления родного и иностранного языков.
Именно появление подобных прикладных задач, обусловленное логикой развития той или иной практической области, дает стимул развитию психолингвистики как теоретической дисциплины. Конечно, как всякое новое, формирующееся научное направление, психолингвистика не может сразу обеспечить исчерпывающие ответы на все возникающие вопросы. (Да это невозможно и для «старой» дисциплины). Но это не столько недостаток ее научного аппарата, сколько ограничения, накладываемые на возможности психолингвистики нехваткой людей, оборудования, отсутствием четкой координации и организации исследований и тому подобными внешними факторами. Что же касается ограниченности внутренних возможностей психолингвистики на современном этапе, то эта ограниченность является как раз залогом того, что психолингвистика как теоретическая область будет развиваться.
Попытаемся дать обзор тех основных прикладных задач, которые стоят перед современной психолингвистикой, по возможности обозначая в каждом конкретном случае не только характер практических вопросов, но и то направление теоретического исследования, которое призвано обеспечить эти запросы. Мы будем опираться на работы, ведущиеся в СССР, рассматривая их, однако, на общем мировом фоне.
Первая по значимости прикладная область, где используется или может использоваться психолингвистика, – это, как уже говорилось выше, проблемы, связанные с эффективной организацией массовой коммуникации и, шире, с теорией и практикой целенаправленного речевого воздействия. Ни для кого не секрет, что такое воздействие только тогда может быть эффективным, когда оно опирается на ясное представление о психологических механизмах воздействия, когда мы имеем научные методы и приемы, позволяющие количественно и качественно оценить его результаты. Нередко научное обоснование эффективности речевого воздействия сводится к конкретно-социологическим исследованиям. Но это лишь одна сторона вопроса. В.И. Ленин говорил: «Искусство всякого пропагандиста и всякого агитатора в том и состоит, чтобы наилучшим образом повлиять на данную аудиторию, делая для нее известную истину возможно более убедительной, возможно легче усвояемой, возможно нагляднее и тверже запечатлеваемой» ( Ленин , с. 21). Как раз две последние характеристики – усвоение, или понимание, и запечатлевание, или запоминание, – в их зависимости от языковой организации высказывания и изучаются прикладной психолингвистикой. Систематическое изучение этой проблематики в СССР только начинается, хотя именно в нашей стране еще в 20-х годах были впервые развернуты исследования в области социологии и психологии массовой коммуникации (ср., например, Рубакин , 1929; Шафир , 1927 и др.).
Первый круг вопросов, с которым здесь имеет дело психолингвистика, – это методики изучения и оценки эффективности речевого воздействия. Эта проблематика в свою очередь распадается на две проблемы: а) собственно методики и б) выбор в тексте таких опорных, или «ключевых», элементов, которые должны «представлять» текст в исследованиях его эффективности.
Одним из основных вопросов, связанных с методиками, является сама природа эффективности МК (массовой коммуникации) и ее соотношение с эффективностью речевой коммуникации в более элементарных случаях (например, при автоматическом выполнении речевых команд). Разделяя в общих чертах так называемую «функциональную» точку зрения на эффективность МК, советские специалисты в этой области опираются па общепсихологическую концепцию деятельности, получившую широкое распространение не только в советской, но и в зарубежной психологии. Мы не излагаем здесь эту концепцию, считая ее известной читателю ( Леонтьев А.А. , 1965; Леонтьев А.Н. , 1965; Лурия , 1946). Во всяком случае очевидно, что свойственная «классической» американской психологии МК (П. Лазарсфелд и др.) упрощенно-бихевиористская трактовка эффективности неправомерна: важнейшим результатом воздействия МК является целенаправленный сдвиг в смысловом поле (в системе установок, attitudes), или, по удачному выражению советского философа Г.Е. Глезермана, переход от знания к убеждению, а от убеждения к привычке. Из работ в этом направлении следует указать на цикл публикаций Ю.А. Шерковина ( Шерковин , 1969), а также на модель речевого воздействия, построенную группой студентов факультета психологии МГУ совместно с автором настоящей статьи ( Гайдамак , 1970; Леонтьев А.А., 1972). Есть и еще ряд работ по психологическим проблемам эффективности МК (например, Хараш, 1970).
По-видимому, возможны многочисленные и очень различные показатели эффективности. Это и уровень непроизвольного запоминания, и относительная ошибка непосредственного восприятия, и латентное время при смысловой перефразировке и т. д. Соответствующие методики не являются в строгом смысле психолингвистическими, и нами здесь не рассматриваются. Однако существуют и такие методики, которые специфичны для данной области и разрабатываются в ее границах. Из их числа мы остановимся на двух: а) свободный ассоциативный эксперимент и б) методика «семантического дифференциала».
Что касается ассоциативного эксперимента, то его основное значение, по-видимому, заключается в возможности оценки не только количественной, но и качественной, в направленности на раскрытие содержательных, в том числе смысловых отношений, в которые включено тестируемое слово (понятие). В этом отношении ассоциативный эксперимент дает особенно характерные результаты при изучении речевых стереотипов. Другое возможное применение ассоциативного эксперимента, видимо, – межкультурные различия в осмыслении тождественных или близких по лингвистическому значению слов. Так, слово война вызывает у наших испытуемых резко эмоционально окрашенные ответы, в то время как, скажем, у американских студентов преобладают ответы не эмоционального, а рационального типа. Необходимо указать, однако, что успешное использование ассоциативных методик предполагает обращение к понятию ассоциативной нормы, отклонения от которой и являются показателями. Но таких источников, где давались бы нормативные сведения, мы пока на русском языке не имеем. Отсюда острая необходимость в создании ассоциативного словаря русского языка, работа над которым сейчас ведется в Научно-методическом центре русского языка при МГУ ( Леонтьев А.А. , 1969 г ; Словарь ассоциативных норм русского языка, 1970).
Методика «семантического дифференциала», впервые разработанная в 1952 г. Ч. Осгудом ( Osgood, Suci, Tannenbaum , 1957), заключается, как известно, в семантическом шкалировании тестируемых слов (понятий) на базе антонимических пар качеств типа «хороший – плохой», в результате чего мы получаем для данного слова или понятия определенные координаты в «семантическом пространстве». Хотя методика «семантического дифференциала» даже как чисто прикладная оставляет желать много лучшего, она пока наиболее разработана. В частности, на ее основе велись и ведутся исследования эффективности рекламы. Подобная работа проделана недавно в СССР ( Романович , 1970). Что касается исследований собственно массовой коммуникации, они также производились в нашей стране, но не дали столь определенных результатов ( Негневицкая, 1970). Ведутся поиски новых методик; ср. в этой связи интересные публикации В.А. Московича ( Москович, Вишнякова , 1968) и др.
Наряду с проблемой методов оценки воздействия текста, как говорилось выше, возникает и проблема выбора в тексте тех опорных элементов, которые должны «представлять» этот текст в нашем исследовании, то есть так называемых «ключевых слов». Эта проблема тесно связана с проблемой так называемого «анализа содержания», разрабатываемой в США. В последнее время ряд интересных работ в области «анализа содержания» текстов массовой коммуникации осуществлен в СССР. Наряду с исследованиями в этом направлении советские психолингвисты стремятся выработать более объективные методы выделения «ключевых слов» ( Сахарный, Верхоланцева , 1970 и др.).
В советской психолингвистике, как и во всем мире, исследовалась зависимость восприятия и запоминания текстов от языковых особенностей этих текстов. Применительно к массовой коммуникации надо назвать американские работы по измерению «читабельности» текстов. К сожалению, эти работы носят ярко выраженный эмпирический характер, что значительно снижает их общую значимость и затрудняет возможность переноса их результатов на иной языковой материал. Кроме того, используемые в работах по «читабельности» критерии крайне субъективны. В СССР также ведутся работы в области «читабельности», хотя этот путь и не представляется советским исследователям наиболее перспективным (см., например, Мацковский , 1970 и др.). Более сложный, но и более надежный путь ведет через теоретический и экспериментальный анализ психологического воздействия отдельных характеристик текста. Подобных исследований накопилось сейчас очень много, и они нуждаются в систематизации и оценке достоверности полученных результатов. Наряду с этим многие характеристики текста, и в первую очередь «надлингвистические» – то есть прагматически ориентированные логико-композиционные и стилистические его особенности, нуждаются в дальнейшей разработке. В советской науке в последние годы уделялось много внимания именно этой проблематике, в то время как зарубежная, и в частности американская, психолингвистика уделяла (судя по публикациям) основное внимание характеристикам собственно лингвистическим. Назовем здесь работы Н.И. Жинкина, В.Д. Тункель, а из последних – Т.М. Дридзе ( Дридзе , 1969). Нет пока сколько-нибудь общепринятой прагматической классификации текстов (ср. в этой связи: Дридзе, рукопись).
Специальный вопрос, много изучавшийся в СССР, – вопрос о психологической сущности речевых стереотипов. Он был поставлен еще в 20-х годах крупнейшим советским языковедом Л.П. Якубинским, собравшим и проанализировавшим с лингвистической точки зрения высказывания В.И. Ленина о так называемой «фразе» ( Якубинский, 1926). Сейчас проблема стереотипа исследуется в СССР как в теоретическом плане ( Артемов , 1970; Костомаров , 1971), так и в плане экспериментальном ( Дридзе , 1969). Необходимо отметить, что в осмыслении этой проблемы есть существенное различие между американскими исследователями, как правило, опирающимися на «теорию стереотипизации» У. Липпмана, идеи «политической семантики» Г. Лассуэлла и аналогичные им концепции бихевиористского характера, и советскими исследователями, стоящими на совершенно иной общепсихологической и методологической платформе.
Другую сторону проблемы эффективности текстов массовой коммуникации образуют вопросы, связанные с факторами селективности в восприятии массовой коммуникации. Здесь, по-видимому, уместно указать на то, что мы пока не имеем достаточно обоснованной теории, которая описывала бы процессы восприятия речи на высших уровнях (или, как нередко выражаются, процессы «смыслового восприятия» речи). Важнейшие работы в области восприятия речи, принадлежащие группе Л.А. Чистович в СССР, группе Г. Фанта в Швеции, Хаскинской школе в США, ограничиваются пока низшими уровнями восприятия и если и касаются высших, то только гипотетически. Поэтому работа по исследованию восприятия массовой коммуникации, видимо, должна начинаться с исследования смыслового восприятия речи вообще. Подобные исследования сейчас ведутся в нашей стране ( Зимняя , 1961).
Можно указать на несколько и более частных вопросов, связанных с селективностью и получивших в СССР довольно детальную разработку. Мы имеем в виду, во-первых, вопрос о так называемых «семиотических группах», то есть группах реципиентов МК, объединяемых по признаку одинакового уровня владения речевыми навыками и умениями, необходимыми для переработки информации, получаемой по каналам МК ( Дридзе , 1969). Во-вторых, сюда относятся групповые и индивидуальные стратегии восприятия текстов, исследуемые, конечно, в первую очередь на материале чтения ( Берман, 1970). Наконец, исследуются проблемы влияния на восприятие МК таких факторов, как интерес ( Воловик, Невельский и др. , 1970), установка ( Гайдамак , 1970) и т. д.
Видимо, к проблематике массовой коммуникации тяготеет и более общая проблема, которую можно обозначить как структуру и обусловленность речевого действия в специфических условиях общения. Здесь интересы советских исследователей тесно смыкаются с интересами французских ( Moscovici, Faucheux , 1966; Moscovici ,1967). Но конкретные работы пока немногочисленны ( Гайдамак , 1970; Леонтьев А.А. , 1970). Надо указать, что работы в этой области интенсивно ведутся в социалистических странах Европы – в Румынии ( Slama-Cazacu , 1964), Венгрии, Болгарии.
Насколько нам известно, только в двух странах мира – в СССР и в США – имеются попытки использования психолингвистических понятий и методов с целью оптимизации полевой лингвистической работы. И, пожалуй, только в СССР психолингвистика оказывается рабочим инструментом в диалектологии ( Бородина , 1970; Кибрик, 1970; Сахарный, Орлова, 1969).
Наконец, сюда же следует отнести исследования в области психолингвистических проблем паралингвистики. Как в США и других странах, где паралингвистика развивалась в последние годы, так и в СССР она носит характер скорее семиотической, чем психологической области. Но сейчас она сделала заметный шаг в сторону психологизации ( Маслыко , 1970). Такого рода уклон отчасти связан с активизацией межкультурных исследований, в свою очередь упирающихся в потребности практики обучения иностранному языку (см. ниже) и практики массовой коммуникации, обращенной к иноязыковой и инокультурной аудитории. Появляются и первые работы в области национальной специфики МК ( Сорокин , 1970).
Применение психолингвистики в исследованиях по судебной психологии и криминалистике пока лишь начато. Здесь можно указать на несколько наиболее интересных практических задач, в свою очередь влияющих на разработку соответствующих теоретических вопросов. Это круг вопросов, связанных с опознанием человека по особенностям речи ( Леонтьев А.А. , 1970). Далее, это проблемы записи показаний; дело в том, что в ходе допроса сведения, сообщаемые следователю, испытывают всегда известную перекодировку, трансформируются (в плане речевых форм) так, чтобы отвечать стереотипным требованиям протокола. Кроме того, многое при допросе идет по неречевым, например паралингвистическим, каналам. Это и вызывает необходимость специальной разработки вопросов оптимизации записи показаний. Наконец, возникает интересная проблема влияния профессионального языка юристов на их профессиональную деятельность, в частности на организацию оперативного мышления следователя ( Гранат , 1970).
Если рассматривать проблемы инженерной психологии, нуждающиеся в привлечении психолингвистических исследований, то их можно в совокупности охарактеризовать как проблемы значимости лингвистической структуры текста для оптимизации разного рода сообщений или команд в определенных условиях приема. Типичным в этом отношении является уже упомянутый выше цикл публикаций И.М. Лущихиной, где рассматриваются проблемы, связанные с оптимальной синтаксической формой команд, получаемых и передаваемых диспетчером аэропорта ( Лущихина , 1968а; 1968б; Лямина , 1958). Такого рода исследования в СССР проводились как на уровне грамматических характеристик высказывания ( Гинзбург, Пестова, Степанов, 1968; Кибрик, Ложкина , 1968), так и на уровне его семантических ( Василевич , 1966; Вероятностное прогнозирование в речи, 1971; Фрумкина , 1971), а также звуко-буквенных особенностей ( Гайда, Штерн, Михайлов , 1968; Вероятностное прогнозирование в речи, 1971; Фрумкина, Василевич , 1968; Фрумкина, Василевич, Мацковский , 1970).
Важную сферу применения прикладной психолингвистики составляет в СССР методика обучения иностранному языку (включая сюда и методику обучения русскому языку как иностранному). Интерес специалистов в этой области к исследованиям по теоретической и прикладной психолингвистике особенно возрос в последние годы. Проблемы обучения, с другой стороны, представляют интерес и как своего рода «опытное поле» для психологической и психолингвистической теории, где ее сильные и слабые места сразу же обнаруживаются. С этой точки зрения можно выделить группу исследований, осуществленных в Московском институте иностранных языков имени М. Тореза ( Зимняя , 1961; 1967а; 1967б; Зимняя, Леонтьев , 1971; Носенко, 1969; 1970 и др.), а также публикации харьковской группы психолингвистов ( Гохлернер , 1968; Гохлернер, Ейгер , 1968а; 1968б; Гохлернер, Невельский, Рапопорт , 1970 и др.). Общая черта всех этих и большинства других исследований (см. библиографии, печатающиеся, в частности, в: Вопросы порождения речи и обучения языку, 1967; Психология грамматики, 1968; Психологические и психолингвистические проблемы… 1969; Актуальные проблемы психологии речи… 1970), которые исходят из генеральных теоретических положений советской психологической науки, – четкая противопоставленность как бихевиористским тенденциям в теории обучения, так и некоторым идеям, идущим от теории порождающих грамматик. Обсуждение этих особенностей см.: Леонтьев А.Н. , 1965.
Более конкретные работы можно сгруппировать вокруг трех основных проблем: а) проблема отбора и организации языкового материала для обучения, б) проблема оптимальной презентации учебного материала и обоснования используемых при этом методов и приемов и в) проблема контроля. Первой и третьей из них были посвящены специальные конференции, проведенные Научно-методическим центром русского языка соответственно в 1967 и 1969 гг. Кроме того, имеется ряд самостоятельных публикаций. Несколько менее разработаны в этом плане вопросы собственно методики обучения. Имеющиеся работы на эту тему (относящиеся в основном к последним годам), за весьма немногими исключениями, написаны без учета проблематики, разрабатываемой психолингвистикой.
Особый интерес представляют два частных вопроса, решение которых необходимо для оптимизации обучения языку. Это вопрос об оперативных единицах усвоения ( Гохлернер , 1968; Зарубина , 1968) и о психолингвистических основах билингвизма и сопоставления языков для целей обучения ( Верещагин , 1969; Зимняя, Леонтьев , 1971). Различным психологическим и психолингвистическим проблемам обучения посвящена серия сборников, выпускаемая Научно-методическим центром русского языка (Вопросы порождения речи и обучения языку, 1967; Психология грамматики, 1968; Психологические и психолингвистические проблемы… 1969).
Если работы по «психолингвистике обучения» весьма многочисленны и разнообразны, то этого никак нельзя сказать о психолингвистических исследованиях детской речи. Сам подход с этой точки зрения чужд большей части работ по детской речи, хотя среди них есть поистине классические – вроде знаменитой книги А.Н. Гвоздева, широко известной и за рубежом ( Гвоздев , 1961).
В чем специфика психолингвистического подхода к детской речи? Наиболее распространенная ее трактовка сводится к установлению последовательности появления в высказываниях детей тех или иных единиц и конструкций и к количественным подсчетам относительной частотности разных классов слов в разных возрастах. Чрезвычайно редки, однако, работы, где развитие речевой способности ребенка понимается как последовательное построение многоуровневой порождающей системы, формирование и перестройка отдельных звеньев которой, доступные эксперименту, тем не менее совершенно не обязательно выражаются во внешних, поддающихся простой регистрации формах. К числу этих редких работ относятся, в частности, публикации Ф.А. Сохина ( Сохин, 1959), Г.М. Ляминой ( Лямина , 1958) и др. Попытка систематического анализа развития детской речи в указанном плане дана в нашей книге ( Леонтьев А.А. , 1969 б ).
В последнее время за рубежом, особенно в США, резко возросло количество работ по детской речи, в основу которых положена теория порождающих грамматик. В советской психолингвистике эта линия исследования не получила систематической разработки, так как она противоречит традиционным для советской науки общепсихологическим позициям.
Важной прикладной проблемой, связанной с изучением детской речи, является развитие осознания ребенком своей речи на разных уровнях. Об этом в СССР наряду с более ранними публикациями (например, Карпова , 1967; Лурия , 1968; Оппель, 1946; Орфинская, 1946), имеются и более поздние исследования ( Журова , 1963; Жарова, Эльконин , 1963; Изотова , 1970). Исследования этого типа исключительно важны в связи с подготовкой ребенка к школе и в связи с проблемами начального обучения, в частности обучения грамоте. Сейчас психолингвистические работы по развитию осознания речи заметно интенсифицируются.
Что касается психолингвистических проблем, связанных с разного рода речевыми патологиями, то они едва ли не первыми получили у нас в стране практическую разработку. Мы имеем в виду прежде всего работы по афазиологии. Число их сейчас огромно, назовем лишь три из них, опубликованные в специализированных лингвистических или психолингвистических изданиях: Лурия, Цветкова , 1968; Лущихина, 1955; Рябова, 1967. Почти все работы этого плана принадлежат нейропсихологам школы А.Р. Лурия. Думается, что та бесспорно лидирующая роль, которую играет эта школа в мировой афазиологии, в значительной мере связана с профессиональной психолингвистической ориентацией ее членов, открывающей психологам школы Лурия ранее неиспользованные возможности теоретического осмысления явлений афазии, и соответственно – новые пути восстановительного обучения.
Гораздо менее многочисленны, но весьма обоснованны исследования по различным видам речевых нарушений, особенно по нарушениям вероятностных процессов в шизофрении (Вероятностное прогнозирование в речи, 1971; Добрович, Фрумкина , 1970; Соложенкин , 1966). Наконец, особую ветвь составляют работы, где анализируются психолингвистические показатели различного рода патологических состояний.
Значительное место в советской литературе по патологии речи занимает проблема речевых особенностей в условиях сенсорных дефектов (слепота, глухота). Среди собственно психологических работ здесь имеются и бесспорно психолингвистические, например известная статья Н.Г. Морозовой ( Морозова , 1946).
К сожалению, целый ряд возможностей исследования до сих пор не реализован в советской дефектологии и патопсихологии. Укажем на две из таких возможностей. Это анализ речи олигофренов и психолингвистические аспекты речи при различных острых психотических явлениях (маниакально-депрессивный психоз и др.). Последняя проблема представляет интерес и с точки зрения задач судебно-психиатрической экспертизы.
Выше мы констатировали, что в Советском Союзе психолингвистическая теория, направляемая потребностями практики в разных областях, частично очерченных нами здесь, переживает период интенсивного развития. Попытаемся в заключение показать, в каком именно направлении она движется.
До сих пор участие речи в тех или иных формах деятельности нередко мыслится как более или менее механическое опосредование этих форм деятельности языковыми или речевыми средствами, а установление психологической «реальности» лингвистических категорий, понимаемое как поиск точных эквивалентов лингвистических единиц в психике говорящих, считается основной задачей психолингвистики. Такой подход едва ли правилен, хотя и обычен. Ему можно противопоставить три основных требования к психолингвистической теории, частично удовлетворяемых ею уже сейчас.
Первое требование связано с идеей социальной сущности , а не просто социального использования речевого акта, речевого общения. Эта идея имеет два аспекта. Один из них, который можно назвать генетическим, хорошо известен хотя бы по работам Л.С. Выготского и А.Н. Леонтьева ( Лурия , 1946). Второй можно охарактеризовать как социологический. Нередко упускается из виду, что коммуникация есть не только и не столько взаимодействие людей в обществе, но и – прежде всего – взаимодействие людей как членов общества, как «общественных индивидов» (К. Маркс). Применительно к первобытному человеческому коллективу можно сформулировать это так: речь – это не столько общение во время труда, сколько общение для труда. Одним словом, речь не «прилагается» к жизни и совместной деятельности общества, социальной группы, а является одним из средств, конституирующих эту совместную деятельность. Речь по существу своему – не дело индивида, изолированного носителя языка: это прежде всего внутренняя активность общества, осуществляемая им через отдельных носителей языка или, точнее, при их помощи. Другой вопрос, что речь может использоваться индивидом, так сказать, в несобственных функциях. Соответствующая тенденция в современной психолингвистике, видимо, в значительной мере обусловленная появлением такой мощной прикладной области, как теория и практика массовой коммуникации, а также исследованиями в области этнографии и культурной антропологии), ведет к «увязыванию» психолингвистики с социологией и социальной психологией, к введению в теоретический аппарат психолингвистики новых понятий и методов и превращения ее в своего рода – пользуясь термином французского психолога С. Московичи – «психосоциологию речи».
Второе требование предполагает противопоставленную реактивным теориям идею речевой активности, трактовку речи как иерархической системы процессов, направляемых представлением о цели речевого действия и деятельности в целом. С нею связан и отказ от упрощенного понимания «психологической реальности» и поиск собственных оперативных единиц речевой деятельности ( Леонтьев А.А. , 1969 а ).
Третье требование связано с понятием эвристичности речевого действия, с тем фактом, что оно не протекает в застывших однообразных формах, а пластично подстраивается под требования ситуации и речевой задачи, используя разные возможные пути из имеющихся в запасе и широко опираясь на разного рода индивидуальные стратегии порождения и восприятия речи.
Построенная на этих не новых для нее, но пока еще не полностью усвоенных ею принципах, психолингвистика, несомненно, обретет новое качество, получит новый онтологический статус и, надо надеяться, ляжет в основу не только теории речевой деятельности, но и – в значительной мере – теории языка, в последнее время сильно тяготеющей к сближению с психологией, социологией, этнографией.
Проблемы и методы психолингвистики в межличностном общении [2]
I. Что такое общение? Как бы мы его ни определяли, огромная роль общения в жизни и деятельности общества несомненна. Уже сам процесс становления отдельной личности, формирования «общественного человека» невозможен без общения: если это его значение в нормальных условиях замаскировано, то, например, при обучении слепоглухонемых оно выступает с исключительной ясностью (Мещеряков, 1971). Однако обучение в то же время есть и необходимое условие любой общественной деятельности человека, включая сюда и деятельность, индивидуальную по своим внешним проявлениям, но общественную по генезису и обусловленности (например, научную и вообще теоретическую).
Независимо от того или иного ситуативного использования общения, оно представляет собой не процесс установления контакта между изолированными личностями, психологическими «монадами», а способ внутренней организации и внутренней эволюции общества. Общение есть не только и не столько взаимоотношение людей в обществе, сколько (прежде всего!) взаимодействие людей как членов общества. Вслед за К. Марксом можно определить общение как способ (и одновременно условие) актуализации общественных отношений. Это методологическое понимание определяет и наш подход к межличностному общению, выдвигая как одну из основных проблем психологические (социально-психологические) функции общения в обществе (такие, как кооперация в трудовой деятельности, контакт, социальный контроль, групповая идентификация и противопоставление себя группе и др.).
II. Психология общения и психология межличностного общения . Основная проблематика психологии общения как отрасли общей психологии сводится к следующим трем кругам вопросов: а) психологические функции общения; б) формирование и функционирование механизмов и средств общения в их зависимости от функции общения, от особенностей личности и от других психологических факторов; в) взаимоотношение общения с другими аспектами психологической деятельности человека и с особенностями личности. В терминах Л. Тайера, психология общения имеет дело с «межличностным» и «внутриличностным» уровнями, оставляя «коммуникационную систему» и «организационный» уровень в компетенции социологии ( Thayer , 1968).
Можно предложить следующую систему критериев, по которым производится классификация видов общения:
1. Ориентированность общения. Оно может быть социально ориентированным и личностно ориентированным. Это – различие в установке говорящего на различный тип коммуникативной ситуации, обусловленной рядом социальных и ситуативных факторов, но не связанной с ними необходимой связью ( Бгажноков , 1973). В числе ситуативных факторов можно назвать аксиальный или ретиальный характер обратной связи в общении; пространственные (проксемические) различия ( Watson , 1970); характер антиципации реакции реципиента (реципиентов) ( Janousek , 1968) и т. д. В числе социальных факторов главной является психологическая (социально-психологическая) функция общения. К числу социально ориентированных видов общения относятся массовая коммуникация, ораторская речь, реклама; к числу личностно ориентированных, прежде всего, – диадическое общение ( Borden, Gregg, Grove , 1969).
2. Психологическая динамика общения. Общение всегда предполагает известный психологический «фон», то есть, начинается не с нуля, а с реальной или воображаемой общности коммуникатора и реципиента (реципиентов). Эта общность может определяться распределением социальных ролей (в случае формального общения) или быть собственно психологической (знание о собеседнике, возможность моделирования отдельных сторон его личности, например, мотивов, целей и т. п., или личности в целом, точнее «направленности» личности) ( Божович , 1968). В результате общения наступают те или иные изменения в психологических характеристиках реципиента (реципиентов) и коммуникатора (в силу обратной связи). Эти изменения могут происходить в сфере знаний (информирование, обучение), в сфере навыков и умений деятельности (обучение), в сфере реальной деятельности, стимулируемой общением (внушение, убеждение), в сфере мотивов и потребностей, установок, ценностной ориентации и т. п. (убеждение) ( Леонтьев А.Н ., 1968; Леонтьев А.А ., 1972). В диадическом общении и других видах общения, объединяемых под названием «межличностного», такие изменения характеризуются особенной резкостью: «статического отношения не существует; отношения всегда или растут, или совпадают» ( Borden, Gregg, Grove , 1969, р. 103—104).
3. Семиотическая специализация общения. Эта характеристика определяется тем, какие средства используются в общении. С данной точки зрения можно выделить материальное общение (К. Маркс говорил в этом смысле о «языке реальной жизни»), знаковое общение (опосредованное значениями), смысловое общение (опосредованное личностным смыслом, возникающим в психике реципиента на основе воспринятого объективного значения, но не сводимым к этому значению; о категории личностного смысла см. Леонтьев А.Н ., 1972, Леонтьев А.А ., 1969в; об общении искусством как типовом виде смыслового общения см. Леонтьев А.А ., 1973). В свою очередь, внутри знакового общения можно выделить речевое общение; общение при помощи знаковых систем, психологически эквивалентных языку (первичных; ср. мимический язык глухонемых); общение при помощи вторичных знаковых систем с опорой на язык (азбука Морзе, флажковый код и т. п.); общение при помощи вторичных знаковых систем специфического характера (географическая карта, радиосхема); общение при помощи ситуативно осмысляемых материальных объектов, получающих ad hoc семиотическую нагрузку – например, подарок, присланный по почте.
4. Степень опосредованности. Это более социологическая, нежели психологическая координата общения, определяющая количество преобразований, через которые проходит исходное сообщение на пути от коммуникатора к реципиенту.
«Межличностные» виды общения характеризуются глобальностью и многоуровневостью семиотической специализации: оно использует (если не является формальным) не только язык, но и паралингвистические, проксемические средства, разного рода суггестивные приемы и т. п. Степень опосредованности в этих видах общения, в отличие от, скажем, массовой коммуникации, минимальна. Следует отметить также, что межличностное общение характеризуется развитием и все большим согласованием используемой в общении «социальной техники» ( Argyle , 1967), причем смысловое общение начинает преобладать над знаковым.
Описанные критерии, несмотря на некоторое внешнее сходство (например, 1 и 4), автономны. Так, возможно общение межличностное по степени опосредованности, но социально ориентированное: это целенаправленное распространение слухов (как орудие психологической войны).
Если два первых критерия соотнесены со «стратегическими способностями» коммуникатора ( Thayеr , 1968), то два вторых – с его «тактическими способностями». В разделяемой нами психологической концепции (см. Леонтьев А.А., 1974) первые два критерия характеризуют предречевую ориентировку и планирование общения, а последние два – процесс общения и используемые в этом процессе средства. К проблеме ориентировочного звена общения мы обратимся ниже.
Опираясь на описанные критерии, можно, таким образом, определить межличностное общение как личностно ориентированное, различное по психологической динамике и характеризующееся в этом отношении полифункционализмом, многоуровневое (имеется в виду иерархическая система уровней) по семиотической специализации и минимальное по степени опосредованности.
Предречевая (и более широко – предкоммуникационная) ориентировка заключается в соотнесении речевого действия с ситуацией общения, в «выделении отдельных элементов (ситуации) в качестве последовательных ориентиров, на которые направляется и по которым контролируется выполнение отдельных операций» ( Гальперин , 1966, с. 248) или действия в целом. В разных ситуациях общения эта ориентировка различна. Так, в разного рода действиях над текстом, то есть при «контролируемом вербальном поведении» Скиннера ( Skinner , 1957), например, при пересказе текста, ориентировочным звеном общения является смысловой анализ и понимание текста. При описании картинки (равно как и в телерепортаже) в качестве ориентировочного звена выступают перцептивные действия, и т. д.
В межличностном общении ориентировка складывается из следующих основных компонентов; а) ориентировка в целях и социально-психологических функциях общения; б) ориентировка в личностных и групповых факторах общения, прежде всего в системе социальных ролей; в) ориентировка в содержании общения; г) ориентировка в собеседнике; д) ситуативная в узком смысле ориентировка, то есть учет пространственных (проксемических), временных и т. п. условий контакта, а также «микросоциологических» отношений, то есть требований этикета. Указанные выше критерии ориентированности и психологической динамики общения, характеризующие коммуникативную установку коммуникатора, и возникают как результат первичной обработки всей этой информации.
III. Психолингвистические методы в исследовании процесса общения. Возможность использования психолингвистических данных как индикаторов изменения факторов ориентировки и вообще индикаторов коммуникационной динамики определяется отмеченной выше (см. цитату из П.Я. Гальперина) внутренней связью между структурой предречевой ориентировочной активности и структурой процесса общения. Сам факт этой связи и зависимости хорошо известен в психолингвистике. Так, в зависимости от того, имеется ли при ориентировке установка на верификацию (то есть ориентировка происходит одновременно в ситуации и в тексте) или на простое описание картинки, в порождении синтаксических структур оказывается релевантным или нерелевантным фактор обратимости ( Slobin , 1966; Turner, Rommetveit, 1968). Флорес д’Аркаи ( Flores d’Arqais , 1966) установил корреляцию между перцептивной стратегией при рассматривании картинки и выбором синтаксической структуры, и т. д.
Изучение межличностной коммуникации психологическими методами было впервые предпринято в широких масштабах французским психологом С. Московичи и его сотрудниками, хотя известны и более ранние эксперименты в этой области – например, Back , 1961. С. Московичи различает «системы коммуникации» и «каналы коммуникации», что в общих чертах соответствует «стратегическим» и «тактическим» способностям Тайера и первой и второй паре критериев, описанных нами выше. Различия в системах коммуникации описываются Московичи при помощи понятий «давления» и «дистанции»: уровень давления определяется отношением между говорящими, уровень дистанции – отношением каждого из них к содержанию общения. При одном и том же канале коммуникации различие в системах коммуникации, как установил Московичи, является преимущественно лексическим (общий объем сообщения и его лексическое разнообразие); при одной и той же системе различие в каналах дает грамматическую вариативность сообщений (процент слов различных частей речи и некоторые другие параметры). В качестве различных каналов брались ситуации «бок о бок», «спина к спине», «лицом к лицу» и общение собеседников, разделенных перегородкой. Отступление от положения «лицом к лицу» дает увеличение процента существительных и служебных слов, уменьшение процента глаголов, уменьшение общего объема речевой продукции ( Фоше, Московичи , 1973; Moscovici et Plon , 1966; Moscovici , 1967).
Изложение осуществленных в СССР психолингвистических исследований коммуникации удобно начать с работы В.С. Агеева, опиравшегося на этот цикл исследований Московичи ( Агеев , 1972). Он использовал только две ситуации («бок о бок» и «лицом к лицу»). Результаты его эксперимента сводятся к следующему: 1) подтвердились на русском языковом материале французские данные Московичи; 2) оказалось, что значима не сама ситуация (позиция), а факт ее изменения (то есть необходимость новой ориентировки); 3) ситуация «лицом к лицу» дала значительно большее число слов, непосредственно связанных с предметом беседы;
4) вдвое увеличилось число употребленных собственных имен; 5) более чем вдвое увеличилось число побудительных высказываний типа «А что думаете об этом Вы?»; 6) почти втрое увеличилось количество переформулированных повторений чужого высказывания; 7) вдвое увеличилось число высказываний, выражающих согласие, и резко уменьшилось число выражений, содержащих выражение противоречия; 8) резко увеличилось количество случаев перебивания собеседника; 9) выросло общее число реплик; 10) участилось употребление местоимений «я» и «мы» (при общем уменьшении процента местоимений и вообще служебных слов); 11) значительно, почти вчетверо, увеличилось число употребленных речевых стереотипов.
Б.X. Бгажноков изучал психолингвистические параметры социально ориентированного и личностно ориентированного общения. Для этой цели были проведены две серии экспериментов. В первой серии перед испытуемыми (старшими школьниками) ставилась задача: разъяснить в личной беседе смысл психологических терминов другим школьникам; затем перед ними ставилась иная задача – выступить с тем же материалом перед всем классом. Во второй серии последовательность была обратной: сначала рассказ перед классом, затем – одному из товарищей.
Эксперимент показал значительное различие в психолингвистических параметрах личностного и социального ориентированного общения в зависимости от порядка предъявления коммуникативных задач. Вот некоторые результаты: в первой серии ЛОО дало вдвое больший объем речи (и втрое больший объем, если учитывать не только речь испытуемых, но и собеседников); во второй серии четко проявилась тенденция к приближению общения к СОО по проценту слов разных частей речи (меньше существительных, больше глаголов) – таким образом, испытуемые продемонстрировали ригидность ранее выработанной ориентации. Аналогичность ЛОО во второй серии резко уменьшилась, появилась тенденция к «подавлению» речевой активности собеседника. Таковы же результаты наблюдения над СОО: в первой серии испытуемые переносят на него ранее выработанную «личностную» установку. Характерно, что изменение конкретной ситуации общения оказалось для испытуемых по ряду параметров менее значимым, чем изменение ориентации общения ( Бгажноков , 1973).
Интересные исследования ориентировки в содержании речи касаются роли такой ориентировки в восприятии текстов: это работы О.Д. Кузьменко (неопубликованная работа) и Ю.А. Сорокина (1973). Первая из них показала, что успешность понимания текста зависит от коммуникативной установки, и продемонстрировала также, что иерархия ориентировочных факторов, влияющих на понимание, различна для чтения разноязычных текстов (русский, английский, китайский иероглифический) и для разных групп испытуемых. Второй разработал психолингвистическую методику семантического шкалирования текстов, в результате применения которой оказалось, что тексты разных типов (научный, научно-популярный, художественный) с самого начала оцениваются – в зависимости от установки на то или иное содержание – по разным признакам. Т.М. Дридзе ( Дридзе , 1972) в ходе широкого психолингвистического исследования отношения «текст – реципиент» удалось выяснить, в частности, зависимость понятия «стереотипа» от характера установки реципиента на текст, определяемого, в свою очередь, рядом социологических факторов.
В.В. Андриевская (1971) показала, что в условиях более полной ориентировки в содержании влияние частотно-ассоциативных связей становится значительно меньше. А.П. Журавлев (1971) и B.Ф. Сатинова ( Пассов, Сатинова , 1971) изучали отражение установки на содержание текста в разных видах смысловых трансформаций при его пересказе.
Установка на правдивость – ложность содержания речи также отражается в ее психолингвистических характеристиках. Эта зависимость была экспериментально показана в советской психолингвистике В.И. Батовым: заведомо ложное сообщение содержит менее частотные слова, что связано, по мнению автора, с общей тенденцией к «нетривиальности» коммуникационных структур (а эта последняя связана, в свою очередь, с большей мотивированностью их выбора) ( Батов, Коченов , 1973). C.М. Вул проследил динамику изменения языковых характеристик заведомо ложного текста и выявил некоторые более общие его языковые признаки ( Вул , 1970).
Установка на тот или иной временной режим исследовалась тремя авторами. В.В. Андриевская (1970) выявила, что в условиях временного давления ассоциативный эксперимент дает преимущественно высокочастотные слова. Н.В. Витт (1971 а, б ) и Б.Ф. Воронин (1970) изучали ту же проблему на материале иностранного языка; последний автор показал резкий рост количества ошибок при временных ограничениях.
Специально исследовались также психолингвистические характеристики речи в условиях эмоционального стресса, где правильная ориентировка затруднена или совсем нарушена. Подобные исследования имеются в научной литературе, но в них выявлены обычно лишь отдельные характеристики: более или менее широко они учтены лишь в трех работах ( Osgood, Walker , 1959; Dibner , 1956; Mahl , 1963). В СССР отражение эмоционального напряжения в психолингвистических характеристиках сообщения изучалось Н.В. Витт ( Витт , 1971 а, б ; Витт, Ермолаева-Томина , 1971) и в особенности Э.Л. Носенко ( Леонтьев, Носенко , 1973). В последнем исследовании были выявлены следующие психолингвистические признаки эмоциональности: средняя длина отрезка речи между паузами хезитации (меньше); средняя длительность паузы (больше); отношение суммы длительностей пауз к длительности звучания речи (больше); число ложных начал, перифраз, семантически нерелевантных повторений, грамматических рассогласований, логически и грамматически незавершенных фраз, афункциональных инверсий, речевых стереотипов (больше); колебание уровня громкости (более заметное); процент высказываний с ясной позитивной или негативной коннотацией (значительно больше); процент употребленных слов со значением безысключительности (типа «всегда», «каждый», «до конца») (больше). Выявлены некоторые характеристики речи испытуемых возбудимого типа по сравнению с тормозным. Показана относительная независимость этих признаков от структуры языка.
Основные работы по механизмам и роли ориентировки в собеседнике принадлежит профессору А.А. Бодалеву и его школе и суммированы в двух монографиях этого автора ( Бодалев , 1965; 1970). Однако психолингвистические корреляты этого звена ориентировки исследованы недостаточно.
В заключении этого раздела укажем на цикл работ Е.Ф. Тарасова (1969, 1972), где анализируется значение для общения ориентировки в системе социальных ролей коммуникаторов и на работу А.У. Хараша (1972), где близкие вопросы рассматриваются применительно к публичной речи.
IV. Неречевые компоненты процесса речевого общения. Для тематики настоящего доклада особый интерес представляет связь паралингвистики и особенно кинезики с общей психолингвистической структурой процессов речеобразования. К сожалению, если сами по себе паралингвистические и кинезические явления исследованы очень хорошо (из новых публикаций на русском языке укажем: Колшанский , 1973; Николаева , 1972), то психолингвистический их аспект остается нераскрытым.
В этом отношении можно указать лишь на одно исследование ( Маслыко , 1970), показавшее, как можно осуществить психолингвистическую иерархию кинезических и паралингвистических явлений в зависимости от их соотносимости с последовательными этапами порождения речевого высказывания – от внутреннего программирования до внешнего «озвучивания» (автор опирался на нашу модель, разработанную совместно с Т.В. Рябовой; А.А. Леонтьев, 1969 а, в ).
В настоящее время в Институте языкознания Академии наук СССР осуществляется широкая программа исследования национальных и универсальных особенностей паралингвистики, кинезики и других неязыковых компонентов процесса общения. Произведено или производится обследование в этом плане русского, белорусского, болгарского, польского, литовского, латышского, немецкого, английского, исландского, эстонского, таджикского, узбекского, киргизского, кабардинского, чечено-ингушского, арабского, японского, китайского, корейского, вьетнамского, эскимосского и некоторых других языков. Результаты этих исследований пока не опубликованы. Было бы крайне желательно еще больше расширить круг обследуемых языков: для этой цели разработан специальный вопросник, рассчитанный на этнографов, филологов и лингвистов, не имеющих специальной психолингвистической подготовки.
V. Заключение. В работе сжато изложена теоретическая основа, на которую опираются основные исследования психолингвистических параметров общения в советской науке (с особенным вниманием к межличностному общению). Изложены наиболее важные результаты таких исследований и даются отсылки к некоторым другим публикациям. Охарактеризовано состояние исследований неречевых компонентов межличностного общения.
Представляется целесообразной дальнейшая экспериментальная и теоретическая разработка психологии межличностного общения в намеченных выше направлениях, прежде всего в плане различных видов и компонентов предречевой ориентировочной активности. Такая разработка представляет не только абстрактный теоретический интерес: она существенна для целей обучения межличностному общению. Несколько парадоксально звучащая в подобной формулировке, эта задача, однако, остро стоит при формировании профессиональных навыков учителя, врача, дипломата, журналиста, следователя, актера, не говоря уже о том круге профессий (лектор, специалист по рекламе и т. п.), которые в немецком языке удачно обозначаются термином sprachintensive Berufe . Но особенно важно, что обучение межличностному общению может явиться существенным компонентом этического и эстетического воспитания личности, – а общественную важность этой задачи едва ли можно переоценить.
Речь как источник информации в следственном процессе [3]
В своей профессиональной деятельности следователю часто приходится обращаться к речи как источнику информации. Речь способна характеризовать не только личность подследственного или свидетеля, но и особенности его психического состояния. Последнее особенно существенно, когда возникает необходимость определить, вменяем или невменяем подследственный. Однако на первом месте для следователя стоит, конечно, использование речи как орудия розыска и идентификации преступника.
Основной проблемой, встающей в этой связи, является соотнесенность речевых и неречевых признаков личности. Можно ли, располагая только сведениями о речи данного человека, представить себе, например, его физический облик?
Естественно, прямых корреляций речи с чертами внешности установить невозможно. Однако в речи могут отражаться некоторые особенности темперамента, характера и другие особенности, которые сказываются и в манере человека держаться, вести себя. Нерешительный, стеснительный человек говорит соответствующим образом (как именно, любой читатель интуитивно представляет себе), но и держится он обычно тоже довольно характерно – сутулится, отводит глаза, говоря, краснеет и т. д. Бывают и более сложные зависимости.
Люди с тем или иным заметным физическим недостатком (например, слепые) имеют тенденцию в своем поведении как бы компенсировать свой дефект, держась излишне уверенно, говоря с излишней экспрессией, иногда раздраженно. Общеизвестно, что люди с дефектом слуха не соразмеряют громкости своей речи и чаще всего говорят слишком громко, а характерной особенностью речи глухонемых является ее монотонность.
Корреляций между особенностями физического типа и особенностями речи также, по-видимому, нет, если не считать бросающихся в глаза и легко улавливаемых здравым смыслом следователя случаев типа речевых пауз благодаря одышке, обычно сочетающейся либо с преклонным возрастом, либо с полнотой, либо с тем и другим вместе.
Чаще всего, однако, следователь имеет дело с иными ситуациями. Это:
а) ситуация, в которой встает задача «атрибутировать», отнести текст к тому или иному лицу, то есть с достаточной мерой убедительности доказать, что данный текст, например графический (или записанный на магнитофонную ленту), заведомо принадлежит данному лицу или, напротив, заведомо не может ему принадлежать;
б) ситуация, в которой из речевых особенностей текста черпается информация о категориальных признаках личности (возраст, принадлежность к той или иной социальной группе, происхождение из того или иного места) и, таким образом, о возможных направлениях розыска автора текста.
Атрибуция текста производится не только в криминалистической практике. Это – одна из важных проблем так называемой текстологии, вспомогательной историко-филологической дисциплины, изучающей историю возникновения и судьбу текста художественных и общественно-политических произведений. В обоих своих приложениях проблема атрибуции остается открытой, потому что в настоящее время практически невозможно с полной достоверностью атрибутировать письменный текст тому или иному автору только на основании языкового и стилистического анализа [4] . Основным источником атрибуции остается пока так называемая графическая экспертиза – анализ почерка, орфографии и других внешних признаков текста. Конечно, признаки, связанные со стилем, манерой изложения, частотой употребления тех или иных слов, основной направленностью текста, тоже могут быть успешно использованы в ходе экспертизы (см.: Винберг , 1940), но эксперт не может прийти к достоверному выводу, руководствуясь только ими.
Что касается специфических признаков письменного текста, то здесь важна прежде всего проблема почерка. Доказано, что, как бы пишущий ни старался изменить почерк, в рукописном тексте достаточной длины всегда можно обнаружить специфические особенности, позволяющие говорить об идентичности или неидентичности почерка. Как показали советские ученые (и в первую очередь проф. Н.А. Бернштейн), определенные признаки почерка остаются сохранными даже в том случае, когда человек пишет не правой, а левой рукой, ногой или держа карандаш в зубах. Более подробный анализ почерковедческой проблематики не входит в нашу задачу [5] . Ограничимся лишь констатацией того факта, что в настоящее время имеется реальная возможность поставить на службу графической (почерковедческой) экспертизы электронно-вычислительную технику.
Ближе к теме настоящей главы вопрос об орфографических ошибках и других непочерковедческих признаках письменного текста (в частности, «варваризмах» в орфографии, вызванных влиянием иного языка). Теории этой стороны графической экспертизы пока не существует, есть лишь описание отдельных криминалистических удач (и неудач). Сравнительно недавно в этом направлении стал работать С.М. Вул, которому удалось показать устойчивость некоторых признаков письменной речи при ее преднамеренном искажении. Кроме того, выяснилось, что в этом случае имеет место очень своеобразная динамика текста: «К концу текста уменьшается количество ошибок и повышается уровень стройности и связанности изложения» ( Вул , 1970; 1975; см. также: Компаниец , 1971).
Есть и еще некоторые специфические вопросы психологического характера, относящиеся к графической экспертизе. Среди них проблема эмоционально окрашенной письменной речи: известно, что в условиях сильного эмоционального потрясения человек ослабляет контроль над своей письменной речью, допускает большие отступления от нормы и в лексике и синтаксисе, увеличивается количество ошибок и описок и т. д. (см. об этом: Носенко , 1975). Эта проблема существенна в процессуальном отношении. Другая проблема – патология письменной речи. Она с особенной ясностью выступает при анализе почерка (ср. «кудрявые», украшенные росчерками и завитушками тексты, написанные больными маниакально-депрессивным психозом), но может быть прослежена и на других уровнях анализа текста.
Переходя к признакам устной речи, которые могут быть использованы для идентификации личности говорящего или выявления отдельных категориальных признаков его личности, отметим, что такая ситуация, ранее малотипичная для криминалистической практики, в последние годы стала гораздо более актуальной в связи с большей распространенностью технических средств – от телефона до магнитофона. Кроме того, анализ речи может быть использован для прямой идентификации личности разыскиваемого преступника в тех случаях, когда его внешность изменена и не могут быть почему-либо использованы другие физические особенности (например, отпечатки пальцев). О степени распространенности исследования речи в криминалистике может свидетельствовать опубликованное в японской печати сообщение о планах создания национальной фонотеки голосов всех жителей Японии (Если преступник в перчатках, 1970).
Охарактеризуем те признаки устной речи, которые могут быть использованы в криминалистике.
Первая группа признаков – это звуковые особенности речи. Они могут быть разделены на индивидуальные и групповые.
Наиболее достоверными индивидуальными звуковыми признаками являются:
(а) голос. Это такая характеристика речи, которая связана с тембром, высотой голоса, интенсивностью (громкостью): особенности голоса могут быть названы лишь условно, так как они связаны с полом, возрастом, в известной мере – с типом высшей нервной деятельности. Отождествление индивидуальных особенностей голоса может быть в принципе осуществлено автоматически: есть данные, что с помощью спектрографического анализа голос может быть отождествлен и при попытках его изменить (см. об этом: Фланаган , 1968, § 56);
(б) интонация. Несомненен ее «полевой» характер; вариации интонации связаны с особенностями личности (в том числе типом высшей нервной деятельности), психическим состоянием в момент речи и т. д. Интонационные особенности речи также поддаются инструментальному изучению.
С интонацией связаны:
(в) темп речи, вернее выбор определенного темпа внутри границ, поставленных нормой языка;
(г) характер, длительность и распределение пауз (см. также ниже);
(д) характер и степень логической выделенности (различие речи разных людей по этому параметру особенно четко проявляется в публичной речи);
(е) степень фонетической редукции. Одно и то же слово или высказывание обычно произносится разными людьми даже в одной и той же ситуации с разной мерой «проглатывания»: (ал’иксандр) – (ал’ьсан) – (ъл’сан) и т. д.
Из числа групповых фонетических признаков укажем на следующие:
(ж) диалектные черты, позволяющие уточнить с переменной степенью точности (от группы областей до – в отдельных случаях – группы деревень) происхождение данного человека;
(з) иноязычный акцент. Эта проблема требует направленной теоретической и экспериментальной разработки.
Вторая группа признаков – семантико-гpамматические . К ним относятся:
(и) характер заполнения пауз. Эта черта особенно показательна ввиду почти полной непроизвольности такого заполнения (эээ… ммм… эта…);
(к) выбор слов и конструкций. Одни и те же выразительные потребности, один и тот же стиль речи соотносится у различных говорящих с различными пластами лексики;
(л) мера выразительности, то есть потенциальные возможности выбора. Ср. у К. Чуковского («Высокое искусство») о переводчиках: «Почему многие переводчики всегда пишут о человеке – худой, а не сухопарый, не худощавый, не щуплый, не тощий?» Этот признак выражается в интуитивно ощущаемой «банальности», «плоскости» речи;
(м) мера правильности (уровень речевой культуры), которая может быть оценена и количественно (скажем, количеством грамматических, семантических и акцентных неправильностей в единицу времени или на единицу текста);
(н) мера организованности текста, то есть большая или меньшая степень его планируемости и соответственно его «случайности».
Некоторые из перечисленных признаков (семантико-грамматические) могут быть использованы и при анализе письменной речи. Однако важно помнить, что письменная речь в общем случае более осознанна, чем устная, и те же признаки, которые непроизвольно «пробиваются» в устной речи, особенно спонтанной, неподготовленной, в письменной могут быть замечены, осознаны пишущим и целенаправленно искоренены. Ряд признаков пока не используется систематически в криминалистическом анализе речи, но при современном уровне развития психологии речи и смежных наук вполне может быть использован (логическое ударение, заполнение пауз и т. д.).
Третья группа признаков – категориальные признаки речи .
Начнем с возрастных особенностей. В современном русском литературном языке есть некоторые явления, связанные с делением языкового коллектива на отдельные поколения. Дело в том, что язык развивается быстро, но люди, усвоившие язык и – что особенно важно – получившие осознанное представление о языковой норме 40—50 лет назад, в основном сохраняют это представление и поныне. Молодежь же сталкивается с уже изменившимся языком, с иным представлением о норме. Отсюда ряд социально-психологических моментов: «старшие» поколения относятся с непониманием и нередко возмущением к речевой норме молодежи (большая часть писем B газеты с осуждением того, «как теперь говорят», пишется именно людьми немолодыми); в свою очередь, молодежь стремится любой ценой отстоять свою речевую самостоятельность. И можно быть совершенно уверенным, что – точно так же, как молодые никогда не употребят слова или формы, представляющиеся им устаревшими, – пожилые люди скорее вообще ничего не скажут, чем вставят в свою речь новое, возмущающее их словечко. Здесь лежит первая возможность определить по речи возраст говорящего. Едва ли старик окажет до фонаря или до фени, но и юноша не употребит выражений соблаговолите, не извольте беспокоиться иначе как с шутливой интонацией.
Вторая возможность связана с тем неосознаваемым обычно фактом, что независимо от развития нормы происходит изменение словаря за счет обогащения его новыми словами и вытеснения некоторых старых. Одному из авторов настоящей брошюры довелось присутствовать при разговоре покупателя (65 лет) и молоденькой продавщицы (лет 20) в игрушечном магазине. Покупатель попросил показать ему игрушечный геликоптер. Продавщица не поняла. Автор понял, но если бы он сам беседовал с продавщицей, то попросил бы вертолет. Это понятно. Слово вертолет вытеснило геликоптер около 1950 г. Поэтому продавщица уже не знает старого слова. Автору было около 15 лет, значит, его «языковое образование» еще не закончилось, вытеснение старого слова новым происходило на его глазах. Покупатель к этому времени давно уже был сложившейся личностью, и, чтобы вытеснить старое слово, новое слово должно было по крайней мере встречаться ему достаточно часто. (Но специальность его была другая, и книг по авиации он не читал.)
Социальные особенности речи труднее выявить. Здесь встает прежде всего проблема: что такое «социальные особенности» в нашем социалистическом обществе, какие социальные группы оставляют свой «след» в языке? Думается, что понимать этот вопрос упрощенно («речь рабочего», «речь интеллигента») не стоит. Каждый человек, вступая в разного рода отношения с другими людьми, занимая определенное место в разного рода объединениях людей – группах (на работе, на улице, в клубе и т. п.), выполняет разные социальные роли. Эти роли диктуют и разницу в употреблении языковых средств. Представим себе следующую ситуацию. Какой-то человек (А) работает мастером на заводе. Естественно, что его речь отличается от речи, предположим, конструктора или рабочего сцены в театре. Но вот наш А покинул стены завода и отправился в шахматный клуб судить соревнования. Он попадает в другую систему отношений, меняется его социальная роль, меняется круг общения (в соревнованиях могут участвовать и артист, и рабочий, и учитель), меняется его речь.
Таким образом, речевые особенности человека прямо и непосредственно связаны с выполняемыми им социальными ролями. Это, во-первых, но, во-вторых, в речи человека отражается и более постоянная его характеристика – социальный статус (место, которое он занимает в обществе). В понятие социального статуса входит профессия человека, уровень его культуры и т. п. Все эти компоненты социального «портрета» человека отражаются в его речи: в ее «литературности», в выборе (в широте выбора) слов и выражений, в умении строить фразу и находить более (или менее) удачные слова для выражения разных состояний. Иначе говоря, даже выполняя одну и ту же социальную роль, разные люди могут говорить (и говорят) по-разному.
Третье, что связано с социальными особенностями речи человека, – это так называемые «социальные диалекты». Среди них можно выделить три группы: а) профессиональные языки, б) жаргоны, в) условные языки (арго). Эти социальные диалекты, будучи распространены повсеместно, в разной степени проникают в общенародный язык.
Если профессиональные языки подчас характеризуют широкий круг специальностей (скажем, инженеры-конструкторы, работающие по любой специальности, употребляют слова кульман, рейсшина и т. п.), то жаргоны «выдают» представителя какой-то профессии сразу. Например, до недавнего времени никто, кроме моряков траулерного флота, не употреблял слово бич (лентяй, живущий за чужой счет). Что же касается арго – тайных языков, то это вопрос особый. Здесь уместно сказать, что иногда и употребление арготизмов (слов и выражений арго) может помочь определить принадлежность человека к той или иной социальной группе.
Очень важны как источник информации о человеке (в процессе следствия) территориальные особенности его речи. Остановимся на них несколько подробнее.
Вся территория, занимаемая носителями русского языка, делится на две большие зоны. Северо-восточнее линии Псков–Калинин–Москва–Муром–Пенза–Саратов распространены так называемые северновеликорусские, а к юго-западу от нее – вплоть до границ Украины и Белоруссии – так называемые южновеликорусские говоры. Иногда, кроме слова «говор», употребляют в том же смысле слово «диалект» или «наречие».
Обычно носителю литературного русского языка бросается в глаза лишь две-три характерных особенности диалектной речи: «оканье» северян, х вместо г у южан и т. д. Но диалектное членение территории распространения русского языка чрезвычайно сложно; если мы посмотрим на карту, где отражено, в каких местностях как говорят (обычно это не одна карта, а целый атлас), то можно установить с довольно большой точностью, чем отличается речь жителя той или иной области (или даже района) от речи всех остальных носителей русского языка. [6]
Например, известно, что многие южане «якают»: вясна. Но это «яканье» может быть различным. Например, в Орловской области говорят висна (перед а), но с вясны (перед ы). В Тульской и Калужской областях тоже «якают», но иначе: вяду (перед «твердым» звуком), но види (перед «мягким» звуком). В Рязанской же области «якают» во всех случаях: вяду, вяди, вясна, с вясны и даже бяряги (береги). Подобного рода различия хорошо изучены. Они зафиксированы и в произношении, и в грамматике, и в специфических диалектных словах.
Изображенный Бернардом Шоу в «Пигмалионе» профессор Хиггинс с его умением определять по речи происхождение человека из той или иной части Англии – отнюдь не выдумка Шоу. Практически любой хороший русский диалектолог, послушав диалектную речь, может определить с точностью в худшем случае до области, а обычно до района (в некоторых случаях и до группы деревень) происхождение данного человека.
Правда, здесь возникает другая проблема, вызванная тем, что носитель диалектной речи не всегда проводит жизнь на одном месте. Он ездит по стране, общается с носителями других языковых норм. Особенно важно, что речь его меняется, когда он попадает в город, особенно в Москву или Ленинград. В этом случае его речь нередко воспринимается как «деревенская», он чувствует это и старается вытравить из речи местные особенности. Скажем, «окающий» человек будет стремиться «акать», чтобы говорить «по-московски». Частично это удается, однако следы «диалекта» остаются.
Ученые-диалектологи, однако, не случайно различают «первичные» и «вторичные» диалектные признаки. Вытравив наиболее бросающиеся в глаза особенности своей речи, например «оканье», носители диалектной речи продолжают бессознательно употреблять менее заметные, но для уха языковеда совершенно четкие местные языковые черты. Город лишь накладывает на диалектную речь определенный отпечаток, но никоим образом не стирает диалектные особенности. Например, город нормализует употребление форм слов, не затрагивая их смысловых особенностей. Городская речь может заставить носителя диалекта употреблять какие-то не свойственные ему слова, но употреблять он их будет опять-таки по-своему.
Даже правильная, нормированная литературная речь сохраняет диалектные черты. Главная среди них – интонация. Так, старые москвичи «поют», а ленинградцы говорят отрывисто.
Особой проблемой является «псевдодиалектная» речь, когда человек старается выдать себя за носителя диалекта. Существует блестящая работа, где показаны типовые ошибки артистов, говорящих со сцены «по-деревенски» ( Ильинская, Сидоров, 1955); практически точно воспроизвести диалектную речь невозможно, если человек не родом из данной местности. Тем более это относится к человеку, стремящемуся имитировать диалектную речь в каких-то преступных целях. Можно с абсолютной уверенностью сказать, что экспертиза установит факт имитации.
Речь служит ценным источником информации также в том случае, когда задачей следствия является установить национальную принадлежность или родной язык того или иного человека. Информация поступает здесь по трем каналам: а) акцент; б) смысловые особенности речи; в) особенности неречевого коммуникативного поведения.
Под акцентом в широком смысле мы понимаем всю совокупность особенностей речи на данном языке, не характерных для речи человека, для которого этот язык является родным, но свойственных речи носителя какого-то другого языка. Это фонетические особенности, грамматические неправильности и неправильности в употребления слов и словосочетаний. Набор таких особенностей в каждом случае конечен и может быть описан с достаточной для дифференцирования точностью; однако подобная работа еще не проделана. Особенно мало знаем мы о звуковом акценте, обычно наиболее стойком и потому особенно важном для следственных целей. Однако, имея магнитофонную запись акцентной речи, фонетист всегда может произвести квалифицированную экспертизу.
Основные компоненты звукового акцента – это, во-первых, такие особенности произношения отдельных звуков (фонем), которые соответствуют системе данного языка (то есть те звуки, которые должны противопоставляться друг другу в близких по звучанию словах, вроде быль–пыль, был– быль, действительно противопоставляются), но не соответствуют норме этого языка (то есть противопоставляются не по тем особенностям, по которым нужно, и вообще произносятся нe вполне так, как принято в данном языке, например, немцу свойственно различать русские б–п, г–к, д–т не по звонкости – глухости, а по слабости – силе, что дает для русского уха эффект двух степеней глухости, нередко недифференцируемых).
Во-вторых (и наиболее часто), это отклонение от обычного ритмико-интонационного (включая сюда и меру интенсивности) оформления речи. Они наиболее трудно поддаются осознанию и поэтому принадлежат к числу особенно стойких; к тому же человек обычно легко воспринимает и сохраняет надолго, если не на всю жизнь, интонационные особенности речи людей, непосредственно окружавших его в детском возрасте. Это очень заметно, в частности, в речи русских, выросших в национальных республиках или в областях, пограничных с ними.
Даже если человек говорит на языке без акцента, его родной язык может сказываться в смысловых категориях, в которых актуализуется его мышление и которые получают в дальнейшем конкретно-языковое оформление. Так, довольно хорошо исследована специфика «рассечения действительности» носителями французского языка (в отличие от немецкого и русского).
Особенности неречевого коммуникативного поведения в наименьшей степени поддаются контролю. Это так называемые «паралингвистические» особенности: мимика, жестикуляция, речевой этикет, сопровождающие речь.
При полной внешней неразличимости речевого поведения все же существуют методы, в принципе позволяющие выявить скрываемое дву– или многоязычие, вернее, тот скрываемый факт, что данный язык является для человека неродным. Однако ввиду особенностей советского уголовно-процессуального права (обвиняемый в суде не обязан давать показания и не несет ответственности за ложные показания) эти методы не могут быть применены в следственной практике.
Следователю, ведущему протокол допроса, необходимо помнить о социальных, территориальных и других характеристиках речи. А.Р. Ратинов отмечает, что часто «следователь непроизвольно вкладывает в их (свидетелей. – Авт.) уста свою собственную, не свойственную им речь», результатом чего являются «стилизованные» протоколы допроса ( Ратинов , с. 194).
В заключение раздела изложим важнейшие сведения о месте анализа речи в судебной психиатрии.
Советское уголовное право устанавливает (ст. 11 УК РСФСР) два критерия невменяемости:
а) наличие хронической психической болезни, временного расстройства психической деятельности или иного болезненного состояния;
б) неспособность в силу болезненного состояния отдавать себе отчет в совершаемых действиях или руководить ими.
Для того чтобы невменяемость данного лица стала юридическим фактом, ответ на оба эти вопроса должен быть дан судебно-психиатрической экспертизой, а затем – на основании ее заключения – судом. Другой задачей экспертизы является заключение о психическом здоровье лиц, отбывающих заключение, а также потерпевших и свидетелей (в уголовном процессе) и в случае необходимости – лиц, участвующих в гражданском процессе.
Экспертиза является профессиональной обязанностью врачей-психиатров и не входит в круг задач юриста, не располагающего для этого необходимыми специальными знаниями. Однако, если мы обратим внимание на ст. 79 УПК, трактующую об экспертизе, то в ней (п. 2) обнаружим указание на то, что проведение экспертизы обязательно для определения психического состояния обвиняемого или подозреваемого в тех случаях, когда возникает сомнение по поводу его вменяемости. Поэтому юрист, будь он следователем, прокурором, судьей или адвокатом, должен располагать минимумом психиатрических знаний, позволяющих ему обосновать свое сомнение во вменяемости подследственного (или в нормальном психическом состоянии свидетеля, потерпевшего и т. д.) и, соответственно, необходимость направления его на экспертизу. При этом юрист может опираться на различные особенности поведения данного лица; но одним из важнейших критериев являются особенности его речи.
Ниже следует краткое описание важнейших речевых особенностей, типичных для психических болезней, а также психических состояний, предполагающих полностью или частично постановку вопроса о невменяемости.
Характерные нарушения речи вообще сводятся к:
а) так называемой логоррее (человек непрерывно говорит, не дожидаясь вопроса или реплики собеседника, перескакивает на новые темы и т. д. – «словесный понос»);
б) персеверации речи (человек не может отойти от рассказанного им, повторяет высказывание еще и еще раз, полностью или частично);
в) разорванности или бессвязности речи (внешне речь кажется правильной грамматически, но лишена смыслового содержания);
г) обстоятельности, вязкости, выражающейся в чрезмерной подробности речи;
д) резонерству, мудрствованию, беспочвенным и бесплодным рассуждениям, вплоть до полной бессмысленности.
Эти особенности речи наиболее бросаются в глаза, но и сравнительно легко могут быть симулированы. Перечень основных психических состояний:
• Прогрессивный паралич (один из вариантов сифилитического психоза): затрудненная артикуляция, невнятность произношения. В развитой форме – неумение понять пословицу в ее «пословичном», переносном значении и толкование ее смысла самым конкретным образом; немодулированность (интонационная невыразительность) речи.
• Так называемый Корсаковский психоз: резкое расстройство памяти, отражающееся и в речи (например, в парафазиях – одно слово «выскакивает» вместо другого). Возникает при органических поражениях головного мозга или как следствие хронического алкоголизма.
• Так называемая болезнь Пика или Альцгеймера: заметная стереотипность речи – фразы состоят из одних и тех же выражений и произносятся с одинаковой интонацией, одинаковы также мимика и жесты.
• Эпилепсия; замедленная и неясная речь (при сумеречном состоянии сознания), «вязкость» речи и тенденция к персеверации, стереотипность, витиеватость речи, обилие слов в уменьшительной форме. При более тяжелых расстройствах – бедность словаря (олигофазия).
• Шизофрения: резонерство и обстоятельность речи. Замена конкретных понятий абстрактными и наоборот. Семантическая разорванность или бессмысленность, обычно при сохранении грамматической целостности фразы. Фонетическая однотонность, или больные усиливают интонацию на вспомогательной, второстепенной части предложения и заглушают ее на основной, смысловой части. Повторение слов, произносимых собеседником (эхолалия). Бессмысленное выкрикивание одного и того же слова, одной и той же фразы (вербигерация). Как можно видеть, симптомы очень различны, что отражает многообразие форм шизофрении.
• Маниакально-депрессивный психоз: «телеграфный» стиль, иногда переходящий в бессвязность. Скачки идей, отвлекаемость речи на новые предметы. Возникновение большого числа ассоциаций по созвучию, отсюда изобилие рифмующихся слов; в депрессивном состоянии – противоположные симптомы вплоть до полного отсутствия речи.
Те же признаки, но в других комбинациях и в другой степени выраженности могут выступать и при иных заболеваниях. Наличие их при всех обстоятельствах должно насторожить юриста. Чаще всего они сопровождают такие заболевания, которые безусловно заставляют признать невменяемость.
Психолингвистический аспект проблемы объективности и достоверности в судопроизводстве [7]
Если мы запишем обыденную, разговорную речь или обычный телефонный разговор на магнитофонную ленту, а затем точно воспроизведем эту запись на бумаге, окажется, что запись будет совсем не похожа на привычный нам литературный текст документа, газеты, книги: А как еще братику тебя есть зовут его? – А вот папа перед этим стоянка которая, разве там было близко от берега? – А вот Наташа сидит наш стол, а за следующим столом физик сидит Павлинский. – А я вот здесь у них беру черная. Кипячу и не отходит. Черная жидкость-то такая…
В аналогичном положении находится следователь, регистрирующий показания потерпевшего, свидетеля или подследственного. Существуют определенные требования к тому, как должна выглядеть речь, будучи закрепленной в форме протокола. Но реальный человек, сидящий перед следователем, никогда не говорит, «как пишет». Его речь, как правило, отличается следующими особенностями, препятствующими дословной записи его показаний:
1) она неорганизованна, то есть свидетель (будем в дальнейшем говорить только о свидетельских показаниях), несмотря на все возможные попытки следователя ввести его в русло последовательного изложения, обычно сбивается, уходит в сторону, говорит избыточные (с точки зрения следователя) вещи;
2) она в лингвистическом отношении крайне далека от литературной речи и приближается по типу к бытовой разговорной речи, образцы которой приведены выше. Важно подчеркнуть, что чем больше человек взволнован, чем эмоциональнее его речь, тем она более «разговорна» (если это, конечно, не публичная речь; впрочем, и в ней в таких случаях появляются неправильности). Но человек, сидящий перед следователем, как правило, не находится в эмоциональном равновесии; относительно подследственного и потерпевшего это вне сомнения; но даже и самый посторонний делу человек, случайно оказавшийся свидетелем, испытывает волнение уже в самой ситуации допроса. Поэтому речь его обычно оказывается нелитературной, неправильной, сбивчивой;
3) она характеризуется повышенной значимостью интонации и логического ударения. На уточняющий вопрос следователя, верно ли, что Петров ушел в двенадцать часов, свидетель может ответить: Петров? Ушел в двенадцать? Я на часы не смотрел, точно время не скажу. Очевидно, что, если это показание будет записано: Петров ушел в двенадцать, но точное время мне неизвестно, – содержание показаний будет искажено. Одно дело, если свидетель окажет: Иванов пришел в девять (то есть именно в девять, а не в десять). Совершенно иное, если он скажет: Иванов пришел в девять (то есть это Иванов, а не Петров пришел в девять);
4) речь свидетеля, дающего показания, содержит большое количество информации, идущей по неязыковым каналам. Здесь следует указать в первую очередь на мимику и жест. Как указывают специалисты в этой области, жестикуляция и мимика могут, с одной стороны, сопровождать речь, причем такие мимико-жестикуляторные средства очень различны в зависимости от особенностей личности, от принадлежности человека к той или иной социальной группе и от его национальной принадлежности. Они могут, далее, заменять речь. Например, свидетель может в ответ на заданный ему вопрос просто махнуть безнадежно рукой. И, наконец, мимика и жест могут комбинироваться с речью. Это наиболее частый случай. Здесь возможны, в свою очередь, три варианта:
а) мимика и жестикуляция относятся к определенному слову или словосочетанию и сопровождают это слово: И она взяла малю-ю-сенькую коробочку (показывает размеры коробочки); б) жестикулируя, поясняет, о ком идет речь, когда в речи употреблено местоимение: Пришла я к ним… – К кому? – Ну, к ним… (изображает руками толстую фигуру); в) жестикуляция заменяет слово или словосочетание: Он у нас вообще… (крутит пальцем у виска).
Из сказанного ясно, какое серьезное внимание должен уделять следователь правильной интерпретации речи и адекватной по смыслу записи показаний.
Во-первых, целесообразно сделать речь свидетеля и вообще допрашиваемого возможно менее эмоциональной, создать ему максимально спокойную и комфортную психологическую обстановку. Это важное вообще положение следует здесь подчеркнуть потому, что чем более эмоциональна речь допрашиваемого, тем больше шансов у следователя ошибиться при переводе ее смысла в общепринятый «язык» протокола.
Во-вторых, в тех случаях, когда в речи допрашиваемого имеются интонационные выделения, правильное понимание которых существенно для смысла, следует переспросить его и добиться, чтобы он выразил ту же мысль словесными средствами.
В-третьих, следователь не может полагаться на то, что он адекватно воспринял жест допрашиваемого. Помимо крайней неопределенности значения жеста он бывает часто и просто двусмыслен или даже многозначен. Если оказать про человека: Он ведь… – и постучать пальцами по столу, это может означать либо дурак, либо доносчик. Если про человека говорят: Он же во! – и показывают рукой что-то высокое, то это может означать высокий рост, высокое положение в служебной иерархии. И так далее. Поэтому здесь переспросить особенно необходимо.
Чрезвычайно важно учесть специфику допроса в тех случаях, когда допрашиваемый другой национальности, чем следователь, и особенно тогда, когда следователь проводит допрос в условиях чуждой ему национальной культуры. Здесь для следователя совершенно необходимо иметь хотя бы начальные представления об особенностях речевого поведения в данной культуре. У ряда национальностей, в том числе и в нашей стране, например на Северном Кавказе, считается элементарным нарушением речевого этикета, если молодой человек держит себя «на равных» с человеком старым, и в частности первым задает ему вопросы, K тому же, с точки зрения того, нередко глупые и лишние. Не зная этого, следователь может с самого начала завести допрос в тупик. Нечего и говорить о специфических национальных особенностях мимики и жестикуляции, вроде знаменитого жеста «нет» у болгар и некоторых других народов, внешне совпадающего с русским жестом «да». К сожалению, такого рода знания пока нигде не систематизированы и приобретаются исключительно посредством индивидуального опыта.
Другая речевая проблема, связанная с достоверностью, – это зависимость ответов допрашиваемого (по форме) от характера вопросов следователя. Эта зависимость тем больше, чем ниже уровень развития речевых навыков у допрашиваемого. А этот уровень, в свою очередь, зависит от образования, профессии, социального положения, речевого опыта и других факторов.
Такая зависимость выражается прежде всего в явлении так называемой персеверации, то есть стремлении повторить в своем ответе слова и конструкции, только что употребленные следователем в вопросе. Персеверация опасна потому, что, как показывают эксперименты, представители различных «семиотических групп», вообще разные носители языка нередко вкладывают в одни и те же слова и выражения очень различные содержания. А поскольку особенно подвержены персеверации как раз такие люди, у которых осмысление слов потенциально может очень далеко отходить от смысла, вкладываемого в эти слова следователем, персеверация может привести к тому, что следователь буквально вложит в уста допрашиваемого свои собственные слова, хотя и без какого бы то ни было злостного намерения.
Кроме того, необходимо отметить такую особенность речи, как так называемая вербальная ригидность. Она заключается в том, что, даже если речь допрашиваемого не копирует в явной форме речь следователя, допрашиваемый как бы продолжает мыслить в направлении, навязанном ему следователем. Например, следователь спрашивает, заходил ли кто-нибудь чужой в квартиру между двумя и тремя часами дня. Свидетель в соответствии с этим уверенно заявляет, что не приходил, так кaк дверь была заперта на цепочку, а звонков не было, упуская из виду, что с утра в комнате у соседей работали маляры (которые действительно не заходили в квартиру в указанное время, а находились в ней еще раньше). Ригидность проявляется в речи допрашиваемого особенно, если он что-то сознательно скрывает. Отвечая на вопросы следователя стереотипным «не знаю», подследственный может, скажем, ответить «не знаю» и на вопрос типа: «А что Вы сами делали вечером около девяти часов?»
Существенна для объективности получаемой информации и конкретная форма вопроса. Очевидно, что вопрос следователя должен быть правильно понят: это требование, так сказать, минимально. Но на степени понимания сильно сказываются и внешние формальные характеристики речи. Скажем, чем более конкретные слова использованы в вопросе следователя, чем четче логически выделено то или иное слово, чем более употребительные слова используются, тем легче понять этот вопрос при прочих равных условиях. Уровень понимания зависит и от порядка главных членов предложения (легче при порядке подлежащее – сказуемое), и от того, к какому главному члену относятся второстепенные (лучше, если к сказуемому), и от так называемой «глубины» предложения (то есть его грамматической сложности), и от многих других причин.
Общее требование к речи следователя (B этом отношении) можно сформулировать так: она должна быть максимально краткой, ясной и простой по выбору слов и синтаксическому строю. Грубо говоря, всегда лучше спросить: «Вы были вчера около одиннадцати часов вечера около ресторана "Сокол"?», чем: «Я хотел бы знать, не находились ли Вы во вторник, ориентировочно в двадцать три ноль-ноль где-либо в районе пищевой точки, известной под названием "Сокол"». (Хотя последний вариант может показаться более «престижным».)
Специальную проблему представляют собой вопросы, содержащие внутри себя «подсказку» ответа, например построение в форме негативной конструкции (Не… ли Вы…). Н.И. Гаврилова ( Гаврилова , 1975) полагает, что специфика наводящего вопроса состоит в наличии в нем внушаемой информации. Ею выделяются три типа наводящих вопросов:
1-й тип – вопросы, представляющие собой прямую подсказку («Были ли на нем перчатки?», или «Видели ли Вы на нем перчатки?», или «Не было ли на нем перчаток?»);
2-й тип – это вопросы, содержащие скрытую подсказку («Какого цвета на нем были перчатки?»);
3-й тип – это вопросы, направленные на лицо, реально существующее, известное допрашиваемому, но имеющие в виду детали («Как выглядел человек, севший за руль, на нем были перчатки?»).
Во всех приведенных примерах как раз и выясняется наличие перчаток.
Вообще следует стремиться возможно реже использовать в следовательской речи отрицание; отрицательная конструкция нередко вызывает у слушателя негативные эмоции в отношении предмета беседы, и создается определенная установка: «От меня хотят, чтобы я вывел этого мерзавца на чистую воду…», – хотя у следователя этого и в мыслях не было… С другой стороны, нецелесообразно употреблять в следовательской речи частотные оценочные прилагательные типа белый – черный, старый – молодой, красивый – безобразный. Они вызывают у слушателя моментальную антонимическую ассоциацию, что весьма снижает достоверность его показаний. Если спросить кого-то: Этот человек старый? очень вероятный ответ будет: Да нет, молодой. – В белом костюме? – Нет, в черном. – На самом деле этот человек может быть лет сорока (не старый, но и не молодой) и в темно-синем костюме. На все указанные здесь искажения показаний влияет эффект внушения.
Внушение может возникнуть как результат общения участников допроса. Причем оно может возникнуть не только путем прямого или косвенного указания или утверждения, но и в результате постановки вопросов, наталкивающих на желаемый ответ. Для предотвращения этой опасности и служит ст. 158 УПК РСФСР (соответствующие статьи есть в УПК союзных республик). В соответствии с этой статьей допрос свидетеля состоит из двух частей: свободного рассказа о событии, по поводу которого свидетель вызван, и постановки и получения ответов на вопросы. Опасны вопросы, задаваемые в ходе свободного рассказа. Такие вопросы могут нарушить последовательность изложения, дать рассказу иное направление, переключить внимание рассказчика.
При ответах на вопросы точность показаний тоже может снизиться, если сама постановка вопроса заставляет отвечать определенным образом. Здесь следует отметить, что в отношении свидетеля законодательство запрещает наводящие вопросы, однако в отношении обвиняемого запрещения нет.
Это особенно важно применительно к несовершеннолетним и малолетним. Дети и несовершеннолетние особенно легко поддаются внушению, они могут неадекватно воспринять и истолковать отдельные факты. Не случайно Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда СССР выдвинула тезис: «Суд должен особо критически относиться к показаниям несовершеннолетнего свидетеля, учитывая возможность ошибочности его представления о сообщаемых фактах». [8]
В заключение этой главы остановимся еще на одном вопросе, а именно на вопросе о метаязыке свидетельских показаний. Существует не осознаваемая обычно следователем предпосылка, что, описывая, скажем, событие или человека и употребляя оценочные слова (типа большой, маленький, старый, молодой, рано, поздно), различные свидетели вкладывают в эти слова одно и то же содержание. Это, однако, не так. Для низкорослого свидетеля преступник может быть «высоким», для высокорослого – «низкорослым» или «среднего роста». Для матери гость мог уйти «поздно», а для девятнадцатилетней дочери – «рано». Известны эксперименты, в которых подростки оценивали возраст буквально так: «возраст средний – 24 года», «преклонный возраст – 38—40 лет» (А.А. Бодалев). Мы взяли здесь наиболее, так сказать, явные расхождения, мимо которых и так не пройдет ни один опытный следователь, но аналогичные вещи имеют место и во многих других случаях.
Л.Е. Ароцкер ( Ароцкер , 1969, с. 78), ссылаясь на Э. Локара, приводит интересный пример. Чем больше было участников определенного события, тем больше неточностей в показаниях свидетелей и потерпевших. В Париже в одном шествии участвовало 3 тысячи человек. Когда спросили у трех начальников полиции, на которых было возложено поддержание порядка, то получили ответ: 5 тысяч, 10 тысяч, 80 тысяч. На тот же вопрос два присутствовавших на шествии журналиста ответили: 30 тысяч и 300 тысяч.
«Однако, – отмечает Л.Е. Ароцкер, – если участников события было немного, то показания потерпевших и свидетелей, как правило, близки к действительности» ( там же , с. 79).
Подводя итоги сказанному, отметим желательность дублирования важных показаний, их повторение в виде перифразы, другими словами. Только такое показание можно (в идеале) считать субъективно достоверным, которое повторено хотя бы дважды с одним и тем же содержанием, но в разных речевых формах. Тем более нельзя считать достоверным показание, если допрашиваемый говорит «не своими словами», а пользуется категориями или конкретными выражениями, подсказанными ему следователем.
Вместе с тем не следует забывать, что помимо речевой информации в акте общения немалая роль принадлежит неречевой. Особенно это важно применительно к таким ситуациям допроса, которые в юридической науке называются конфликтными. В последних следователь и допрашиваемый стремятся к противоположным целям: следователь – к установлению истины, допрашиваемый – к ее сокрытию.
Специальное исследование, проведенное И.К. Шахриманьяном, В.А. Варламовым и В.В. Таракановым, показало следующее. В допросе наряду с передачей речевой информации следователь выдает также неречевую информацию. Последняя воспринимается допрашиваемым, перерабатывается им и возвращается следователю в виде изменения характера речевой информации. Может оказаться даже (и это не противоречит данным социальной психологии), что получатель и отправитель информации меняются местами.
Например, следователь на допросе Е. заметил, что, как только вопросы прямо или косвенно касаются изъятой у Е. при обыске чистой школьной тетради, допрашиваемый начинает проявлять беспокойство: облизывает губы, поправляет волосы. Кроме того, следователь заметил, что Е. особенно сосредоточенно наблюдает за его выражением лица именно в моменты, когда допрос касается тетради. Однако следователь, заметив это, воспринял неречевую информацию, исходившую от Е., но в то же время сам не выдал дополнительной неречевой информации ( Шaxриманьян, Варламов, Тараканов , 1973).
Допрос независимо от дела, по которому ведется расследование, и от степени участия в деле допрашиваемого, как уже говорилось, всегда проходит для допрашиваемого в состоянии эмоционального напряжения.
В состоянии эмоционального напряжения резко меняются основные характеристики речевого и неречевого поведения ( Носенко , 1975).
Все это особенно важно подчеркнуть потому, что именно в этом звене сбора следственной информации практически невозможно обеспечить контроль. Первичным документом следствия пока является протокол, и, если налицо нет очевидного расхождения в показаниях или прямых процессуальных нарушений, отмеченные здесь особенности допроса легко могут остаться незамеченными.
II. Текст в массовой коммуникации
Научно-техническая революция и социально-психологический аспект массовой коммуникации [9]
Массовые средства общения, будучи продуктом общества, оказывают на это общество обратное организующее действие, способствуют его дальнейшему развитию. Нелепо отрицать влияние массовых средств общения и массовой информации на сознание людей, на перестройку их быта, организацию досуга. В этой связи уместно вспомнить слова К. Маркса: «Предмет искусства – нечто подобное происходит со всяким другим продуктом – создает публику, понимающую искусство и способную наслаждаться красотой. Производство производит поэтому не только предмет для субъекта, но также и субъект для предмета» (Маркс, Энгельс, 1955а, с. 718).
Но средства массового общения не сами по себе оказывают воспитывающее влияние на людей, как это считает, например, канадский ученый М. Маклюэн (McLuhan, 1974). [10]
Гораздо ближе к истине точка зрения, в соответствии с которой проводится разграничение между средствами общения и самими сообщениями как факторами, имеющими различный эффект. Американский ученый П. Баран иллюстрирует это положение следующим образом: «Когда появился телевизор, дети стали тратить меньше времени на чтение и сон – это было эффектом средства. Когда дети смотрят программы битлов и к удивлению родителей становятся похожими на битлов, мы имеем дело с эффектом сообщения» ( Baran , 1969, р. 246). Но М. Маклюэн далек от дифференциаций такого рода. Весь строй мыслей, эстетических взглядов человека он ставит в непосредственную связь с развитием средств информации вообще: письмо, печать, радио, телевидение, кино. Как будто сами эти средства не являются порождением определенных форм общественного сознания, а их функционирование не подвластно воле социальных групп, классов, учреждений! И при этом ни слова о владельцах средств массовой коммуникации, об их отношении к неимущим слоям населения.
Такая трактовка массовой коммуникации, несмотря на всю ее абсурдность, устраивает апологетов буржуазного строя. Оно и понятно, ведь при этом с их плеч полностью снимается ответственность за содержание массовой коммуникации и за ее социальные последствия: весь мир объявляется порождением всемогущего электронного сигнала. Чего стоит, например, следующее заявление американского социолога Б. Розенберга, восторженно откликнувшегося на идеи Маклюэна: «Современная технология является необходимой и достаточно веской причиной существования массовой культуры; ни национальный характер, ни политические системы не имеют какого-либо решающего значения» (Mass culture, 1964, р. 11).
Высказывания такого рода находятся в полном соответствии с широко распространенной и усиленно пропагандируемой на Западе теорией, согласно которой технические, научные процессы современной жизни по своим последствиям имеют для человека гораздо большее значение, чем социальные. По словам одного из главных «специалистов» в этой области, директора Колумбийского института по делам коммунизма З. Бжезинского, мы вступаем в «век технотроники», и это окажет на судьбы человечества такое влияние, с которым не может сравниться влияние французской революции и «революции большевиков». Идеологическая направленность таких утверждений очевидна. За ширмой так называемого технического детерминизма скрываются далеко не безобидные идеи.
На самом деле массовые информационные процессы ни при каких условиях не могут стать самостоятельной, неуправляемой силой, не подвластной воле людей. Здесь все подчинено задачам общества или определенных его слоев, классов.
Массовое общение, или массовую коммуникацию, следует понимать как внутреннюю активность общества и составляющих его классов, других общественных групп, осуществляемую при помощи и через посредство специальных институтов и отдельных лиц и направленную на организацию, поддержание и развитие собственной структуры в соответствии с требованиями и условиями наличных общественных отношений.
Массовая коммуникация в современном обществе является, таким образом, одним из важнейших орудий социального управления. Это справедливо как для социалистического общества, так и для обществ с антагонистическими классами – разница здесь в том, кто осуществляет функцию управления и в чьих интересах. Основная специфика массовой коммуникации в социалистическом обществе в том, что субъектом управления здесь является общество в целом, а не та или иная группа (класс) внутри общества, чьи интересы не только не тождественны интересам большинства, но часто и противоречат интересам общества в целом. В социалистическом обществе основная социальная функция массовой коммуникации – воспитательная или «антропогогическая» (А.В. Луначарский).
Задачи социального управления требуют постоянного повышения эффективности воздействия массовой коммуникации. Она достигается различными путями. Во-первых, за счет совершенствования технических средств массовой коммуникации. Для некоторых зарубежных теоретиков массовой коммуникации, как мы видели, характерно неправомерное преувеличение значимости этого пути и сведение всей специфики массовой коммуникации в условиях НТР к взаимоотношению реципиента и массовой коммуникации как технической системы. Во-вторых, и это главное, за счет совершенствования общепсихологических и социально-психологических условий восприятия массовой коммуникации.
При этом возникает прежде всего не связанная непосредственно с языком проблема личности как объекта массовой коммуникации. Она заслуживает упоминания постольку, поскольку сообщения массовой коммуникации могут наталкиваться на барьеры (их часто называют психологическими), которые выступают в виде мнений, установок реципиента. Н.К. Рерих написал следующие строки о слушающем человеке: «Если самый основательный ответ не совпадает с его уже внутренне предпосланным ответом, то все сказанное будет признано неубедительным» ( Рерих , 1974, с. 25). Своеобразной реакцией на это обстоятельство является признание необходимости «готовить почву для того, чтобы вносимые в сознание человека идеи приобрели для него субъективный, личностный смысл» (Леонтьев, 1968, с. 39).
Вообще для совершенствования процесса массовой коммуникации и повышения ее воспитывающей роли важно создать благоприятную для этого духовную атмосферу общения. Задача тех, кто связан непосредственно с организацией коммуникативного воздействия, сводится в этих условиях к оптимизации подачи социально значимой информации.
Деятельность специалистов в этой области должна вытекать из самой специфики массового общения. А она, по нашему мнению, прежде всего в том, что общение двух групп – «социальных коммуникаторов» и аудитории – в этих условиях является по существу диалогическим общением – общественным диалогом.
Моральное и политическое единство советского народа особенно предрасполагают к дружеской беседе, деловому обсуждению назревших социальных проблем через посредство массовой коммуникации. Этот процесс необратим, он является частью общего процесса развития советского общества. Развитие социальной жизни требует дальнейшего развития форм и приемов общения во всех сферах человеческой жизни.
Если мы рассмотрим под этим углом зрения язык массовой коммуникации, то в нем можно увидеть несколько общих тенденций.
Это прежде всего тенденция к индивидуализации языка, отражающая более общую тенденцию к персонификации пропагандистского общения, внедрению в него элементов личностной ориентированности. Она реализуется в ориентации массовой коммуникации не на абстрактное множество лиц, мотивы, интересы, установки которых столь разнородны, что нет возможности в какой-либо степени удовлетворить запросы каждого, а на отдельные, возможно более мелкие и определенные по тому или иному признаку группы реципиентов. Отсюда тенденция к возникновению специальных программ, рубрик и т. д. для реципиентов разных возрастов и профессий. Одновременно с этим наблюдается тенденция перехода от анонимности к выступлению престижной личности, осуществляющей общение, а не просто транслирующей сообщение. Общение с реальным лицом– рабочим, колхозником, ученым, государственным деятелем, знакомство с их заботами, нуждами, радостями расширяет горизонты духовного развития советского человека.
Вторая тенденция – тенденция к диалогизации языка массовой коммуникации. Прежде всего, она знаменует введение в процесс общения все большего количества лексических, стилистических, интонационных и иных элементов, предполагающих или имитирующих реакцию реципиента. Сюда относятся, например, прямые обращения к реципиенту, стимулирующие вовлечение его в процесс общения, например: согласитесь, что..; судите сами.. ; а как у вас…
Важным средством диалогизации речи в условиях массовой коммуникации являются косвенные обращения: восклицания, риторические вопросы, высказывания, где в качестве субъекта суждения представлено местоимение мы. Ценность приема косвенного обращения в том, что коммуникатор выступает здесь не только от своего имени или от имени того или иного социального института, учреждения, но и от имени самих реципиентов, как бы выражая их точку зрения на предмет «разговора». Высказывания с косвенным обращением можно определить как «мы-высказывания». Поэтому небезынтересными кажутся суждения некоторых ученых относительно психологического содержания мы. По словам Б.Ф. Поршнева, мы – это «универсальная психологическая форма самосознания общности людей» ( Поршнев , 1968). Несколько иначе ту же мысль выражает польский социолог Я.Н. Щепаньский: «Это сознание мы, – пишет он, – является выражением психической связи, объединяющей членов, основой общности действий и солидарности группы» ( Щепаньский , 1969, стр. 119).
Диалогизация массовой коммуникации предполагает также изменение эмоционального тона общения. На смену ровному и бесстрастному изложению приходит экспрессивный язык с элементами разговорности.
Язык располагает большими резервами демонстрации различных оттенков модальности – от прямого, категоричного выражения эмоций до косвенного, порой едва уловимого. Устные формы массовой коммуникации (радио, телевидение, в какой-то мере и публичная речь) открывают дополнительные возможности в этом плане. Здесь как средство диалогизации речи используются ритм, интонация, интонационный жест. Последний, как правило, выступает в качестве субститута эмоционально насыщенных высказываний. Стереотипное Здравствуйте, товарищи! например, при соответствующей установке говорящего может прозвучать совсем не стереотипно: Здравствуйте, дорогие товарищи, как хорошо, что мы встретились/ или Мы очень рады нашей встрече. В результате инициаторы общения выигрывают дважды: во-первых, в смысле экономного использования эпитетов и других средств языка, подверженных трансформации в штамп, во-вторых, за счет повышения выразительности, изобразительности речи.
В целом модальный аспект речи образует как бы второй план высказываний, который вступает с первым – коммуникативным, диктальным (Ш. Балли) планом в различные отношения – смотря по количеству и качеству материала, который заключен в том и другом. Понятно, что отношения эти должны быть подчинены условиям и целям пропагандистского воздействия.
Наконец, третья тенденция развития языка массовой коммуникации – появление новых усовершенствованных стандартов общения, благодаря которым принцип диалога реализуется наилучшим образом. В радиовещании и телевидении, например, стандарты графического, фонетического, синтаксического, эстетического, композиционного оформления текста заметно отличаются по большинству параметров от текста газетного (см. подробнее об этом: Бгажноков , 1974, с. 70). А этот последний в свою очередь специфичен, представляет собой систему особого рода: «…если и опубликовать на газетной полосе учебник анатомии или философскую монографию, то это не будет ни газетным, ни научным трудом: мы получим неудобный эрзац, плод деформации одного стиля внешними проявлениями другого» ( Костомаров , 1974, с. 64).
Таким образом, говоря о стандартах общения, мы имеем в виду прежде всего стандарты канала, которые фиксируются в сознании как коммуникаторов, так и реципиентов в виде установок на тот или иной характер собственно речевого и композиционного оформления сообщаемого содержания.
Опора на стандарты канала позволяет оперативно, без лишних затрат времени, решить вопрос о наилучшей форме подачи материала. Но стандарт – не синоним штампа. Штамп – это избитое, заезженное слово, словосочетание, приевшаяся манера общения, вызывающая скуку, злость, раздражение. С ним надо бороться. Особенно важно не допускать превращения в штамп слов, заключающих в себе глубокий социальный смысл, таких, например, как коммунизм. В.И. Ленин призывал «изгнать из ходячего употребления, запретить хватать это слово первому встречному» ( Ленин , 1970, с. 26). В отличие от этого стандарты канала призваны привлечь, удержать внимание реципиентов, обеспечить стопроцентное понимание информации. От этого зависит успех общего дела воспитания нового человека через посредство массовой коммуникации.
В свете сказанного выше возникает ряд специфически языковых проблем повышения эффективности массовой коммуникации, а именно:
а) дифференцированная в социально-групповом и стилистическом отношении языковая ориентация сообщений массовой коммуникации,
б) языковые аспекты персонификации,
в) речевое обеспечение диалогичности массовой коммуникации,
г) учет «стандартов канала», прежде всего в плане обеспечения таких языковых характеристик сообщения массовой коммуникации, которые не вызывали бы затруднений или нежелательных дополнительных эффектов при его восприятии.
Существенно, что большая часть этих проблем не носит универсального, общего характера и не может быть решена без обращения к конкретной аудитории, без учета специфических ценностей и социально-психологических установок в данном обществе. Вообще проблема эффективности массовой коммуникации не является проблемой внесоциальной, как это часто утверждается западными теоретиками массовой коммуникации, и должна решаться дифференцированно.
Психология воздействия в массовой коммуникации [11]
Введение
Междисциплинарное исследование языка средств массовой информации предполагает четкое общепсихологическое и социально-психологическое осмысление процесса воздействия текстов СМИ (в широком смысле слова «текст», то есть включая не только языковые или речевые, но и визуальные средства) на аудиторию реципиентов. Между тем в литературе по языку СМИ работы такой направленности крайне немногочисленны, во всяком случае, на русском языке.
Кроме того, было бы естественно, чтобы такое осмысление было дано с позиций именно отечественной психологии, в частности психологической теории деятельности. Однако в существующей российской психологической литературе работы такого рода единичны (Леонтьев А.Л., 1999; Леонтьев ДА. , 2003; Матвеева, Аникеева, Мочалова, 2000; Богомолова, 2002 и др.).
Попытаемся обозначить те психологические подходы, которые являются условием нашей психологической трактовки воздействия СМИ на реципиентов.
Во-первых, это культурно-исторический подход, восходящий к взглядам Л.С. Выготского и интенсивно развиваемый психологами его школы.
Во-вторых, это деятельностный подход, восходящий к А.Н. Леонтьеву и его школе.
В-третьих, это понимание воздействия СМИ под углом зрения социальной природы человеческого общения.
Массовая коммуникация как общение
В существующей литературе, в особенности американской, общение обычно понимается как процесс передачи информации от одного индивида другому (или множеству индивидов, то есть аудитории). Еще в 1974 г. в книге «Психология общения» мы, однако, противопоставили такому пониманию другое, альтернативное; общение, писали мы, «есть не столько процесс внешнего взаимодействия изолированных личностей, сколько способ внутренней организации и внутренней эволюции общества как целого» (Леонтьев АЛ., 1999, с. 21). Следует только добавить, что общество как целое есть сложная иерархия и взаимодействие разнообразных социальных групп и общение может осуществляться как в системе или подсистеме таких групп, так и в отдельной группе (например, личностно ориентированное общение в диаде, направленное на сохранение и развитие психологических взаимоотношений в этой диаде, скажем семье).
Возможны классификации видов общения по различным основаниям. В частности, таким основанием может быть чисто «количественная» характеристика процессов общения, когда мы различаем межиндивидуальное и массовое общение (или, в терминах А.А. Брудного, аксиальное и ретиальное общение). Или степень опосредованности, которая будет минимальной в непосредственном общении «лицом к лицу» с аудиторией (скажем, в лекции или митинговом выступлении) и максимальной – в «бумажных» средствах массовой информации. Или, наконец, характер семиотической опосредованности общения – иными словами, те языковые, речевые и иные знаковые средства, которые «задействованы» в процессах общения. Интересную трактовку семиотики общения и когнитивной семантики дает, в частности, Ю.М. Лотман ( Лотман , 2000).
Однако все эти параметры общения не могут считаться психологическими. К последним можно отнести только два класса параметров. Это, с одной стороны, психологическая динамика общения, фиксирующая соотношение между исходной ситуацией общения и его результатом (или ожидаемым результатом – см. ниже). Естественно, что то, что изменяется в процессах общения (или что является целью общения или воздействия), может быть чрезвычайно разнообразным – от эмоционального состояния реципиента до социальной стабильности общества. С другой стороны, психологическим параметром общения является его психологическая ориентация.
Принято выделять три основных вида общения по их психологической ориентации (хотя на самом деле большая часть актов общения интегрирует в себе элементы двух или даже всех трех видов).
Общение может осуществляться в ходе совместной некоммуникативной деятельности, обслуживая ее. При этом принципиально важно различать взаимодействие и собственно общение. Если «структура взаимодействия определяется распределением трудовых функций, тем индивидуальным «вкладом», который вносит каждый из членов коллектива в общую деятельность, то процессы общения могут носить автономный характер: общение необходимо для взаимодействия, но одно и то же взаимодействие может быть обеспечено общением разной направленности, разного характера и объема» ( Леонтьев А.А. , 1999, с. 260). Этот вид общения обычно называют предметно ориентированным общением.
Второй вид общения по критерию его психологической ориентации – это личностно ориентированное общение.
«…В данном случае деятельность, для которой необходимо взаимодействие, не носит непосредственно социального характера, а отсюда и само взаимодействие peaлизует в первую очередь не общественные отношения, а возникающие на их основе и приобретающие относительную самостоятельность личностные, психологические взаимоотношения людей… В данном случае имеет место то, что Л.П. Буева определила как "личностно-психологическую конкретизацию" общественных отношений» ( там же , с. 262—263).
Наконец, третий вид общения по критерию его психологической ориентации – это социально ориентированное общение.
Анализируя этот вид общения, к которому прежде всего и относится массовая коммуникация, отметим прежде всего, что у него как бы двойной субъект. «С одной стороны, непосредственно осуществляет такое общение, как правило, один человек как личность. Это может быть университетский преподаватель, лектор общества «Знание», телекомментатор и т. п. Но, с другой стороны, по существу субъектом такого общения всегда является тот или иной коллектив или общество в целом: в социально ориентированном общении коммуникатор всегда представляет, репрезентирует мнения, убеждения, информацию социального коллектива или общества. Да и тот коллектив или группа, на которые направлено такого рода воздействие, лишь частично представлен данной конкретной аудиторией» ( там же , с. 250—251).
Целесообразно считать, что предметом социально ориентированного общения является социальное взаимодействие (или социальные, общественные отношения) внутри социума. А его основным мотивом служит то или иное изменение в характере социальных отношений внутри этого социума, в его социальной и социально-психологической структуре, в общественном сознании или в непосредственных проявлениях социальной активности членов общества (их социальных действиях). Здесь особенно ясно видно, что общение выступает как процесс и орудие саморегуляции общества. «Одна часть общества воздействует на другую его часть с целью оптимизации деятельности общества в целом, в частности – увеличения его социально-психологической сплоченности, его внутренней стабилизации, повышения уровня сознательности, уровня информированности и т. п.» ( там же , с. 252).
Если разделять субъект взаимодействия и субъект общения, то субъектом социального взаимодействия является социум. Здесь процессы взаимодействия осуществляются внутри того, что К. Маркс называл «совокупным субъектом» («совокупный работник, рассматриваемый как одно лицо»). Ср. у А.В. Брушлинского: «Субъектами становятся и различные группы людей по мере формирования у них общих целей, интересов и т. д. (например, субъекты совместной деятельности, совместной собственности и т. д.» ( Брушлинский , 2001, с. 109). Субъект же социально ориентированного общения – это личность конкретного коммуникатора.
Массовая коммуникация – это один из видов социально ориентированного общения. В чем ее специфика?
Во-первых, в том, что существуют специализированные формы, каналы, средства социально ориентированного общения, закрепленные за процессами массовой коммуникации. Это электронные СМИ (телевидение, радио), бумажные СМИ, или пресса в широком смысле (газеты, журналы, листовки и т. д.). Соответственно, каждый из этих каналов располагает своей собственной, специализированной аудиторией. Существенно разделить понятия первичной и вторичной аудитории: под первичной аудиторией мы понимаем совокупность непосредственных реципиентов массовой коммуникации (зрители данной передачи, подписчики или вообще читатели газеты). Однако психологическое воздействие на первичную аудиторию может иметь продолжение, когда информация и / или то или иное его осмысление транслируется членами первичной аудитории более широкому кругу лиц (с той или иной мерой аутентичности) и, что особенно важно, обсуждается с ними и соответствующим образом корректируется: об этом в свое время говорили Кац и Лазарсфелд, выдвинувшие теорию двухэтапного воздействия СМИ на аудиторию ( Katz, Lazarsfeld, 1955).
Во-вторых, специфика массовой коммуникации – в ее многофункциональности. Еще в начале XX в. классик американской социальной психологии Гарольд Лассвелл выделил четыре основных функции массовой коммуникации: информирование, согласие (поддержание консенсуса, создание и укрепление социального статуса и т. д.), трансляция культуры (включая первичную и вторичную социализацию) и развлечение (Communication Theories.., 1997). В сущности, эта схема до настоящего времени не подверглась принципиальным изменениям: так, в недавней книге Л.В. Матвеевой и др. описаны следующие социально-психологические функции телевидения: 1. Информирование населения о событиях в мире. 2. Формирование группового сознания. 3. Социальный контроль. 4. Социализация личности. 5. Психотерапия ( Матвеева, Аникеева, Мочалова , 2000, с. 32). Н.Н. Богомолова выделяет следующие социально-психологические функции массовой коммуникации: «1. Функция социальной ориентировки и участия в формировании общественного мнения (индивид – общество). 2. Функция аффилиации (социальной идентификации) (индивид – группа). 3. Функция контакта с другим человеком (индивид – другой индивид). 4. Функция самоутверждения (самопознания и самореализации) (индивид – он сам)» ( Богомолова , 2002, с. 232). Подобные обобщающие схемы функций массовой коммуникации могут быть далее детализированы: так, функция социализации (образовательная в широком смысле) может быть представлена как пучок следующих функций или подфункций: а) информирующая, б) проблемообразующая,
в) корректирующая, г) ценностнообразующая, д) мировоззренческая, е) личностной рефлексии, ж) организации социального поведения ((Образовательная система… 2003, с. 110); впервые эта схема была предложена в конце 1980-х гг. автором в докладе на одной из конференций Педагогического общества РСФСР).
В-третьих, специфика массовой коммуникации – в особенностях ее аудитории. Она несравнима по размеру с аудиторией любого другого социально ориентированного общения и измеряется не столько сотнями, сколько, как правило, тысячами, миллионами и – в отдельных случаях – даже миллиардами людей. Но при этом аудитория массовой коммуникации отличается своей рассредоточенностъю в пространстве и (в случае бумажных СМИ) во времени.
В-четвертых, для массовой коммуникации типичен, как часто говорят, особый вид обратной связи. Впрочем, понятие обратной связи при исследовании общения едва ли полностью применимо – оно было выдвинуто в психологии и социологии общения в 1950-х гг. в связи с теорией коммуникации К. Шеннона, в принципе предполагавшей однонаправленность процесса коммуникации. Между тем в нашем представлении процесс любого общения принципиально обоюден, двунаправлен. Можно сказать, что мы именно общаемся, а не «общаем» друг друга. Это, в частности, сказывается в том, что оптимальность любого коммуникативного воздействия предполагает не только адекватное моделирование партнера или аудитории, но и так называемую «самоподачу» (self-presentation), то есть сообщение аудитории (или партнера по общению) информации, подталкивающей ее (его) к формированию такого образа коммуникатора, который нужен для его целей. В дальнейшем мы еще остановимся на проблеме образа аудитории и образа коммуникатора. Пока же достаточно констатировать, что для массовой коммуникации характерны отсутствие или минимизация непосредственной обратной связи в виде речевых сообщений, эмоционально-психологических реакций и т. д.: она (обратная связь), с одной стороны, ограничена «прямым эфиром», письмами в газеты и журналы и пр., с другой – может имитироваться телевизионной «массовкой».
Психологическое воздействие в массовой коммуникации
«Акт общения, рассматриваемый под углом зрения его направленности на тот или иной запланированный эффект, то есть с точки зрения его целенаправленности, может быть определен как психологическое воздействие» (Петровская, Жуков, Растянников, 1990, с. 3).
В этом определении самое главное – это идея целенаправленности воздействующего общения. Впрочем, строго говоря, она справедлива для любого общения: иными словами, любое общение, как и вообще любая деятельность, представляет собой целенаправленную психологическую активность. Но оно, опять-таки как любая деятельность, не только целенаправленно, но сознательно, мотивированно и предметно. Все эти признаки отличают акт деятельности от поведенческого акта в самом широком смысле, а психологический подход к общению с позиций теории деятельности – от любого реактивного психологического подхода.
Процесс общения происходит всегда в рамках той или иной социальной группы, к моменту вступления в общение уже так или иначе определенной психологически (см. подробнее Леонтьев А.А., 1999, с. 63—65).
Еще одна принципиально важная психологическая категория, без введения которой нельзя говорить об общении и тем более о психологическом воздействии, – это категория личности. Еще в 1970-х гг. А.У. Хараш подчеркнул, что «с точки зрения принципа деятельности исследование общения – это… раскрытие его личностно-смысловой стороны, имеющей своим поведенческим фасадом систему коммуникаций…». При этом «если в традиционной психологии или в социологии разработка проблемы личности логически предшествует разработке проблемы общения (субъект берется как изолированный индивид и только затем «погружается» в стихию общения), то с точки зрения принципа деятельности мы имеем скорее обратное» (Хараш, 1911, с. 31).
Смысловые теории психологического воздействия в отечественной психологии
Одной из первых публикаций в отечественной психологической литературе, где была поставлена проблема психологии воздействия именно наличность, была статья А. Н. Леонтьева (Леонтьев А.Н., 1968). Одновременно это была и одна из первых публикаций по психологии личности.
Автор подчеркивает, что «личность характеризуется иерархическим строением отношений» (там же, с. 31). Она «представляет собой систему иерархий с выделением ведущих жизненных мотивов, жизненных целей; личность сложна по своей структуре, иногда конфликтна» (там же, с. 33). Личность не отождествима с сознанием. Конечно, «воздействие на личность осуществляется прежде всего путем раскрытия перед человеком действительного знания, путем внесения в его сознание научного знания о природе и обществе…» (там же, с. 34).
«Но этим проблема воздействия на личность не исчерпывается, это лишь один ее аспект. Если бы сознание определялось только знаниями и через знания, то все было бы очень просто: научили человека тому, "что такое хорошо и что такое плохо", – и вот перед нами воспитанный человек… Но такие бывает…
Конечно, в сознание индивида обязательно вносится знание… Но при этом необходимо, чтобы была почва для такого внесения… Знания, понятия должны еще выступить как знания, актуальные для него, то есть должны приобрести личностный, субъективный смысл. Можно отлично "знать значение", "понимать понятие", но вот чем является данное понятие для данного человека – особый вопрос. Одни понятия, идеи могут быть ему внутренне близкими, а главное – действенными, то есть реально управлять его деятельностью, побуждать к ней и направлять ее, а другие останутся только словесным знанием, которое никак не определяет жизни и поведения данного человека» ( там же , с. 33).
«От чего же зависит внутреннее, «личностное» значение идей, знаний, их место в развитии личности, их "личностный смысл"?
Существует общий психологический закон: каков главный мотив деятельности, таков и тот личностный смысл, который приобретают для человека его действия, реализующие данную деятельность, их цели и условия…
Почву, необходимую для эффективного внесения в сознание человека определенных идей, определенного мировоззрения, составляет… бытие, реальная деятельность человека, взятая не только объективно, но и субъективно, то есть со стороны ее мотивации» ( там же , с. 36).
A.Н. Леонтьев, можно сказать, предложил мотивационную теорию психологического воздействия. Позиции этой теории на материале общения лектора с аудиторией, в частности, реализованы в нашей книге «Психологические особенности деятельности лектора». Там выделены четыре вида мотивов вступления аудитории в лекционное общение. Это:
«А. Мотивы, связанные с объектом и целью взаимодействия, то есть определяемые единством социальной деятельности… Результатом, непосредственным эффектом является здесь изменение в деятельности группы…
Б. Мотивы познавательного плана, направленные либо непосредственно на удовлетворение потребности узнать что-либо интересное или важное, либо на дальнейший выбор способа поведения, действия…
B. Мотивы социального плана, связанные с интересами и целями общества в целом, определенной социальной группы… и человека как члена общества, данной группы…
Г. Личностные… чтобы… не отстать от других, подчеркнуть свое согласие с аудиторией по обсуждаемому вопросу, "самоутвердиться"…» ( Леонтьев А.А. , 1981).
В 1972 г. (перепечатано в 1974, 1997 и 1999) автор настоящего раздела предложил психологическую модель речевого воздействия. Она исходит из коррелированных друг с другом понятий «поля значений» и «смыслового поля».
«Под полем значений, присущим тому или иному индивиду, имеется в виду структурация присвоенного им общественного опыта… та система категорий, с помощью которой он этот мир расчленяет и интерпретирует… Смысловое поле понимается нами как структура отнесенности значений к выраженным в них мотивам, как включенность значений в иерархию деятельностей индивида. Индивид всегда имеет дело с действительностью через посредство смыслового поля: восприятие им предметов и явлений действительности всегда окрашено его отношением к ним» ( Леонтьев А.А. , 1999, с. 272—273).
В чем цель психологического (в частности, речевого) воздействия? «Мы бы определили цель речевого воздействия как определенную организацию деятельности человека… Воздействуя на реципиента, мы стремимся “спровоцировать” его поведение в нужном нам направлении, найти в системе его деятельности “слабые точки”, выделить управляющие ею факторы и избирательно воздействовать на них» ( там же , с. 273).
Психологическое воздействие в таком понимании не есть пассивное восприятие реципиентами чужого мнения или их пассивное подчинение чужой воле. «…Оно предполагает борьбу и сознательную оценку значимости мотивов, более или менее осознанный выбор из ряда возможностей. Речевое воздействие служит не для упрощения самого этого выбора, а для облегчения осознания, ориентировки в ситуации, подсказывая реципиенту известные основания для выбора…» ( там же , с. 274). Прежде всего психологическое воздействие направлено на сдвиг в системе ценностей реципиентов.
Эффективности психологического воздействия можно добиться одним из трех основных способов (на практике они, конечно, сочетаются друг с другом и здесь выделены чисто теоретически).
«1. Ввести в поле значений реципиента новые значения, то есть сообщить ему такие знания о неизвестных ему элементах действительности, на основе которых он изменит свое поведение или по крайней мере свое отношение к этой действительности…
2. Изменить структуру поля значений реципиента, не вводя в него новых элементов, то есть сообщить реципиенту новую информацию об уже известных ему вещах, причем такую, которая объективно существенна для понимания этих вещей в их взаимосвязи, способна изменить представление реципиента об их взаимосвязи и, следовательно, его отношение к этим вещам (фактам, событиям, элементам действительности)…
В обоих случаях мы можем говорить о воздействии через информирование. Конечно, с изменением поля значений ни в том, ни в другом случае процесс воздействия не завершается. Новые значения и вообще изменения поля значений важны для нас лишь постольку, поскольку они существенны для нашей деятельности, поскольку они ее в той или иной мере конституируют» ( там же , с. 274—275).
«3. Можно, наконец, не сообщая никакой объективно новой информации об элементах поля значений… изменить способ вхождения элементов поля значений в деятельность реципиента, изменить его отношение к окружающей действительности… Этот случай… можно назвать воздействием через убеждение… Например, мы можем связать известную ему информацию с новым, иерархически более высоким мотивом или даже, “столкнув” мотивы разной “высоты”, убедить реципиента ориентироваться на более высокий мотив… Возможен и переход в план “низкого”, бытового мотива; мы можем, например, убедить рабочего, что хозяйственная реформа в масштабах завода принесет лично ему материальную выгоду» ( там же , с. 275—276).
Чтобы успешно осуществить воздействие, коммуникатор должен представлять себе смысловое поле реципиента, то есть «характер и направление тех изменений в смысловом поле реципиента, которых он должен добиться в результате воздействия» ( там же , с. 276). Но сделать это можно только через значения.
«Речевое воздействие в психологическом плане в том и состоит, что на основе моделирования смыслового поля реципиента (двойного моделирования – наличного и желаемого состояния этого смыслового поля) и на основе знания о правилах оптимального перевода смыслового поля в значения говорящий кодирует желаемые изменения в смысловом поле реципиента в виде языкового (речевого) сообщения, а реципиент, воспринимая это сообщение, декодирует его и “извлекает” из него скрытую за внешним планом (планом значений) глубинную информацию, обуславливающую реальное или потенциальное изменение его деятельности» ( там же , с. 277).
Близкую модель предложил В.Ф. Петренко ( Петренко, 1986; 1988). Он также выделяет три типа коммуникативного воздействия: а) изменение отношения субъекта к объекту без изменения категориальной структуры индивидуального сознания субъекта; б) формирование общего эмоционального настроя, мироощущения реципиента; в) изменение категориальной структуры сознания, введение в нее новых категорий.
Из сказанного видно, что существеннейшим компонентом профессиональной деятельности коммуникатора являются умения моделирования смыслового поля реципиента (или реципиентов, аудитории) и, соответственно, такие умения поведения коммуникатора, которые обеспечивают моделирование аудиторией его собственного образа в нужном плане.
Последние умения (умения «самоподачи») применительно к телевидению подробно проанализированы Л.В. Матвеевой с соавторами ( Матвеева, Аникеева, Мочалова , 2000). Впрочем, еще в 1978 г. А.У. Хараш указывал: «Всякое сообщение есть, помимо всего прочего, сообщение коммуникатора о себе – о своих личных качествах, притязаниях, об уровне своего самоуважения и самооценки, о степени своей заинтересованности предметом сообщения, о своей общей компетентности в избранной им тематической области и, наконец, о действительных мотивах своей деятельности, о лежащих в ее основе личностных смыслах» ( Хараш, 1978, с. 87). По мнению А.У. Хараша, «наибольшей воздейственностью должны обладать тексты, авторы которых стремятся к предельно открытому самовыражению, к посвящению читателя или слушателя в проблемы, имеющие для них высокий личностный смысл» ( там же , с. 94).
Что касается смыслового моделирования аудитории, то остановимся на важнейших отличиях аудитории электронных СМИ (радио, телевидение) от «живой» аудитории.
Первое отличие в том, что коммуникатор в электронных СМИ лишен возможности оперативно регулировать процесс своего воздействия на аудиторию. «Его «мера» – не вне его, а внутри его» ( Леонтьев А.А. , 1999, с. 288). Отсюда необходимость либо привычки к специфическим условиям выступления перед микрофоном или телекамерой, либо вообще богатого опыта разнообразного общения (опытный коммуникатор способен, даже не видя аудитории, с достаточной уверенностью представить себе, как она будет реагировать).
Второе отличие связано с тем, что теле– и радиоаудитория рассредоточена не только в пространстве, но и психологически. Каждый отдельный реципиент далеко не всегда становится членом этой аудитории по собственному (сознательному) выбору: поэтому «если обычный оратор имеет дело с аудиторией, уже заведомо представляющей собой некоторое психологическое единство, то в условиях радио или телевидения публичное выступление требует с самого начала, чтобы зритель (слушатель) был заинтересован, чтобы было привлечено его внимание» ( там же , с. 289).
Третье отличие: теле– и радиоаудитория практически не поддается заражению. В реальном общении достаточно воздействовать на часть слушателей, и вся аудитория уже будет «захвачена». Здесь же необходимо дойти до каждого отдельного слушателя (зрителя) или, вернее, до той минимальной «ячейки» (обычно это семья), которая сидит перед экраном телевизора и формирует оценку передачи.
Четвертое отличие касается в первую очередь именно телевидения и лишь частично – радио. Это – интимность, способность обращаться к каждому зрителю или слушателю в отдельности, которая в свою очередь требует специфической – доверительно-интимной – манеры общения.
Пятое отличие: аудитория радио и телевидения, так сказать, по определению, более разнообразна по своим характеристикам, чем аудитория «живого» общения. Это касается и возраста, и социального статуса, и профессии, и уровня образования.
Большой интерес с точки зрения психологической специфики СМИ, определяющей и особенности их языка, представляет теория массовой коммуникации как «направленной трансляции смыслов», разработанная Д.А. Леонтьевым на материале исследования эффективности рекламного воздействия. По мнению автора, «задача рекламного воздействия – донести до клиента некоторое заданное конкретное послание, причем донести его не только и не столько на уровне словесном, на уровне рационального предложения, но и на уровне подсознательном, иррациональном. Существуют две основных стратегии воздействия в рекламе – уникальное торговое предложение и формирование имиджа. Психологическую основу первой составляют закономерности смыслообразования, а второй – закономерности психологии субъективной семантики… Важнейшим, то есть более универсальным и всеобщим способом воздействия является разработка имиджа, потому что иррациональный подсознательный образ (целенаправленное конструирование которого превращает его в имидж) есть всегда. В рекламе можно обойтись без предложения, но невозможно обойтись без имиджа.
…Имидж – это навевание совершенно конкретных смысловых ассоциаций… Любой фирме важно производить впечатление хорошей и порядочной, но это еще не все. Банк еще должен выглядеть устойчивым, рекламное агентство – динамичным и творческим… реклама автомобиля должна дышать комфортом и скоростью, а мороженого – прохладой…
При этом необходимо, чтобы не только все компоненты рекламной деятельности, но и все, с чем фирма выходит во внешний мир, несло один и тот же образ, одну и ту же субъективную семантику» ( Леонтьев Д.А. , 2003, с. 410—411).
Сказанное здесь о рекламе в не меньшей мере справедливо по отношению к тому, что называется политической рекламой, и – с определенной коррекцией – вообще по отношению к деятельности СМИ.
Проблемы психолингвистической экспертизы текстов СМИ [12]
Введение
Проблема толерантности/ксенофобии приобрела в последние годы такой массовый резонанс и выдвинулась в ряд ключевых и наиболее болезненных проблем общественной жизни в нашей стране, как и во всем мире, во многом потому, что ксенофобия проявляется не только в сфере межличностного общения людей, но и в немалой степени в сфере массовых коммуникаций – в эфире, периодике, книжной продукции, электронных медиа и др. В силу широты распространения информации современными СМИ влияние публичного слова несравнимо с влиянием слова приватного как по широте распространения, так и по длительности воздействия. Именно на публичное слово, транслируемое через СМИ, ориентировано в первую очередь современное законодательство, карающее за разжигание социальной, расовой, национальной и религиозной розни и пропаганду социального, расового, национального и языкового превосходства, при всей ограниченности его эффективности. Судебные процессы, связанные с применением соответствующих норм закона, также связаны в первую очередь с высказываниями, тиражируемыми через СМИ.
В этой связи особое значение приобретает проблема точных и надежных методов, позволяющих преодолеть субъективность личных мнений и дать достоверную оценку того, является ли то или иное высказывание экстремистским или ксенофобским. Известно, что практика судебной экспертизы по подобным вопросам сталкивается с радикальным несовпадением мнений разных экспертов, привлекаемых для ответа на один и тот же вопрос. Это несовпадение мнений вызвано отсутствием единых достоверных критериев для вынесения такого суждения. Выход из этого юридического тупика возможен двумя путями. Первый из них – это тщательная разработка детальных критериев и практических методических правил экспертизы в подобных случаях, которыми законодатель, после доказательного подтверждения адекватности и достоверности применения этих критериев, должен обязать пользоваться каждого эксперта, привлекаемого для ответа на этот вопрос. В этом случае, если ответ на главный вопрос должен логически следовать из ответов на систему частных вопросов, по которым вряд ли могут быть разные мнения, будет устранена возможность для экспертов подчинять свое суждение личным интересам и предубеждениям. Второй путь позволяет вообще обойтись без экспертов. Это применение современных методов компьютерного анализа самих текстов, позволяющих с помощью подсчета выделенных и предварительно апробированных количественных индикаторов тех или иных психологических установок и ценностей достоверно классифицировать текст как относящийся к той или иной категории (например, толерантных либо ксенофобских). Данный комплексный проект направлен на изучение возможностей одновременно и первой группы методов (назовем их экспертными) и второй группы методов (компьютерных).
Следует также отметить, что в настоящее время при проведении научных экспертиз текстов СМИ нередко в качестве экспертов привлекаются случайные люди, не владеющие теорией и методикой профессионального анализа текстов СМИ на предмет их соответствия и несоответствия требованием законодательства. Это вызывает необходимость в раскрытии и четкой научной формулировки требований законодательства к текстам СМИ, а также анализа существующей психолингвистической экспертизы таких текстов. В особенности необходима разработка четкой психологической основы психолингвистической экспертизы, которая предполагает создание теоретических, методических и организационных основ проведения психолингвистической экспертизы текстов СМИ под углом зрения их соответствия требованиям законодательства о противодействии политическому экстремизму.
Данная работа содержит анализ отечественных и зарубежных методических разработок по анализу текстов, анализ ключевых понятий экспертизы, исследование существующих методических разработок и практического опыта, разработку теоретических основ психолингвистической экспертизы текстов в СМИ, уточнение требований и параметров разработки психолингвистической методики экспертизы текстов в СМИ. Основное назначение выполненной работы – создание теоретической и методической базы для разработки оптимальной методики психологической экспертизы текстов СМИ.
1. Понятие экспертизы и место психолингвистической экспертизы в системе экспертиз
1.1. Понятие экспертизы
Понятие экспертизы в российском праве неоднозначно, и общепринятая классификация различных экспертиз по видам отсутствует. Это делает необходимым предпослать настоящему отчету анализ определения и классификации экспертиз.
Наиболее общим является деление экспертиз по их правовому статусу. С этой точки зрения выделяется, с одной стороны, собственно судебная экспертиза, с другой, криминалистическая экспертиза как разновидность судебной. Деятельность судебного эксперта подробно регулируется УПК РФ (см. гл. 27 «Производство судебной экспертизы») более того, сама статья «Эксперт» этого кодекса (ст. 57) касается исключительно судебной экспертизы. Ср.: «эксперт – лицо, обладающее специальными знаниями и назначенное в порядке, установленном настоящим Кодексом, для производства судебной экспертизы и дачи заключения» (ст. 57, ч. 1). См. также Федеральный закон «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» от 31 мая 2001 г.
Что касается предварительного следствия, то здесь в тексте УПК нет ясности: если в ст. 168 говорится об «участии специалиста» в следственном действии, то в ч. 5 ст. 164 (на которую есть ссылка в ст. 168) говорится: «Если в производстве следственного действия участвует потерпевший, свидетель, специалист, эксперт или переводчик…». Таким образом, специалист здесь не идентичен эксперту (см. также ст. 70 и 71 «Отвод эксперта» и «Отвод специалиста»). Соответственно в ст. 58 дается следующее определение специалиста: «лицо, обладающее специальными знаниями, привлекаемое для участия в процессуальных действиях… для содействия в обнаружении, закреплении и изъятии предметов и документов, применении технических средств в исследовании материалов уголовного дела, для постановки вопросов эксперту, а также для разъяснения сторонам и суду вопросов, входящих в его профессиональную компетенцию». Как можно видеть, здесь граница с функциями эксперта очень зыбка (разве «разъяснение сторонам и суду вопросов, входящих в его профессиональную компетенцию» не входит в функции эксперта?).
В то же время в УПК отсутствует специальная статья (или ее часть), посвященная функциям эксперта на стадии предварительного следствия. Однако в ст. 282 «Допрос эксперта» (ч. 1) говорится: «По ходатайству сторон или по собственной инициативе суд вправе вызвать для допроса эксперта, давшего заключение в ходе предварительного расследования, для разъяснения и дополнения данного им заключения». Это означает, что заключение, данное экспертом в ходе предварительного следствия, в общем случае принимается судом как документ, имеющий процессуальное значение. (Между тем в списке образцов документов, прилагаемом к УПК, документы, связанные со следственной, а не судебной экспертизой, отсутствуют.)
Итак, под экспертизой в широком смысле следует понимать криминалистическое исследование, совершаемое лицами, обладающими специальными знаниями и опытом (специалистами) в рамках уголовного процесса (как его досудебной, так и судебной части) и имеющее целью получить дополнительную информацию, имеющую процессуальное значение, об обстоятельствах и средствах совершения преступления, личности и психическом состоянии подозреваемого и т. д. В некоторых случаях, предусмотренных УПК в ст. 196, назначение экспертизы (судебной экспертизы) обязательно: речь идет об установлении причины смерти, характера и степени вреда, причиненного здоровью, психического и физического здоровья подозреваемого или обвиняемого, что важно для решения вопроса о его вменяемости, психического и физического здоровья потерпевшего, а также возраста подозреваемого, обвиняемого или потерпевшего, если он не подтвержден документами.
Экспертиза является криминалистической (следственной), если она осуществляется в рамках предварительного расследования, и собственно судебной, если она осуществляется в рамках судебного следствия.
В принципе не исключено использование следственной и судебной экспертизы также в рамках гражданского, арбитражного, конституционного, а не только уголовного процесса, но ее функции здесь ограничены. Во всяком случае, возможное участие эксперта в судебном следствии предусмотрено Гражданским процессуальным кодексом РСФСР (ГПК РФ находится в стадии принятия Государственной Думой).
Как уже говорилось, общепринятой классификации видов экспертизы не существует. Наиболее часто выделяются следующие виды (криминалистической) экспертизы:
а) трассологическая экспертиза,
б) баллистическая экспертиза,
в) экспертиза документов,
г) отождествление личности по внешним признакам (габитология).
Особое место занимает в этой системе судебно-психологическая экспертиза (под названием «судебно-психологическая экспертиза» обычно объединяется и собственно судебная, и криминалистическая – см. напр. публикации М.М. Коченова.
1.2. Судебно-психологическая экспертиза
«Основная задача судебно-психологической экспертизы состоит в оказании помощи органам правосудия при решении вопросов психологического содержания, а ее функция заключается в получении на основе практического применения специальных психологических знаний и методов исследования новых фактов, позволяющих точно и объективно оценивать многообразные индивидуальные особенности психической деятельности обвиняемых, свидетелей и потерпевших…
…Мы считаем, что предметом судебно-психологической экспертизы являются компоненты психической деятельности человека в ее целостности и единстве, установление и экспертная оценка которых имеет значение для выяснения объективной истины по делу» ( Коченов , 1980, с. 14).
Судебно-психологическую экспертизу следует отличать от судебно-психиатрической.
К компетенции судебно-психологической экспертизы, в частности, относятся: установление способности обвиняемого осознавать значение своих действий и руководить ими; установление способности свидетелей и потерпевших правильно воспринимать имеющие значение для дела обстоятельства; диагностика состояния аффекта в момент преступления; установление возможности возникновения у человека психических состояний и их влияния на поведение; диагностика индивидуально-психологических особенностей, способных существенно влиять на поведение; установление ведущих мотивов и мотивации конкретных поступков; установление установки на суицид и т. д. ( там же , с. 16—17).
1.3. Разновидности психолингвистической экспертизы
Понятие судебно-психолингвистической экспертизы как разновидности судебно-психологической экспертизы было введено В.И. Батовым и М.М. Коченовым в 1974 г. ( Батов , 1974). В настоящее время понятие психолингвистической (в том числе судебно-психолингвистической) экспертизы общепринято, хотя оно не упоминается в основополагающих юридических документах (ГК, УК, УПК и др.).
Психолингвистическая экспертиза обычно ставится специалистами в один ряд с лингвистической и почерковедческой экспертизой, то есть определяется по критерию методики. Однако в большинстве случаев задачи, решаемые экспертизой, требуют комплексного подхода, то есть использования и психолингвистической, и лингвистической, и почерковедческой экспертиз. Так например, осуществленная с нашим участием по заданию Прокуратуры г. Москвы экспертиза, направленная на установление действительного авторства собственноручного признания обвиняемого в зверском убийстве (по его утверждению, это признание было продиктовано ему следователем), осуществлялась параллельно лингвистическими и психолингвистическими методами, причем ее результаты совпали (было установлено, что следователь являлся «автором содержания» текста, но текст писался обвиняемым самостоятельно). Другая осуществленная нами следственная экспертиза по гражданскому делу, задачей которой было установить, действительно ли представленный как вещественное доказательство текст писался непосредственно во время интервью (аутентичность которого оспаривалась обвинением), потребовала комплексного использования лингвистического, психолингвистического и почерковедческого подхода, в результате чего было доказано, что текст не мог выполняться непосредственно в процессе интервью.
Возможна и другая классификация видов экспертиз – по цели. В этом плане можно выделить следующие виды экспертизы:
а) автороведческая экспертиза, направленная на установление автора текста или выявление категориальных признаков вероятного автора, делающих возможным установление автора следственными и судебными органами. Такими признаками могут быть пол, возраст, национальность или родной язык, место рождения или долговременного проживания, уровень образования и т. д.;
б) экспертиза, направленная на установление временных признаков автора текста, например его эмоционального состояния. Классическим образцом подобной экспертизы является опубликованное еще в 1959 г. Ч. Осгудом и И. Уокер исследование предсмертных записок самоубийц ( Osgood, Walker , 1959). Подобный вид экспертизы смыкается с судебно-психиатрической экспертизой текста; однако основная задача последней (применительно к тексту) – это установление вменяемости подследственного (обвиняемого);
в) экспертиза, направленная на установление тех или иных условий (обстоятельств) создания исследуемого текста (сюда относится упомянутая выше экспертиза аутентичности записей при интервью);
г) экспертиза, направленная на установление преднамеренного искажения сведений, высказываемых в тексте (ложности текста);
д) экспертиза, направленная на установление наличия у текста содержательных и иных признаков, позволяющих поднять вопрос об обвинении автора текста по определенным статьям Гражданского или Уголовного Кодексов РФ, Конституции РФ и других федеральных законов. Сюда относятся, в частности, статьи, касающиеся клеветы, оскорбления чести и достоинства, возбуждения социальной, расовой, национальной, языковой и религиозной ненависти и вражды, призывов к войне или к свержению государственного строя РФ и т. д.
Предметом нашего рассмотрения как раз и является экспертиза признаков текста по их соответствию требованиям законодательства РФ о противодействии политическому экстремизму.
Объектом экспертизы в принципе могут быть авторские тексты, не предназначенные для широкого распространения через СМИ, или тексты СМИ. Граница между ними достаточно зыбка (см. ниже). Наиболее обычная ситуация психолингвистической экспертизы текстов типа (д) – это судебно-психолингвистическая экспертиза, связанная с публикацией в СМИ тех или иных текстов, подпадающих под формулировки российского законодательства.
Приведем пример такой экспертизы, осуществленной нами (А.А. Леонтьевым) по запросу Тимирязевской межрайонной прокуратуры г. Москвы в 2001 году. Заключение приводится в сокращении.
…Я, Леонтьев А.А., на основании письма Тимирязевской межрайонной прокуратуры от 02.04.01, №7-02…, произвел в период 25.04.01 – 03.05.01 психолого-лингвистическую экспертизу представленных материалов.
Передо мною были поставлены следующие вопросы:
1. Могут ли материалы, представленные на исследование, оказать влияние на сознание читателей путем формирования искаженных представлений о тех или иных нациях, возбуждения по отношению к отдельным нациям чувства национальной неприязни, враждебности?
2. Содержат ли представленные на исследование материалы заявления или утверждения, направленные на унижение национальной чести и достоинства отдельных наций?
3. Содержат ли материалы, представленные на исследование, утверждения об исключительности, превосходстве, либо неполноценности отдельных наций?
4. Содержатся ли в представленных материалах призывы к насильственным действиям против какой-либо нации, призывы к насильственному захвату власти или насильственному изменению строя РФ?
В мое распоряжение были предоставлены:
1. Номер 35 газеты «Русские ведомости» за 2000 г.
2. экземпляр книги А. Селянинова «Евреи в России», изданный издательством «Витязь» в 2000 г., 144 с.…Ответы на вопросы прокуратуры:
1. Да, могут. Как присланный на экспертизу номер газеты, так и книга А. Селянинова содержат искаженные сведения об истории, религии, современном состоянии еврейского народа, (а) во многих случаях голословные (например: «Эта паразитическая нация, не приспособленная к созидательному труду, но приученная Талмудом и иными наставлениями к лживости (миф о «Холокосте») и мошенничеству (приватизация), генетически корыстолюбивая, веками гонимая отовсюду за зло, которое она приносит людям…»), в других – (б) «обоснованные» ссылками на заведомо подложные источники (типа сочинений профессионального провокатора, автора «Протоколов Сионских мудрецов» С. Нилуса), (в) на ложные сведения, которые читатель не может проверить (например: говорится о естественной убыли населения в регионах с преобладанием русского населения и о естественном приросте в республиках и автономных округах; между тем хотя там и «проживают» титульные нации, но русские насчитывают в Ямало-Ненецком АО 94 тыс. из 160, в Ненецком 31 из 47, в Ханты-Мансийском 424 из 571 и т. д.), или (г) на мнения тех или иных авторов, степень компетентности которых читатель тоже не может проверить.
Эти сведения не просто «могут» оказать влияние на сознание читателей – они демонстрируют явный умысел на формирование у них искаженных представлений о евреях. На это указывает пропагандистски очень продуманный подбор аргументов и высказываний, направленный на воздействие на сознание массового читателя через апелляцию к ухудшению экономического положения в стране (в чем обвиняются именно евреи).
Кроме того, в представленных материалах содержатся аналогичные утверждения о других национальностях; ср.: «Сегодня в Москве по неофициальным данным проживают 15 миллионов человек. Из них 1/3 – это в основном «кавказцы» и южане, которые нагло, бессовестно эксплуатируют русский народ».
2. Да, содержат. При этом, как ни странно, имеются заявления и утверждения, направленные на унижение национальной чести и достоинства не только евреев, но и русских. Ср.: «за жидовской мразью…», «пустыни, выжженной еврейской гнилью…», «картавые внушают…» и мн. др. Однако русский народ выступает в исследуемых материалах в следующем виде: «Наш народ, погрязший в пьянстве и воровстве, убивающий миллионы собственных детей через аборты и забывший о чувстве национального достоинства, пока что не заслужил победу в этой войне» (то есть с евреями).
3. Нет, не содержат. Многочисленные высказывания антиеврейской направленности «обосновывают» не неполноценность еврейского этноса, а якобы направленность всей деятельности евреев на мировое господство и уничтожение России и русских.
4. Да, содержатся.
Во-первых, в представленных материалах содержатся однозначные призывы к насильственным действиям против евреев, отвечающим содержанию ст. 357 УК РФ («Геноцид») – «действия, направленные на полное или частичное уничтожение национальной, этнической, расовой или религиозной группы путем… насильственного переселения». Во многих местах содержатся прямые призывы к депортации евреев из России.
Во-вторых, в них содержатся также призывы к насильственному изменению конституционного строя РФ. См., например: «Колонизаторы навязали нам Конституцию, отрицающую национальный статус России…», «правительство грабителей», «вся юриспруденция тоже в руках этой братии», «Наступил сионистский беспредел. Он господствует под сенью ими же созданных фарисейских законов…», «финансы, управление – все прихватизировано сионистами», и мн. др. Вывод – «необходимо отстранение жидов от руководства Россией» в виде «хирургического вмешательства», то есть насильственных действий. См. также: еврейская нация «навязывает миру «демократию» и "права человека" – подлейший способ порабощения народов с помощью доллара». Аналогично утверждение о свободе слова. Напомним, что все эти понятия содержатся в Конституции РФ в числе основных гарантируемых ею ценностей.
Кроме того, в представленных материалах, в частности в передовой статье газеты «Русские ведомости», усматриваются высказывания, соответствующие содержанию ч. 1 и 2 ст. 129 УК РФ («Клевета»): «распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию» («клевета, содержащаяся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении или средствах массовой информации») в отношении Президента РФ В.В. Путина и других должностных лиц РФ. Ср.: «Банда Березовского пока контролирует исполнительную власть и поставила на пост президента масона Путина… Он обнаружил себя врагом русской нации… Развитие экономики Путин ориентирует только на иностранные инвестиции, чтобы в России русским ничего не принадлежало». В другом месте: «Попытался Путин продержать три дня Гусинского в тюрьме, так ему, из-за океана, стукнули кулаком, он его и оттуда отпустил. То есть правят нами не русские, а из-за океана жидократия». Клевета усматривается также в отношении Швыдкого, Лужкова, Кириенко, Грефа и ряда депутатов Государственной Думы (Примаков, Жириновский, Явлинский).
Следует добавить, что представленные материалы оскорбляют религиозные чувства православных граждан РФ, так как утверждается: «Финансируя постройку церквей и поощряя проповеди по телевидению, евреи приобщают русских людей к религии, памятуя, что христианство – это религия рабов». И в другом месте: «жидовский Иисус».
Таким образом, экспертиза представленных материалов приводит к бесспорному выводу о правомерности возбуждения уголовного дела по ст. 282 УК РФ «Возбуждение национальной, расовой или религиозной вражды», ст. 280 «Публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации» и ст. 129 «Клевета».
(подпись)Говоря здесь и далее об экспертизе, мы имеем в виду сам процесс экспертного исследования текста под тем или иным углом зрения, а не подготавливаемый на основе такого исследования процессуальный документ. С юридической (процессуальной) точки зрения экспертиза отличается от заключения. «Экспертиза – строгий жанр, предполагающий определенную форму… указание на то, что эксперты предупреждены об уголовной и гражданской ответственности; указание материалов, анализированных экспертами (о требованиях к этому документу см. ст. 77 ГПК РСФСР, ст. 191 УПК…). Экспертизы (заключения экспертов) выполняются по определению судебного органа или по постановлению правоохранительного органа… Заключение выполняется по запросу в учреждение адвокатов, учреждения, частного лица… Кроме того, исследование может быть представлено и в жанре "мнение эксперта" в случае обращения к эксперту как к частному лицу, а не как к представителю экспертного учреждения» (Цена слова… 2002, с. 199).
Из приведенного текста видно, что в содержательном отношении экспертиза (экспертное заключение) не отличается от просто заключения и от мнения эксперта: весь вопрос в том, по чьей инициативе осуществляется экспертное исследование. Если это суд или прокуратура, то мы имеем дело соответственно с судебно-психолингвистической или следственно-психолингвистической экспертизой. По запросу адвоката или сторонней организации (чаще всего в качестве такой организации выступает газета) результаты исследования описываются в форме заключения. Что касается третьего случая, то нам вообще непонятно, что здесь имеется в виду: что такое эксперт «как частное лицо» в отличие от «представителя экспертного учреждения»? Допустим (это реальный пример), в качестве эксперта выступает доктор филологических наук, профессор факультета иностранных языков МГУ им. М.В. Ломоносова Юлий Абрамович Бельчиков. Другой эксперт – главный научный сотрудник Института русского языка им. В.В. Виноградова РАН Леонид Петрович Крысин. Можно ли считать, что второй – «представитель экспертного учреждения», а первый – «частное лицо»? Или надо рассматривать факультет иностранных языков как «экспертное учреждение»? Вся проблема здесь в том, что привычные для суда и прокуратуры виды экспертизы (например, баллистическая, трассологическая, микроскопическая и мн. др.), включая сюда и инструментальное (фоноскопическое) исследование звучащей речи, как правило, связаны с работой целых коллективов; между тем лингвистическая и психолингвистическая экспертизы осуществляются, как правило, отдельными крупными специалистами «за письменным столом», и здесь важен опыт и квалификация эксперта, а отнюдь не его, так сказать, ведомственная принадлежность.
Федеральный закон «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» (2001) пытается внести некоторую ясность в этот вопрос. Он предусматривает, так сказать, трехэтажную конструкцию. В основе ее лежит система государственных судебно-экспертных учреждений, обычно осуществляющих фоноскопическую либо автороведческую экспертизу. Однако, хотя об этом в тексте данного закона специально не говорится, в принципе судебно-экспертное учреждение не обязательно должно быть государственным – во всяком случае, УПК РФ в ст. 199 («Порядок направления материалов уголовного дела для производства судебной экспертизы») говорит об «экспертном учреждении», а не о «государственном экспертном (судебно-экспертном) учреждении». Наконец, третья возможность – это проведение экспертизы вне экспертных учреждений лицами, обладающими необходимыми специальными познаниями, но не являющимися государственными судебными экспертами (ст. 41 указанного Федерального закона). Кстати, означает ли это, что государственный судебный эксперт – это то же самое, что сотрудник государственного экспертного учреждения? И всякий ли такой сотрудник может называть себя государственным судебным экспертом? Наконец, в какой мере сопоставимы (под правовым углом зрения) в качестве государственных экспертных учреждений, например, с одной стороны, НИИ судебных экспертиз Генпрокуратуры, с другой, Институт русского языка им. В.В. Виноградова РАН?1.4. Лингвистическая экспертиза
Наряду с психолингвистической экспертизой в следственной и судебной практике распространена так называемая лингвистическая экспертиза. В частности, ей специально посвящен вышедший двумя изданиями сборник «Цена слова» (2002). Создана общественная организация – «Гильдия лингвистов-экспертов по документационным и информационным спорам». Согласно определению, данному в указанном сборнике Т.В. Губаевой, «лингвистическая экспертиза представляет собой процессуальное действие, состоящее из проведения исследований и дачи заключения экспертом по вопросам, разрешение которых требует специальных знаний в области науки о языке» ( там же, с. 237). Очевидно, что этот критерий непригоден для определения специфики лингвистической экспертизы, так как он не носит целевого характера – непонятно, какие вопросы имеются в виду. Вообще многие авторы названного сборника, по-видимому, недостаточно представляют себе спектр экспертных задач и специфику экспертного исследования текстов. Так например, Е.И. Галяшина в качестве недостатка существующих экспертиз указывает, что «выводы подчас даются в вероятной, а не категоричной форме, что не позволяет использовать их в качестве судебных экспертиз» ( там же, с. 235). Однако любая экспертиза, имеющая дело с текстом (например, автороведческая), способна дать информацию лишь с определенной долей вероятности; задача эксперта не в том, чтобы дать категоричный ответ (автором текста является Н.), а в том, чтобы максимально обеспечить высокую вероятность ответа путем объективизации используемых методик и обосновать в заключении этот ответ и степень его вероятности. Дело суда, а не эксперта, каким образом можно и следует использовать в процессе это заключение; допрос эксперта как раз и имеет одной из целей уточнение степени достоверности экспертного заключения. В той же статье к экспертам предъявляются совершенно нереальные требования: базовое филологическое образование и квалификация, конечно, желательны, но едва ли обязательны – на практике прекрасные экспертизы делались людьми с иным базовым образованием; но уж «свидетельство на право производства фоноскопических и автороведческих экспертиз» ( там же, с. 233) – это требование невозможное. Как и рекомендация следующего характера: «…в каждом конкретном случае назначения экспертизы устных и письменных текстов… необходимо тщательно проверить… наличие свидетельств на право производства экспертизы…» ( там же, с. 235—236). Но даже если не проверять наличие таких свидетельств, следователю или суду придется проверять квалификацию экспертов, стаж работы по специальности, наличие научных публикаций или разработок в данной области науки и техники, ученых степеней и званий, наличие у экспертов специальных познаний, навыков и умений и экспертного инструментария для решения конкретной экспертной задачи… Любопытно, представляет ли автор этих рекомендаций течение реального уголовного процесса? И кто из участников процесса имеет достаточную профессиональную квалификацию, чтобы судить обо всех этих вещах? Кстати, Федеральный закон «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» (2001, с. 13) не предъявляет к государственным экспертам никаких подобных требований.
В указанном сборнике собраны многочисленные экспертные заключения, относимые составителями сборника к лингвистическим. Подавляющее большинство их связано с оскорблением или клеветой, в частности с употреблением обсценной лексики и фразеологии. Наряду с этим приводится лингвистическая часть комплексного экспертного заключения по обвинению группы ораторов на митингах в Москве и Самаре на предмет наличия в их речах публичных призывов к насильственному изменению конституционного строя РФ и возбуждения национальной и расовой вражды и заключение по «Газете вопросов» (унижение национального достоинства). В целом четко обозначить границу между лингвистической и психолингвистической экспертизой затруднительно: авторы сборника вообще склонны отождествлять эти два вида экспертизы.
1.5. Распространение информации
Выше мы упоминали о том, что типичная ситуация психолингвистической экспертизы типа «д» – это экспертиза текстов СМИ. Однако они составляют лишь часть всего корпуса текстов, в отношении которых возможна психолингвистическая экспертиза этого типа.
Понятие «сведения» в текстах права синонимично понятию «информация». Иными словами, сюда входят переписка, телефонные переговоры, почтовые и телеграфные сообщения, сообщения, переданные по факсу, телексу, радио, через космическую связь, с использованием других каналов связи. И, естественно, в объем сведений или информации входит также тиражирование текстов в средствах массовой информации, как печатных, так и электронных. Наконец, сюда же относится расклеивание плакатов и листовок, публичные устные заявления и т. п.
Информация может быть разглашена, то есть передана не только тому лицу (лицам), которым она предназначена и которые имеют право (а иногда и обязанность) с ней знакомиться. Так, работники телеграфа несут ответственность, если они ознакомили посторонних лиц с частной телеграммой. С другой стороны, наказуемо разглашение государственной тайны.
Информация может быть произведена (это не требует комментария – речь идет о составлении текстов, например газетных статей) и может быть распространена. Наиболее обычным видом распространения сведений (информации) являются СМИ. См. в Федеральном законе «Об участии в международном информационном обмене» такое определение массовой информации: «предназначенные для неограниченного круга лиц печатные, аудиосообщения, аудиовизуальные и иные сообщения и материалы». Само распространение толкуется законодателем как опубликование сведений в печати, трансляция по радио– и телепрограммам, демонстрация в хроникальных программах и других средствах массовой информации, изложение в служебных характеристиках, публичных выступлениях, заявлениях, адресованных юридическим лицам, или сообщениях в иной, в том числе устной, форме нескольким или хотя бы одному лицу (кроме того лица, которого данные сведения касаются, если дело происходило без свидетелей) (см. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18 августа 1992 г. №11 «О некоторых вопросах, возникших при рассмотрении судами дел о защите чести и достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и юридических лиц» в редакции от 21 декабря 1993 г. и с изменениями от 25 апреля 1995 г.).
2. Психологическое содержание понятий разжигания социальной, расовой, национальной и религиозной розни и пропаганды социального, расового, национального и языкового превосходства
Психолингвистическая экспертиза текстов СМИ на предмет наличия в них высказываний или мнений, подпадающих под содержание статей в российском законодательстве (прежде всего в УК РФ), связанных с разжиганием в обществе той или иной розни и пропагандой превосходства той или иной социальной группы, требует более четкой, чем это делает законодатель, квалификации соответствующих обвинений и раскрытия психологического содержания рассматриваемых понятий.
Рассмотрим сначала содержание интересующих нас статей в законодательстве РФ.
2.1. Законодательная база
В Конституции РФ содержатся три статьи, трактующие этот вопрос.
В ст. 13, п. 5, «запрещается создание и деятельность общественных организаций, цели и действия которых направлены на… разжигание социальной, расовой, национальной и религиозной розни».
В ст. 19, п. 2, «запрещаются любые формы ограничения прав граждан по признакам социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности».
Наконец, в ст. 29, п. 2, «не допускаются пропаганда или агитация, возбуждающие социальную, расовую, национальную или религиозную ненависть или вражду. Запрещается пропаганда социального, расового, национального или языкового превосходства».
Наиболее подробно раскрыто содержание такой пропаганды или агитации в ст. 282 Уголовного Кодекса РФ, носящей название «Возбуждение национальной, расовой или религиозной вражды». Вот эта статья целиком:
«1. Действия, направленные на возбуждение национальной, расовой или религиозной вражды, унижение национального достоинства, а равно пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности граждан по признаку их отношения к религии, национальной или расовой принадлежности, если эти деяния совершены публично или с использованием средств массовой информации – наказываются штрафом в размере от пятисот до восьмисот минимальных размеров оплаты труда или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от пяти до восьми месяцев, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок от трех до пяти лет.
2. Те же деяния, совершенные: а) с применением насилия или с угрозой его применения; б) лицом с использованием своего служебного положения; в) организованной группой – наказываются лишением свободы на срок от трех до пяти лет».
Кроме того, УК РФ содержит три статьи (в редакции Федерального Закона от 25.07.2002 г. №112-ФЗ), посвященных экстремистской деятельности. В двух из них (ст. 280 «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности»; ст. 282.2 «Организация деятельности экстремистской организации») не содержится раскрытие понятия экстремистской деятельности. В ст. 282.1 «Организация экстремистского сообщества», п. 1, говорится: «Создание экстремистского сообщества, то есть организованной группы лиц для подготовки или совершения по мотивам идеологической, политической, расовой, национальной или религиозной ненависти либо вражды в отношении какой-либо социальной группы преступлений, предусмотренных статьями 148, 149, частями первой и второй статьи 213, статьями 214, 243, 244, 280, 282 настоящего Кодекса (преступления экстремистской направленности), а равно руководство таким экстремистским сообществом, его частью или входящими в такое сообщество структурными подразделениями, а также создание объединения организаторов, руководителей или иных представителей частей или структурных подразделений такого сообщества в целях разработки планов и (или) условий для совершения преступлений экстремистской направленности…». Пункт 2 этой статьи трактует «участие в экстремистском сообществе», а п. 3 – «Деяния, предусмотренные частями первой и второй настоящей статьи, совершенные лицом с использованием своего служебного положения».
Под преступлениями экстремистской направленности в данной статье понимаются: воспрепятствование осуществлению права на свободу совести и вероисповеданий; воспрепятствование проведению собрания, митинга, демонстрации, шествия, пикетирования или участие в них; хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся применением насилия к гражданам либо угрозой его применения, а равно уничтожением или повреждением чужого имущества; вандализм, то есть осквернение зданий или иных сооружений, порча имущества на общественном транспорте или в иных общественных местах; уничтожение или повреждение памятников истории и культуры; надругательство над телами умерших и местами их захоронения; публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности; возбуждение национальной, расовой или религиозной вражды.
Как ни странно, но в данной статье к преступлениям экстремистской направленности не отнесена «Организация объединения, посягающего на личность и права граждан» (ст. 239 УК РФ), что есть, безусловно, просчет законодателя.
Закон «О средствах массовой информации» (с учетом поправок) в ст. 4 («Недопустимость злоупотребления свободой массовой информации») говорит: «Не допускается использование средств массовой информации… для… разжигания национальной, классовой, социальной, религиозной нетерпимости или розни, для пропаганды войны». В ст. 51 этого закона говорится также: «Запрещается использовать право журналиста на распространение информации с целью опорочить гражданина или отдельные категории граждан исключительно по признакам пола, возраста, расовой или национальной принадлежности, языка, отношения к религии, профессии, места жительства или работы, а также в связи с их политическими убеждениями».
Федеральный закон «О свободе совести и о религиозных объединениях» в ст. 3 («Право на свободу совести и свободу вероисповедания») говорит (п. 6): «Воспрепятствование осуществлению права на свободу совести и свободу вероисповедания, в том числе сопряженное с насилием над личностью, с умышленным оскорблением чувств граждан в связи с их отношением к религии, с пропагандой религиозного превосходства, с уничтожением или с повреждением имущества либо с угрозой совершения таких действий, запрещается и преследуется в соответствии с федеральным законом. Проведение публичных мероприятий, размещение текстов и изображений, оскорбляющих религиозные чувства граждан, вблизи объектов религиозного почитания запрещаются».
В этой статье вызывает удивление запрет на проведение публичных мероприятий и размещение оскорбительных текстов и изображений только «вблизи объектов религиозного почитания». Значит ли это, что запрещен, скажем, антиисламский митинг в непосредственной близости от мечети или мусульманского кладбища, но такой митинг разрешен в любом другом месте?
Федеральный закон «Об общественных объединениях» дважды упоминает интересующую нас тематику. Во-первых, в ст. 16 («Ограничения на создание и деятельность общественных объединений») констатируется: «Запрещаются создание и деятельность общественных объединений, цели и действия которых направлены на… разжигание социальной, расовой, национальной и религиозной розни». Во-вторых, среди оснований для отказа в государственной регистрации общественных объединений (ст. 23) значится следующее: «если название общественного объединения оскорбляет нравственность, национальные и религиозные чувства граждан».
В законодательстве РФ не предусмотрены некоторые понятия, содержавшиеся в законодательстве РСФСР. Это, во-первых, понятие «нарушения национального и расового равноправия» в одноименной статье 74 УК РСФСР. Там это понятие раскрывается следующим образом: «Умышленные действия, направленные на возбуждение национальной или расовой вражды или розни, на унижение национальной чести и достоинства, а равно прямое или косвенное ограничение прав или установление прямых или косвенных преимуществ граждан в зависимости от их национальной принадлежности». Во-вторых, это понятие «национальной чести и достоинства» в той же статье (в УК РФ есть только понятие «унижения национального достоинства» (ст. 282).
В ряде приведенных цитат из российского законодательства вводится понятие «публичности». В УК и ГК РФ неоднократно упоминается слово «публичный» (например, в ст. 129 УК РФ: «Клевета, содержащаяся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении или средствах массовой информации…»). Между тем четкого определения «публичности» законодатель не дает.
Одним из вариантов такого определения может быть следующий.
Публичными считаются призывы, заявления и т. д., высказанные в устной форме при выступлении на митингах, манифестациях и других специально организованных или стихийно возникших мероприятиях; высказанные при выступлениях по радио и телевидению; специально заготовленные в виде плакатов, транспарантов, листовок и пр. и выставленные для свободного обозрения в местах массового скопления людей; опубликованные в печатной форме в прессе, в виде книги или ее части, в виде плаката или листовки; распространяемые в Интернете (сайты и пр.).
Под распространением информации мы предлагаем понимать продажу или бесплатную раздачу или рассылку книг, газет, листовок и других печатных (или размноженных иным способом) материалов, расклеивание плакатов и листовок в общедоступных местах (например, в вагонах метрополитена), выступления или трансляции по радио или ТВ, выступления на собраниях, митингах, манифестациях, выставление плакатов, лозунгов, транспарантов на собраниях, митингах, манифестациях, а также в любых местах массового скопления людей, обнародование в Интернете.
2.2. Анализ правовых текстов
В цитированных выше текстах законодательства РФ употребляются следующие основные понятия, выраженные в терминах или терминологических словосочетаниях:
Ограничение прав граждан по признакам (социальной и т. д.) принадлежности.
Возбуждение (социальной и т. д.) ненависти и вражды.
Унижение национального достоинства.
Пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности граждан по тому или иному признаку.
Разжигание национальной и т. д. нетерпимости или розни.
Опорочение гражданина или отдельных категорий граждан исключительно по признакам расовой и т. д. принадлежности.
Умышленное оскорбление чувств граждан в связи с их отношением к религии (вариант: оскорбление национальных и религиозных чувств граждан).
Все эти понятия делятся на две группы: а) объективные и б) субъективные.
Объективные понятия – это:
– ограничение гражданских прав,
– пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности граждан,
– опорочение гражданина или отдельных категорий граждан исключительно по признакам их принадлежности к той или иной социальной группе.
Субъективные понятия:
– возбуждение или разжигание нетерпимости, вражды, розни,
– оскорбление чувств граждан и их достоинства.
В отличие от объективных, эти понятия носят психологический характер; для того, чтобы они «работали» в правовом поле, они нуждаются в дальнейшей операционализации. Нам уже приходилось отмечать, что, например, хотя умаление достоинства достаточно четко понимается в текстах права (и вообще юридической литературе) как такое воздействие на общественное мнение, которое противоречит достоинству личности как ее неотъемлемому праву независимо от общественного мнения о ней или от ее самосознания, но рациональных критериев умаления достоинства не существует (см.: Понятия чести…, 1997, с. 43).
Достоинство есть в самом общем смысле ощущение человеком своей ценности как человека вообще, конкретной личности, члена той или иной социальной (профессиональной, этнической, конфессиональной и т. д.) группы. Отсюда понятия личного, профессионального, национального достоинства. Конституция РФ в ст. 21 говорит: «Достоинство человека охраняется государством. Ничто не может быть основанием для его умаления». Достоинство, как и честь, включается законодателем в число нематериальных прав личности.
Таким образом, понятие достоинства включает в себя сознание человеком своей абстрактной и конкретно-социальной ценности, а также ценности (значимости) социальных групп, в которые он входит (другой вопрос, на какой основе формируются эти группы: чаще всего они являются профессиональными, национальными или конфессиональными). Оно по определению может быть только со знаком «плюс»: есть ли у данного лица те или иные положительные качества и что по поводу данного лица считает общественное мнение, здесь несущественно.
Что такое «опорочить гражданина или отдельные категории граждан»? По-видимому, это означает – распространить о нем (о них) порочащие сведения. Однако само понятие порочащих сведений в текстах права далеко от четкости, а тем более операциональности. Они определены только в подзаконном акте, а именно в постановлении Пленума Верховного Суда от 18.02.1992: «порочащими являются… не соответствующие действительности сведения, содержащие утверждения о нарушении гражданином или юридическим лицом действующего законодательства или моральных принципов… которые умаляют честь и достоинство гражданина либо деловую репутацию гражданина или юридического лица». Очевидно, либо понятие «опорочить» не связано непосредственно с понятием «порочащих сведений», либо последние трактуются в постановлении недопустимо зауженно. Постановление связывает понятие порочащих сведений с тем, что гражданин (та или иная категория граждан) якобы нарушает общепринятые моральные принципы или даже действующее законодательство; следовательно, опорочить гражданина или категорию граждан означает, видимо, обвинить его (или их) в том, что он (они) нарушают моральные принципы уже потому, что относятся к определенной категории граждан (социальной группе). Например, чеченцы обвиняются в том, что они нарушают законодательство и моральные принципы, потому, что они чеченцы.
В правовом отношении чрезвычайно расплывчатым остается понятие «умышленного оскорбления чувств граждан». Здесь, во-первых, неясно, направлен ли умысел именно на оскорбление чувств или имеет место умышленное деяние, побочным результатом которого является оскорбление чувств граждан. Если умысел направлен именно на оскорбление, то остается открытым вопрос о мотивах такого деяния. Как известно, российское уголовное право предусматривает два вида умысла – прямой и косвенный (ст. 25 УК РФ). «Преступление признается совершенным с прямым умыслом, если лицо осознавало общественную опасность своих действий (бездействия), предвидело возможность или неизбежность наступления общественно опасных последствий и желало их наступления… Преступление признается совершенным с косвенным умыслом, если лицо осознавало общественную опасность своих действий (бездействия), предвидело возможность наступления общественно опасных последствий, не желало, но сознательно допускало эти последствия либо относилось к ним безразлично». Неясно, идет ли в нашем случае речь о прямом или косвенном умысле.
Во-вторых, неясно, насколько правомерно говорить именно об оскорблении, а не о возможности оскорбления (аналогичная проблема возникает в праве в связи с причинением морального вреда и физических или нравственных страданий – ст. 151 ГК РФ). См.: «Все эти нравственные страдания и нравственные переживания неуловимы, доказать следственным или судебным путем наступление морального вреда, кроме отдельных случаев, невозможно… Поэтому единственный правовой выход – говорить не о наступившем, а о возможном моральном вреде. Соответственно, и компенсация морального вреда должна производиться по логике возможного, а не наступившего вреда. Скажем, невозможно установить, действительно ли потерпевший испытывал унижение, раздражение или отчаяние в результате незаконного увольнения с работы, а если мы знаем, что он был раздражен, – то было ли это вызвано именно увольнением. Но сам факт незаконного увольнения уже дает основания для вчинения иска о компенсации морального вреда. Другой вопрос, что такая компенсация предполагает установление причинно-следственной связи между увольнением и "физическими и нравственными страданиями"» (Понятия чести…, 1997, с. 16—17).
Наконец, в-третьих, в праве отсутствует определение самого понятия «чувств граждан» (например, религиозных).
В УК РФ (ст. 282—1 об экстремистских сообществах) вводится новое для российского уголовного законодательства понятие мотива. Там говорится о создании организованной группы лиц для совершения определенной группы преступлений (см. выше) по мотивам идеологической, политической, расовой, национальной или религиозной ненависти либо вражды, а равно по мотивам ненависти либо вражды в отношении какой-либо социальной группы. Таким образом, для обвинения по данной статье необходимо установить наличие у подследственных (обвиняемых) описанных здесь мотивов. Трудно представить себе, как это можно сделать в рамках уголовного процесса (следствия или суда), если даже умышленность деяния крайне трудно доказуема. Вообще есть острая необходимость в подготовке специального психологического комментария к текстам УК РФ и УПК РФ или, как это было сделано Генпрокуратурой в 1995 г., методических указаний по применению этих кодексов .
Наконец, имеется нечеткость в понятиях «пропаганды», «призывов к» той или иной противоправной деятельности и «действий, направленных на» тот или иной противоправный результат (например, возбуждение ненависти).
В связи со всем сказанным выше возникает необходимость в психологической расшифровке всех или по крайней мере основных приведенных выше понятий. Эта расшифровка частично дается ниже. Отдельный раздел будет посвящен анализу понятий «чувства граждан» (религиозные, национальные и т. п.), «призывы к определенной деятельности» (например, публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности) и «действия, направленные на достижение определенного результата» (например, на разжигание социальной, расовой, национальной и религиозной розни), а также понятия «мотив», «убеждение», «социальная установка» и нек. др. применительно к анализируемой нами проблеме. Наконец, будет дано раскрытие различных видов возбуждения национальной вражды на конкретном материале судебных экспертиз или публикаций в прессе последних лет, не ставших предметом подобной экспертизы.
2.3. Понятие пропаганды
Это понятие заимствовано российским правом из правовых и специальных (профессиональных) текстов советского периода. См. в УК РСФСР термины «пропаганда войны» (ст. 71), «произведения, пропагандирующие культ насилия и жестокости» (ст. 228—1) и др. В специальных текстах понятие пропаганды понималось двояко. Во-первых, как объединяющее понятие для различных видов идеологического воздействия, включающее, кроме собственно пропаганды, также агитацию и политическую информацию: см. определение коммунистической пропаганды В.Г. Байковой как «совокупного пропагандистского воздействия» ( Байкова , 1974, с. 9). Во-вторых, как один из видов такого воздействия. Это второе понимание восходит к известной формуле В.И. Ленина о газете как коллективном пропагандисте, коллективном агитаторе и коллективном организаторе.
В первом, обобщенном понимании под пропагандой имеется в виду процесс превращения идеологии в систему ценностей, убеждений и социальных установок конкретной личности ( Леонтьев А.А. , 1983, с. 17—18).
Сразу же зафиксируем, что в анализируемых нами правовых текстах термин «пропаганда» используется исключительно в первом (обобщающем) смысле. Так, говорится о «пропаганде социального, расового, национального и языкового превосходства» (Конституция РФ), «пропаганде исключительности, превосходства либо неполноценности граждан по признаку их отношения к религии, национальной и расовой принадлежности» (УК РФ), «пропаганде войны» (Закон «О средствах массовой информации»), «пропаганде религиозного превосходства» (Федеральный закон «О свободе совести и о религиозных объединениях»). Во всех этих случаях имеется в виду не только пропаганда в узком смысле, но и агитация.
2.4. Психологическое содержание возбуждения социальной, национальной, расовой или религиозной вражды
Возбуждение социальной, национальной, расовой или религиозной вражды есть умышленное и целенаправленное действие (как правило, речевое), целью которого является:
а) создание или подкрепление отрицательной эмоциональной оценки или отрицательной смысловой установки в отношении той или иной социальной, этнической (национальной), расовой (антропологической) или религиозной (конфессиональной) группы или отдельных лиц как членов такой группы;
б) формирование негативной оценки или негативной установки в отношении других лиц, групп, организаций или их отдельных действий путем связывания их с социальной, этнической, расовой или конфессиональной группой, в отношении которой у адресатов существовала ранее или создана в результате действий данного лица (организованной группы лиц) негативная оценка или негативная смысловая установка;
в) формирование у адресатов убеждения в изначальной неравноценности лиц, принадлежащих к той или иной социальной, этнической, расовой или конфессиональной группе, с представителями других групп (прежде всего группы, к которой принадлежит адресат) в интеллектуальном, морально-нравственном или другом отношении;
г) формирование представления об изначальном интеллектуальном, морально-нравственном или ином превосходстве адресата как члена социальной, этнической, расовой, конфессиональной группы или группы в целом, к которой он принадлежит, перед другими лицами или группами (проповедь национальной, расовой, религиозной исключительности);
д) призывы к непосредственным действиям в отношении лиц иного социального положения, иной национальности, расы или конфессии, направленным на угрозу их жизни, здоровью, материальному благосостоянию, носящим оскорбительный или унизительный характер и обоснованным (мотивируемым) принадлежностью этих лиц к данной социальной группе, национальности, расе или конфессии;
е) умышленное распространение ложных сведений, касающихся истории, культуры, обычаев и других особенностей, присущих данной этнической, расовой, конфессиональной группе, с целью формирования или поддержания у адресата негативной оценки или смысловой установки в отношении лиц, принадлежащих к этой группе, или группы в целом;
ж) умышленное оскорбление данного лица или в его присутствии других лиц, принадлежащих к той же социальной, этнической, расовой или конфессиональной группе, исключительно либо преимущественно на основании его или их принадлежности к данной группе;
з) умышленное распространение односторонней информации о социальных, межэтнических, межрасовых или межконфессиональных конфликтах, их причинах и протекании, связанное с выпячиванием негативной информации о действиях или высказываниях одной из конфликтующих сторон и замалчиванием негативной информации о действиях или высказываниях другой стороны;
и) умышленное распространение заведомо ложных позорящих измышлений в отношении лиц, фактов, идей, событий, документов, входящих в число общенациональных или религиозных ценностей данной этнической или конфессиональной группы;
к) умышленное распространение заведомо ложной информации о принадлежности той или иной этнической или конфессиональной группы к иной группе, в отношении которой у адресата уже была ранее сформирована или формируется в результате действий или высказываний данного лица (организованной группы) негативная оценка или негативная смысловая установка. Так, например, определенные конфессии неправомерно причисляются к числу «тоталитарных сект», ассоциируемых обычно с организациями типа «Аум Синрикё».
2.5. Понятия «чувства граждан» и «оскорбление чувств»
Под чувствами человека в современной психологии обычно понимаются «устойчивые эмоциональные отношения человека к явлениям действительности, отражающие значение этих явлений в связи с его потребностями и мотивами» (Психологический словарь, 1996, с. 418). Такие отношения носят ярко выраженный предметный характер (в отличие от аффектов и эмоций). Сформировавшиеся чувства «становятся образованиями эмоциональной сферы человека, определяющими динамику и содержание ситуативных эмоциональных реакций… В процессе формирования личности чувства организуются в иерархическую систему, в которой одни из них занимают ведущее положение, соответствующее актуально действующим мотивам, другие же остаются потенциальными, нереализованными. В содержании доминирующих чувств человека проявляются его мировоззренческие установки, направленность, то есть важнейшие характеристики его личности» ( там же , с. 419). При этом «предметами чувств становятся прежде всего те явления и условия, от которых зависит развитие событий, значимых для личности и поэтому воспринимаемых эмоционально» (Краткий психологический словарь, 1985, с. 392).
Уже из этих определений можно заключить, что такие явления, как «национальные чувства» или «религиозные чувства», связаны с особенностями личности. Они возникают, когда соответствующая сфера действительности и отношение к ней (этническое самоопределение человека, религиозное самоопределение и т. д.) значимы для личности. Иными словами, далеко не всякий член данного этноса по определению располагает «национальными чувствами», которые можно «оскорбить». Если же национальное и религиозное самоопределение для данной личности незначимо и соответствующая сфера не воспринимается ею эмоционально, нельзя говорить в таком случае и о соответствующих (национальных либо религиозных) чувствах.
Таким образом, проблема национальных (или религиозных, что принципиально безразлично) чувств упирается в психологическую проблему аффективного компонента этнической (конфессиональной) идентичности ( Стефаненко , 1998, с. 95) или в проблему переживания человеком своей принадлежности к данной этнической или конфессиональной группе ( Солдатова , 1998, с. 50—51). Отсюда оскорбление национальных (религиозных) чувств – это механизм создания межэтнической напряженности путем эмоционально-аффективного воздействия на этническую самоидентификацию данного субъекта, предполагающего естественный процесс психологической защиты со стороны последнего.
2.6. Понятия «разжигания» и «возбуждения» нетерпимости и розни
Разжигание или возбуждение нетерпимости, розни и вообще (негативно оцениваемых) социальных чувств человека столь же тесно, как понятие национальных чувств, связано с проблемой этнической (или конфессиональной) идентичности (точнее, самоидентификации). Как пишет Г.У. Солдатова, «этническая идентичность выступает психологической основой этнополитической мобилизации, которую мы рассматриваем как готовность людей, объединенных по этническому признаку, к групповым действиям по реализации национальных интересов» ( Солдатова , 1998, c. 51). В сущности, то, что законодатель называет разжиганием либо возбуждением национальной (религиозной) розни, и есть механизм сознательной стимуляции перехода от этнической самоидентификации к этнополитической мобилизации, от того или иного самоощущения через психологическую защиту к совместным действиям, в свою очередь потенциально создающим ситуацию межэтнического (межконфессионального) конфликта. Как известно, именно у «малых» народов Российской Федерации заметен процесс все большей «этнизации» в структуре групповой самоидентификации. Так, по данным, собранным Г.У. Солдатовой в 1994 г., респонденты – осетины, татары, тувинцы, якуты ставили этническую идентификацию на первое место.
С другой стороны, как известно, существуют различные виды этнической самоидентификации. По Г.У. Солдатовой, это «норма», или позитивная этническая идентичность, и отклонения от нее – этническая индифферентность, гипо-идентичность (этнонигилизм) и гиперидентичность (этно-эгоизм, этноизоляционизм и национальный фанатизм) ( там же , с. 104). Ю.В. Арутюнян с соавторами ( Арутюнян, Дробижева, Сусоколов, 1998, с. 177—179) выделяют позитивную этническую идентичность, этноцентричную идентичность, этнодоминирующую идентичность, этнический фанатизм, этническую индифферентность и этнонигилизм в форме космополитизма.
Остановимся на расшифровке в книге Арутюняна и др. различных видов гиперидентичности.
Этноцентричная идентичность. «При такой идентичности присутствуют элементы направленного (на ту или иную культуру или вид контактов), но не агрессивного этноизоляционизма, замкнутости… В эмоциональной сфере… присутствуют элементы страха, беспокойства, напряженности. В когнитивной сфере разделяются лозунги типа: "Все для нации, и ничего против нации"».
Этнодоминирующая идентичность. « …Не только этническая идентичность становится первостепенной среди других видов идентичности… но и достижение целей, интересов народа (возможно, и ложно понимаемых) начинает восприниматься как безусловно доминирующая ценность… Такая идентичность обычно сопровождается признанием “прав народа” выше “прав человека”, представлениями о превосходстве своего народа… дискриминационными установками в отношении других этнических групп, признанием правомерности “этнических чисток”…».
Этнический фанатизм. «Идентичность, при которой абсолютное доминирование этнических интересов и целей, часто иррационально понимаемых, сопровождается готовностью идти во имя них на любые жертвы и действия, вплоть до использования терроризма».
В свете приведенных выше определений возбуждение (разжигание) национальной (то же можно успешно проецировать и на религиозную) розни следует интерпретировать как сознательные и целенаправленные действия по переходу аудитории от позитивной этнической идентичности к этноцентрической идентичности и далее к этнодоминирующей идентичности, а возбуждение (разжигание) национальной и т. д. ненависти и вражды – от этих форм идентификации к этническому фанатизму. Обратим внимание, что основные формулировки Конституции РФ и УК РФ относятся именно к этому последнему случаю – возбуждению вражды или ненависти.
2.7. Понятия «призывов к определенной деятельности» и «действий, направленных на достижение определенного результата»
В проанализированных нами текстах права речь идет конкретно о действиях или деятельности общественных объединений, направленных на разжигание национальной и др. розни или вражды, а также о «публичных призывах к экстремистской деятельности». Эти формулировки требуют лишь небольшого комментария.
Во-первых, совершенно очевидно, что законодатель имеет в виду сознательную деятельность, деятельность с определенным умыслом. При этом в федеральном законе «Об общественных объединениях» разделены цели и действия общественных объединений. Насколько можно судить, в первом случае имеются в виду заявленные цели данного объединения, во втором – реализация этих целей в тех или иных конкретных действиях.
Во-вторых, формулировка «направленных на» идентична выражению «имеющих целью».
В-третьих, понятие «призывов к (экстремистской) деятельности» предполагает обращение к мотивам такой деятельности, уже имеющимся у аудитории, или целенаправленное формирование у аудитории таких мотивов, и реализацию этих мотивов в тех или иных социальных действиях. Таким образом, за понятием «призыв» стоит совершенно четкая общепсихологическая и социально-психологическая реальность (см. также ниже).
2.8. Понятие «мотив»
В анализируемых текстах права это понятие встречается в сочетании «преступления, совершаемые по мотивам… расовой, национальной или религиозной ненависти либо вражды». Само понятие мотива (как психологическое) достаточно широко распространено и не требует раскрытия. Однако, для нас важно, что, «помимо функции побуждения и направления деятельности мотив выполняет также смыслообразующую функцию, сообщая определенный личностный смысл целям, структурным единицам деятельности (действиям, операциям), а также обстоятельствам, способствующим или препятствующим реализации мотива… Сам мотив, как правило, не осознается: он может проявляться в эмоциональной окраске тех или иных объектов или явлений, в форме отражения их личностного смысла» (Психологический словарь, 1996, с. 204). Субъективно мотив часто подменяется мотивировкой – «рациональным обоснованием поступка, не отражающим действительных побуждений человека» ( там же ). Это ставит участников процесса в крайне трудное положение: чтобы могла быть применена данная статья УК РФ, следователю или суду необходимо установить, что инкриминируемое деяние было совершено именно по мотивам национальной (религиозной и т. п.) ненависти или вражды, хотя сами подследственные (обвиняемые) вполне могут не сознавать этих действительных мотивов (или подменять их мотивировкой своих действий). В сущности, формулировка о мотивах в ст. 282.1 УК РФ представляется излишней – и без того эта статья трактует о создании организованной группы лиц для подготовки и совершения преступлений экстремистской направленности, каждое из которых уже предусмотрено УК. Скажем, хулиганство или вандализм наказуются УК независимо от их мотива; при этом хулиганство, совершенное организованной группой лиц, наказуется (ст. 213) лишением свободы на срок до пяти лет, а создание экстремистского сообщества для осуществления преступлений экстремистской направленности, включающих и хулиганство, – лишением свободы на срок от двух до четырех лет. Упоминание о мотивах ничего нового здесь не привносит.
3. Психолингвистика текста в СМИ
3.1. Вводные замечания
Прежде чем обратиться к характеристикам текстов СМИ, которые могут служить основанием для экспертных заключений о противоречии этих текстов требованиям законодательства РФ, и к методике выявления этих характеристик, необходимо проанализировать основные понятия, связанные с психолингвистическим пониманием текста вообще. Ниже делается попытка такого анализа, основанная на современных работах в области лингвистики текста, психолингвистики и лингвистической прагматики (теории речевых действий). Анализируются такие понятия, как факт, суждение или высказывание, верификация суждения или высказывания, виды суждений или высказываний, оценочные суждения, событие и структура события, формы выражения сведений (открытая вербальная, скрытая вербальная, пресуппозитивная или затекстовая, подтекстовая). В дальнейших разделах дается развитие этого представления под углом зрения существующих в настоящее время классов психолингвистических методик, пригодных для объективизации психолингвистической экспертизы текстов СМИ на предмет наличия в них противоправных высказываний на материале установления в них факта разжигания национальной, расовой и религиозной вражды, а также публичных призывов к развязыванию агрессивной войны (ст. 354 УК РФ) или к осуществлению экстремистской деятельности (ст. 280 УК РФ).
3.2. Факт и суждение (высказывание)
Независимо от каждого отдельного человека существует объективная реальность. Конечно, и сами люди со своими мыслями, чувствами, отношениями, действиями – тоже часть мира; поэтому не следует думать, что мир материален в вульгарном смысле, что он «вещен». Как говорил М.К. Мамардашвили, мы живем не в пространстве вещей, а в пространстве событий. Эти события отражаются в тех текстах, при помощи которых человек их описывает.
Текст состоит из отдельных суждений или, что то же, отдельных высказываний. Вообще у текста два основных измерения – это его связность и его цельность. Связность текста определяется на последовательности из 3–9 высказываний, образующих семантическое единство (в графическом тексте это обычно абзац). Цельность текста – категория психолингвистическая. Она определяется на целом тексте и лучше всего моделируется при помощи введенного Н.И. Жинкиным ( Жинкин , 1956) представления о тексте как иерархической системе предикатов (ср. также работы В.Д. Тункель, Т.М. Дридзе (особенно Дридзе , 1984), И.А.Зимней ( Зимняя , 1961, 1967 а ) и др.). Далее мы будем оперировать отдельным семантически завершенным высказыванием. Оно всегда что-то отражает или описывает: это «что-то» – события, ситуации, свойства предметов или лиц.
Обычно полагают, что существует некий объективный «факт», который и описывается суждением или высказыванием. На самом деле все обстоит сложнее. Человек начинает с того, что вычленяет в реальности (в пространстве событий) некоторый фрагмент. Этот фрагмент всегда рассматривается под определенным углом зрения, в определенном аспекте. Например, нас интересует политическая ситуация в Беларуси: ее можно рассматривать под углом зрения прав человека, с точки зрения перспектив объединения России и Беларуси, под углом зрения состояния белорусской экономики и реакции на это состояние среднего белоруса. Затем мы как бы «переводим» наше знание об этом фрагменте на обычный словесный язык, разворачивая его в совокупность словесных (вербальных) суждений или высказываний. Каждое из таких суждений может быть истинным (соответствовать действительности) или ложным (не соответствовать действительности). Чтобы установить это, мы должны проделать так называемую верификацию – соотнести содержание суждения с действительностью и убедиться, что данное суждение ложно (или, напротив, истинно).
Только после того, как мы осуществили верификацию суждения и оказалось, что оно истинно, оно превращается в факт. Таким образом, факт не существует в самой действительности: это результат нашего осмысления или переработки информации о действительности. Поэтому нельзя разводить «суждение» и «факт», как это иногда делается: факт – это истинное событие, а суждение – верифицированная истинная оценка (положительная или отрицательная) этого факта.
Факты не описательны. Они устраняют все частные характеристики события и сохраняют только самую его суть, его сердцевину. Недаром говорят о «голых» или «неприкрашенных» фактах. У этого свойства факта есть и оборотная сторона: он всегда выделяет в событии какую-то его часть, его определенные признаки. Событие: освобождение дипломатов-заложников, захваченных в Перу организацией «Сендеро луминосо». Факты могут быть представлены по-разному: Заложники освобождены. / При освобождении заложников никто из атаковавших не пострадал. / При освобождении заложников была допущена неоправданная жестокость в отношении рядовых боевиков, готовых сдаться. И т. д. Получается, что одно и то же событие выступает в форме различных фактов – в зависимости от того, что мы считаем главным, что трактуем как «суть» события, а что считаем частностью. Поэтому можно описывать, как развертываются события, но не как происходят факты. Факты вообще не «происходят», происходят события ( Арутюнова , 1988). [13]
3.3. Виды суждений (высказываний)
Суждение (высказывание) может быть по содержанию различным:
1. Бытийное (экзистенциальное ). Такое высказывание утверждает, что нечто существует (вообще или где-то или у кого-то). Например, суждение У политика Н. есть валютный счет в Швейцарии есть именно бытийное высказывание: мы фиксируем только одно – есть такой счет (и тогда высказывание истинно) или такого счета нет (и тогда оно ложно).
2. Классифицирующее суждение: Кандидат в губернаторы Н. – член КПРФ. Здесь мы фиксируем принадлежность кандидата к определенному множеству (классу).
3. Признаковое, или атрибутивное , высказывание: в нем кому-то или чему-то приписывается некий признак. Например: У А. нет высшего образования.
4. Пропозициональное (событийное) высказывание, где описывается взаимодействие двух или нескольких «героев» события: Политик Ж. ударил по лицу журналистку.
Одно и то же высказывание в разном контексте может иметь разное содержание. Если мы «набираем компромат» на политика Н., то приведенное высказывание встанет в ряд признаковых и само станет признаковым: Н. такой-то и такой-то, у него имеется валютный счет в Швейцарии, и вообще на нем негде ставить пробы. Так же и с политиком Ж.: Ж. призывал к тому-то и тому-то, вел себя там-то нагло и оскорбительно, ударил по лицу журналистку.
Итак, перед нами объективное событие или цепочка взаимосвязанных событий (в современной науке иногда употребляется термин «сценарий»). И высказывание и совокупность (цепочка) высказываний (суждений), описывающих это событие (события). Где здесь «факт»?
Факт – это содержание высказывания, но только после того, как мы провели его проверку на истинность – верификацию – и получили положительный ответ.
Как именно эта проверка осуществляется? Это зависит от множества причин.
1. Самый прямой способ верификации – непосредственно сопоставить высказывание с реальными событиями. Но это чаще всего невозможно (событие уже завершилось и не зафиксировано). В СМИ так происходит особенно часто: только сам автор высказывания, журналист, присутствовал при событии или участвовал в нем. Поэтому чаще применяется второй способ.
2. Второй способ – сопоставление высказывания с другими высказываниями, принадлежащими другим участникам, наблюдателям или толкователям события, которых мы считаем объективными или (и) компетентными.
3. Третий способ – доказательство, заключающееся в приведении дополнительных данных, свидетельствующих об истинности высказывания. Такова, например, проверка его истинности по архивам.
4. Четвертый способ – сопоставление информации из нескольких независимых и не связанных друг с другом источников. Это, например, принцип работы разведки: сведения считаются фактом, если они идентичны в сообщениях разных источников.
Здесь, однако, могут возникать сложности (см. об этом также ниже). Например, в качестве «компетентного свидетеля» или «компетентного эксперта» выставляется человек, который на самом деле такой компетентностью не обладает. Или сознательно «подбрасывается» псевдодоказательство (сфабрикованные гитлеровскими специалистами «документы», подтверждающие «факт» государственной измены маршала Тухачевского и якобы случайно попавшие к президенту Чехословакии Бенешу).
Но главное, что сама верификация суждения (высказывания) не всегда возможна. Иногда она невозможна объективно. Например, в СМИ появляется сообщение, что Н. был платным осведомителем КГБ. Соотнести это утверждение с реальными событиями нельзя. «Компетентные свидетели» или «компетентные эксперты» либо отсутствуют, либо по понятным причинам молчат. Архивы же – в этой своей части – продолжают оставаться закрытыми. Поэтому невозможно ни убедиться, что данное утверждение соответствует истине, ни убедиться в его ложности.
Но иногда это невозможно не по объективным, а по другим причинам. Например, в одной из книг В.В. Жириновского есть такое утверждение: Выход к Индийскому океану – это миротворческая миссия России. Проверить (верифицировать) его нельзя по целому ряду причин. Главная из них – это крайний субъективизм буквально каждого слова. «Выход к Индийскому океану» – это на самом деле не церемониальный марш, завершающийся мытьем сапог, а вооруженная агрессия, способная спровоцировать мировую войну. Автор же высказывания камуфлирует его содержание абстрактными оценками и метафорами ( это окно на юго-восток…, это даст ток свежего воздуха…). «Миротворческая миссия России» – тоже пустые слова. Что такое миссия? Есть ли она у России? Если есть, что такое «миротворческая миссия»? Одним словом, практически невозможно ни утверждать, что приведенное высказывание ложно, ни утверждать, что оно истинно. Оно просто субъективно настолько, что становится в принципе непроверяемым.
Если в результате верификации оказалось, что содержание высказывания соответствует действительности, его, это содержание, можно считать достоверным фактом. Если оказалось, что оно не соответствует действительности, то это вообще не факт. Если в силу объективных причин верифицировать высказывание оказалось невозможным, то мы имеем дело с недостоверным фактом, или непроверенным утверждением.
Если же его нельзя верифицировать в силу субъективных причин – субъективно-оценочного характера, эмоциональности, сознательной неясности истинного смысла высказывания, – мы имеем дело с оценочным суждением, или оценочным высказыванием.
У события есть только одно, так сказать, абсолютное свойство: то, что оно произошло или, напротив, не произошло. Б.Н.Ельцин выиграл президентские выборы 1996 г. – это событие (фрагмент действительности). А суждений об этом событии может быть бесконечно много. Например, Ельцин выиграл благодаря поддержке электората А.И. Лебедя. Это утверждение проверяемо и, видимо, является истинным (то есть достоверным фактом). А вот другое высказывание: Выигрыш Ельцина – благо для России. Вполне возможно, что это так. Но в условиях реального времени мы, во-первых, не можем это высказывание верифицировать – только будущий историк, может быть, будет располагать средствами для проверки подобного утверждения. А во-вторых, здесь, собственно, нечего верифицировать: это высказывание не укладывается в схему «произошло – не произошло». Оно вносит фактор «хорошо – плохо». А следовательно, это типичное оценочное высказывание.
Таким образом, перед нами некоторое событие. Оно либо произошло, либо не произошло. Это обычно не требует дополнительного исследования или доказательства. Но возможны и исключения, когда сам факт наступления события ставится под сомнение. Так, по состоянию на 28 ноября 2000 г. победителем президентских выборов в США был объявлен Джордж Буш. Однако команда Гора долго продолжала утверждать, что это событие (выигрыш Буша) не имело места. Но такие случаи редки.
По поводу происшедшего события могут быть высказаны различные суждения. Часть из них может быть верифицирована тем или иным способом. Те из них, которые при верификации не подтвердились, являются ложными (то есть их содержание не является фактом вообще). Те, которые подтвердились, являются истинными (их содержание есть достоверный факт). Другая часть суждений о событии объективно не может быть верифицирована в данный момент при нынешнем объеме и характере доступной нам информации, но если со временем появятся новые факты (ранее неизвестный нам свидетель, вновь открывшийся архив и т. п.), такая верификация в принципе могла бы быть произведена. Содержание этих суждений является недостоверным фактом. Наконец, третья часть суждений непроверяема по своей природе – это оценочные суждения или высказывания.
Что оценивают эти оценочные суждения и какими они бывают?
Оценочные суждения могут быть классифицированы по разным основаниям:
1. По характеру оценки. Она может быть «эпистемической», то есть связанной с оценкой достоверности суждения. Здесь возможны следующие виды оценок:
а) «абсолютное» утверждение: Петр уехал.
б) «абсолютное» отрицание: Петр не уехал. В обоих случаях оценки как таковой нет, она нулевая.
в) относительное утверждение: Петр, по-видимому, уехал.
г) относительное отрицание: Петр, по-видимому, не уехал.
д) эмфатическое утверждение (подтверждение утверждения): Петр действительно уехал (хотя существуют противоположные мнения).
е) эмфатическое отрицание (подтверждение отрицания): Петр не уехал-таки! ( Ивин, 1970).
Таким образом, здесь действуют два параметра: утверждение–отрицание и степень нашей уверенности (абсолютное – относительное – эмфатическое).
Оценка может быть также аксиологической, или ценностной. Так, высказывания могут различаться по параметру реальности или ирреальности описываемого события. С ним соотнесены еще два фактора описания: это положительность (отрицательность) оценки и значимость (незначимость) события. Реальная оценка: Петр уехал! (то есть хорошо или плохо, что это произошло). Ирреальная оценка: Уехал бы Петр! Или: Пусть Петр уезжает (он не уехал, но было бы хорошо, если бы он это сделал). С другой стороны, возможны противопоставленные друг другу варианты: Слава Богу, Петр уехал. К сожалению, Петр уехал. Наконец, могут быть высказывания с подчеркиванием значимости или важности события: Обратите внимание, что Петр уехал.
Оценка, далее, может быть субъективной или объективной. Петр, по-видимому, уехал – Петр, говорят, уехал – (Иван сказал, что) Петр уехал. Все это оценки объективные, данные кем-то помимо меня. Петр, по-моему, уехал – Кажется, Петр уехал – это оценки субъективные, отражающие мое личное мнение об отъезде Петра, а не изложение чужих мнений по этому вопросу.
Характер оценки может меняться и в зависимости от характера эмоции, выраженной в высказывании. Страшно подумать, что… Какой стыд, что… Какое счастье, что… Радостно слышать, что… В то же время эмоция имеет свою степень, что связано со значимостью высказывания (чем более глубоко переживание, тем более значимо высказывание). Радостно, что… – Какое счастье, что…
2. По тому, что именно оценивают оценочные суждения – событие или факт.
Пример оценочного суждения первого типа: Иван – дурак. Следует заметить, что суждения такого рода тоже описывают события: ведь то, что Иван – дурак, следует из его поступков, действий, известных нам. Это эквивалент утверждения, что Иван ведет себя по-дурацки.
Примеры оценочного суждения второго типа см. выше ( К сожалению, Петр уехал и т. д.).
В этих двух случаях оценочные суждения выражаются различными языковыми средствами. В первом случае это наречие, предикатив, слово категории состояния, краткое прилагательное. Во втором случае – сложноподчиненное предложение ( Жаль, что…) или конструкция с вводным словом ( К сожалению….).
Оценки событий и фактов могут быть независимы друг от друга. Одинаково возможны и Иван, слава Богу, дурак (а то бы еще и не такое натворил!), и К сожалению, Иван – дурак.
3.4. Событие и его структура
Факт – это содержание истинного суждения о том или ином событии. Таких истинных суждений может быть несколько. Они образуют своего рода пучок признаков события. Событие Х одновременно имеет признак А, и признак В, и признак С – каждый из этих признаков (характеристик события) выражается отдельным суждением.
Для этих суждений очень существенно, чтобы они в совокупности полностью описывали данное событие.
У события есть своя внутренняя структура, свой «сюжет», или «сценарий». Иначе говоря, в нем есть объективные характеристики, без учета которых наше описание этого события будет принципиально неполным, а следовательно неверным. Существует специальная научная дисциплина – когитология; согласно ей, в «сценарий» события входят:
субъект, средства, объект, время, обстоятельства или условия, причина, цель, результат. В современной психологии деятельности основными характеристиками деятельности также являются субъект, объект, средства, цель, результат, условия ( Леонтьев А.Н ., 1975).
3.5. Формы выражения сведений
Значит ли это, что журналист обязан, сообщая о каждом событии, обязательно открытым текстом перечислять все эти характеристики? Конечно, нет. В этой связи необходимо обратиться к различным формам выражения сведений. Это:
1. Открытая вербальная (словесная) форма , когда сведения даны в виде отдельного высказывания или цепочки взаимосвязанных высказываний, причем новая информация дана в предикативной части высказывания (является предикатом, логическим сказуемым). Например: Дэн Сяопин умер.
2. Скрытая вербальная форма , когда сведения выражены словесно, но как бы спрятаны, не бросаются в глаза и даются – как что-то уже известное – в группе подлежащего в виде так называемой латентной предикации. Например: Старейший политический лидер Китая давно отошел от дел. Здесь, в сущности, два совмещенных утверждения: что Дэн Сяопин – старейший политический лидер КНР и что он давно отошел от дел.
3. Пресуппозитивная, или затекстовая, форма , когда информация о каких-то аспектах события в тексте непосредственно не выражена и подразумевается, что и коммуникатор, и реципиент ее знают. Например, Похороны Дэн Сяопина состоялись в понедельник. Предполагается, что о смерти Дэн Сяопина обоим партнерам по общению уже известно.
4. Подтекстовая форма , когда информация не содержится в самом тексте, но легко извлекается из него реципиентом. Здесь могут использоваться различные приемы. Например, прямой оценки нет, но факт дается в таком контексте, что оценка логично из него выводится. Или читателю задается вопрос типа: Интересно, это совпадение случайно или нет? то есть так называемый риторический вопрос, который на самом деле является скрытым утверждением (ну, конечно, это совпадение не случайно – иначе бы вопрос не задавался!). Однако формально здесь нет утверждения.
Если, скажем, героем телепередачи или газетного репортажа является некто Иван Иванович Иванов, то необходимо сообщить, кто он такой. А если им является М.М. Касьянов, В.В. Жириновский, А.Б. Чубайс, о них сообщать ничего не надо (кроме, может быть, фамилии для особо забывчивых телезрителей): и журналист, и любой потенциальный зритель или читатель знает, кто они такие.
Вообще журналист всегда «экономит» на подтекстовой и затекстовой форме, вводя в текст лишь то, что необходимо – в особенности то, что ново для реципиента. Событие как предмет сообщения в СМИ, как правило, частично, фрагментарно. Если в последних известиях сообщается, что произошло событие Х, то время события уже задано общей рамкой. Если речь идет об известном персонаже, не нужна его биография, достаточно сказать, что нового с ним произошло. И так далее.
В практике нередки случаи, когда неполнота информации о событии приводит к недоразумениям или даже конфликтным ситуациям. Несколько лет назад сверхсерьезная официозная «Российская газета» сообщила, что тогдашний вице-премьер Б.Е. Немцов намерен пересадить всех госслужащих с иномарок на отечественные автомобили. Газета была засыпана почтой. Все дело было в том, что материал этот был напечатан в номере от 1 апреля…
Совокупность или система содержаний всех истинных суждений о событии, образующих завершенный «сюжет» этого события, может быть названа реальным фактом . А содержание отдельно взятого истинного суждения о данном событии – это вербальный факт . Он неполон уже по определению, если даже и истинен. К нему нельзя, так сказать, придраться – он верен, но, взятый в отдельности, дает неправильное (недостаточное, а то и извращенное) представление о событии. По прессе и ТВ однажды прошла информация, что А.Б. Чубайс получил крупный гонорар от одной фирмы. То, что такой гонорар имел место, не отрицали ни сам Чубайс, ни фирма. Возник политический скандал. Однако дело было в том, что время события было как раз тем, когда Чубайс не был на государственной службе и, следовательно, имел право получать любые гонорары.
3.6. Образ события в СМИ
В сущности, журналист описывает не событие как таковое или не сценарий как таковой, а их психический образ. Этот образ складывается из указанных выше основных признаков события и – в идеале – должен отражать все эти признаки. Однако текст, соответствующий этому образу (описывающий этот образ), может, как мы видели, не включать описание некоторых признаков события (образа события). Журналист сознательно опускает соответствующую информацию, потому что он знает, что реципиент СМИ, реконструируя на основе текста образ события (переводя его содержание из сукцессивного (последовательного) в симультанный (одновременный) вид), воспользуется своими знаниями и восстановит этот образ правильно и достаточно полно без дополнительной «подсказки».
Итак, событие выступает в сознании журналиста в виде образа события. Образ события описывается им при помощи текста, причем конечная задача этого текста – в идеале, конечно – создать аналогичный образ того же события у реципиента.
В этом процессе могут возникать намеренные и ненамеренные деформации.
1. Начнем с того, что у журналиста может быть неадекватный (например, неполный) образ события. Так например, в газетных сообщениях о положении с русским языком на Украине и в странах Балтии нередки деформации, вызванные тем, что источником информации является только одна сторона – сами русские (при этом неполнота информации деформирует истинное положение вещей, хотя все приводимые факты – вербальные факты – соответствуют действительности).
2. Далее, образ события может быть неадекватно «переведен» в текст.
3. Далее, текст может быть непригодным для правильного восстановления реципиентом образа события, например, в нем могут быть опущены сведения, необходимые реципиенту.
4. Наконец, даже если сам текст вполне корректен, тот или иной реципиент или группа реципиентов могут оказаться неспособными восстановить из текста правильный образ события. Журналист обязан предвидеть эту последнюю возможность и «вкладывать» в свой текст дополнительный «запас прочности». Особенно часто такая ситуация возникает при сообщениях на темы эстрады, спорта и т. п., где значительная часть потенциальных реципиентов в данной сфере не компетентна – а журналист пишет об известном «фанатам» эстрадном певце, как будто он известен любому реципиенту.
3.7. Расхождения в образе события и механизм введения в заблуждение
Итак, в процессе речевого (более широко – вообще коммуникативного) акта образ события возникает дважды. Сначала это тот образ события, который образуется у коммуникатора (журналиста) и непосредственно воплощается в сообщение. А затем под воздействием сообщения у реципиента формируется свой собственный образ того же события. В идеале они должны совпадать: иными словами, сообщение должно быть построено так, чтобы у реципиента возник образ события, полностью соответствующий образу события, имеющемуся у журналиста.
Но это возможно только в идеале.
Подчеркнем еще раз: даже сам образ события у журналиста может быть неадекватен подлинному событию. Это может происходить не обязательно по умыслу или злой воле журналиста: он просто может не полностью учесть все стороны реального факта, и вербальный факт, являющийся содержанием его сообщения, окажется неполным и уже поэтому неверным. Но это может делаться и умышленно, когда в силу политической или иной ангажированности он сознательно и намеренно отбирает нужные ему признаки события.
Допустим, однако, что имеющийся у журналиста образ события достаточно полон и адекватен. Значит ли это, что гарантировано совпадение образа события у этого журналиста и у реципиента сообщения?
Нет, не значит.
1. Начнем с того, что из-за недостаточного языкового профессионализма коммуникатора содержание сообщения становится бессмысленным, недоступным для интерпретации, или интерпретируется заведомо ошибочно. Сейчас модно (см. соответствующую рубрику в журнале «Итоги») коллекционировать подобные высказывания политических деятелей. Однако классическое обещание «показать кузькину мать в производстве сельскохозяйственной продукции» принадлежит еще Н.С. Хрущеву. Что он хотел сказать, осталось загадочным.
2. Далее, возможен случай, когда коммуникатор и реципиент вкладывают в одно и то же слово или выражение различное содержание. Скажем, объективное значение слова «сионист» резко расходится с его интерпретацией у правых и левых радикалов. Столь же различна интерпретация слов «демократия» и «демократы», «реформа» и «реформаторы». Кстати, к этому расхождению приложила руку именно радикальная пресса.
3. Следующий случай: у реципиента возникают не запланированные коммуникатором дополнительные ассоциации или истолкования сказанного или написанного. Своего рода классикой здесь стала история с П.Н. Милюковым, который, рассуждая в газете «Речь» (22 сентября 1907 г.) о взаимоотношениях кадетов и социал-демократов, написал: «Мы сами себе враги, если… захотим непременно, по выражению известной немецкой сказки, тащить осла на собственной спине». Этот «осел» вызвал бурный протест в социал-демократической печати, и через три дня Милюкову пришлось разъяснять, что он не имел в виду назвать социал-демократов ослами: «В немецкой сказке, на которую я ссылался, "носить осла" по совету прохожих – значит подчиняться чужим мнениям» (ср. стихотворение С.Я. Маршака со знаменитой строчкой «Старый осел молодого везет»).
5. Еще один случай – когда сознательная деформация события коммуникатором или даже изложение не совершившихся событий, связанные с художественными, публицистическими или другими задачами (и предполагающие, что реципиент тоже понимает эти задачи и соответственно интерпретирует сообщение), воспринимается реципиентом как объективное изложение действительных фактов. Яркий пример – нашумевшее выступление министра иностранных дел РФ (в то время) А. Козырева на одном из международных форумов с апокалиптическим сценарием развития событий в России, имевшее целью всего лишь предупредить иностранных партнеров о сложности политической ситуации в стране и необходимости поддержки демократических сил. (Другой вопрос, что сама идея такого выступления – учитывая официальный государственный статус Козырева – едва ли была удачна.)
До сих пор мы говорили о незапланированном, неумышленном расхождении образа события у коммуникатора и реципиента. Но такое расхождение может быть и результатом сознательного введения реципиента (реципиентов, аудитории) в заблуждение.
3.8. Введение в заблуждение
Введение в заблуждение – это представление для реципиента в качестве истинного такого сообщения, которое или заведомо ложно (то есть имеет место сознательный обман), или не является фактологическим и содержит лишь одну оценку (то есть вообще не может быть ни истинным, ни ложным). Еще один возможный вариант – когда недостоверное сообщение представляется как достоверное, верифицированное.
Эффективность введения в заблуждение зависит от ряда причин (см. Сильдмяэ , 1987).
1. Это, во-первых, уровень информированности коммуникатора и реципиента. Коммуникатор либо пользуется тем, что он информирован лучше, чем адресат сообщения (реципиент), либо делает вид, что он информирован лучше. Однако трудно или вообще невозможно ввести в заблуждение человека, который имеет достоверные знания о предмете сообщения в целом. Поэтому для противодействия введению в заблуждение исключительно важно всеми средствами стремиться поднять уровень знаний аудитории по данному вопросу. Многие ложные суждения о чеченцах, например, были бы неэффективны, если бы аудитория СМИ больше знала об истории Кавказа, обычаях чеченцев, отношениях между чеченцами и ингушами и пр.
2. Во-вторых, эффективность введения в заблуждение зависит от возможности для реципиента проверить истинность сообщения. Если это можно сделать без особых затруднений и, так сказать, поймать за руку коммуникатора, то не только манипуляция сознанием реципиента будет неэффективной, но и потеряется доверие к источнику (газете, телевизионному каналу, конкретному журналисту). Так, в российских, а особенно грузинских СМИ неоднократно повторялось утверждение, что у абхазов никогда не было своей государственности. Однако это утверждение фактически ложно. Даже если считать, что Абхазское (Эгрисское) царство (VII в. н. э.) не было чисто абхазским (оно объединяло ряд народов нынешней Западной Грузии), с 1921 по 1931 гг. Абхазия была советской социалистической республикой (с 1922 г. в составе ЗСФСР наряду с Грузией, Арменией и Азербайджаном), то есть ее государственный статус ничем не отличался от статуса самой Грузии. Проверить это очень легко, как и столь же ложное утверждение, что армянское население Нагорного Карабаха поселилось там якобы только в XVIII в.
3. В-третьих, эффективность введения в заблуждение зависит от способности реципиента (аудитории) к экстраполяции (построению гипотезы о свойствах неизвестного объекта на основании знания об аналогичных свойствах известных объектов). Иными словами, речь идет об уровне интеллекта реципиента: чем он ниже, тем более реципиент склонен поверить явной манипуляции.
4. В-четвертых, она зависит от индивидуальных свойств реципиента (или групповых характеристик аудитории). Есть люди наивные, принимающие любое сообщение на веру, есть более скептичные, допускающие возможность введения их в заблуждение и старающиеся по мере возможности проверить поступающую к ним информацию. Есть люди, живо заинтересованные в политической информации, есть люди, относящиеся к ней абсолютно индифферентно. Существует даже группа реципиентов, принципиально не верящая сообщениям СМИ, что, впрочем, не делает их более устойчивыми к манипуляции – только в этом случае они будут опираться на слухи или сообщения других лиц. И так далее.
5. В-пятых, эффективность введения в заблуждение зависит от уровня доверия реципиента к источнику. Проблема факторов такого доверия – самостоятельная научная проблема, хорошо исследованная в США. Среди этих факторов и характер источника (с одной стороны, ОРТ, с другой, НТВ), и знания реципиентов о нем (кому, например, принадлежит та или иная газета или телеканал), и степень совпадения позиции источника и позиции реципиента, и персональная симпатия или антипатия реципиента к коммуникатору, и многое другое.
6. Наконец, в-шестых, эффективность введения в заблуждение зависит от используемых коммуникатором специальных приемов и средств манипулирования сознанием реципиентов (аудитории).
В науке хорошо исследованы стратегии манипулирования сознанием реципиентов массовой коммуникации (массовой информации). Существует множество работ, в основном американских, где дается перечень приемов подобного манипулирования. Приведем некоторые из них, описанные известным лингвистом и семиотиком Т.А. ван Дейком ( ван Дейк , 1989) и показывающие, какими способами в прессе создаются этнические предубеждения (конечно, примеры даются из российской действительности).
Сверхобобщение : свойства отдельных лиц и событий принимаются за свойства всех членов данной этнической группы или всех этнически маркированных социальных ситуаций. Скажем, агрессивный антирусский настрой приписывается большинству населения Западной Украины. Такая же «антирусскость», фундаменталистская исламская ориентация, склонность к разбою или грабежам проецируются на национальный характер чеченского народа.
Приведение примера : перенос общих свойств, приписанных этнической группе или ее «типичным» представителям, на частный случай – человека или событие. Скажем, высказывается убеждение, что евреи суть агентура в нашем обществе сионизма и масонства. Это убеждение тут же конкретизируется в обвинениях, адресованных конкретному лицу еврейского происхождения (Гусинскому, Березовскому, Лившицу).
Расширение : негативное отношение к какой-либо отдельной черте или признаку распространяется на все другие признаки и их носителей. Так, после того, как часть рынков Москвы оказалась под контролем группы этнических азербайджанцев, что повлекло за собой стабильно высокий уровень цен, резко изменилось к худшему отношение многих москвичей к азербайджанцам в целом и даже к «кавказцам» без различия их конкретной национальности. Впрочем, это был, по-видимому, спонтанный процесс, а не результат сознательной манипуляции сознанием реципиентов СМИ. Но постоянное упоминание в прессе и электронных СМИ о «кавказцах», «лицах кавказской национальности» и т. п. способствовало этому процессу и в какой-то мере провоцировало его.
Атрибуция : реципиенту навязывается «нужное» причинно-следственное отношение. Так, почти после каждого громкого террористического акта в СМИ появляются упоминания о «чеченском следе», хотя в большинстве случаев такие сообщения не подтверждаются.
В советское время анализ приемов манипулирования общественным сознанием был связан с разоблачением «буржуазной пропаганды» и «буржуазной журналистики». Время показало, что аналогичные приемы манипулирования порой применяются и в деятельности российских СМИ, да и вообще в практике социально-ориентированного общения (обсуждения в Государственной Думе, публичные заявления отдельных политиков, митинговые речи и т. д.). Но серьезный профессиональный анализ этих приемов в последние годы не производился. Думается, что возвращение к этой проблематике могло бы сыграть важную роль в развитии демократии в России, обеспечении гласности, защите СМИ и журналистов от произвола власти и в то же время в защите общества от недобросовестного манипулирования общественной психологией со стороны отдельных лиц, политических и иных группировок.
4. Психолингвистика речевого воздействия текста как предмета психолингвистической экспертизы
4.1. Психолингвистические приемы введения в заблуждение реципиентов СМИ и политической пропаганды
В предыдущем разделе мы упоминали о выявленных в 60– 70-х гг. основных приемах введения реципиентов СМИ и политической пропаганды в заблуждение, то есть психолингвистических приемах сознательного манипулирования сознанием аудитории СМИ. Мы упоминали также, что аналогичные приемы используются в настоящее время в российских СМИ и в российской политической пропаганде. Однако ни серьезного теоретического анализа современных приемов манипулирования, ни обзора приемов, ранее исследованных на материале американских и других зарубежных СМИ, в последние годы не появлялось. Это заставляет нас дать такой обзор, опираясь в основном на американские источники.
В этой связи интересно, что вообще в американской науке к исследованию психологических и психолингвистических факторов эффективности массовой коммуникации привлекались социальные и общие психологи экстра-класса – такие, как Л. Берковиц, К. Ховлэнд, Г. Лассуэлл, П. Лазарс-фелд, Р. Мертон, У. Шрамм, М. Шериф, П. Вацлавик, Л. Фестингер и мн. др. К сожалению, в 60—70-е гг., когда была опубликована большая часть исследований и обобщающих работ этих авторов, практически ни одна из них не была по понятным причинам переведена на русский язык; может быть, наступило время восполнить этот пробел, издав хотя бы антологию наиболее значительных американских публикаций того времени. Из наиболее известных публикаций на эти темы назовем Войтасик , 1982; Gordon , 1971; Hovland, Janis, Kelley , 1953; Hovland, Lumsdain, Sheffield , 1965; Katz, Lazarsfeld , 1955; Klapper , 1960; Lazarsfeld, Berelson, Gaudet , 1944; Lazarsfeld, Merton , 1974. Из числа обобщающих работ последних лет укажем, в частности, Communication Theories, 1997; Mass communication, 1990; McQuail , 1994; Neuman, Just, Crigler , 1992; Shoemaker, Reese , 1996.
Особого анализа заслуживают приемы введения в заблуждение, характерные для французских СМИ. К ним относятся «прямая ложь, умолчание, повтор, изъятие из контекста, активизация стереотипов, монтаж и коллаж информации, суггестивная метафоричность, редукционизм, ложные силлогизмы, программирование ряда ассоциаций и др.» ( Любимова , 2001, с. 21). Тот же автор указывает на появление ряда новых психолингвистических (манипуляционных) технологий. Это, в частности, кодирование через метафоричность, размытость значений, двойной стандарт через забвение ( там же ).
Мы стремились иллюстрировать отдельные приемы на материале этнической или религиозной интолерантности, однако это не всегда удалось сделать.
Итак, перечислим и охарактеризуем «классические» приемы манипулирования, отталкиваясь от известной книги Блэйка и Харолдсена «Таксономия понятий в коммуникации» ( Blake, Haroldsen , 1975, с. 63—64).
В этой книге приводятся семь таких приемов.
1. Наклеивание ярлыков (Name calling device). Этот прием заключается в обозначении события или действующего лица словом или выражением, изначально содержащим в себе для сознания реципиента негативный или, напротив, позитивный оттенок. Так например, в российских СМИ последних лет укрепилось выражение «чеченские сепаратисты», по определению вызывающее отрицательное отношение к тем, кто этим выражением обозначается. С другой стороны, любое наименование тех же чеченских боевиков в западной печати и ТВ «борцами за независимость Чечни» для общественного сознания западных стран ассоциируется с чем-то положительным (ср. в США – «война за независимость» как резко положительно оцениваемое историческое событие и Джордж Вашингтон как чрезвычайно почитаемая фигура во всех слоях американского общества; интересный «перевертыш» такой оценки, возможный, кстати, только благодаря ее однозначности и всеобщности, можно найти в недавно переведенном на русский язык романе известного американского писателя-фантаста Г. Гаррисона «Да здравствует Трансатлантический туннель! Ура!», где деяния Джорджа Вашингтона оцениваются резко негативно и характеризуются как мятеж и позор Америки: «…на имени Вашингтона лежит несмываемое пятно. Американский народ встретит в штыки любое начинание, связанное со столь одиозным именем»).
2. Сияющее обобщение, или блестящая неопределенность (Glittering generality device). В каждой языковой и культурной общности существует набор понятий, соответствующих базовым ценностям данного общества. Эти-то понятия и используются в тексте сообщения СМИ. Так например, в сознании среднего американца (или европейца) к числу таких базовых ценностей относятся «права человека». Таким образом, все, что ассоциируется с борьбой за права человека, получает однозначно положительную оценку. В российских СМИ этот термин воспринимается не столь однозначно – особенно амбивалентно понимается термин «правозащитник», часто получающий несколько иронический смысл.
3. Перенос (Transfer device). По весьма точному определению цитируемых нами авторов, это «перенос авторитета, одобрительного отношения, престижности чего-то или кого-то уважаемого и почитаемого на нечто другое, чтобы сделать это другое приемлемым. Это также использование авторитета, одобрения или неодобрения для того, чтобы побудить нас отвергнуть или не одобрить нечто, что пропагандист хочет, чтобы мы отвергли или не одобрили». Иными словами, предполагается, что любая (позитивная или негативная) оценка лица или события, данная бесспорным авторитетом, должна восприниматься реципиентом без критики. Таковы оценки, даваемые президентом США (например, знаменитая «империя зла» Рональда Рейгана или «ось зла» Джорджа Буша) или оценки, даваемые В.В. Путиным. Но, с другой стороны, возможность переноса не безгранична. Американские исследователи любят приводить в качестве примера «эталонную» ситуацию: даже если будет сообщено, что Герберт Гувер заявил: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь», это не окажет никакого воздействия на аудиторию (кроме, конечно, потери доверия к источнику такого сообщения).
4. Свидетельство (Testimonial device). Это ссылка на положительную или отрицательную оценку данной идеи, программы или личности, данную уважаемым или, напротив, ненавидимым человеком. Так например, Линдон Джонсон опирался в своей предвыборной агитации на то, что его «политическим ментором» был Франклин Рузвельт («друг покойного президента»). Любая оценка, данная Усамой бен Ладеном, Масхадовым, Басаевым, сразу же воспринимается как абсолютно неприемлемая.
5. Игра в простонародность (Plain folks device). Это привлечение на свою сторону аудитории путем отождествления себя с ней – «я из народа», «я – один из вас». Именно таким приемом была знаменитая фраза В.В. Путина «мочить в сортире».
6. Подтасовка карт (Card stacking device). Это отбор фактов и утверждений, навязывающих реципиенту то или иное отношение к лицу или событию, и игнорирование фактов и утверждений, противоречащих этому желаемому эффекту. Так например, сторонники и противники полковника Буданова выбирают из его, прямо скажем, неоднозначной биографии противоположные по смыслу факты и строят свои суждения о нем только на этих фактах, как бы забывая о других. Другой пример: в Республике Татарстан при принятии решения о переводе татарского языка на латинскую письменность принимались во внимание только определенные соображения (касающиеся якобы противоречия между кириллической письменностью и особенностями татарского языка и нек. др.), но полностью игнорировались в высшей степени важные следствия негативного характера – в частности, потеря доступа к ранее опубликованной литературе на кириллице (татары уже дважды оказывались в таком положении – после принятия первой латинской письменности и после принятия кириллической; сколько можно наступать на те же грабли?) или искусственный разрыв между татарами Татарстана и татарами диаспоры, которых больше, чем в самом Татарстане, и которых никакие решения татарского правительства не могут заставить перейти на латиницу (именно такая ситуация сложилась с молдаванами: при переходе Молдовы на латинскую письменность молдаване Приднестровья, Одесской области и др. продолжают пользоваться кириллицей).
7. Делай как все (Band wagon device). В этом случае пропагандист пытается убедить реципиента в том, что все члены соответствующей группы разделяют определенное мнение и ему, реципиенту, не остается ничего иного, как присоединиться к этому мнению. Например, во время англо-аргентинского военного конфликта на Фолклендах именно этим приемом активно пользовались британская пресса и ТВ.
В западной литературе по теории пропаганды описаны и некоторые другие приемы, имеющие хождение в массовой коммуникации и политической пропаганде ( Daugherty, Janowitz , 1958 и др.). К ним относятся, в частности, следующие.
8. Напористая продажа. Смысл этого приема в следующем: «ври-ври, что-нибудь да останется». Иными словами, приводятся многочисленные фальшивые «факты» или утверждения в расчете на то, что даже если многие из них не вызовут доверия у реципиента, какие-то отдельные все же возымеют действие. При этом чем утверждение более дикое, тем больше шансов, что оно задержится в памяти реципиента. Сюда относятся ставшие классическими газетные россказни о белых медведях, гуляющих по улицам российских городов, или о русском национальном напитке под названием «запой», готовящемся из бумажной макулатуры и тряпок. Классический пример пропагандистского использования «напористой продажи» относится к парламентским выборам 1948 г. в Италии (в это время около 40% итальянцев поддерживали кандидатов Итальянской коммунистической партии!), когда широко распространялся следующий текст, подготовленный американскими специалистами: в случае победы коммунистов на выборах «папа будет вынужден, вероятно, покинуть Рим, а Святой Город – светоч всего мира – будет превращен в кучу развалин». Очень распространен этот прием и в пропагандистской деятельности КНР.
9. Упрощение. Этот прием базируется на том, что на фоне ряда верных утверждений утверждение, не соответствующее действительности, принимается реципиентом без критики. Здесь тоже есть своя «классика» – прошедший по американской прессе в 1951 г. рассказ одного украинца-перебежчика о библиотеке советской воинской части в составе Западной группы войск (в ГДР): «Там были книги Горького, Льва и Алексея Толстого, Пушкина, Крылова и ряда современных авторов. Книги американских авторов тоже имелись, но библиотекарь делал специальные заметки об имени каждого, кто брал американские книги…». Поясним, что даже в личных библиотеках советских граждан из произведений американской литературы в то время присутствовали – если не считать классиков вроде Марка Твена, Брет Гарта, Бичер Стоу, – в основном книги Джека Лондона, Теодора Драйзера, Эптона Синклера и Синклера Льюиса, Говарда Фаста и Альберта Мальца и др., то есть авторов, считавшихся критиками буржуазного общества (а иногда и прямо связанных с коммунистической партией США) и идеологически абсолютно «безопасных». Поэтому поверить в истинность данного сообщения невозможно.
10. Аксиоматичность. Это опора на банальность, подающуюся как непререкаемая истина, типа «Колесо истории не повернуть вспять». В последнее время в качестве такой банальности, используемой как доказательство, в российских СМИ и политической пропаганде часто выступает положение, что «терроризм не имеет национальности» (иногда добавляется: «и религии»).
11. Инсинуация – это опора на объективно имеющиеся различия, осознаваемые реципиентами. Таков пропагандистский ход Китая на одной из международных конференций 60-х г. в Танзании, когда утверждалось, что в Африке «нет места для белых». Аналогичные приемы широко применялись в японской пропаганде на американскую армию во время Второй мировой войны, когда японцы апеллировали к цветным американским солдатам, подчеркивая их дискриминацию на родине. В американской пропаганде времен «холодной войны» имела широкое хождение концепция, согласно которой советские крестьяне и рабочие восприняли дореволюционную структуру общества с его культом «начальников» (противостоящих «простому человеку»). С этой точки зрения ожидалось, что средний информант должен противопоставлять «их» «нам». Однако проведенное в СССР исследование Х. Кэнтрила дало обратный результат – преобладало «мы», когда речь шла о государстве или обществе в целом. Помнится, фельетон об этом исследовании был опубликован в журнале «Крокодил» – авторы и редакция явно недооценили значение работы Кэнтрила и высмеяли ее совершенно зря.
12. Отвлечение внимания. Это подчеркивание или преднамеренное распространение какой-то информации (часто ложной), дискредитирующей «потенциального противника», чтобы скрыть столь же (или еще более) дискредитирующую информацию о «своей» стороне. Так, в ходе армяно-азербайджанского конфликта вокруг Нагорного Карабаха азербайджанская сторона делала упор на «изгнание» азербайджанцев, проживавших на территории Армении, чтобы скрыть или притушить бесспорный факт массового бегства армян из Баку под угрозой их жизни (между тем ничего подобного с азербайджанцами в Армении не происходило – это во многих случаях была организованная миграция).
Как легко видеть, подавляющее большинство описанных выше приемов имеет откровенно психологическую (или, уже, психолингвистическую) природу. См. в этой связи обзорные работы В.Л. Артемова ( Артемов , 1974) и нашего чешского коллеги, известного психолингвиста Яна Прухи ( Пруха , 1974). Как показала в цикле своих исследований А.Д. Кульман-Пароятникова, основным механизмом введения в заблуждение обычно является сдвиг в соотношении денотативного и коннотативного компонентов содержания слова, а также «метод скрывающей номинации» ( Кульман , 1979). Из классических американских работ аналогичный анализ можно найти у Чарлза Осгуда ( Osgood , 1971), Д. Грэбера ( Graber , 1974) и Г. Босмаджана ( Bosmajan , 1975).
4.2. Отечественный опыт психолингвистического подхода к анализу СМИ и политической пропаганды
В начале перестройки в Агентстве печати «Новости» была создана специальная исследовательская группа по политической семантике, состоявшая из А.Д. Пароятниковой, Б.И. Ноткина и автора настоящих строк. Ее задачей было – дать конкретные рекомендации лингвистического (психолингвистического) характера для советской печати, рассчитанной на зарубежного читателя. Группа проработала недолго и распалась с уходом В.М. Фалина; но за время существования она успела кое-что сделать. В частности, по аналогии с «железным занавесом» был «запущен» в сознание читателей термин «занавес невежества». Был предложен также «симметричный» известному американскому лозунгу «мир через силу» (Peace through Power) лозунг «мир через просвещение» (Peace through Education). Был осуществлен экспертный анализ откликов американской печати на первый саммит М.С. Горбачева с Р. Рейганом. Авторы пришли, в частности, к следующим выводам (цитирую по оригиналу справки): «1. Основной упор при освещении встречи в верхах американская пропаганда сделала на отделении личности Генерального секретаря от советской политической системы по модели: "американцам он нравится, но они испытывают страх перед политической системой, которую он представляет" (Washington Post). 2. Перенос акцента с содержания и значения договора на внешние атрибуты встречи в верхах. 3. Постоянные исторические аналогии с предыдущими встречами в верхах, которые в конечном итоге не привели к ожидаемым результатам.
4. Использование огромного интереса к визиту советского лидера для оживления и закрепления практически всех основных антисоветских стереотипов, выработанных ранее.
5. Резкое увеличение удельного веса проблемы "прав человека" по отношению как к проблеме разоружения, так и к другим… Бросается в глаза как в выступлениях Рейгана и других политических деятелей, так и в комментариях прессы отсутствие новых пропагандистских лозунгов, сравнимых с "крестовым походом против империи зла" и т. д., и слабое пропагандистское обеспечение американской концепции мира…» Давались консультации и отдельным журналистам – так, была показана бесперспективность термина «новые большевики», который один из видных журналистов пытался использовать в своих статьях на франкоязычную аудиторию (из 6 фундаментальных словарей французского языка 4 давали при слове «большевик» помету типа «неодобр.»).
Нам, к сожалению, неизвестны более близкие к нашему времени попытки систематической исследовательской и практической работы в данном направлении. В связи с этим хотелось бы вспомнить еще о двух исследовательских программах 60–70-х гг. Одна из них реализовалась в курсе автора «Психология общения в больших системах», читанном на факультете психологии МГУ в начале 70-х гг. Другая отразилась в цикле публикаций Группы психолингвистики и теории коммуникации Института языкознания АН СССР (ныне РАН). См. о них Леонтьев А.А. , 1997, с. 259—262. Сошлемся прежде всего на три коллективных работы: сборники «Речевое воздействие» (1972) и «Психолингвистические проблемы массовой коммуникации» (1974) и коллективную монографию «Смысловое восприятие речевого сообщения в условиях массовой коммуникации» (1976). Концептуальные модели речевого воздействия под общепсихологическим, социально-психологическим и психолингвистическим углом зрения разрабатывались, в частности, Ю.А. Шерковиным ( Шерковин , 1973) и автором настоящей работы ( Леонтьев А.А. , 1999).
К сожалению, не была опубликована (и разошлась по журналам и сборникам) коллективная книга «Язык пропаганды», написанная в начале 70-х гг. по заказу Центра научного программирования Гостелерадио. Ее авторами были А.Р. Балаян, Б.Х. Бгажноков, Т.М. Дридзе, И.А. Зимняя, А.С. Коломинская, Н.Н. Кохтев, А.А. Леонтьев, С.А. Минеева, Е.И. Негневицкая, К.Р. Парсамян, Е.Ф. Тарасов, Б.С. Шварцкопф, Д.А. Шахматов и Л.С. Школьник. Приведем оглавление этой книги:
«Глава 1. Пропаганда и ее особенности. 1. Пропагандистское общение и место в нем языка пропаганды. 2. Отражение особенностей пропагандистского общения в особенностях языка пропаганды.
Глава 2. Общие особенности языка пропаганды. 1. Как строится пропагандистский текст. 2. Грамматика пропагандистского текста. 3. Отбор и сочетание слов в языке пропаганды. 4. Звуковые особенности языка пропаганды. 5. Как можно облегчить восприятие печатного текста «на глаз».
Глава 3. Язык разных видов пропаганды. 1. Слово лектора (языковые особенности устного публичного выступления). 2. Особенности радио– и телевизионной речи. 3.Язык газеты. 4. Средства, используемые в рекламе и наглядной агитации.
Глава 4. Язык пропаганды и язык слушателя (читателя). 1. Уровни понимания текста слушателем. 2. «Ножницы» в языке пропаганды и языке читателя. 3. Ориентация оратора на разную аудиторию.
Глава 5. Принципы и методика анализа языка пропаганды (на конкретных примерах). 1. Анализ устного публичного выступления. 2. Анализ радио– и телепередач. 3. Анализ газетного текста. 4. Анализ образцов наглядной агитации.
Глава 6. Некоторые проблемы языка пропаганды. 1. Штампы и их восприятие. 2. Типичные недостатки газетных заголовков. 3. «Быстрое» и «медленное» чтение: как их различие отражается на восприятии пропаганды и на ее языке. 4. Характерные ошибки диктора и их происхождение. 5. Организация телевизионного диалога.
Заключение».
Уже из перечня авторов и оглавления видно, насколько интересной могла стать эта книга. Но заказчик остался не удовлетворен ее слишком большой теоретичностью, недостаточной «идеологичностью» и недостаточной критикой буржуазной пропаганды… Мы честно пытались переделать рукопись по указаниям рецензента, но в результате книга на глазах начала разваливаться, и наши отношения с Центром научного программирования на этом прекратились.
Научное изучение технологии речевого воздействия СМИ в России и СССР началось задолго до наших дней. Признанным классиком психологии речевого воздействия является Н.А. Рубакин, чья основная книга сравнительно недавно переиздана ( Рубакин, 1977); см. также Рубакин , 1972. Из широко известных авторов 20–30-х гг. назовем Я. Шафира ( Шафир, 1927), С.Л. Вальдгарда ( Вальдгард, 1931). Специально психолингвистическими проблемами радиоречи (хотя, конечно, без использования термина «психолингвистика») в те годы занимался С.И. Бернштейн – эти его работы в настоящее время переизданы ( Бернштейн, 1977). Интересны и публикации Л.П. Якубинского – напр. Якубинский, 1926. С середины 30-х гг. такого рода исследования по понятным причинам не проводились и не публиковались.
Но вернемся к механизмам или технологиям введения в заблуждение. Мощным орудием манипуляции сознанием реципиента, особенно в последние десятилетия, является все более широкая опора на подсознание, эмоции, настроения и т. д., в частности то, что можно назвать эмоционализацией информации. Мало кто знает, как американским телевидением «обыгрывался» печальный инцидент со сбитым южнокорейским самолетом. Сделано это было так. Давался специально смонтированный и разыгранный профессионалами-актерами телефрагмент, показывающий, «как это могло быть». С этим фрагментом был смонтирован кадр с улыбающимся представителем СССР в ООН Трояновским. После чего шел дикторский комментарий примерно такого содержания: «Смотрите: люди гибнут, а советский представитель смеется»… Впрочем, уже в предшествующие годы в американской теории пропаганды получило хождение различение так называемых «рычащих слов» и «мурлыкающих слов» (см. об этом Ухванова , 1980).
В заключение настоящего раздела приведем из практики западных СМИ некоторые типичные психолингвистические ошибки.
В северокорейских листовках, адресованных американским солдатам во время войны в Корее, содержалось значительное число ошибок в английском языке. Кроме того, текст, якобы написанный американскими пленными, заканчивался призывом «немедленно прекратить вмешательство во внутренние дела Кореи».
Многие, вероятно, помнят, как российская интеллигенция развлекалась чтением пропагандистского журнала «Корея» на русском языке (кое-кто даже специально его выписывал!). Его авторы и редакторы представляли себе советского читателя по аналогии с официальным представлением о сознании гражданина КДНР.
Во время Второй мировой войны американцы разбрасывали над японскими позициями листовку – пропуск в плен. На ней большими буквами было напечатано: «Я сдаюсь» (I surrender), что для японцев звучало оскорбительно. Правда, осознав ошибку, американцы вскоре заменили оскорбительные слова другими: «Я прекращаю сопротивление» (I cease resistance).
Американцы неоднократно попадали впросак с условными названиями, дававшимися тем или иным организациям или акциям. Так, союзническая военная администрация в Италии (во время Второй мировой войны) получила сокращенное название Amgot, что в турецком языке является крайне неприличным словом. Еще хуже вышло с акцией по раздаче подарков немецким детям американской оккупационной администрацией в Германии: эта акция получила название schmoo, что в берлинском слэнге обозначает «мошенничество».
В американской пропаганде на японских солдат Второй мировой войны был сделан еще один, но фундаментальный просчет. Коннотации, касающиеся понятия «пленный», мыслились пропагандистами по прямой аналогии с англоязычным понятием пленного; и поэтому японским солдатам без дальнейших околичностей предлагалось сдаваться, причем их заверяли, что они вскоре вернутся и все в их жизни и жизни их семьи будет в порядке. Между тем в японском сознании солдат, попавший в плен, смотрит на себя как на «социального мертвеца».
Подводя итог сказанному выше, отметим, что, во-первых, существует острая необходимость систематизации и научного анализа психолингвистических приемов, употребительных в современных российских СМИ и в российской политической пропаганде в целях введения аудитории в заблуждение; во-вторых, концептуальной основой для такого анализа вполне может послужить опыт теоретического осмысления эффективности пропаганды в целом и ее психолингвистических факторов в частности, накопленный в отечественной науке от Н.А. Рубакина до работ Московской психолингвистической школы.
4.3. Психолингвистические характеристики текстов СМИ, являющиеся предметом психолингвистической экспертизы
В настоящем разделе дается предварительный перечень психолингвистических характеристик текстов СМИ, наличие которых является основанием для положительного заключения эксперта о наличии в тексте нарушений национального (этнического), расового или религиозного (конфессионального) равноправия, подпадающих под соответствующие статьи российского уголовного законодательства.
1. Наличие в текстах прямых призывов к насильственным действиям в отношении лиц иной национальности, иной расы, иной конфессии, в форме императивных конструкций или синонимических им конструкций с тем же содержанием, например модальных ( нужно…, следует…, хорошо бы…). Можно сказать, классическим примером здесь является знаменитая формула Бей жидов, спасай Россию. Другой пример – из приведенной в первом аналитическом отчете нашей экспертизы «трудов» А. Селянинова: Необходимо отстранение жидов от руководства Россией (имеется в виду, по словам автора, «хирургическое вмешательство», то есть насильственные действия).
2. Наличие у текста общей направленности на нарушение национального, расового, религиозного равноправия, которая может, в частности, выражаться:
– в формировании у адресата текста позитивного отношения к насильственному способу разрешения имеющихся проблем путем истребления (или другой формы физического воздействия), депортации, лишения тех или иных прав представителей данной социальной группы (этноса, расы, конфессии);
– в формировании у адресата текста общего негативного отношения (негативной оценки) представителей данной социальной группы (этноса, расы, конфессии);
– в формировании у адресата текста неправомерных причинно-следственных связей между теми или иными высказываниями, социальными действиями, поступками, событиями или характеристиками состояния общества и принадлежностью данного лица (лиц) к той или иной этнической, расовой, конфессиональной группе.
Приведем самые свежие примеры из опубликованного в газете «Московские новости» (№ 48 за 2002 г.) интервью с одним из руководителей Национально-державной партии России, бывшим министром печати РФ Б.С. Мироновым:
Нацисты «просто убирали болячку. Ведь евреи в веймарской Германии контролировали и издательское дело, и шоу-бизнес, оскорбительный для немцев, – прямо как сейчас в России для русских. Ситуация – один к одному. Недопустимо, чтобы один народ отплясывал на земле чужого народа “семь сорок”». Оттуда же: «В России русских – 84 процента. Некоренных народов – максимум пять процентов. Разве хирург не режет палец, когда он видит, что он может привести к гангрене?» (формирование позитивного отношения к насильственным действиям).
«Еврейский законодатель может писать законы только для евреев; для коренных россиян они зачастую чужеродны». Или: «Вот, допустим, один коган (курсив в тексте интервью. – Авт. ) нахапал пятьсот заводов: коган и виноват» (формирование негативного отношения к определенной социальной группе).
«Два с половиной миллиарда в месяц выводится по банковским каналам из России… Вот вам пример, как работает родная кровь» (формирование причинно-следственных связей).
3. Преднамеренное употребление в отношении определенной этнической, расовой, конфессиональной группы или отдельных лиц, входящих в ее состав, слов и выражений, имеющих в языковом сознании реципиентов СМИ однозначно негативный характер. Таковы слова жид ( в выступлениях генерала Макашова) , коган (в приведенном отрывке из интервью Б.С. Миронова) или у него же интересный образ, относимый им к «некоренным народам»: «Мышь, родившаяся в конюшне, не может называть себя лошадью».
Вернемся теперь к приведенному выше перечню основных содержательных характеристик текстов СМИ, направленных на возбуждение социальной, этнической, расовой или религиозной вражды, и покажем эти характеристики на материале материалов СМИ на этнические темы (см. Малькова, Тишков , 2002; Остановитесь… 2002; Психология национальной нетерпимости, 1998, и др.).
Возбуждение социальной, национальной, расовой или религиозной вражды есть умышленное и целенаправленное действие (как правило, речевое), целью которого является:
а) создание или подкрепление отрицательной эмоциональной оценки или отрицательной смысловой установки в отношении той или иной социальной, этнической (национальной), расовой (антропологической) или религиозной (конфессиональной) группы или отдельных лиц как членов такой группы.
Вот очень яркий пример такого рода. И. Шафаревич ссылается на историка французской революции Огюстена Кошена, который «обратил особое внимание на некий социальный или духовный слой, который он назвал "Малым Народом"». Какие же черты свойственны этому слою? «Он жил в своем собственном интеллектуальном и духовном мире: "Малый Народ" среди "Большого Народа". Можно было бы сказать – антинарод среди народа… Именно здесь вырабатывался необходимый для переворота тип человека, которому было враждебно и отвратительно то, что составляло корни нации, ее духовный костяк… Механизм образования "Малого Народа" – это то, что тогда называли "освобождением от мертвого груза". От людей, слишком подчиненных законам "Старого мира": людей чести, дела, веры». И так далее. Следующий логический ход Шафаревича – что в любой стране и в любую эпоху есть такой «Малый Народ». И, наконец, заключительный аккорд: «По-видимому, в жизни "Малого Народа", обитающего сейчас в нашей стране, еврейское влияние играет исключительно большую роль…». Все это насквозь фальшивое построение тем более опасно, что оно подано весьма наукообразно и в каком-то смысле даже «интеллигентно». В то же время здесь заметно торчат пропагандистские уши.
Другой пример – из «Комсомольской правды». Сама статья названа вызывающе: «Через 100 лет от нас не останется даже русского духа». (Это интервью с демографом Б.С. Хоревым.) В ней, в частности, говорится: «Сейчас в Россию приезжают китайцы, вьетнамцы, арабы, негры, кавказцы. Они и займут освободившееся место русского этноса. Они будут говорить по-русски, ощущать себя русскими. Таких людей к концу века будет 50—60 миллионов». И так далее. Конечно, никакие демографические прогнозы не способны предсказать, на каком языке будут говорить и кем будут себя ощущать мигранты ХХI века. Стоит обратить внимание и на вопиющую «неполиткорректность» данного интервью. Не только в США, но и в российской прессе и политической жизни уже вышел из обихода термин «негры»; а особенно странно выглядит в устах профессионала-демографа идиотский обобщающий термин «кавказцы». В осадке остается четкая ксенофобическая декларация;
б) формирование негативной оценки или негативной установки в отношении других лиц, групп, организаций или их отдельных действий путем связывания их с социальной, этнической, расовой или конфессиональной группой, в отношении которой у адресатов существовала ранее или создана в результате действий данного лица (организованной группы лиц) негативная оценка или негативная смысловая установка.
Пример из чеченской (удуговской) пропагандистской прессы на русском языке: «И русский, и еврей могут принять ислам, отказавшись от сионизма и шовинизма. Искажения от самых первых учеников Иисуса заложили зависимость христианского мира от сионизма и реакцию на него в виде фашизма»;
в) формирование у адресатов убеждения в изначальной неравноценности лиц, принадлежащих к той или иной социальной, этнической, расовой или конфессиональной группе, с представителями других групп (прежде всего группы, к которой принадлежит адресат) в интеллектуальном, морально-нравственном или другом отношении.
Естественно, в прямой форме высказывания такого рода редки – в сколько-нибудь приличных СМИ даже явно ксенофобически настроенный автор непременно сопроводит свою позицию извинительными оговорками об исконном равенстве всех народов… Тем не менее их можно найти. Депутат Государственной Думы Александр Федулов, как известно, обратился с письмом к Президенту РФ, где констатирует, что в российское общество навязчиво внедряются идеи о жителях Кавказа как о преступниках и террористах, о татарах и башкирах – как о людях «второго сорта»… (цит. по статье Дейч , 2001);
г) формирование представления об изначальном интеллектуальном, морально-нравственном или ином превосходстве адресата как члена социальной, этнической, расовой, конфессиональной группы или группы в целом, к которой он принадлежит, перед другими лицами или группами (проповедь национальной, расовой, религиозной исключительности).
Такого рода высказывания достаточно типичны для изданий и телепрограмм русско-шовинистической («национал-патриотической») направленности;
д) призывы к непосредственным действиям в отношении лиц иного социального положения, иной национальности, расы или конфессии, направленным на угрозу их жизни, здоровью, материальному благосостоянию, носящим оскорбительный или унизительный характер и обоснованным (мотивируемым) принадлежностью этих лиц к данной социальной группе, национальности, расе или конфессии.
Так, лидер Народной национальной партии России Иванов-Сухаревский в 2002 г. был осужден, в частности, за выступление на митинге, где требовал: «Смерть кавказцам и жидам!»;
е) умышленное распространение ложных сведений, касающихся истории, культуры, обычаев и других особенностей, присущих данной этнической, расовой, конфессиональной группе, с целью формирования или поддержания у адресата негативной оценки или смысловой установки в отношении лиц, принадлежащих к этой группе, или группы в целом.
Вот заголовок одной из статей в МК: «Гости с юга по привычке тормозят трамваи автоматными очередями». Или (в АиФ) такой пассаж: «…от ракеты, пущенной в кибуц, или от бомбы в дискотеке откупиться невозможно. Для настоящего русского еврея это совершенно нетерпимо. Как это так, нельзя откупиться?!»;
ж) умышленное оскорбление данного лица или в его присутствии других лиц, принадлежащих к той же социальной, этнической, расовой или конфессиональной группе, исключительно либо преимущественно на основании его или их принадлежности к данной группе.
Сформировался целый «лексикон» оскорбительных кличек для различных этнических групп, правда, в СМИ (кроме откровенно фашистских и национал-шовинистских изданий типа газеты «Русский порядок») не употребляющихся, но весьма охотно ими приводимых: «жиды», «черномазые», «черножопые», «чучмеки», «чурки», «азеры», «хачики». Интересно, что невозможность (неприличность) прямого употребления таких ксенофобических прозвищ заставляет СМИ употреблять в том же ксенофобическом смысле ранее нейтральные обозначения типа «джигит». На этом фоне заголовок в МК «Москва – москвичам, тяжелая работа – хохлам» выглядит уже почти невинно;
з) умышленное распространение односторонней информации о социальных, межэтнических, межрасовых или межконфессиональных конфликтах, их причинах и протекании, связанное с выпячиванием негативной информации о действиях или высказываниях одной из конфликтующих сторон и замалчиванием негативной информации о действиях или высказываниях другой стороны.
Такого рода факты неоднократно имели место в пропаганде конфликтующих сторон во время грузино-абхазского и особенно азербайджанско-армянского противостояния. Более того, именно данный прием был одной из основ системы антиармянской пропаганды в Азербайджане; например, не упоминалось о хорошо организованном геноциде армян в Сумгаите («эксцессы» относились за счет отдельных уголовников), но зато выпячивалась вынужденная эмиграция азербайджанцев из Армении, фактически спланированная и осуществленная самим Азербайджаном;
и) умышленное распространение заведомо ложных позорящих измышлений в отношении лиц, фактов, идей, событий, документов, входящих в число общенациональных или религиозных ценностей данной этнической или конфессиональной группы.
За десять лет чеченского конфликта, а особенно в связи с ростом исламского терроризма, в СМИ появлялось огромное число публикаций, направленных на дискредитацию ислама как конфессии, на объяснение действий и высказываний чеченских боевиков этнокультурными особенностями чеченского народа и т. п.;
к) умышленное распространение заведомо ложной информации о принадлежности той или иной этнической или конфессиональной группы к иной группе, в отношении которой у адресата уже была ранее сформирована или формируется в результате действий или высказываний данного лица (организованной группы) негативная оценка или негативная смысловая установка. Так например, определенные конфессии неправомерно причисляются к числу «тоталитарных сект», ассоциируемых обычно с организациями типа «Аум сенрике».
Следует признать, что большинство таких содержательных особенностей газетных и иных текстов СМИ и политической пропаганды с трудом поддается процессуальной квалификации. Даже в случае положительной экспертизы, бесспорно удостоверяющей наличие в тексте установки на нарушение национального или расового равноправия (иногда такая установка сочетается с призывами к насильственному изменению конституционного строя РФ), до суда дело доходит крайне редко. Автор настоящего раздела может засвидетельствовать это собственным опытом – ни одна из произведенных им экспертиз не получила процессуального продолжения. Даже знаменитое митинговое выступление генерала Макашова не имело процессуальной перспективы (см. в связи с этим: Диагностика… 2002; Методические рекомендации… 1995; Нетерпимость и враждебность… 2000—2002; Понятия чести… 1997; Тарасов , 1986; Цена слова, 2002).
4.4. Некоторые группы психолингвистических методик, пригодных для экспертизы текстов
А. Методики перифразирования текста или законченного смыслового фрагмента текста. Если достаточное число испытуемых независимо друг от друга перифразирует содержание текста при его компрессии (вплоть до высших ступеней компрессии, то есть аннотирования и озаглавливания) так, что в получившихся вторичных текстах однозначно проявляется направленность на нарушение национального, расового, религиозного равноправия, то это является основанием для позитивного заключения об общей направленности текста на такое нарушение.
Б. Методики семантического шкалирования текста (методика «семантического интеграла» по В.И. Батову и Ю.А. Сорокину). В этом случае анализируемый текст вместе с несколькими контрольными оценивается испытуемыми по набору шкал, причем выбор таких шкал предоставляется самим испытуемым. В числе таких шкал могут быть шкалы «хороший–плохой», «активный–пассивный», «правдивый–ложный», «агрессивный–неагрессивный» и др. При качественном (выбор для оценивания определенных шкал) и количественном (оценка внутри отдельной шкалы) совпадении оценок испытуемых есть основания для позитивного заключения.
В. Методики свободного ассоциативного эксперимента с использованием словарей ассоциативных норм. В качестве таких словарей рекомендуются «Русский ассоциативный словарь» (1994; 1996) и «Словарь ассоциативных норм русского языка» (1977). В этом случае в качестве стимулов используются имена существительные, содержащиеся в тексте или в его законченном смысловом фрагменте, причем испытуемым предлагается дать несколько ассоциативных ответов. Возможно сравнение результатов без прочтения текста и после его прочтения. Далее производится объединение результатов эксперимента (отбираются ассоциации, общие для всех испытуемых) и пересечение ответов по отдельным словам-стимулам (остаются ответы, данные на несколько различных слов-стимулов). Этот «сухой остаток» характеризует основную содержательную направленность текста.
Г. Методики предикативного анализа текста. В принципе здесь возможно применение различных конкретных методик ( Дридзе , 1980; 1984; Новиков , 1983; Апухтин , 1976; Шахнарович , Апухтин , 1979; Доблаев , 1969 и др.). По-видимому, наиболее значимые результаты могут быть получены при применении методики Т.М. Дридзе, восходящей к принципам выявления предикативной структуры текста, сформулированным Н.И. Жинкиным ( Дридзе , 1980; 1984). Эта методика исходит из представления о тексте как иерархии коммуникативных программ и позволяет выявить в нем «основную мысль» (предикацию первого порядка) и предикации соответственно второго, третьего и т. д. порядка. В результате содержание текста представляется в виде графа, отображающего внутренние зависимости в тексте. Методика Дридзе отличается тем, что она была неоднократно верифицирована в эмпирических социопсихологических исследованиях и дала как значимые, так и перспективные в методическом отношении результаты (в частности, она вполне может быть использована в составе блока методик, охарактеризованного в следующем разделе). Так или иначе, основой для позитивного экспертного заключения может быть использование нетолерантных высказываний разного рода в качестве текстовых предикаций высших порядков.
4.5. Блок методик по выявлению установок автора текста в отношении различных объектов
В настоящем разделе впервые дается сводное описание блока методик, направленных на исследование установок автора текста в отношении объектов, упоминаемых в тексте. Иными словами, такой блок методик позволяет, опираясь на психолингвистическую структуру текста, установить и измерить смысловую и оценочную направленность пропагандистского текста, в том числе текста СМИ. Ниже этот блок будет называться «методикой взвешивания текста».
В основу методики взвешивания текста положена концепция Чарлза Осгуда, описанная в Osgood, Saporta, Nunnally , 1956, а также в Osgood, Tannenbaum , 1955 и Tannenbaum , 1967, дополненная рядом других подходов. Описанная здесь методика взвешивания текстов неоднократно излагалась автором и обсуждалась на научных конференциях и в лекционных курсах; однако, насколько нам известно, она ни разу не была реализована в целом.
Первой предпосылкой анализа является возможность выделения в тексте оценочных суждений относительно тех или иных объектов.
Второй предпосылкой является возможность сведения множества оценочных суждений относительно данных объектов к некоторому обобщенному виду.
Третьей предпосылкой является возможность представить текст в виде иерархии предикативных высказываний.
Четвертая предпосылка – возможность установить функциональную эквивалентность текстовых высказываний и трансформированных условных знаковых моделей.
1. Выделение оценочных суждений. Первым шагом анализа является выделение в тексте оценочных суждений разного уровня (актуальных, то есть истинных предикатов, типа Рамсфелд является «ястребом», или латентных, то есть скрытых предикатов, типа Такие «ястребы», как Рамсфелд…, или Известный «ястреб» Рамсфелд… ). Оценочными считаются в данном случае либо суждения, включающие прямую оценку, либо суждения, содержащие в качестве предикатов слова, имеющие в русском языке однозначный оценочный компонент (последний факт может быть установлен либо на основании словарных толкований типа неодобр., либо по данным ассоциативных норм (если в них на соответствующий стимул дается оценочный ответ типа: отец – люблю). При этом составляется список самих оцениваемых в данном тексте объектов (в данном случае это Рамсфелд).
2. Минимизация оценочных суждений. Как известно, в рамках разработанной Осгудом, Сьючи и Танненбаумом «методики семантического дифференциала» ( Osgood, Suci, Tannenbaum , 1957) была разработана технология минимизации оценок для выделения ограниченного числа «семантических измерений» (сведения списка оценочных слов к более компактному виду: исходный список включал 76 слов, вернее, полярных пар, промежуточный – 12, терминальный, как известно, 3). На материале русского языка аналогичную минимизацию осуществила А.П. Клименко ( Клименко , 1964).
Опираясь на осгудовскую технологию в модификации Клименко, мы осуществляем подстановку на место выявленных на первом шаге оценочных суждений более обобщенных (наиболее целесообразно ограничиться двенадцатью шкалами, выделенными Клименко). На данном этапе промежуточным объектом дальнейшего исследования является, во-первых, исходный текст, приведенный к обобщенному виду, во-вторых, список объектов оценки, содержащихся в тексте.
3. Предикатный анализ текста. Следующим, третьим шагом анализа является представление текста как иерархии предикативных суждений. По-видимому, здесь следует опираться на методику Т.М. Дридзе, достаточно хорошо операционализированную: эта методика (методика выделения макропредикаций) позволяет представить текст как иерархическую систему предикаций первого («основная мысль»), второго, третьего и четвертого порядков. В принципе возможен и темарематический анализ по методике В.Б. Апухтина ( Апухтин , 1976): какую именно методику мы принимаем, принципиально безразлично, так как в любом варианте наша задача – приписать данному суждению определенный предикативный «вес» в общей структуре текста.
4. Приписывание веса отдельным оценочным суждениям. На основе предыдущих шагов мы представляем структуру текста в виде списка оценочных суждений, в котором эти суждения а) приведены к обобщенному виду, б) каждому оценочному предикату приписан вес в зависимости от его места в предикативной структуре текста. Количественная характеристика такого веса может быть условной (например, для предикации первого порядка – 4, второго порядка – 3 и т. д.) или задана в результате специального эксперимента. Наконец, в данном списке суждениям в) приписывается частотность в тексте (относительно общего числа оценочных утверждений, безотносительно к конкретному объекту оценки).
5. Составление словаря объектов. Такой словарь предполагает для каждого объекта, имеющего оценку в тексте, полный набор присвоенных ему оценок (в обобщенном варианте) с соответствующей характеристикой каждой оценки по предикативному весу и частотности в тексте.
6. Иерархизация объектов. Это операция, задачей которой является расположение объектов в соответствии с включенностью множеств и отдельных объектов в другие множества. Например, определенные оценочные суждения могут относиться к «главе государства», иные – к «президенту США», еще иные – к «президенту Бушу».
В результате применения методики взвешивания текста мы получаем организованный набор (или систему) оцениваемых объектов с приписанными им качественными и количественными характеристиками. Такое представление текста позволяет при дальнейшем анализе отследить динамику изменения оценок в текстах, принадлежащих тому же автору, или сопоставить оценочные характеристики одних и тех же объектов в текстах различных авторов. Из краткого описания методики, данного выше, видно, что для ее операционализации необходимо провести дополнительные исследования. Однако ее преимущество в том, что в психолингвистике уже существуют концепции и отдельные методики, входящие в настоящий блок (например, методика предикативного анализа текста или методика минимизации оценочных утверждений).
Образ события в СМИ и возможности его искажения [14]
1. В любом событии, описываемом журналистом, есть своя внутренняя объективная структура или сценарий. По И. Сильдмяэ (1987), в сценарий события входят: субъект, средства, объект, время, обстоятельства или условия, причина, цель, результат. Как правило, в текстах СМИ, описывающих событие, отражена лишь часть этих компонентов события, то есть событие как предмет сообщения в СМИ частично, фрагментарно. Ср. в этой связи концепцию четырех основных форм выражения сведений (открытая вербальная форма, скрытая вербальная форма, пресуппозитивная, или затекстовая, форма, подтекстовая форма).
2. Понятие события может быть соотнесено с понятием ситуации-темы в психолингвистике, противополагаемом «ситуации общения». Наряду с объективной структурой событие (ситуация-тема) имеет и субъективную, то есть в нем может выделяться, подчеркиваться тот или иной компонент.
3. Журналист описывает не событие как таковое (сценарий как таковой), а его психический образ. Этот образ складывается из указанных основных признаков события, но, конечно, чаще всего не включает многие из этих признаков.
Журналист опускает соответствующую информацию – чаще всего потому, что он знает, что зритель или читатель, реконструируя на основе текста СМИ образ события, воспользуется своими знаниями и восстановит образ события правильно и достаточно полно.
4. Образ события описывается журналистом при помощи текста, конечная задача которого – создать аналогичный образ события у реципиента (читателя или зрителя). В этом процессе могут возникать и действительно возникают намеренные или ненамеренные деформации.
5. Первый вид деформации: неадекватный образ события у самого журналиста. Второй: неадекватность перевода образа события в текст. Третий вид деформации связан с особенностями самого текста, который может быть адекватен образу события, но недостаточен или непригоден для восстановления реципиентом образа события на основе этого текста. Наконец, четвертый вид деформации возникает, когда тот или иной реципиент (или группа реципиентов) оказывается неспособным восстановить из текста правильный образ события. Журналист обязан предвидеть эту последнюю возможность и закладывать в свой текст дополнительный «запас прочности».
6. Наряду с незапланированным, неумышленным расхождением образа события у журналиста и реципиента СМИ возможно такое расхождение, которое связано с сознательным процессом введения реципиента в заблуждение. Введение в заблуждение – это сознательное представление для реципиента в качестве истинного такого сообщения, которое или заведомо ложно, или не является фактологическим и содержит лишь оценку (то есть вообще не может быть ни истинным, ни ложным). Еще один вариант – когда недостоверное сообщение представляется как достоверное, верифицированное.
7. Эффективность введения в заблуждение может зависеть от следующих основных причин: а) уровень информированности журналиста (коммуникатора) и реципиента; коммуникатор либо пользуется тем, что он информирован лучше, чем реципиент, либо делает вид, что он информирован лучше; б) возможность или невозможность для реципиента проверить истинность сообщения; в) способность реципиента к экстраполяции, то есть уровень его интеллекта;
г) личностные характеристики реципиента или групповые характеристики аудитории (доверчивость, заинтересованность или незаинтересованность в информации и др.);
д) уровень доверия реципиента к источнику (например, телевизионному каналу); е) использование коммуникатором специальных средств манипулирования сознанием и поведением реципиента.
III. Реклама, телевидение и кино как объект психологического анализа
Психологические и психолингвистические основы рекламы [15]
Группа, руководимая мною, начала практически заниматься психологией и психолингвистикой рекламы еще в конце 60-х гг. Я нашел свою популярную книжку, изданную в 1966 г., она называется «Языкознание и психология», где была, можно сказать, первая публикация по психологии рекламы в те годы. (Хотя психологией рекламы у нас много занимались в 1920-е гг., но это все было совершенно забыто.) Наша группа психолингвистики и теории коммуникации Института языкознания Академии наук работала тогда, я помню, с двумя фирмами – «Автоэкспорт» и «Трактороэкспорт». Мы экспертировали их рекламы, адресованные на Запад, на Восток и вообще за границу. Что нам давали на экспертизу тогда, представить довольно трудно, я еще к этому вернусь.
Что же такое с психологической, психолингвистической стороны процесс рекламы?
Сущность этого процесса – в определенном воздействии на психику ее реципиента, которое вызывает желаемые изменения в его установках, мотивах, вообще в его личности, в его сознании, подсознании, в его поведении, действиях и поступках. Дальше я буду говорить вместо «реципиент» – «адресат рекламы», имея в виду того, на кого мы рассчитываем рекламу. В этом смысле психология рекламы очень близка психологии массовой коммуникации – прессы, радио, телевидения: в сущности, это та же область. Недаром курс, который я много лет читал на факультете психологии МГУ, назывался «Психология общения в больших системах», – имелась в виду и массовая коммуникация, и реклама. (Тогда само понятие массовой коммуникации было нон-грата, потому курс так и назвали.)
Я попытаюсь этот процесс рекламирования очень кратко охарактеризовать по последовательным этапам, по последовательным задачам, которые приходится решать рекламисту, автору и творцу рекламы. К сожалению, должен сказать, что большинство этих задач многие из тех, кто занимается производством рекламы, не то что не решают, но даже их не ставят и не видят. Они действуют исключительно интуитивно – нравится ли эта реклама мне и моему начальству. Я попытаюсь сейчас занять обратную позицию – говорить не о субъективных моментах (где хорошая реклама, где плохая), а об объективных: где реклама, полноценно решающая свои задачи, а где их не решающая, вообще этим задачам не отвечающая.
Итак, первая задача, которая перед нами стоит – это обеспечить канал воздействия рекламы, чтобы возникло какое-то взаимодействие между рекламой и ее адресатом.
Сюда относится прежде всего техническое обеспечение этого канала. Вот почему телевидение берет за минуту рекламы в определенные часы много больше денег: прежде всего потому, что налажен канал, потому что адресат, зритель телевидения уже готов включиться в эту рекламу, его не нужно заставлять выходить на нужный канал. И вероятность того, что он выключит или переключит телевизор, значительно меньше в определенные часы, когда телевизор обычно включен. Вот в эти-то часы за рекламу обоснованно берут больше, потому что половина работы уже сделана.
Дальше важен второй этап – то, что можно назвать условно психологическим включением в этот канал. Когда мы занимались восприятием радиопередач, у нас был термин «отвлечься от котлет». Вы представляете себе домохозяйку, которая жарит котлеты и в то же самое время слушает радио? Но ведь у нее одно восприятие рекламы, когда она занята котлетами, и совсем другое, когда она обращает внимание на текст, который идет, забывает о котлетах и начинает вслушиваться в текст. Перед рекламной афишей на улице человек должен все-таки остановиться, обратить на нее внимание. Часть рекламной энергии уходит именно на это, причем здесь имеются достаточно жесткие закономерности. Во всяком случае, я берусь, взяв рекламную страницу любой газеты, предвидеть, – то есть, не предвидеть, а именно знать, – какое из объявлений будет читаться первым. Кстати, в семидесятые годы была разработана психологическая методика, позволяющая взять газетный лист и на нем изобразить движение глаза читателя. В свое время она, по-моему, не была задействована.
Следующая задача: мало обратить внимание на рекламу, адресат еще должен ее принять, то есть должен возникнуть эффект доверительности, доверия по отношению к источнику рекламы. Это принятие означает: я решаю, «мое» это или «не мое». Мне это интересно, или черт с ним, меня это не касается. Этот эффект доверительности может возникать до восприятия рекламы, когда есть установка – все, что исходит из определенного источника, мне интересно, я буду читать или смотреть, потому что я уже знаю, кто рекламирует, кто автор этой рекламы и о чем эта реклама; одним словом, реклама меня уже с самого начала интересует (на подобной установке хорошо играет банк «Империал»). Или такое отношение доверительности и личностности может возникать во время восприятия рекламы как его результат. Но – возникло ли оно до или во время восприятия рекламы – оно совершенно необходимо для эффективности любой рекламы. Причем тот личностный крючок, на который мы ловим адресата рекламы, может быть любым, но он должен обязательно быть.
И если на предшествующих этапах были какие-то универсальные характеристики – профессиональная реклама или нет, обращает на себя внимание или нет, то здесь уже должно быть точное попадание именно в данного адресата, в данную социальную или профессиональную группу, в данный возраст – и это попадание обязательно должно быть дифференцированное, на это надо обратить внимание.
Впрочем, даже дихотомия «профессиональная–непрофессиональная» здесь тоже имеет место. Одна из страховых компаний, вероятно, хорошая компания, в течение примерно двух месяцев печатала во всех центральных газетах одну и ту же рекламу, сердцевиной которой была фотография (причем совершенно явно смонтированная) семьи, которая застраховывается. Семьи поразительных, как будто специально подобранных по отсутствию всякого интеллекта и вопиющей безвкусице внешнего вида, мордоворотов. Это было непрофессионально. Я сильно сомневаюсь, чтобы зрелище этой дебильной компании кого-нибудь вдохновило застраховаться.
Вы можете сказать – у них стратегия была такая. Но тут дело не в стратегии, это была тактическая ошибка. Причем раза два в прессу проникла аналогичная фотография, вполне пристойная, но почему-то в большей части печаталась именно эта.
Альтернатива? Это общеизвестные американские мальчики, курящие сигареты, продуманные до деталей, вызывающие совершенно определенное отношение у определенного, между прочим, адресата. И разные сигареты, и разные мальчики адресованы разным курильщикам, разным потребителям рекламы. Я допускаю, что кому-то, особенно из молодежи, очень симпатичны культуристы и то, что теперь называется бодибилдинг. Но я, например, как и многие люди моего поколения и моего менталитета, отношусь к этому роду человеческой деятельности с отвращением и поэтому, если я увижу любую рекламу с использованием бодибилдинга, она у меня вызовет немедленную реакцию отторжения. Поэтому здесь необходима огромная, не просто пилотажная, а серьезная исследовательская работа, которая связана и с социальной психологией, и с возрастной, и с психологией личности. И обойти решение этой проблемы в грамотной рекламной деятельности просто невозможно.
И в этой связи другая задача – как создать имидж источника рекламы, который обеспечивал бы на данном уровне доверие и позитивное личностное отношение к источнику рекламы, ну, скажем, к компании или банку. Я должен признать, что сегодняшняя телевизионная реклама, например, в этом отношении просто чудовищна. То есть она работает в значительной степени против имиджа компании-рекламодателя. Она чудовищна также и по причине полной ее безадресности. Вернее, она имеет свой адрес, но из десятков миллионов телезрителей ее адресатами являются в лучшем случае несколько десятков тысяч. Причем мы как будто специально программируем, что у этих десятков тысяч она даст положительный эффект, а у всех остальных десятков миллионов даст отрицательный. И я далеко не уверен, что это здравая точка зрения.
Еще об адресности. В конце 1960-х гг., работая с «Тракто-роэкспортом», мы обнаружили рекламный текст, который был ориентирован на Ближний Восток – туда экспортировали какой-то трактор. В начале этого текста в качестве большого достоинства данного трактора отмечалось, что он прекрасно проходит по глубокому снегу. Я бы на месте ближневосточных партнеров с этого места просто перестал читать рекламу. Боюсь, что они так и делали. У «Автоэкспорта» мы обнаружили адресованную Афганистану, если не ошибаюсь, рекламу мотоцикла, которая изображала весьма смело одетую – в короткие кожаные штанишки – очень накрашенную девицу, которая сидела на мотоцикле сзади молодого человека, обнимала его одной рукой, а другой держала зажженную сигарету. Мы заподозрили, что на мусульманскую и довольно ортодоксальную страну, которой является Афганистан, эта реклама, мягко выражаясь, не самая лучшая. Мы сделали эксперимент. Конечно, афганцев у нас тогда не было под рукой, и мы взяли московских старух-татарок, которые сохранили исламское отношение к действительности. Должен вам сказать, что эти десять-пятнадцать старых московских татарок, которым мы предъявили без всяких комментариев эту рекламу, плевались совершенно невероятным образом. Думаю, что плевались и афганцы, которые должны были, по идее, соблазниться этим мотоциклом.
Даже психолингвистически, с точки зрения языковых психологически значимых особенностей текста, реклама часто запрограммирована на негативный эффект. Возьмем название «Экорамбус». Я фиксирую такие ассоциации, которые у меня вызывает это слово – «автобус», «Карабас-Барабас» и испанское ругательство «каррамба». Я решил проверить и спросил свою восьмилетнюю дочь, на что похоже слово «экорамбус». Она без колебаний ответила, что это осьминогое существо. Я далеко не уверен, что создатели слова «экорамбус» рассчитывали на такое восприятие.
Допустим, что мы решили все эти задачи – канал технически обеспечен, внимание привлечено, позитивное отношение тоже обеспечено. Осталось решить главную задачу – воздействовать на человека конкретным рекламным текстом. Когда я говорю «текст», это не значит, что имеется в виду только словесный текст. В моем понимании текст может включать и зрительные образы, и систему того и другого.
Но на пути к воздействию этого текста мы должны решить одну более общую психологическую задачу – сделать так, чтобы текст был прочтен, вообще был воспринят. Это, во-первых, требует четкого учета мотивов, причин, по которым я должен читать. Как бы я хорошо ни относился априорно к какой-нибудь фирме, производящей трубы, но зачем мне читать рекламу труб? Ко мне никакого отношения это не имеет, и я читать эту рекламу заведомо не собираюсь. Во-вторых, даже если у меня есть мотив, то должен быть и все время поддерживаться также и интерес. И в-третьих, текст должен быть мной понят, только тогда он будет воздействовать.
У меня есть мотив читать рекламу акционерного общества РИНАКО, у моей фирмы есть с ними дела. Но публиковавшаяся одно время в ряде газет реклама РИНАКО, да простят мои коллеги из РИНАКО, написана так, что мотив-то есть ее читать, но к концу первого абзаца мой интерес к этой рекламе полностью пропадает, она написана скучно и неинтересно. Выясняется, что ее можно было не читать.
Ближе всего мне лично, как психолингвисту, проблема понимания текста. И здесь тоже огромное исследовательское поле. Я даже не могу перечислить конкретно все исследовательские проблемы. Остановлюсь только на трех.
Первое – это психолингвистическая организация текста как такового, прежде всего его связность. Необходимо, чтобы одна часть текста плавно переходила в другую и эта связь чувствовалась бы мной, читателем. И вторая характеристика текста – его цельность, когда текст воспринимается как нечто единое, структурированное, осмысленное, имеющее свои начало и конец и свою внутреннюю структуру. Это свойство любого хорошего текста, любого правильного текста, а не только рекламного ( Леонтьев А.А. , 1979). Существует довольно любопытное исследование, сделанное доктором психологических наук Тамарой Моисеевной Дридзе, по предикативной структуре текста, где показано, что в хорошем, нормальном тексте есть всегда одна центральная мысль и от нее, как от ствола дерева, ответвляются предикации, мысли второго порядка, а затем и третьего. То есть существует вполне определенная и четкая организация этого текста ( Дридзе , 1972). К сожалению, в рекламных текстах такую внутреннюю четкую организацию не всегда можно обнаружить. Вот, например, сейчас постоянно печатается реклама компании БАНСО, которая построена как беседа двух старушек насчет того, чтобы этой БАНСО продать квартиру. Сама по себе реклама неплохая. Но ее дочитать до конца мне ни разу не удавалось, потому что она внутренне распадается, написана с точки зрения общей структуры текста очень неудачно.
Кстати, эта цельность, ощущение единства текста, важно еще и потому, что большинство людей рекламу вообще не читают, ее просматривают, как и любые другие газетные материалы. Поэтому важно, чтобы текст, как у нас говорят, мог быть легко скомпрессирован, легко бы сжимался, чтобы можно было четко и без проблем выхватить из текста ключевые места и, соединив их, получить столь же осмысленное содержание. Вот как раз цельность текста и есть условие возможности, не читая весь текст, все-таки синтезировать его содержание по отдельным ключевым местам.
Вторая проблема – это вариантность текста, то есть ориентация этого рекламного текста на разные цели и задачи и на разного адресата, на разные семиотические группы. Опять сошлюсь на Тамару Моисеевну Дридзе, которая ввела это понятие. Цели не всегда совпадают с возрастными, профессиональными, социальными и так далее группами. Какие цели здесь могут иметься в виду? Ну, скажем, создание имиджа фирмы – реклама может быть направлена не на то, чтобы продать данный товар, а на то, чтобы создать у адресата определенное отношение к фирме. Вторая возможная цель – сообщить некоторое новое знание. Ну, скажем, переезд фирмы МММ. Это не реклама того, что продает МММ, это просто сообщение, что ее надо искать там-то, а не там-то. Или – появление на рынке новой, более совершенной модели компьютера. Еще одна возможная цель – побуждение адресата к покупке данного товара, именно данного. И вот здесь возможны опять-таки очень разные варианты. Почему я должен купить именно этот товар? Потому что он мне нужен – это один мотив, потому что он дешев – второй мотив, потому что мне идти недалеко, чтобы его купить, – третий мотив, и так далее.
Конечно, они, как правило, выступают все вместе, но доминирует всегда какой-то один. И вот здесь опять-таки встает проблема мотивов, хотя и по-другому, в другом плане. Учитывать при составлении рекламы это необходимо. Тем не менее, подавляющее большинство газетных реклам, с которыми я сталкиваюсь, – это не столько рекламы, сколько информации. Они психологически совершенно нейтральны, никаких моих мотивов там не учитывается. В лучшем случае они работают на цели информации.
Здесь снова встает проблема моего, адресата, отношения, на этот раз уже не к сообщению как таковому и не к его источнику, фирме, а к его конкретному содержанию. То есть к товару, который в данном объявлении рекламируется.
Конечно, мое отношение к товару будет как-то связано и с отношением к фирме-производителю, фирме-рекламодателю. Но, с другой стороны, не все, что производит данная фирма, хотя мне очень и симпатичная, нужно и симпатично мне и я это куплю, и вообще поставлю перед собой вопрос о том, купить это или не купить.
Но может быть и еще более интересная задача рекламного текста, о которой сейчас мы практически не думаем. Это задача изменения у меня, у адресата, ценностных ориентаций. Вы думаете купить товар потому, что он дешев? Так нет, лучше идите к нам – вы купите, конечно, подороже, но зато вам обеспечен гарантийный сервис на пять лет.
Третья проблема – проблема однонаправленности всех компонентов воздействия текста. Мы уже сталкивались с этим – название фирмы, название товара должны в плане своей психологической выразительности соответствовать основной задаче воздействия. Компьютерные программы «Отзвук», «Радуга» и «Эхо» довольно хорошо работают на решение этой проблемы. Могу привести пример. Мы прогнали название моей фирмы «Митридат» через программы, получился такой результат: значимые характеристики – маленький, гладкий, мелкий, безопасный, нежный, добрый, мягкий, женственный. Поскольку фирма занимается преподаванием иностранных языков, а там, в основном, естественно, женщины, то нас вполне устраивает такой звуковой образ названия. Д.А. Леонтьев сообщил, что очень близкий звуковой образ получился для слова МЕНАТЕП, – вряд ли это согласуется с их собственными намерениями. У них должно быть что-то мужественное, по-видимому. Нас же доброта, нежность и мягкость устраивают как подсознательные оценки. Подавляющее большинство людей, даже довольно интеллигентных, не знают, кто такой Митридат. Для них он такая же заумь, как Экорамбус или Ринако.
Последняя психологическая задача. Как будто все решено у нас – канал обеспечен, внимание привлечено, отношение сформировано, текст правильно адресован, текст понят, текст внутренне целостен по характеру воздействия. Осталась только одна мелочь, а именно – добиться, чтобы адресат совершил нужный поступок. Не просто хорошо отнесся к моему товару, а пошел бы и его купил. Вот эта задача решается сейчас, в существующей рекламе, очень редко. То есть мне говорят: это хорошо у нас, вот это ново, это тебе годится…
А дальше я начинаю искать – а где бы это находилось, где же эта улица? Да черт с ней, с Газгольдерной, я туда не поеду, а лучше пойду куда-нибудь поближе и куплю что-нибудь подороже. А то вот еще новая мода: давать только телефон. То есть дело не доводится до конца, не обеспечивается последнее звено в цепочке. Практически эта проблема решается так: в рекламу встраиваются карты-схемы, которые как раз работают на решение этой задачи – делают так, чтобы я все-таки дошел до этой фирмы, а не просто к ней хорошо относился.
Я, наверное, изложил только половину всех психологических требований, которые можно и нужно предъявлять к рекламному сообщению, к рекламному тексту. Уже из того, что я сейчас рассказал, видно, что психологически грамотная реклама предполагает сложнейший комплекс требований, которые должны учитываться, причем другой вопрос – каким образом эти требования надо учитывать. В каких случаях нужны, скажем, специальные исследования, и не стоит жалеть деньги на такое исследование, чтобы четко определить своего адресата, например, потом это обойдется дороже. С другой стороны, существуют методики оценки конкретного сообщения. Существует возможность еще так называемой экспертной оценки, которая тоже должна быть грамотно построена. Что значит экспертная оценка? Это не значит, что я приглашаю некоего господина, который кончал психологический факультет, называю его экспертом и спрашиваю: хороша эта реклама или плоха? Существует совершенно четкая методика проведения психологической экспертизы, и она должна соблюдаться, тогда результаты будут полезными.
Мне остается только сказать, что тому комплексу психологических требований, которые должны предъявляться к рекламе, из сегодняшней рекламы отвечают считанные единицы. Нужно пропагандировать среди заказчиков необходимость психологической грамотности любой рекламы.
Психолингвистика рекламного текста [16]
Я занимался рекламой в нашей стране тогда, когда ею никто не занимался. Дело было 25 лет тому назад, когда была только одна официальная организация в Советском Союзе, которая профессионально занималась не только теорией, но и практикой рекламы. Исследовательская группа психолингвистики и теории коммуникации Института языкознания Академии Наук не только писала статьи и вела семинары, но еще работала по заказу фирм, которые были заинтересованы в улучшении своей рекламы. В частности, это были «Автоэкспорт» и «Трактороэкспорт». Я попытаюсь в той или иной форме поделиться сегодня, в частности, и тем, что мы в свое время наработали.
Что такое рекламный текст и вообще текст? Это любой структурно организованный продукт общения, организующий само общение, то есть это любая, не обязательно речевая или языковая, структура, отчужденная от человека и используемая для воздействия, для общения с этим человеком той или иной социальной группой, социальным институтом. Это способ общения или орудие общения социальной группы, формальной или неформальной, с конкретным человеком. Я подчеркиваю, это не обязательно языковой, речевой текст. Плакат, на котором, собственно говоря, может и не быть текста или текст играет вспомогательную роль, есть тоже текст. Рекламное объявление в газете тоже есть текст, совокупность телевизионной рекламы, а не только речевка – есть текст, и это необходимо учитывать.
По-моему, нет такого закона рекламы, который не был бы нарушен на нашем телевидении, начиная с адресованности. Телереклама не адресована, она занимает самое горячее и дорогое время, между тем те люди, на которых она потенциально может быть рассчитана, составляют доли процента от потенциальных телезрителей. Абсолютно нарушен второй закон рекламы – ее мотивированность, или ориентировка на определенные мотивы. И я уже не говорю о том, что совершенно непонятно, для чего она. То есть какова ее операциональная направленность. Если я, допустим, обнаруживаю в американском или немецком журнале рекламу нового электронного прибора, то ясно, что меня убеждают, чтобы я или сменил устаревший на новый, потому что новый лучше потому-то и потому-то, или чтобы я согласился, что мне этот прибор нужен, пошел бы в такой-то магазин и там бы купил. Но что я должен делать, посмотрев нашу телевизионную рекламу? Говорилось, что у нас это способ общения между производителями или посредниками рынка, допустим, между биржами. Но, простите, тогда это не реклама и она должна размещаться не в этом канале и не в это время и не в этой форме. Потому что если реклама биржи – это способ общения между биржами, то тогда и содержание этой информации должно быть другим. Там должны быть высвечены те вещи, которые существенны для биржевиков или потенциальных клиентов этих бирж. Наша же реклама фиксирует чаще всего только само существование данной биржи, причем ничего не говорится о том, чем эта биржа отличается от других бирж, и почему надо идти туда, а не куда-нибудь еще. Поражает абсолютный непрофессионализм с любой точки зрения. Но биржевик не обязан понимать, как надо делать рекламу, для этого есть люди, которые должны это профессионально делать.
Тексты в рекламе имеют три основные функции: собственно рекламную, информационную и пропагандистскую. Рекламный текст промежуточен между информационным и пропагандистским. Реклама добивается от меня, от потребителя, или смены установки, или создания новой установки, или непосредственного действия. В конечном счете, всегда действия, умственного или непосредственного – пойду я в этот магазин сию минуту или у меня где-то ляжет в голове данная информация и, проходя однажды случайно мимо магазина, я в него зайду – это сейчас не важно. С другой стороны, это еще и информация. Это еще и пропаганда, потому что независимо от моих социальных действий, независимо от конкретных операций, которые я должен совершить с содержанием этой рекламы, есть еще и момент влияния на мое смысловое поле в целом. Скажем, даже сам факт появления рекламы биржи, независимо от того, пойду ли я на биржу, есть в каком-то смысле пропагандистский момент – меня втягивают в некую новую для меня систему отношений, втягивают в новую социальную, социально-психологическую и экономическую реальность. Мне довольно часто приходилось бывать на Западе, там я стараюсь смотреть ТВ и, естественно, рекламу. То, что отличает их телевизионную рекламу от нашей – это, простите, осмысленность. Я смотрю рекламный ролик и понимаю, для чего это. Такое ощущение, что наши рекламисты, массовые производители рекламы, действуют по принципу аналогии, не анализируя, для чего это делается, а просто берут внешнюю сторону и переносят сюда, вплоть до грабежа и использования чужих роликов.
Но вернемся к тексту. Есть три понятия, связанных с текстом. Это конструкция текста, так сказать, его внешняя сторона. Она определяется в книге Реформатского и Каушанского «Техническая редакция книги» ( Реформатский при участии Каушанского, 1933) как расположение знаков в пространстве, внешние геометрические формы, вопросы гармонического заполнения бумаги набором, вопросы объема книги, ее третьего измерения, то есть внешние характеристики. Вторая часть, второй аспект текста – это его архитектоника, которая определяется как логический костяк книги, членение на части, отделы, главы, параграфы, находящие свое выражение в системе заголовков, то есть это то, что мы чаще всего называем композицией, содержательной композицией, внутренней организацией содержания и т. д. Третья сторона, называемая структурой текста или книги, понимается как соотношение знаков внутри текста как системы в пределах данного контекста, соотношения знака и системы знаков, смысла и системы смысловых явлений, выразительные внутренние формы. Поясню, что имеется в виду. Имеется в виду, так сказать, язык построения этого текста. Скажем, соотношение используемых шрифтов и другое, связанное с тем, как содержание соотносится с внешними выразительными средствами, используемыми для маркировки этого содержания.
К любому тексту можно подходить с двух сторон: 1) рассматривать текст как таковой, лишь вторично рассматривая закономерности его восприятия; 2) подходить с точки зрения процесса восприятия, менее занимаясь самим текстом. Я начну с самого текста, а к восприятию текста вернусь потом. Буду говорить пока только о самом речевом тексте, не обращаясь к зрительному, иллюстративному. Здесь придется отметить несколько отдельных позиций.
Первая позиция – это легкость и трудность текста для восприятия, то есть то, что применительно к учебной и другой литературе обычно называется читабельностью текста. Существуют специальные формулы этой читабельности. Самая знаменитая из них – это формула Флеша. Она получена, естественно, эмпирическим путем, поэтому выглядит довольно странно: Х1 = 206,48 – 1,015Х2 – 0,846Х3. Х1 – это оценка трудности текста для среднего реципиента, X2 – это средняя длина предложения в словах, X3 – это число слогов на 100 слов текста. Формула предназначена для английского языка прежде всего, конечно. Действуют два фактора – длина предложения и сложность слова. Работают, помимо этих двух вещей, словарный состав и структура предложения, и еще два момента – концептуальная и информационная насыщенность и фактор интереса.
Что значит читабельность практически? Это значит, что данный текст, во-первых, любым средним читателем может быть элементарно понят, во-вторых, средний читатель легко читает этот текст и не испытывает трудностей при чтении. Ну, скажем, если по приведенной формуле X1 = 60 (а он может быть от 0 до 100), то это означает, что этот текст вполне может прочитать человек с 8-классным образованием, что он легок для лиц с высшим образованием, и для среднего американского читателя стандартен по трудности. 60 – это как раз и есть тот уровень, при котором средний американец может легко этот текст прочитать.
Какие еще факторы срабатывают и существенны для читабельности? Я не случайно начал с книжки Реформатского и с трех характеристик текста; как раз эти характеристики, то есть архитектоника, конструкция и структура, существенны для легкости восприятия текста. Если текст организован по этим трем параметрам, то тогда он читается легче. Попробуйте возьмите после этого любую нашу рекламу и посмотрите ее с точки зрения структуры, архитектоники и конструкции. Там, по-моему, нет ни того, ни другого, ни третьего.
М.С. Мацковский, крупный социальный психолог и психолингвист, предложил несколько другую формулу: Х1= 0,62Х2 + 0,123Х3 + 0,051, где X1 – тот же самый, X2 – средняя длина предложения в слогах, X3 – процент слов длиннее трех слогов (4 и больше). Эта формула проще и приспособлена к особенностям русского языка ( Мацковский , 1976).
Вторая позиция: проблема непротиворечивости, согласованности различных языковых элементов текста. Здесь три момента: грамматика, то есть прежде всего синтаксис, строение предложения, затем лексика и фонетика. Соотношение синтаксиса и лексики, то есть словарного состава, достаточно ясно – чем проще синтаксис, тем более нейтральная или даже разговорная лексика. И наоборот. Это связано с особенностями вообще функционирования языка и различных его форм и стилей. Вторая подпроблема, тяготеющая к этой проблеме, – это проблема участия звукового компонента, фонетики, в общем восприятии и общих характеристиках текста. Здесь мы приходим к одному интересному моменту, который называется фонетическим символизмом. Вы обратили, видимо, внимание на то, что в нашей прессе не было газеты, которая не ругалась бы по поводу знаменитого сокращения ГКЧП. Его называли непроизносимым и так далее. Я с большим интересом как психолингвист читал эти газетные жалобы, потому что за этим стоит совершенно объективная вещь. Здесь мне придется обратиться к работам Александра Павловича Журавлева ( Журавлев , 1974). Он взял известный вам семантический дифференциал Осгуда, то есть методику семантического шкалирования, в данном случае объектами были звуки языка, вернее, звукобуквы, потому что они давались в буквенном виде. И выяснилось в результате проведенного им исследования, что все звуки любого языка для носителя этого языка, говорящего на этом языке, имеют некоторую достаточно типичную характеристику по семантическому дифференциалу. Во-вторых, выяснилось, что можно определить, шкалировать, так сказать, по довольно простой формуле, как выглядит с этой точки зрения слово. Один из первых выводов А.П. Журавлева состоял в том, почему же у нас такую противоречивую эмоциональную реакцию вызывает обращение «женщина»: потому что слово «женщина» с точки зрения семантического дифференциала, семантического шкалирования никак не вписывается ни во что хорошее. Кстати, слова на – щина вообще производят негативное впечатление: сталинщина, поножовщина… В записных книжках Ильфа было прекрасное слово – выдви-женщина…
Причем самое любопытное, что и на уровне текста можно это проследить. Был эксперимент Красниковой, она у меня писала диплом, где было показано, как звуковой символизм работает на тексте. Я расскажу один из экспериментов Красниковой ( Красникова , 1975). Было взято несколько текстов, текст был простейший. В некоторой стране была газета, в этой газете каждую пятницу печаталась рубрика «Куда пойти обедать на уикэнд». В один прекрасный день в соответствующем номере эта рубрика не вышла, а вместо нее было извинение от редакции. Мол, просим прощения, но сотрудник редакции, который ведет эту рубрику, отравился при исполнении служебных обязанностей. Вот и весь рассказик. Было взято три варианта. Вариант, изложенный выше, и два варианта, в которых были квазислова, то есть составленные специально названия города или страны, где это происходило, и название газеты; эти квазислова были подобраны из «горячих» по шкалированию или из «холодных» букв. После чего по законам эксперимента были уравнены три группы – 2 экспериментальных («горячая» и «холодная») и контрольная (текст без квазислов). Им было предложено текст прочитать, а потом ответить на два вопроса. Первый вопрос звучал так: «Каким блюдом отравился журналист? Горячим или холодным?» Результат: в контрольной группе было 50:50, то есть случайное распределение. В «горячей» группе и в «холодной» группе было примерно 75 процентов совпадений. Второй вопрос: «Откуда вы это знаете?» На этот вопрос ни один испытуемый не смог ответить. Я думаю, что это само по себе довольно любопытно, и более того. Если не учитывать этого момента, боюсь, может возникнуть некоторое внутреннее противоречие при создании бессознательной установки, противоречие, так сказать, по направлению воздействия текста.
Теперь давайте пройдемся по этим трем вышеобозначенным характеристикам текста (структура, архитектоника и конструкция) и попытаемся посмотреть, что там для нас интересного.
Что касается структуры, то очень существенным моментом в любом тексте – не только рекламном, но и рекламном тоже – является его внутренняя «полосатость», хотя это и не вполне академическое выражение. То есть имеет место чередуемость. Чередуемость чего? Существуют различные исследования разных текстов, они дают все один и тот же эффект – слоистость текста, но только эта слоистость выделяется по разным параметрам. Например, в тексте, самом, казалось бы, наукообразном, обязательно идет достаточно закономерное чередование информативного субтекста и субтекста, в котором фиксируется отношение автора к предмету, отношение автора к коллегам – система отношений, переживаний. Это обязательно есть в любом, даже самом, казалось бы, научно-информационном тексте. А взяты были, например, тексты и по атомной физике. Второе исследование – это исследование В.Г. Костомарова, он исследовал публицистические тексты (это уже совсем близко к рекламе) ( Костомаров , 1971). Он установил, что на разных уровнях (внутри предложений, в чередовании предложений, в чередовании больших кусков текста, абзацах) в любом воздействующем тексте, в данном случае публицистическом – журнально-газетном – происходит чередование компонентов стандартных, стереотипных и компонентов экспрессивных. Не может существовать текст, построенный на чистой экспрессии, на чистом взвизге, так же как и невозможен текст, построенный на чистых стереотипах. То есть, он, конечно, возможен: вы уже не застали, наверное, времени, когда большинство газетных материалов шло на чистых стереотипах, которые можно составлять из блоков, как блочный дом. Последние несколько лет уже этого нет. Еще один момент. Структура, то есть организация содержания, не является универсальной характеристикой любого хорошего текста. Дело в том, что любой хороший текст будет разным для разных потребителей. В сборнике «Речевое воздействие» есть одна из первых публикаций Тамары Моисеевны Дридзе ( Дридзе , 1972), которая вышла на очень важные для нас выводы: что весь корпус потребителей, весь корпус читателей делится, как минимум, на 7 так называемых семиотических групп. Определение этих семиотических групп – группы людей, располагающие относительно общим словарем, или лексиконом, тезаурусом. Во-первых, это касается владения элементами общелитературного языка, владения словарем, грубо говоря. Второе – владение элементами текста, то есть сочетаниями элементов словаря в тексте. И третье – умение оперировать этим словарем, скажем, толковать его. Т.М. Дридзе, например, исследовала, как люди умеют толковать те слова, которые, они, казалось бы встречают в газете, по радио каждый день, вроде «вояж», «эскалация». Выяснилось, что только меньшая часть людей, кстати, вполне образованных, с высшим образованием, может дать похожую на истину интерпретацию такой лексической единицы. Таких групп семь. Первая группа – люди, которые владеют всем прекрасно – и словарь, и текст, и умение оперировать. Их всего 12 процентов. Вторая группа – люди, которые ничего не умеют, их 19 процентов. (Повторяю, что эти данные не имеют никакой корреляции с образовательными или иными характеристиками). Дальше идут те, которые владеют вроде бы языком и владеют словарем (то есть вроде бы им знакомы слова), но они совершенно не умеют ими оперировать, скажем, не умеют их интерпретировать правильно. Таких 32 процента. И так далее.
Существенно, что большинство читателей газет на самом деле практически не понимают большую часть газеты. То есть они неадекватны тому, что мы им предлагаем. Имейте в виду, что большинство будет воспринимать тексты, в том числе и рекламные, с самого начала неадекватно. Не помогут и повторения. Хоть десять раз повторяйте, но если все, что вы можете сказать о слове «эскалация», – что это что-то плохое (кстати, это типичный ответ), то сколько раз это слово ни повторяйте, ничего не прибавится. Что касается архитектоники и композиции, надо обратить внимание на то, что существуют методики (прежде всего той же самой Дридзе), позволяющие рассматривать текст как целостное образование. У любого текста вообще есть две характеристики – это связность и цельность ( Леонтьев , 1979). Что такое связность? Вы берете отдельные компоненты текста, и они друг с другом связаны – или грамматически, или семантически, или тем и другим способом. Обычно связаны вот так отдельные предложения, высказывания в тексте, отдельные мелкие компоненты текста в объеме не больше 7 плюс-минус 2 предложения. Для чего нужна эта связность при восприятии текста? Просто для того, чтобы текст мог быть воспринят как целое, это внешний сигнал внутренней организованности текста. И вторая характеристика текста – это его цельность, то есть его законченность, самоценность как целого текста. Существуют языковые приемы, специфические для связности. Например, это личное местоимение в одной из своих функций (типа «он, она, они») в русском тексте – функции отсылки к предшествующему высказыванию («Петя встал рано. Он почистил зубы…»). Здесь чистая связность, «он» служит тому, чтобы не повторять «Петя». Есть языковые средства, которые служат для маркирования цельности текста в этой самоценности его как целостной единицы. В частности, есть, так сказать, маркеры начала текста, введения в текст. Если брать фольклорный текст, это «жили-были». Есть маркеры конца текста – в конце письма поставить «vale» или «dixi». Есть языки, в которых до сих пор существуют маркеры конца, в токписин, государственном языке Папуа Новой Гвинеи, это Em tasol от английского «that’s all». Есть языковые средства, фиксирующие внутреннюю структуру. Ну, скажем, «во-первых», «во-вторых», «перейдем к…». Это не столько структура, сколько структура в рамках единства.
Существует методика, разработанная опять-таки Т.М. Дридзе, идущая от Н.И. Жинкина, В.Д. Тункель, И.А. Зимней, – методика так называемого предикативного анализа текста, в результате которого мы получаем некоторое дерево предикаций, утверждений. Предикация первого порядка, а она может быть только одна, это главная мысль, затем идут предикации второго порядка, производные от нее, третьего порядка и так далее ( Дридзе , 1976). Причем эта предикативная структура как результат предикативного анализа нужна, когда мы начинаем производить компрессию текста.
Правильная компрессия текста – та, при которой не теряется его содержание и субъективно он остается тем же самым. Она имеет место, когда вы правильно обрезаете ветки, то есть сначала обрезаете ветки только третьего порядка, потом – второго, и остается лишь основная мысль. Этот предикативный анализ может быть использован для любого воздействующего текста, в том числе и рекламного. Важно, что для разных семиотических групп оптимальной для восприятия является разная предикативная структура. Предъявлялась одна и та же газетная статья, вернее, два ее варианта – заведомо хорошо организованная и заведомо плохо организованная. И нашлась часть читателей, которой легче было работать с плохо организованной структурой, чем с хорошо организованной, как это ни парадоксально.
Существуют и другие методы представления текста. Например, В.Б. Апухтин писал о темарематической структуре текста. Таких моделей существует пять или шесть. Есть модель, описанная Л.П. Доблаевым, саратовским психологом, на материале учебных текстов. Но модель Дридзе наиболее отработана и аргументирована, она наиболее хорошо работает в практике, когда люди имеют дело с оптимизацией любого текста, будь то учебный или информационный, воздействующий и т. д.
В конструктивном плане, то есть в том, что касается выразительных средств текста, в упомянутой книге Реформатского на 107 странице интересны общие принципы графического выражения. Принцип первый: каждому элементу содержания данного текста должен быть присвоен определенный графический признак, восприятие которого дает сигнал сознанию к распознаванию данного элемента среди прочих. Если вы хотите выделить что-то в содержании, то нужно четко с самого начала найти способ внешнего выражения этого, будь это верстка, размещение в пространстве, будь это использование шрифта, его размера, характера шрифта – это уже непринципиально. Второй принцип: связанные по смыслу и роли в данном контексте элементы содержания должны иметь общие графические признаки, а контрастные – различные. То есть, если вы вводите в ваш текст вещи, которые вам нужно противопоставить, нужно сразу же продумать, каким оптимальным способом вы будете это противопоставлять для читателя, маркировать это противопоставление. У нас, как правило, идет единый сплошной текст, в котором даже я, работающий много лет с воздействующими текстами, вынужден долго думать, где же главное и неглавное. Мне приходится делать как читателю невероятную дополнительную работу, которую за меня должен делать автор этого рекламного объявления или текста. Третье: так как графические знаки обычно обладают одновременно несколькими графическими признаками – рисунок, жирность, величина и так далее, то различные элементы, различаясь одними графическими признаками, могут одновременно объединяться другими. То есть, например, вы можете дать полужирный крупный и полужирный мелкий, тогда, с одной стороны, будет противопоставляться крупный и мелкий, а с другой стороны, будет противопоставляться полужирный и простой. Можно использовать эти характеристики, передавая самые различные комбинации смысловых связей. Четвертое: относительная сила воздействия графических признаков на восприятие: какие шрифты наиболее рекомендуются к использованию. По степени воздействия на нейтральном фоне курсив – один из наиболее воздействующих, затем прописной, полужирный, жирный, все остальные средства. У нас почему-то считается, что жирный шрифт – это хорошо, а ведь это хуже, чем полужирный, и еще хуже, чем курсив. Пятое: для выражения замкнутости данного контекста один графический признак должен быть общим для всего текста, должен быть фоновым, обычно это единый стандартный шрифт. На его фоне уже можно играть, можно давать тонкий, полужирный, курсив, а можно и наоборот – курсив в виде фона, а выделять простым, полужирный текст может быть выделен светлым. Этим у нас совершенно не умеют играть, а единственное, что у нас очень любят делать в информационных, правда, а не рекламных газетах, так это печатать белым шрифтом на черном фоне, что абсолютно невоспринимаемо.
Существует огромное количество выразительных средств, которым не учат в школе. Ну, знаки препинания, конечно, учат. Зато имеется большое количество внеалфавитных, как говорят, знаков, всяких звездочек и так далее, которые реально работают на восприятие текста. Но особенно важно, что существуют еще вещи типа пробелов, отбивок, то есть организация пространства, где этот текст, это слово, эта строка размещаются на общем белом пространстве, – как это делать, вообще никто не учит. Существует один интересный принцип (у Реформатского) – так называемое понятие защиты, имеющее отношение к вышеописанным пяти принципам. Под защитой понимается обеспечение выразительности, причем он вводит понятие избыточной защиты – можно одно и то же дать сразу и полужирным шрифтом и курсивом, и еще подчеркнуть, и получится черт-те что.
Теперь несколько слов по более частным вопросам, касающимся собственно рекламного текста. Существует понятие так называемой сатиации, или насыщения. Что это такое? Это чисто психолингвистический момент, который связан субъективно с тем, что когда вы слишком часто или при определенных условиях наталкиваетесь на одно и то же слово (что у нас бывает в прессе и по ТВ часто), получается эффект бумеранга, эффект насыщения, когда вы как бы перестаете это слово понимать и психологически отталкиваетесь от этого слова, фрагмента текста. Например, вы выполняете математический тест, и оказывается, что если в нем слишком часто повторяется одно и то же слово, возможно, нужное для выполнения этого теста, то выполнение теста затрудняется. Причем слово, которое более самостоятельно в тексте, дольше сопротивляется насыщению. Скажем, существительное дольше сопротивляется насыщению, чем глагол, неопределенная форма дольше, чем личные формы глагола и так далее. Очень плохо получается, когда это случается с иностранными словами, а мы любим кокетничать ими. Так, например, слова типа «репертуар» и «секретер», то есть явно ощущаемые как иностранные, просто перестают пониматься, и возникает эффект субъективного отталкивания. У некоторых людей есть излюбленные слова, повторение каждый раз которых вызывает почти мгновенную сатиацию, особенно это относится к сочетаниям типа «более или менее», «тем не менее». Сатиация – субъективное ощущение бессмысленности слова, которое только что было осмысленным.
Между прочим, это часто бывает у школьников: когда мы их заставляем выучивать стихи наизусть, то мы делаем страшную вещь, мы «сатиируем» пушкинскую лексику. Считается, что если мы Экорамбус красиво назовем Экорамбусом и будем повторять это слово по телевидению каждый день по 4 раза, это заляжет в вашу память и вы в дальнейшем будете к Экорамбусу хорошо относиться и в случае необходимости туда пойдете. На самом деле, по эффекту сатиации, вы можете этот Экорамбус в упор не увидеть, вернее, вы его увидите, но обойдете за километр – включается психологическая защита. Эта вещь мало известна, но здорово действует. К вопросу о самостоятельности слова: проводились эксперименты, где бралось слово в рекламе, например, «треска», когда она еще была, и если вы повторяете лишь слово «треска», то оно быстро сатиируется. Но если говорить «трески, треску, треске, треской, к треске» – то это сатиируется моментально, и вы тут же бросите читать этот текст ( Негневицкая , 1976).
Касается лексики фактор контекстности, он тоже не учитывается. Если взять слово «холодный» просто как стимул в ассоциативном эксперименте, то ответом будет «горячий». Но на самом деле вся эта система контрастных ассоциаций или, наоборот, ассоциаций по смежности оказывается различной в зависимости от того, в каком контексте мы встречаем данное слово ( Сахарный , 1976). Эксперимент был простой: давались стимулы однословные – «холодный», двусловные – «холодный день», «холодная вода» и трехсловные – «холодный зимний день», «холодная вода в реке» и так далее, и смотрели, какие будут ответы. Результаты: «холодный зимний день» – почти никто не ответил «жаркий», «теплый» – 68 процентов, на «холодный день» уже было более разбросано – 42 процентов ответили «теплый день» и 53 – «жаркий», «холодная вода в реке» – 85 процентов ответили «теплая вода в реке» и ни один человек не сказал «горячая», на «холодная вода» 90 процентов ответили «горячая вода», никто не сказал «теплая», и так далее. Этот эксперимент для употребления лексики в воздействующем сообщении, в частности рекламном, очень существенен и может дать совершенно незапланированный эффект.
Третья проблема касается так называемой дистанции. Это чисто условная характеристика, фиксирующая, насколько данный текст соответствует сфере компетентности и сфере интересов читателя. То есть дистанция от математика до математического текста маленькая, а от художника до математического текста будет гораздо больше. И от математика до текста по истории искусства тоже будет больше. Текст, близкий читателю по дистанции, читается быстрее и легче. В условиях дефицита времени, а рекламный текст, как правило, существует в условиях дефицита времени, может быть эффективно, быстро прочтен и понят только текст, близкий по дистанции. Чем он ближе по дистанции, тем больше гарантии, что в условиях дефицита времени он будет прочтен. Чтение текста, дистанция до которого мала, оказывается более «смысловым», а чтение текста, дистанция до которого велика, более «значенческим», он читается более формально, меньше возникает отношения к нему. Текст, дистанция до которого мала, понимается и воспроизводится много лучше, чем текст, дистанция до которого велика. Различие во влиянии дистанции на понимание и воспроизведение текста особенно резко проявляется при чтении в условиях дефицита времени. Поэтому наши тексты, которые работают неизвестно на кого, приговорены к тому, чтобы быть для значительной части читателей неэффективными ( Фоше, Московичи , 1972).
Требования, которые относятся к рекламному тексту, надо разделить на разные группы в соответствии с различными функциями рекламы. Эти функции рекламы вам известны.
Первое – это требования, связанные с задачей привлечь внимание. «Нелощеность» рекламы, своего рода изюминка, нужна для того, чтобы глаз не скользил по рекламе. Причем важно иметь представление о том психологическом фоне, на котором происходит восприятие данной рекламы. Второе – требования, связанные с задачей четко, быстро и эффективно отождествить рекламируемый товар и те условия, при которых он может быть использован. Третье – это собственно требования к эффективности рекламы, на которых мы остановимся подробнее.
Во-первых, это ее престижность, причем она может быть разного уровня, – престижность самой рекламы, престижность канала рекламы. Мне кажется, что очень много идет неэффективной рекламы потому, что престижность канала оценивается не совсем правильно. Действительно, очень престижно давать рекламу по первому каналу на телевидении или в газете «Известия», но кто эту газету читает – те ли люди, на которых рассчитана эта реклама?
Но главное, чего не должно быть в рекламе – вещей, которые вызывают негативную реакцию, недоверие, а тем более двусмысленностей. Мы в Группе психолингвистики столкнулись с самого начала с рекламой «Москвича-412». Она выглядела так: на фоне леса стоит «Москвич-412» и на него опирается в странной позе «светская» женщина в лиловом вечернем платье, которая очень напоминает по комплекции Людмилу Зыкину. Текст: «Новый легковой автомобиль «Москвич-412», унаследовав от предыдущей модели надежность и прочность, стал еще элегантнее». Элегантностью там, конечно, и не пахло, – обычная русская баба, одетая в лиловое вечернее платье, которое идет ей, как корове седло. Все это естественно переносится на «Москвич-412», и я, потребитель, естественно, не захочу такой элегантности.
Вторая сторона эффективности воздействия рекламы – это информативность. То есть в тексте или картинке должно быть все, что необходимо, и в то же время не должно быть ничего лишнего, мешающего, вызывающего побочные ассоциации и просто мне не нужного. Потому что, как только я наталкиваюсь в тексте на ненужные мне компоненты, я сразу перестаю читать. Любая точка текста должна для меня, адресата, быть актуальной, иначе я, вероятнее всего, просто отброшу этот текст. Опять пример из нашей практики: «Трактороэкспорт» как-то дает нам на экспертизу рекламу, которая была универсальной и рассылалась во все страны мира, в том числе в Африку. В рекламе говорится о каком-то тракторе, что «он незаменим при движении по глубокому снегу».
Третья сторона – убедительность. Иначе говоря, учет реальных вкусов, реальных привычек, так сказать, общепсихологического фона и мотивации. Это понятно.
И наконец, четвертая сторона эффективности рекламы – ее суггестивность. То есть, независимо от моего сознательного отношения к содержанию рекламы и к рекламируемому товару, я эту рекламу должен принять, она должна задержаться в моей голове, и у меня должно быть бессознательное нужное отношение и к рекламе и к рекламируемому товару. Кстати, у нас очень редко используются рифмовки. Одна из блестящих американских политических реклам, лучшая в мире – это был предвыборный лозунг Эйзенхауэра: «I like Ike». Эта находка была гениальной. Оценить эффективность конкретных вещей такого рода достаточно трудно, можно сказать, чего не должно быть, а вот то, что должно – за это никто бы, наверное, не взялся. Реклама, которая звучит так: «Сапожки по ножке», – это хорошо. А вот текст, гласящий «Пищевые концентраты», – заведомо плохо.
О языковых особенностях рекламы. Во-первых, какая лексика годится для рекламы, а какая – нет? Для определенной категории рекламных текстов, для большинства рекламных текстов, пожалуй, любая усложненность, неразговорность, ненейтральность лексики не оптимальна. С другой стороны, есть прекрасные образцы «усложненной» рекламы, кстати, это классические случаи, описанные в книге Осгуда ( Osgood, Suci, Tannenbaum , 1957). Были написаны несколько рекламных текстов для какого-то крема для рук, и все эти тексты были пропущены через семантический дифференциал. Оказалось, что наибольшая эффективность и суггестивность не у текста, апеллирующего к авторитету кинозвезды, а у совершенно наукообразного текста, где крем описывался в квазинаучных терминах. Возможно, это особенность американской рекламы. Возможно, это придает рекламе этого крема отличительный характер. Второе. Теоретически нельзя употреблять в рекламных текстах отрицательных конструкций, а также отрицательных по значению слов типа «нигде» и «никто». Но, между прочим, реклама Маяковского «Нигде кроме, как в Моссельпроме», тем не менее, остается прекрасным рекламным текстом. Здесь подключается ритм. И поэтому нельзя давать конкретных рекомендаций. Существуют интересные попытки дать модель воздействия рекламного текста, сделанные на основе классификации языковых знаков у классика семиотики Чарлза Морриса. Он различал 4 типа знаков: десигнаторы – информирующие знаки, аппрейзеры – оценочные знаки, прескрипторы – направленные на возбуждение реакции и форматоры – вспомогательные и структурирующие знаки-связки. Оптимальная структура рекламного текста – это десигнатор – аппрейзер – прескриптор. Например: «Весь мир пьет какао, а вы?», где «весь мир пьет какао» – это десигнатор-аппрейзер, а «а вы» – прескриптор. Поэтому, с этой точки зрения, «С помощью машины «Эврика» вы сможете стирать сложа руки» – хороший текст, а «Машина «Эврика» – это лучшая стиральная машина» – плохой, потому что отсутствует прескриптор, вызывая реакцию «ну и что? что это для меня значит? ведь она вообще лучшая, это чистая оценка». «Брейтесь электробритвой "Харьков"» – это только десигнатор плюс прескриптор. Чтобы было эффективно, нужно изменить – «Бреясь электробритвой «Харьков», вы каждое утро экономите пять минут» – вводится оценочный момент и получается единая структура. Чем хороша эта модель, так это тем, что разные этапы восприятия рекламы непосредственно обозначены в самом тексте. Аппрейзерная информирующая часть работает на мотивы и механизм принятия решения, десигнаторная часть работает над привлечением внимания, и прескрипторная часть вносит суггестию.
Вот некоторые американские данные о влиянии на эффективность структуры текста в широком смысле. Первое – эффективность текста повышается, если в начале затрагиваются практические интересы потребителя. Причем помещение в начале более важной информации более эффективно, чем наоборот. Второе – введение в текст транзиций (транзиция – краткое содержание каждой структурной части текста) способствует лучшему пониманию текста. Иначе говоря, вместо того, чтобы давать единый связный текст, надо выделить части текста и маркировать их подзаголовками (типа: «для чего это вам нужно», «ну и что же для вас значит»). Третье. Чем проще структура текста, в том числе и грамматическая, тем лучше он понимается. Лучше простое предложение, чем сложноподчиненное. Четвертое. Это, как мы уже видели, сомнительная рекомендация по поводу позитивных и негативных конструкций. Одно ясно: слов «кроме», «исключая» и т. д. в тексте не должны быть. Пятое. Словарь должен быть рассчитан на конкретного потребителя. Ясно, что не должно быть маркеров связности текста в ответственной его части. «Если», «тем не менее», «пока не» – не оптимальны, потому что они затрудняют понимание конструкций. Шестое. Начало и конец текста запоминаются лучше, чем середина, а если весь текст состоит из одного высказывания, то субъект должен стоять в начале. То есть нужен прямой порядок слов, а не обратный.
Если говорить о социально-психологических факторах, то надо посмотреть, какие у нас существуют факторы суггестивности текста. При каких условиях аудитория внушаема, подвержена суггестии?
1. Когда аудитория и каждый ее член ясно представляет себе общность этой аудитории и ее анонимность, когда он воспринимает себя как часть ему лично неизвестной, но единой в психологическом отношении группы. 2. Когда аудитория осознает высокий социальный статус коммуникатора. Хотя, с другой стороны, у кого-то здесь возникает и эффект нонконформизма, но таких меньшинство. 3. Высокий уровень ожиданий аудитории, который удовлетворяется текстом. 4. Высокий уровень эмоционализации аудитории. Скажем, эффект фрустрированности аудитории. Почему на митингах бывших сталинистов воспринимаются с визгом в общем-то довольно идиотские высказывания? Потому что уровень эмоционализации аудитории очень высокий, и эффект внушаемости очевиден. 5. При дефиците активного внимания. То есть, под шумок, когда на вас идет разнородная информация и вы не знаете, как с ней разобраться, вы теряетесь в этой куче информации, можно внушить все, что угодно. Эффект неопределенности: легче пробить защиту, когда вы защищаетесь от всего сразу, чем когда у вас направлено внимание и сложился определенный защитный механизм по отношению к определенному коммуникатору или каналу. 6. При соответствии ценностной ориентации аудитории содержанию текста. Это типичный случай, почему проходят совершенно непрофессиональные журналистские материалы в наших правых газетах, – просто ценностная ориентация совпадает, и она ложится на восприятие совершенно суггестивно, хотя на самом деле пишется бред собачий, и ни один нормальный, нейтральный по установке человек принять это ни при каких условиях не может.
В чем выражается действенность или эффективность рекламного текста? 1. Эффективный рекламный текст – это текст, направленный на постоянное внушение, вызывающий определенные психологические стереотипы. Формируется так называемый автоматизм потребления, привычка, – покупать одни и те же сигареты, хотя они, в общем-то, на самом деле ничем не отличаются от сигарет другого сорта, одинаково оформленные товары одной и той же фирмы. 2. Это тот случай, когда я намереваюсь купить один товар, прочитываю рекламу, убеждаюсь и покупаю другой товар. То есть это, скажем, целенаправленное изменение моей мотивации путем введения новой, не известной мне информации. Была на Украине реклама: «И сыр лекарство», а далее после неожиданного поворота следовало объяснение, что именно в нем такого, почему следует его покупать из медицинских соображений.
Теперь об изображении. Первая функция изображения – это привлечение внимания, оно обеспечивается и яркостью, и контрастностью, и композицией, и любым эффектом неожиданности. Какие способы привлечения внимания используются в рекламе? Изоляция текста, выделение при помощи верстки и других полиграфических средств, повторение текста, но с его частичным изменением – рекламный повтор обязательно требует изменения чего-то, а другое остается одним и тем же – символ товара, знак фирмы, эмблема изготовителя и так далее. Контраст, проблемы фигуры и фона. Фактор движения, очень рекомендуется использование любого эффекта динамики, квазидвижения. Кстати, прерывающиеся линии в картинке очень хорошо обеспечивают движение глаза по картинке. Движение может относиться не только к якобы движущемуся объекту, но и стимуляция движения глаза по картинке все равно субъективно дает эффект динамики. Вторая функция– информирование. Изображение может дополнять и уточнять текст рекламы. Типичная ошибка – когда мы доверяемся только изображению, когда весь информативный заряд рекламы уходит на изображение, а не на текст. Но главное назначение изображения в рекламе – это эмоциональное воздействие, прежде всего за счет символики. Проблема имиджа в сущности есть проблема символики.
По рекламе и любому тексту взгляд движется слева направо, сверху вниз. Англичане прекрасно пользовались этим механизмом в рекламе, которая у них висела на улице у входа в торгпредство, там у них был стенд с фотографиями, и важные пропагандистские материалы давались под привлекающей внимание картинкой из жизни королевы в левом верхнем углу, непосредственно под ней. Но эти данные относятся к однородному зрительному полю, а реклама всегда есть неоднородное зрительное поле и поэтому композиция рекламы этим не исчерпывается.
Типичная ошибка в рекламном изображении – перегрузка его ненужными для основной функции элементами. Чтобы привлечь внимание, изображение должно быть неожиданным. Чтобы удержать внимание, оно должно быть достаточно сложным, потому что если изображение оказывается слишком простым, то внимание быстро переключается. Если же оно сверхсложное, то возможность удержания внимания тоже снижается. Есть оптимум сложности в рекламном изображении. Типичный и распространенный способ привлечения и удержания внимания – это нарушение законов композиции и симметрии, сознательная асимметричность, бросающаяся в глаза, невзвешенность.
В заключение – о национально-культурных особенностях восприятия (см. Школьник, Тарасов , 1977). Учет этих особенностей должен идти на всех уровнях – это и выбор цвета, и выбор оформления, и характер текста, и все вплоть до символических вещей, связанных с данной культурой. Была реклама «Автоэкспорта», где рекламировались советские мотоциклы. Все это шло на Ближний Восток, а изображение было следующим: молодой человек рокерского типа в кожаном костюмчике, девочка, которая сидит, близко к нему прижавшись, она в штанах и с сигаретой. Был проведен эксперимент: за неимением ближневосточных испытуемых мы пошли к старым московским татаркам. Все татарки дружно плевались на нашу картинку. Некоторые вещи по конфессиональным моментам запрещены для рекламы. На мусульманские страны нельзя использовать изображение свиней. На Индонезию нельзя использовать колонизаторский голландский язык, он воспринимается совершенно однозначно. На Индию нельзя, опять-таки по соображениям религиозным, давать любые изображения коров и обезьян, а также нельзя при всей сексуальной свободе давать полуодетых женщин, тем более совсем раздетых. А на Саудовскую Аравию нельзя вообще давать никаких женщин. Цвета есть национальные, конфессиональные, есть просто культурно приемлемые или неприемлемые. Зеленый цвет национален для Ирландии, Канады, Эфиопии и годится для них. Но нельзя использовать зеленый на мусульманские страны, это цвет только ислама. Есть конвенциональные цвета, скажем, траурные, которые не могут быть использованы, но цвета траура разные. У нас черный, в большинстве стран Востока – белый, на Дальнем Востоке – красный. В Марокко красивые одежды – это красные жилеты, белые джулабы, туфли шафранного цвета. Для Ирана и Афганистана значимые цвета – белый, черный, зеленый, синий. Изображения людей при рекламе на мусульманские культуры нежелательны. Руководство Туркмении и Узбекистана одно время запрещало трансляции ЦТ по причине их легкомыслия.
Еще проблема: символика и возможность ее использования для рекламы, исходящей из того или иного города или региона. Типичная реклама гасконских фирм – обыгрыш Д’Артаньяна и всех мушкетеров. Прованс – это Тартарен, а вот Сирано они меньше используют. Швейцария – Вильгельм Телль. А у нас такой символики нет, она всегда была резко политизирована, изображение Кремля ассоциируется у любого некоммунистически настроенного потребителя с четкими политическими вещами. Я интересовался, каким способом сами западные фирмы рекламируют русские товары, будучи за границей. Типичный способ рекламы чего-то русского – это русская церковь и ее характерный абрис. Неудачен в этом смысле наш российский флаг, он банален и легко смешивается с французским и другими. И эти русские цвета – в сущности, французские.
Из всего сказанного можно сделать один существенный вывод. Чтобы реклама была эффективной, она должна делаться не «на глазок», а с опорой на все, что сегодня известно о факторах такой эффективности. Другими словами, РЕКЛАМА ДОЛЖНА БЫТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ.
Телевизионное искусство глазами психолога [17]
Как и кино, телевидение объединяет в себе две если не противоречивые, то, во всяком случае, различные стихии. С одной стороны, это одно из средств массовой информации, стоящее в том же ряду, что пресса, радио, документальное кино. С другой, телевидение несомненно – вид искусства, такой же, как театр, художественный кинематограф, музыка, архитектура, живопись, литература.
Эта банальная истина – первый парадокс ТВ. Я говорю «парадокс», потому что ТВ – единственное средство информации, в котором искусство занимает если не основное, то, во всяком случае, достаточно внушительное место. «Чисто информационное» телевидение в современных условиях просто невозможно: сам общественный смысл телевидения для миллионов телезрителей предполагает синтез в нем обоих начал. Можно сказать и иначе: ТВ – вид искусства, функционирующий в системе массовых коммуникаций.
Итак, мы договорились, что ТВ есть вид искусства. Что стоит за этим утверждением?
Вероятно, из авторов последнего времени наиболее детально понятие видов искусства проанализировал М. Каган. Как известно, он разделил их на пространственно-временные, пространственные и временные (онтологические классы). Далее выделяются изобразительные и неизобразительные искусства, а затем – бифункциональные и монофункциональные. В результате мы получаем весьма вескую расчлененную классификацию, в которой, однако, телеискусство (как и киноискусство) появляется только в самом конце как пример «искусства синкретически-синтетического типа», в котором мы видим «проявление некоего специфического объединяющего начала, некоей особой художественной энергии, которая была бы способна организовать возникающую сложную систему, связать все ее грани воедино, в одно живое целое» ( Каган , 1972, с. 374). В целом телеискусство оказывается пространственно-временным видом искусства и при этом «сложным синтетическим искусством технического комплекса с изобразительной доминантой».
Конечно, М. Каган проделал огромную работу по классификации и концептуальному осмыслению видов искусства. Но прибавляет ли это что-нибудь к нашему пониманию сущности телевизионного искусства? Вопрос этот остается открытым.
Попытаемся прежде всего ответить на другой вопрос, который, по нашему мнению, обязательно должен быть задан. А именно: что обусловливает появление разных видов искусства? Почему в истории человечества мы «вдруг» сталкиваемся с тем, что общество оказывается неудовлетворенным тем, что уже есть в его распоряжении: есть театр, зачем нужно кино; есть кино, зачем нужно телевидение?
Самый простой ответ, который напрашивается (и нередко дается): мы получили новые технические возможности. Открыт «стробоскопический» эффект. Достигнута передача движущегося изображения на расстояние. Получена первая голограмма. И искусство берет то, что «плохо лежит», и приспосабливает для своих нужд. В сущности, именно эта мысль лежит в основе понимания кино как непосредственного отображения предметной реальности в специфических «технических» формах, которое можно найти у многих киноведов – от А. Базена до Г. Чахирьяна.
Логика такого рассуждения чаще всего опирается на молчаливое (или даже формулируемое явно) допущение, что каждый новый шаг технического прогресса в области «техники» искусства позволяет искусству расширить сферу отображения жизни, приблизиться к ней, больше взять у нее и показать зрителю (слушателю, читателю). Чем дальше, тем – благодаря новой технике – образ мира в искусстве становится все шире и шире. Кино позволило отобразить мир в его движении и в то же время в его «фотографической» реальности. Когда оно стало звуковым, затем цветным, то еще больше стало похоже на реальную жизнь. Когда стало стереоскопическим – еще больше, ибо восприятие его приблизилось к обычному восприятию мира. Когда экран расширился, расширился и познавательный «горизонт» зрителя. По определению, широкий экран лучше узкого, панорамный – широкого, а кругорама – панорамного. А когда появится голографический кинематограф, это будет совсем хорошо – его изображение совсем уже не отличишь от реальности. К тому же развитие техники дает в руки художнику (в данном случае кинематографисту) все больший круг выразительных средств. Да здравствует техника!
Все это звучит предельно оптимистично. И все же…
Позволительно спросить у читателя по крайней мере три вещи. Может ли он назвать цветной кинофильм, сравнимый по силе воздействия с такими черно-белыми фильмами, как «Броненосец "Потемкин"», «Чапаев», фильмы Чаплина, Ренуара, ранние фильмы итальянского неореализма?
Может ли он, как говорится, положа руку на сердце, назвать искусством то, что он видел в ныне покойном кинотеатре «Стереокино» на площади Революции или в стереозале кинотеатра «Октябрь»?
Будучи, скажем, на американской выставке в Сокольниках, где кругорама, пожалуй, оказалась более всего доступна зрителю-непрофессионалу, что он смог вынести из предложенного ему сеанса, кроме боли в шее и плечах?
И еще один вопрос: стоит ли расширять экран до «панорамных» границ только для того, чтобы вместить в него многотысячную массовку?
Отбросим маску лукавого скептика и назовем вещи своими именами. Эволюция техники не привела к ожидавшемуся бурному расцвету киноискусства. Оно, естественно, продолжает развиваться – по своим собственным законам, законам искусства. Оно медленно, но верно осваивает новые выразительные средства. Но ох как медленно! Если – верно. Давайте на минуту представим себе историю киноискусства как историю его вершин разных периодов (и разных стран и направлений) – так ли очевиден при таком подходе процесс обогащения киноискусства новинками техники? Большой ли скачок вперед сделал Чаплин, освоив звук и цвет? Многим ли лучше немых звуковые фильмы Эйзенштейна? Где Ренуар стереофильма, Феллини кругорамы, Бергман полиэкрана?
Искусство, впрочем, с самого начала не торопилось «хвататься» за новинки техники. Сколько десятилетий прошло от создания (принципиального) кинематографической техники до первых произведений киноискусства? От изобретения телевидения до первых произведений телеискусства?
Таким образом, не в техническом прогрессе, конечно, дело. Трудно допустить, что кино и ТВ (как искусства) возникли потому , что была создана соответствующая, как модно выражаться, коммуникативная система. Похоже, скорее, на обратное: они возникли по какой-то иной логике развития, лишь использовав наличные к данному времени технические возможности.
Тогда – по какой логике?
Для любого исследователя-марксиста аксиомой является положение, что личность человека социально-исторически обусловлена, что развитие человеческого общества – это не просто развитие социально-экономического уклада и социальных отношений, но и развитие, изменение людей, составляющих это общество. Здесь нет, конечно, однозначного соответствия – нельзя выводить тип личности из общества и наоборот, но К. Маркс, полемизируя с Прудоном по поводу подхода к истории, недаром наряду с анализом потребностей, производительных сил, способа производства, общественных отношений указывает на необходимость исследовать, «каковы были люди в XI веке, каковы они были в XVIII веке» ( Маркс, Энгельс , 1955 б , с. 138; см. обо всем этом: Леонтьев А.А. , 1981). А личность – это не абстрактное достояние человека-Робинзона – это способ жизни человека в обществе; это то, как человек использует свою индивидуальность (темперамент, характер, жизненный опыт), реализуя в социальной деятельности и в общении с другими людьми существующие общественные отношения.
Одним словом, важный компонент общественного развития – развитие отношений отдельного человека и общества в целом. Изменяется то, что берет человек у общества, чтобы сделаться человеком; изменяется и то, что он дает обществу, чтобы сохранить право считаться человеком.
Но то, что он берет у общества, это не только знания, умения, навыки, опыт других людей и человечества в целом, не только то, что формирует и обогащает его сознание . Это и то, что формирует и обогащает его личность . И вот здесь-то на сцену выходит та часть культуры общества, которую мы называем искусством.
Для чего человеку искусство? У него есть две психологические функции, два смысла существования.
Первая из них – познание человеком через искусство самого себя как общественного человека. В деятельности вообще человек проявляет так или иначе свои личностные черты, утверждает себя и одновременно себя познает; но в мире практических потребностей, в мире знаний и умений он не способен ощутить себя как целостную личность, он принципиально «парциален», частичен. И потому в социальном опыте общества обязательно должен быть такой компонент, при усвоении которого человек должен проявить себя как целое, как «я», а не как часть «меня». И поэтому должен существовать вид деятельности, в который человек вкладывает себя всего без остатка. Это и есть искусство – художественное творчество и художественное восприятие. (Добавим: в сфере человеческих отношений место искусства занимает любовь. Это тоже творчество. И оно тоже требует всего человека.)
Вторая: искусство с самого начала задает человеку такой уровень развития личности, к которому он должен стремиться, чтобы его достичь. Это своего рода вестник из будущего. Точно так же как любому человеку задан для овладения познавательный опыт общества, ему задан и опыт эмоционально-личностный. Конечно, он не обязан этим опытом овладеть, но он ведь и не обязан учиться читать и писать.
Только этот, второй опыт находится с личностью и сознанием человека в особых отношениях. Он не прибавляет что-то к тому, что уже есть: он, пользуясь, крылатым выражением Л.С. Выготского, переплавляет личность, перестраивает ее, осуществляет ее «катарсис». И эта «переплавка чувств внутри нас совершается силой социального чувства, которое объективировано, вынесено вне нас, материализовано и закреплено во внешних предметах искусства, которые сделались орудиями общества. Искусство есть общественная техника чувства». А значит, «действие искусства, когда оно совершает катарсис и вовлекает в этот очистительный огонь самые интимные, жизненно важные потрясения личной души, есть действие социальное» ( Выготский , 1968, с. 316—317).
Итак, искусство – это опредмеченная в произведениях человеческая душа, это личностные смыслы, вынесенные «наружу». И в то же время это то, что формирует мою душу, что позволяет мне подняться над ограниченностью собственной личности и не просто почувствовать себя причастным к личностным смыслам других людей, а – и это гораздо важнее! – научиться открывать в себе новые глубины чувства, отношения, переживания.
Вернемся теперь к вопросу – для чего человеку разные виды искусства? И ответ на него будет, в общем-то, предельно прост: чтобы иметь возможность выносить вовне, то есть опредмечивать, разные стороны своей личности и соответственно – чтобы иметь возможность «переплавлять», развивать свою личность в различных направлениях. Например, архитектор творит, организуя пространство и создавая у зрителя соответствующее эстетическое переживание в процессе восприятия им этого организованного пространства [18] . Это своего рода переживание человеком себя в пространственном мире. Иной смысл у музыки. Известный психолог С.Л. Рубинштейн писал о ней: «На специализированном материале звучания музыкант выявляет многообразную гамму различных способов отношения человека к происходящему в мире и, транспонируя их на звучания, тем самым абстрагируя их от частных сюжетов, создает как бы грамматику языка, на котором выражается в его многообразных вариациях абстрагированное отношение человека к происходящему в жизни» ( Рубинштейн , 1957, с. 303; см. также: Тарасов , 1979).
Сделав следующий шаг, постараемся понять, что специфического (в психологическом плане) содержит в себе киноискусство. Об этом никто не сказал лучше С. Эйзенштейна: «Только кино за основу своей эстетики и драматургии может взять не статику человеческого тела, не динамику его действий и поступков, но бесконечно более широкий диапазон отражения в ней всего многообразия хода движения и смены чувств и мыслей человека» ( Эйзенштейн , 1968, т. 5, с. 91). В кино достигается при этом уникальный эффект: оно обеспечивает динамику смыслообразования ( Леонтьев А.А. , 1975). Его задача – захватить нас, приковать к экрану и заставить соучаствовать в процессе художественного общения. Именно соучаствовать, а не оставаться пусть увлеченным, но внутренне отчужденным зрителем, как это происходит в театре; только кино «преодолело в сознании зрителя ощущение художественного произведения как чего-то стоящего от него в отдалении, преодолело внутреннюю дистанцию, до сих пор воспринимавшуюся как сущность эстетического переживания» ( Балаш , 1968, с. 100). Отсюда и его способность обеспечивать динамику смыслообразования, «выводить из себя, выводить из привычного равновесия и состояния, переводить в новое состояние» ( Эйзенштейн, 1968, т. 3, с. 61), заставлять «чувства возникать, развиваться, переходить в другие» ( там же , с. 303).
Для того чтобы процесс общения посредством кино захватил нас, чтобы осуществилась динамика смыслообразования, необходимы некоторые предварительные условия. Важнейшим из них является перенос себя на место героя фильма, бессознательное сопереживание ему, взгляд на происходящее как бы его глазами. Но такой перенос – это именно условие, а не сущность киновосприятия как специфического вида восприятия искусства. В любом кинодетективе, даже в самом заурядном, мы автоматически сопереживаем герою. Но лишь в лучших из них это сопереживание используется для того, чтобы активно воздействовать на нас всем строем и содержанием фильма, чтобы воспитывать нас. Яркий пример – «Мертвый сезон», фильм по внешним признакам детективный, но несущий огромный заряд психологического воздействия, фильм воспитательный в самом высоком смысле этого слова.
Киноаудитория, как и любая другая относительно массовая аудитория, представляет собой социально-психологическую общность особого рода. Она объединена общим мотивом вступления в общение (или по крайней мере наличием такого мотива), вообще она относительно гомогенна по своему составу и психологическим характеристикам. Она поддается так называемому «заражению», то есть, непосредственно воздействуя на часть этой аудитории в эмоциональном плане, мы – в силу социально-психологической природы аудитории – обеспечиваем воздействие на всю аудиторию (или по крайней мере большинство ее). Наконец, кинозрители, в отличие от телезрителей, полностью отключены от остального мира на время киносеанса, как отключен от него посетитель Эрмитажа или Лувра или читатель «Войны и мира».
А как обстоит дело с телевидением, с телеаудиторией?
Вот наконец мы и подошли к основному предмету нашего анализа – к телеискусству. Заостряя проблему, можно сказать, что ТВ как будто специально приспособлено к наихудшим общепсихологическим и социально-психологическим условиям восприятия. Об этом писалось уже очень много, но нам придется остановиться на психологической специфике телевосприятия еще раз.
Во-первых, телеаудитория – это совокупность так называемых малых групп. Иными словами, в ней невозможны никакие социально-психологические эффекты типа заражения: каждая ее «ячейка» независима от другой. Поэтому ТВ вынуждено заинтересовывать, эмоционально заражать, убеждать каждого зрителя в отдельности (или малую группу таких зрителей). Кстати, социальным психологам хорошо известно, что мнение по поводу информации, идущей по ТВ, формируется именно в ходе общения внутри такой малой группы.
Во-вторых, в театр, на концерт, в кино мы специально собираемся, движимые потребностью приобщиться к искусству. (Или другой, неадекватной потребностью, но все же специализированной.) Да и произведение художественной литературы мы берем в руки по зову души, хотя опять-таки этот зов не всегда связан со спецификой искусства – потребность в детективе с эстетической деятельностью имеет мало общего. Телевизор же смотрим во многих случаях не потому, что хотим встретиться с искусством, а потому, что это искусство более или менее случайно попадает в поле нашего внимания. И поэтому телеискусство вынуждено не просто отвечать на уже возникшую потребность, а еще и активно вызывать и формировать эту потребность, вступать в конкуренцию с другими способами (разрешено ли будет употребить эту несколько обидную формулировку?) времяпровождения.
В-третьих, уже по своим количественным характеристикам (телезрители исчисляются десятками миллионов) телеаудитория не может не быть во много раз более неоднородной, чем, скажем, киноаудитория. Речь идет прежде всего о том, что она в гораздо меньшей степени избирательна. На новый фильм Антониони пойдет все-таки одна часть зрителей, а на индийский киномюзикл – другая, хотя где-то они и пересекутся. Но есть и еще один аспект этой гетерогенности: даже в большом городе в одном кинозале и на одном сеансе, как правило, собирается аудитория одного типа; а в заводском Дворце культуры или в сельском клубе она вообще почти однородна по профессиональным и культурным интересам, уровню образования и другим характеристикам. Ну а телезрители…
Наконец, в-четвертых, телевидение по условиям своего восприятия допускает психологическую отключенность, возможность каких-то параллельных дел и занятий. Казалось бы, какое искусство может выдержать такое отношение? А телеискусство – выдерживает…
Возникает естественная мысль: а может быть, психологическая специфика телеискусства как раз и связана со всеми этими особенностями? Иначе говоря, это искусство, приспособившееся к условиям массовой коммуникации и массовой информации? То искусство, которое нужно для человека, живущего в мире второй половины XX века – мире, для которого еще в большей степени, чем для первой его половины, характерно единство интимности, замкнутости в узком кругу семьи, житейских и узкопрофессиональных интересов, личных отношений – и приобщенности к процессам и событиям общегосударственного, а порой и глобального масштаба?
Вот здесь-то особенно важно еще раз выделить в ТВ две его стороны, о которых шла речь в самом начале статьи. Оно есть мощнейшее орудие приобщения к социальной жизни, способ обеспечить оперативную и в то же время действенную информацию о событиях в стране и в мире. И телеинформация, так же как телепублицистика (учебное телевидение оставим в стороне), стремится как можно больше расширить круг затрагиваемых вопросов, дать человеку как можно более полный зрительно-слуховой образ мира. В этом смысле телевидение центробежно и стремится к максимальному охвату всей доступной информации.
Совсем по-другому в телеискусстве. Если в деятельности средств массовой информации историческая эволюция связана со все большим охватом происходящего в мире и с все более многосторонним показом этих событий, то искусство показа внешних событий (или, точнее, показа внутреннего мира человека через внешние события) переходит к все большему проникновению в духовную – интеллектуальную, эмоциональную – жизнь человека.
Итак, если ТВ в целом как средство массовой информации центробежно и стремится к расширению своего «поля зрения», к все более глобальному охвату действительности, то телеискусство, наоборот, в известном смысле центростремительно и стремится к сужению, но за счет углубления. И это понятно, если вспомнить, в чем вообще специфика искусства: ведь оно и существует-то только для того, чтобы «переплавлять» чувства и переживания человека. А для этого ему необходимо сосредоточиться на конкретной ситуации, переживаемой человеком, «втянуть» его в осмысление и прочувствование этой ситуации и через все эти процессы настроить данного человека на адекватное эстетическое восприятие и переживание мира в целом.
Вот это-то фундаментальное противоречие, заложенное в современном ТВ и четко разделяющее телеинформацию и телепублицистику, с одной стороны, и телеискусство – с другой, остается почти не освещенным в теперь уже весьма богатой литературе, посвященной телевидению. Причина здесь в том, что явления и тенденции, свойственные ТВ как средству массовой информации, переносятся на ТВ как вид искусства.
В чем же состоит психологическая специфика телеискусства? На наш взгляд, телеискусство как раз потому и должно было возникнуть, что оно в наибольшей степени соответствует психологии человека второй половины XX века, что именно в нем мы находим тот синтез «интимности» и «глобальности», который так характерен для нашего мироощущения и, добавим, очень четко просматривается во всех других видах искусства, от живописи до музыки.
Если это действительно так, то остается ответить на вопрос – в чем заключается этот синтез?
Ответ будет следующим: «глобальность» достигается в нем через «интимность». Все богатство мира выступает перед нами, увиденное глазами конкретного человека, осмысленное конкретным человеком, прочувствованное конкретным человеком. Собственно, это присуще любому искусству. И отличие телеискусства в том, что тот «образ мира», который мы видим этим субъективным взглядом, – образ особого рода.
В.И. Ленин, говоря о киноискусстве, требовал отображения фактов и событий «в форме увлекательных картин, дающих куски жизни и проникнутых нашими идеями» (Ленин о кино, 1963, с. 125). Куски жизни! Эта мысль Ленина как нельзя лучше подходит к телеискусству – и даже более, чем к киноискусству. «Репортажность» ТВ, его способность – как средства массовой информации – давать сиюминутный конкретный образ события; его «обыкновенность» и умение органически вписаться в повседневную жизнь каждого, его «непраздничность» и «безгалстучность»; эффект доверия, им порождаемый, – все это способствует тому, что телеискусство, как никакой другой вид искусства, способно вводить нас в мир повседневного жизненного и житейского опыта, художественно переосмысленного и социально заостренного. Телеискусство, таким образом, представляет собой «важную форму усвоения жизненного опыта, который, будучи не только умопостигаемым, но и эмоционально пережитым, органично и непринужденно входит в качестве неотъемлемого компонента не только в структуру мировоззрения, но и мироощущения личности. Добытые таким образом сведения о мире… приобретают субъективную значимость для человека, выступая уже в форме убежденности. А человеческие убеждения, – говорил К. Маркс, – это такие узы, из которых нельзя вырваться, не разорвав своего сердца…» ( Васюков , 1982, с. 162).
Конечно, в ТВ возможно многое. Но и космическая эпопея, и массовое историческое действо, и многое другое, что органично, скажем, для кино, лежит, по-видимому, вне магистрального пути развития телеискусства. Его основная сфера – «увлекательные картины, дающие куски жизни и проникнутые нашими идеями». Недаром в мировом ТВ такой оглушительной популярностью пользуются сериалы, содержанием которых является жизнь «типичной» семьи, «типичные» ситуации, радости и беды «типичных», «обыкновенных» людей.
Но не всякая «обыкновенная» жизнь, перенесенная на телеэкран, может стать содержанием телеискусства. Мы недаром говорили выше о житейском опыте, «художественно переосмысленном и социально заостренном».
И вообще – не обыкновенная жизнь! Скрытая камера, поставленная в чьей-либо квартире, отнюдь не оптимальный путь развития телеискусства.
Нет: внешне – обыкновенная жизнь, на самом же деле, внутренне – развертывающаяся по законам искусства.
Нет: не холодный «киноглаз», не накапливание «подлинных» кадров, а жизнь, увиденная изнутри, пропущенная не только через мозг, но и через сердце человека, которому мы, создатели телезрелища, доверяем представлять нас (наши убеждения, наше мироощущение) на телеэкране. Иначе говоря, жизнь, увиденная не в ее «значениях», а в ее «личностных смыслах».
Нет: не простой кусок жизни, а кусок именно моей жизни, увиденной моими глазами и в то же время – глазами миллионов телезрителей. Мое мироощущение, ставшее – в силу специфики искусства – мироощущением этих миллионов. И несущее им мою убежденность, мою активную социальную позицию не «в лоб», не через рассудок, а через глобальное воздействие на личность. Проникающее мягко, ненавязчиво (не нравится – выключи!) в сотни тысяч квартир.
Искусство для каждого, а не для всех! Вот что такое телеискусство с точки зрения психолога.
Ему не обязательно оперативно откликаться на «внешние» события, происходящие в мире. Пусть этим занимаются телеинформация и телепублицистика. Это – их «хлеб». Но зато оно просто обязано держать руку на пульсе интеллектуальной и эмоциональной жизни общества, оперативно откликаться на изменения в общественном сознании, на происходящие в социальной психологии общества массовые процессы. Ощущать и передавать волнения каждого из нас, сегодняшние заботы каждого из нас о будущем мира, страны, семьи и своем личном. И, передавая эти волнения, эти настроения, концентрируя их и заключая в специфическую образную форму, организуя наше переживание этой остраненной и эстетически преобразованной душевной жизни, – управлять социальной психологией телеаудитории.
Чтобы телеискусство могло выполнять свое социальное предназначение, в его создании должны принимать участие профессиональные психологи. Психологи искусства, психологи восприятия, психологи МК, социальные психологи.
Телевидение пока не имеет такого рабочего аппарата, который мог бы постоянно следить за социально-психологическими процессами в общественном сознании и оперативно откликаться на них.
Правильно ли это?
На экране – человек [19]
Мне очень было интересно сейчас слушать, что говорили мои коллеги, хотя я знаю их позиции, но еще интереснее, что говорили сами ведущие. Я очень обрадовался, товарищи, потому что, когда я готовил сегодняшнее выступление, то мысли, которыми я хотел бы с вами поделиться, совпали во многом с тем, что говорили вы.
Я попытаюсь начать с тех трудностей, которые есть вообще у любого выступающего по телевидению (и по радио, но я буду говорить о телевидении).
Какие это трудности? То есть какие психологические особенности отличают такого человека от любого выступающего в живой аудитории?
Главная трудность в том, что человек не видит своей аудитории. Я помню, несколько лет тому назад было очень интересное, по-моему, не опубликованное исследование Сергея Муратова, который опрашивал ведущих и вообще выступающих по телевидению, задавая в сущности один вопрос: а перед кем вы выступаете, кого вы себе воображаете? Разброс ответов был колоссальный. То есть все выходят из этого положения своим способом. Кто-то видит своих домашних, кто-то видит обобщенного, усредненного человека. Мне приходится выступать по телевидению, хотя это отнюдь не моя профессия, и я как-то проверил себя. У меня оказался вариант, не предусмотренный Муратовым, думаю, что, наверное, я тоже не одинок в этом. Оказывается, я говорю съемочной группе. То есть, как профессиональный преподаватель, по-видимому, я без живого человека, без живой аудитории просто обойтись не могу. Но это между прочим.
Так вот, как справляться с этой трудностью? А зачем, собственно, с ней справляться? В чем здесь проблема для говорящего?
Вот здесь я хотел бы сослаться на одну очень любопытную психологическую работу В.К. Гридина, который показал, что в сущности эмоциональность говорящего перед аудиторией как бы трехслойна. С одной стороны, это, так сказать, эмоциональное самовыражение, реализация каких-то своих собственных психологических потенций; с другой стороны, это сознательная или, во всяком случае, целенаправленная эмоционализация аудитории, если можно так выразиться; и, наконец, есть еще и третье – это отраженное рикошетом от аудитории, так сказать, эмоциональное взвинчивание самого себя и введение себя в определенный эмоциональный тонус, то, что в цирке называется кураж, вещь для любого выступающего перед аудиторией, телевизионной или любой другой, абсолютно необходимая. Естественно, что выйти из положения, когда отсутствует обратная связь, можно только прогнозируя, представляя себе, как живая аудитория или как реальная телевизионная аудитория, которую я не вижу, должна или может реагировать на то, что я говорю или как я себя веду.
Но вот здесь возникает очень большая проблема: как это прогнозировать. Мне кажется, единственный путь в данном случае – это как бы сужение этой аудитории до «моей» аудитории. Я тогда смогу прогнозировать поведение, реакцию аудитории, когда я эту аудиторию знаю.
Знать аудиторию – мне кажется, в идеале это значит: иметь свою аудиторию, которую я знаю.
Я понимаю, что сейчас, при нынешнем положении телевидения, это скорее идеал. И тот же самый И. Фесуненко говорил о том, что он появляется там-то, но он еще выступает и там-то, и там-то, и там-то. Он все время появляется в нескольких различных, так сказать, ролях. И большинство выступающих по телевидению профессионально выступают в различных ролях.
Совсем недавно в прессе я где-то читал замечание Владимира Владимировича Познера. Он рассказывал, что когда к нему кто-то пришел и предложил ему вести передачу «Воскресный вечер с Познером», он был приятно удивлен и даже поражен таким предложением.
Мне кажется, что вообще-то говоря, это должно быть нормой. То есть я – телезритель – в идеале должен включать данную программу не на программу, а на человека. «Воскресный вечер с Фесуненко», «Воскресный вечер с Познером», «Воскресный вечер с Молчановым», я не знаю с кем, – или какой-нибудь другой, не воскресный вечер…
Мы этого, по-моему, немножко боимся. Для этого, естественно, нужно, чтобы человек сумел заработать эту популярность, сделать так, чтобы «на него» включали телевизор.
А, кстати говоря, включать могут по трем разным мотивам. Могут включать потому, что факты интересные, включают не потому, что это Иванов, а потому, что Иванов говорит о вещах, которые мне обязательно надо узнать. Может быть второе: включают потому, что это Иванов, и я хочу слушать именно Иванова. И третье – потому что Иванов, допустим, говорит в рамках «Взгляда» или «Пятого колеса», или любой другой популярной передачи, и популярность передачи проецируется на Иванова.
Вы понимаете, что третий вариант отнюдь не оптимален, что первый вариант обеспечить мы систематически, естественно, не можем. И, наверное, все-таки остается второе – зарабатывать, так сказать, себе популярность в хорошем смысле.
Эта популярность – из чего она складывается? Я бы выделил, наверное, шесть таких позиций.
Позиция первая. Это общая положительная установка. Я к «нему» хорошо отношусь. А к кому-то, наоборот, кого-то я не могу видеть на экране телевидения. Он начинает выступать, и я телевизор выключаю, потому что он неприятен.
Вторая. Это интерес. Вот Иванов (я буду говорить об Иванове, чтобы не называть реальных людей): Иванов всегда, когда он выступает, скажет что-то интересное. Может быть, он мне не очень симпатичен, но я не могу его пропустить, потому что я что-то интересное пропущу.
Третье – доверительность, Я верю, что Иванов мне не врет. Я верю, что он говорит то, что думает, что он не кривит душой.
Четвертое – совпадение с моими позициями, Иванов говорит то, что я думаю. Или… то, что я думаю, что я думаю – наиболее частый случай. Я могу и не сформулировать это для себя, у меня, может быть, и нет такой четкой позиции, нет убеждения, но он говорит – и это мне близко, я это принимаю, это мое.
Пятое. Это совпадение «его» с желаемым имиджем. То есть «он» говорит то, что я хочу, чтобы он сказал. Тогда он мне приятен, тогда я его принимаю, тогда он мне нравится.
И последнее. Это чисто эмоциональное к «нему» отношение. Я думаю, что едва ли, конечно, в Гостелерадио ведется учет любовных писем, которые получают ведущие. Но думаю, что, между прочим, это было бы очень интересно – посмотреть, кто из ведущих получает вот эти письма, потому что это тоже для имиджа, для личности очень существенный момент.
Реплика: Многие в эфир стремятся, чтобы получать такие письма.
Не знаю, но мне кажется, что исследовать, когда, и кто, и почему получает эти письма, было бы очень любопытно. Хотя это не самое главное, конечно.
Вторая трудность – а я в сущности уже к ней перешел – это как раз и есть проблема: каким образом обеспечить внимание к себе. Потому что телевизионная аудитория тем отличается от любой другой, что она психологически совершенно рассредоточена, каждый думает о своем, и нужно ее психологически собрать.
Третья трудность. Это то, что телевизионная аудитория не поддается заражению. И вот именно поэтому есть необходимость постоянно поддерживать контакт с аудиторией. Мало того, что я один раз ее заинтересовал, надо, чтобы все время этот интерес не гас.
Здесь опять есть предложение, которое едва ли сегодня реализуемо, но, наверное, в принципе оно реализуемо: чтобы человек по возможности выступал так, тогда и по таким поводам, когда его ждут. То есть чтобы не было реакции вроде: «Ах, как хорошо, что сегодня выступает Фесуненко». Или: «Как хорошо, что сегодня выступает Молчанов». Нет, чтобы я знал, что если сегодня произошло то-то, если сегодня такая-то тематика должна быть, то я хочу, чтобы сегодня выступил именно Фесуненко, хочу, чтобы сегодня выступил именно Молчанов, сегодня выступил именно Иванов.
Четвертая трудность. В. Саппак об этом прекрасно писал – есть у телевидения такая «безгалстучность» или то, что его смотрят «в мягких туфлях». Говорящему по телевидению нужно, с одной стороны, сохранить некоторую отстраненность, а, с другой стороны, все-таки и «интимность» определенная нужна.
Это, кстати говоря, требует совершенно специфической манеры. По телевидению у нас огромная литература, но я нигде не встречал серьезного анализа этой специфической телевизионной манеры выступления. Могу сослаться только на какие-то общие наблюдения или на опыт. А ведь это очень специфический стиль речи, стиль общения с аудиторией.
Пятая. Эта трудность в том, что аудитория любого телевизионного выступления гораздо более разнообразна, чем любая живая аудитория, то есть там представлены самые разнообразные люди. Почему-то в той литературе, которая мне известна, по телевизионной речи, в частности, в основном пишется, что надо говорить понятно и надо говорить так, чтобы это было понятно аудитории.
Но это же только маленькая часть того, что должен учитывать выступающий по телевидению! Во-первых, что такое «понятно»? Есть такое понятие семиотической группы (я не имею возможности сейчас об этом говорить) – это различный уровень владения лексикой, с одной стороны, и владения структурой текста, то есть различное понимание структуры текста, построения его, композиции. Таких семиотических групп выявлено 7. Первой все понятно, седьмой ничего не понятно.
Но ведь есть еще и уровень информированности. Мы уже привыкли к тому, что наши люди якобы все знают. Они на самом деле далеко не все одинаково всё знают. И уровень информированности мы, по-моему, учитываем сейчас недостаточно. Это целее видно по тем очень хорошим передачам, которые идут по телевидению. Они хороши для нас с вами, но это не значит, что они хороши для всех одинаково – я имею в виду «фоновые знания», уровень и характер информированности, на который они рассчитаны.
Характер аргументации. Это то, что мы тоже практически не учитываем. Наконец, различия по характеру принятых мною, то есть зрителем, ранее социальных установок. То есть на что ложится то, о чем я говорю? И здесь тоже многое, еще очень многое предстоит, мне кажется, сделать.
И шестая. Она связана с той самой «человечностью» телевидения, о которой мы все говорим. Я позволю себе высказать только одно соображение, которое мне кажется принципиально важным. Чем более важна задача телевизионного общения, чем более ответственна та задача, которую я, выступающий по телевидению, должен решить (а мне кажется, что если я, по Станиславскому, не имею некоторой задачи, выходя к микрофону и перед камерой, то это очень плохо. Я должен для себя ясно представить, почему и зачем я сегодня говорю это), тем более человечным, личностным должен быть способ доведения ее до аудитории.
У нас почему-то чаще получается наоборот. Решая задачи, может быть, не самые главные, мы интимничаем с аудиторией. Чем более важные решаем задачи, тем более становимся сухими. А мне кажется, должно быть совсем иначе. Убеждают ведь не тексты, даже самые хорошие, а убеждают люди, ведут за собой не лозунги – люди ведут за собой.
И последнее. Мы все время рассуждаем таким образом, как если бы то, что мы должны довести до зрителя, – наша социальная, социально-психологическая позиция, наша задача воздействия, – как если бы она все время оставалась одной и той же. Но ведь сейчас происходит невероятная динамика развития, политического развития, социально-психологического развития, завтра уже не то, что сегодня, а послезавтра не то, что завтра. И мне кажется, что мы с вами сейчас не вполне успеваем за этим, во-первых, и, во-вторых, не решаем одной задачи, которая должна решаться; значительная часть аудитории ригидна, жесткa. Она не поспевает за этим развитием. И это, кстати, большая трагедия, драма социальная, психологическая. Так вот, телевидение, и именно «личностное» телевидение, если можно так сказать, – очень важный канал расшатывания этой ригидности. То есть способ вовлечь и зрителя в это движение, в эту динамику, которая объективно сейчас происходит и должна отразиться в телепередачах.
Но отражается ли? И если да – так ли, как нужно?
Психология киновосприятия [20]
Основная задача настоящей статьи – раскрыть в какой-то мере структуру художественного восприятия кинофильма и ответить на вопрос о том, каковы те механизмы, которые обеспечивают адекватность процесса киновосприятия. Статья может послужить известной опорой при дальнейшей работе в области применения учебного кино для обучения иноязычной речи и способствовать повышению профессионально-кинематографического и профессионально-методического уровня учебных кинофильмов.
Прежде чем приступить к анализу собственно киновосприятия, нам придется совершить экскурс в некоторые общие проблемы психологии искусства.
Познавая действительность, познавая предметы и явления в их связях и отношениях, человек в процессе своей деятельности выделяет в них существенные признаки, абстрагирует их, закрепляет и передает другим людям, которые проецируют полученное таким образом общественное знание на новую действительность, опосредствуя им свое познание. В каких формах это общественное знание закрепляется и может передаваться – от одного человека к другому, от одной социальной группы к другой, от одного поколения к другому? Обычно такой формой являются так называемые «идеальные объекты», или «квазиобъекты» [21] . Типичным примером квазиобъекта является слово, тот внешний по отношению к нашему сознанию материальный объект, на который мы как бы переносим все, что знаем о том или ином предмете или явлении. Мы «приписываем» слову признаки соответствующего предмета (и тогда говорим о «понятии», отраженном и закрепленном в слове). Человек узнает что-то новое о предмете (классе предметов) через слово, опосредствуя процесс познания словом. Это легко проследить на развитии познавательных процессов у ребенка, которое проходит целый ряд последовательных этапов, впервые раскрытых на большом фактическом материале известным советским психологом Л.С. Выготским (см. Выготский , 1956).
Именно благодаря тому, что такое материальное образование, как слово (и знак вообще), существует и является всеобщим достоянием, человек может делать личное общественным, а общественное личным, точнее личностным.
Усваивая знания в процессе деятельности, человек развивает дремлющие в нем «сущностные силы» (К. Маркс), способности и возможности. Познавая мир, он развивается сам, формирует свое сознание, психику. Человек медленно «строит» себя, преобразуя общественные умения, знания, которые он находит для себя в окружающей действительности.
Но личность – это не только человек с присущим ему уровнем знаний и умений. Ее характеризует также и этическая, эмоционально-волевая, вообще чувственная сфера, к которой относится и искусство.
Для чего нужен человеку этот мир – мир страстей и радостей, мир подвига и сострадания, мир Толстого и Бетховена? К. Маркс ответил на этот вопрос так: «…страдание, понимаемое в человеческом смысле, есть один из способов, каким человек воспринимает свое "я"» ( Маркс, Энгельс , 1956, с. 592).
Итак, первое, что связано в деятельности человека с искусством, – это познание человеком самого себя как общественного человека. В деятельности человек как-то проявляет свои личностные черты, утверждает себя и одновременно себя познает.
Психологическую сущность искусства нельзя понять до конца, если не подходить к искусству с социальных позиций. К. Маркс писал об этом так: «…человеческое чувство, человечность чувств – возникают лишь благодаря наличию соответствующего предмета… Чувство, находящееся в плену у грубой практической потребности, обладает лишь ограниченным смыслом» ( там же , с. 593—594).
Общество производит человека как человека, чтобы его руками воспроизводить и творить человеческий мир, порождать «овеществленную силу знания» (Маркс) и овеществленную силу чувства. Точно так же человек постоянно воспроизводит и производит общество в своей продуктивной деятельности и в своем общении. И оба они – личность и общество, вернее, общество и личность – только в этом взаимном процессе способны существовать и развиваться.
Есть что-то в жизни личности и общества, что самой личности может порой представляться ненужным, излишним, роскошью. Кстати, отсюда споры, нужен ли человеку Бах, Блок, ветка сирени в космосе. Есть вещи, без которых может прожить личность, каждый из нас в отдельности, но не может прожить общество в целом. Это «что-то», связанное с действительностью «человеческого чувства», и есть гносеологический и психологический субстрат искусства. И в этом – второй ключ к его психологической сущности.
Что же это за «что-то»? Ответ на это мы находим в определении марксизмом-ленинизмом человека коммунистического общества, гармонической личности коммунистического будущего. Искусство – это то, что обеспечивает цельность и гармоническое развитие этой личности. И это – идея искусства как «разлитой» в обществе настоящего «эманации» личности коммунистического будущего – и есть третий ключ к психологической сущности искусства.
Содержание искусства – это те общественные отношения, которые выступают для нас не в понятийной форме, а как личные интересы, личное поведение и переживаются каждым из нас как свое, интимное, внутреннее. Ведь не все в деятельности человека может быть отражено при помощи отработанных, общественных по форме значений. Многое является общественным по существу, будучи по форме индивидуальным, субъективным. В «Немецкой идеологии» К. Маркс и Ф. Энгельс писали, что в классовом обществе «личное поведение индивида… одновременно существует как не зависимая от него, созданная общением сила, превращаясь в общественные отношения…» ( Маркс, Энгельс, 1955 а , с. 234). И наоборот: общественные отношения выступают как «личное поведение» индивида.
И вот здесь возникает та психологическая категория, которую мы часто упускаем, когда говорим об искусстве. Это категория личностного смысла, той субъективной психологической формы, в которой существует общественное знание, общественное представление. Смысл не тождествен значению, которое есть объективная, кодифицированная форма существования общественного знания; но он не менее социален, чем значение, ибо сама психика человека, его сознание социальны по своей природе.
Что такое смысл? Вот перед нами засохший цветок. По своему значению он как будто бы относится больше всего к гербарию. Но для меня он может иметь кроме значения и смысл. Он может быть моим прошлым, будить во мне воспоминания. Я вкладываю в него личностный смысл, и цветок оказывается «идеальным объектом», в котором закреплены и объективированы мои мысли, чувства, переживания.
Вот дом. Он имеет для любого прохожего одно и то же значение: развалившийся дом на окраине со всеми его объективными признаками. Но это дом, в котором я родился, и он имеет для меня особый личностный смысл.
Так же, как сущность языка лежит в скрещении познания при помощи языка и общения при помощи языка, так секрет искусства лежит в скрещении познания искусством и общения искусством. Я могу как угодно остро и глубоко интуитивно воспринимать какие-то стороны действительности, не поддающиеся вербализации, могу наслаждаться красотой природы или женщины, могу сопереживать трагическим событиям, развертывающимся перед моими глазами. Но это еще не искусство. Искусство начинается там, где я нахожу для этого восприятия объективно значимые формы.
Что это за формы? Это не просто так называемый «язык искусства» – его материал, «мертвая» техника. Искусство не использует эту технику прямо: оно переосмысливает ее, включая в особую систему связей и отношений, в специфическую форму общения. И потому-то, чтобы закрепить человеческое чувство, чтобы сделать его достоянием других людей и себя самого в другое время, человек ищет такие способы для этого, которые несли бы в себе не бледную тень, не стертый след переживания, а само это переживание. Для этого есть только один путь – сохранить саму ситуацию общения искусством, заставить человека снова и снова создавать, творить переживание, а не воспроизводить его по готовому эталону. Мало усвоить те значения, с которыми у нас связано эстетическое переживание. Мы должны создать условия для того, чтобы эти значения возбудили в нас ту систему личностных смыслов, которая воспроизводит систему смыслов создателя художественного произведения, позволяет перебросить мостик от того, кто творит искусство, к тому, кто воспринимает искусство. Общение искусством – это смысловое общение с опорой на язык искусства. Что касается элементов языка искусства, то это не более чем «идеальные объекты», которые еще надо «одухотворить», наполнить содержанием, придать им соответствующую функцию.
Человек, который воспринимает искусство, тоже его творит. Он получает вместе с произведением искусства определенную программу, позволяющую ему пережить в процессе восприятия нечто максимально близкое тому, что в это произведение было вложено его творцом.
Итак, искусство это не техника искусства, но это и не продукт искусства, не само по себе художественное произведение. Оно может оставаться мертвым, если мы не знаем психологического ключа к нему, если мы не будем осуществлять с опорой на него специфическую деятельность общения искусством. Искусство, в сущности, и есть способ общения, и предмет психологии искусства – это: а) проблема развития форм общения искусством и б) проблема общего развития личности под влиянием искусства.
Надо сказать, что очень часто мы представляем себе, что достаточно поставить человека перед картиной или посадить человека в кинозал, чтобы он адекватно и сразу понял и усвоил то, что увидел. Это явное заблуждение. Эстетическое воспитание школьников на материале живописи совсем не сводится к тому, что мы развесим в школе репродукции картин из Третьяковской галереи. То же касается и кинематографа. Как всякому общению, общению искусством надо специально учить.
Итак, искусство – это способ общения, позволяющий человеку при помощи особой системы «идеальных объектов» реализовать те аспекты своей личности, которые в обычном общении не проявляются. И каждый вид искусства позволяет проявлять особые стороны, другие, новые аспекты личности. Искусство способно показать человека лучше, чем он есть в данный момент, таким, каким он может стать, раскрыть то в его личности, о чем он и сам, быть может, не знает. Как говорил Л.С. Выготский, «искусство есть социальное в нас… Действие искусства, как оно… вовлекает в… очистительный огонь самые интимные, жизненно важные потрясения личной души, есть действие социальное… Переплавка чувств внутри нас совершается силой социального чувства, которое объективировано, вынесено вне нас, материализовано и закреплено во внешних предметах искусства… Искусство есть общественная техника чувства» ( Выготский , 1968, с. 316—317). Применительно к кино очень близкую мысль выразил С.М. Эйзенштейн, сказав, что художник «познает объективно вокруг него существующие и аналогичные проявления тех же чувств у других» и «включает это в то познание действительности и реальности, без которых не может быть творца и художника» ( Эйзенштейн , 1964 б , с. 210).
Итак, мы выделили две взаимосвязанные стороны процесса общения искусством. Это общественное развитие личности при помощи искусства и развитие самих форм общения искусством. Это последнее развитие тоже идет через личность. Для того чтобы искусство могло развиваться, оно должно быть «пропущено» через человека, человек должен как бы «заговорить» на языке, адекватном искусству.
Вот мы и подошли к тому, что следует называть языком кино.
В киноведческой литературе очень часты прямые и наивные параллели между «языком кино» и словесным языком. В этом отношении особенно характерна известная книга Г. Лоусона (см. Лоусон , 1965). Известна даже прямая попытка (М. Адлер) установить аналогию между отдельными единицами и категориями словесной речи (звук, слог, фраза, имя, глагол, союз…) и элементами киноязыка. Для читателя должно быть очевидным, что подобные параллели имеют чисто внешний характер и не способны дать нам ключа к закономерностям киновосприятия. Печальнее всего, что и современная довольно обширная литература по семиотике кино не сделала ни одного шага далее, это опять-таки поиски в кино чисто формальных эквивалентов другим знаковым системам без попыток серьезного раскрытия его специфики не как знаковой системы, а как знаковой деятельности с опорой на соответствующую систему. [22]
На самом деле киноязык – это не абстрактная знаковая система или система идеальных объектов (квазиобъектов), используемых в киноискусстве, а система тех опор при восприятии кинофильма, которые позволяют зрителю адекватно восстановить систему значений и личностных смыслов, вложенных в фильм его создателями. Иными словами, киноязык есть система объективных эквивалентов субъективным психологическим процессам, образующим киновосприятие. А значит, мы должны, прежде всего, поставить вопрос о том, каковы эти процессы.
Восприятие вообще (а не только киновосприятие) – это, как учит психология, процесс активный, а вовсе не пассивное «впитывание» человеком той или иной информации – зрительной, слуховой. Человек осуществляет систему действий по восприятию объектов действительности. Эти действия, или операции, организованы в виде последовательных уровней деятельности восприятия.
Наиболее общая структура любого восприятия предполагает два звена. Это формирование образа восприятия и манипулирование с этим образом, включение его в более сложные смысловые структуры. Сначала мы должны научиться «складывать» наши зрительные впечатления в единое целое, то есть в нашем случае – узнавать на экране дерево, лошадь, человека, отождествлять ту или иную предметную ситуацию и т. п. Лишь если мы умеем это делать, если мы без всякого труда опознаем на экране изображаемое лицо, предмет, пейзаж, мы сможем воспринимать ту дополнительную смысловую нагрузку, которую создатели фильма придают этим материальным объектам, этим «квазиобъектам». Наша задача как зрителей – научиться минимизировать работу «складывания», заниматься в кинозале не «складыванием», а узнаванием, опознаванием отдельных элементов восприятия.
В свою очередь, этот процесс распадается на два. С одной стороны, мы должны уметь осуществлять самые элементарные операции зрительного восприятия, общие у кино с любым другим зрительным восприятием, например, осуществлять движение взгляда по экрану, необходимое для симультанного (одновременного) восприятия изображения как целого, или уметь «забегать вперед», производить вероятностное прогнозирование: движение начато и оборвано, но мы тут же автоматически восстанавливаем его завершение и воспринимаем движение так, как если бы оно было на экране доведено до конца. Для всего этого не нужно никакого специального воспитания или обучения: такого рода процессы киновосприятие «берет напрокат» у любого другого зрительного восприятия. Назовем эту сторону киновосприятия его технологией.
Но в киновосприятии есть и такие моменты, которые специфичны именно для него. Бела Балаш приводит случаи восприятия кино неопытными зрителями, когда вместо целостных кинообразов воспринимались разрозненные изображения: зритель не мог «сложить» из отдельно показанных крупным и средним планом изображений единого образа (см. Балаш , 1968, с. 78), не мог его узнать, отождествить. А значит, и вся дальнейшая смысловая нагрузка этого образа пропадала для него втуне. (Невозможность отождествления может также идти не от зрителя, а от кинофильма.)
Эта сторона киновосприятия, которую мы назовем его техникой, опирается на систему условностей кино, систему киноприемов. Ими теоретики кино занимались очень много: существуют «каталоги» и попытки классификации приемов, принадлежащие Л. Кулешову, В. Пудовкину, Р. Арнхайму, Р. Маю и др. Поскольку это условности, то ими надо овладеть. К ним относятся: использование планов, ракурса, монтажные приемы и т. д. Существует исключительно интересная работа С.В. Соколовой, специально посвященная обучению школьников технике киновосприягия (см. Соколова , 1971), к которой мы еще вернемся.
Но допустим, что мы уже умеем отождествлять образ, владеем техникой киновосприятия. Значит ли это, что в дальнейшем, при просмотре фильма, мы просто воспроизводим этот образ, опознаем его, и на этом дело кончается? Разумеется, нет. Если бы наше восприятие происходило путем отождествления набора киностереотипов, ни о каком киноискусстве не могло бы быть и речи. (Кстати, в плохих кинопроизведениях очень часто как раз так и бывает: берется голый прием, образный стереотип и механически переносится в другой контекст. Все помнят знаменитые кружащиеся березы в кинофильме «Летят журавли», но сколько раз они повторялись потом в других фильмах!) Каждый раз, когда мы в кино (в настоящем кино!) сталкиваемся с известным нам приемом, с той или иной условностью, она поворачивается к нам какой-то новой стороной, служит для того, чтобы, опираясь на знание данного приема зрителем, включить его в какую-то более сложную образную систему, влить в него новое содержание. Это содержание пришлось бы «растолковывать» зрителю, если бы он не владел системой условностей; а поскольку он ею владеет, ему достаточно «намекнуть». Обычно киноприем вводится сначала как бы в развернутом виде, а затем, становясь условностью, он «свертывается», воспринимается автоматически, и творческая активность зрителя переносится на более высокие уровни киновосприятия. Об этом хорошо писала С.В. Соколова: «Чтобы синтаксис языка кино не стал самостоятельным объектом, целью зрительского восприятия, синтаксическая сторона его должна осуществляться как бы интуитивно, автоматически… Поэтому в процессе обучения умение «читать» синтаксис киноязыка должно быть доведено до уровня мгновенно выполняемого действия» ( там же , с. 6).
Если техника кино есть система условностей, система киноприемов, которые зритель обязан уметь автоматически декодировать, то язык кино – это способ использования, способ функционирования этих условностей в содержательной структуре фильма. По прекрасной формуле итальянского кинокритика Гальвано делла Вольпе «мысль – это цель, а техника – это средство». Кроме кинотехники, есть еще и киномысль, и именно с ней связано в первую очередь существование и восприятие языка кино [23] . Что имеется в виду, когда мы говорим о киномысли?
Проследим за процессом понимания художественного, вообще языкового текста. Для этого сначала «обернем» этот процесс и ответим на вопрос, как человек говорит. Сначала он ориентируется в ситуации, в личности собеседника, в содержании его речи. Затем у него создается замысел (план, внутренняя программа) его высказывания. Такая внутренняя программа (часто в этом смысле говорят о «внутренней речи», что психологически не вполне корректно) имеет в качестве материальной опоры образы и схемы, как это в свое время хорошо показал Н.И. Жинкин; на эти образы и схемы наслаивается будущее содержание высказывания, существующее пока в форме системы личностных смыслов. И лишь потом внутренняя программа разворачивается при помощи слов и синтаксических конструкций, свойственных данному языку, в высказывание как таковое. В восприятии речи происходит обратный процесс: мы как бы свертываем, стягиваем текст в «оторванную» от его языковой формы, пользующуюся субъективным смысловым кодом внутреннюю программу. Понимание текста и есть перевод его из связанной с конкретным языком линейной последовательности значений в симультанную (одновременную) систему личностных смыслов (см. Леонтьев А.А. , 1969).
То же в общих чертах происходит при восприятии кино. Еще Б.М. Эйхенбаум говорил, что «одна из главных забот режиссера – сделать так, чтобы кадр «дошел» до зрителя, то есть чтобы он… перевел бы его на язык своей внутренней речи» ( Эйхенбаум , 1927, с. 24). Но точнее всех охарактеризовал этот аспект киновосприятия С.М. Эйзенштейн. Утверждая, что «художник мыслит непосредственно игрой своих средств и материалов» ( Эйзенштейн , 1964 б , с. 266) [24] , также обращаясь к понятию внутренней речи, Эйзенштейн приходит к выводу, что «строй этой внутренней речи уже неотъемлем от того, что именуется чувственным мышлением» ( Эйзенштейн , 1968, с. 176), то есть она не является по своей природе вербальной (как это полагал, видимо, Б.М. Эйхенбаум). И, «оборачивая» ту же мысль на структуру кинопроизведения, Эйзенштейн продолжал: «Закономерности построений внутренней речи оказываются именно теми закономерностями, которые лежат в основе всего разноообразия закономерностей, согласно которым строится форма и композиция художественных произведений» ( Эйзенштейн , 1964 б , с. 109). Иными словами, только такое кинопроизведение можно считать состоявшимся, которое построено со знанием и пониманием закономерностей его восприятия на анализируемом нами уровне.
Декодирование содержательной структуры фильма – необходимое условие его восприятия, хотя и не всегда конечное звено этого восприятия. Важнейшее требование к этой содержательной структуре – то, чтобы она была «не пустой», чтобы составляющие ее образные компоненты не просто могли быть соотнесены с соответствующими средствами кинотехники, но несли в рамках целого определенную, специфическую функциональную нагрузку. Поэтому не является фактом киноискусства фильм, состоящий из сюжетных и композиционных штампов. В.Б. Шкловский рассказывает: «Приносят раз сценарий «Ревизор». В комнате сидит Пудовкин. Не развертывая сценария, спрашиваю Пудовкина: "Как должен начинаться самотечный сценарий "Ревизора"?" Пудовкин отвечает: "Свинья чешется об столб". Развертываю и читаю: "1. Крупно. Свинья чешется об столб"» ( Шкловский , 1965, с. 93).
Еще раз: перевод последовательности кинообразов в систему «киномыслей», в содержание – это центральный момент в восприятии, это то, без чего киноискусство существовать не может. «Зритель вынужден проделывать напряженную работу по сцеплению событий, осмыслению связей между всеми элементами изображения и звука, короче, по декодированию всех смысловых оттенков фильма» ( Хренов , 1971, с. 252).
Однако этим киновосприятие еще не завершается, по крайней мере в наиболее типичном для кино случае. Мы не просто переводим образы в смыслы, воспринимаемую нами кинотехнику – в «киномысли»: фильм должен обеспечить динамику смыслообразования, не «впечатать» в нас некоторое содержание, а захватить нас, приковать к экрану и заставить нас соучаствовать в процессе общения киноискусством. Только в этом случае происходит тот процесс социализации чувств, их объектирования и «переплавки», о котором писал Л.С. Выготский. Это тот уровень киновосприятия, который специфичен именно для кино, и в этом смысле кино – наиболее «человечный» вид искусства. «Только кино за основу своей эстетики и драматургии может взять не статику человеческого тела, не динамику его действий и поступков, но бесконечно более широкий диапазон отражения в ней всего многообразия хода движения и смены чувств и мыслей человека» ( Эйзенштейн , 1968, с. 91). А в другом месте Эйзенштейн дает еще более четкую формулу: кино – «отражение действительности в движении психологического процесса» ( Эйзенштейн , 1964 б , с. 303). И еще: кино «заставляет чувства возникать, развиваться, переходить в другие – жить перед зрителем» ( Эйзенштейн , 1964 а , с. 163).
Для того чтобы процесс общения посредством кино захватил нас, чтобы осуществлялась динамика смыслообразования, необходимы некоторые предварительные условия. Важнейшим из них является перенос себя на место героя фильма, бессознательное сопереживание ему, взгляд на происходящее как бы его глазами. Об этом в свое время писал еще Л.С. Выготский; много сказано об этом в работах М.Е. Маркова о театре и т. д. О кино Б. Балаш заметил: «То, что мы видим в фильме, мы переносим на самих себя» ( Балаш , 1968, с. 111). Но такой перенос – это именно условие, а не сущность описываемого уровня киновосприятия. В любом детективе мы автоматически сопереживаем герою. Но лишь в лучших из них это сопереживание используется для того, чтобы активно воздействовать на нас, воспитывать нас. Яркий пример – «Мертвый сезон», фильм по формальным признакам детективный, но несущий огромный заряд психологического воздействия, фильм воспитательный в самом высоком смысле этого слова.
Воспитательная функция киноискусства осуществляется главным образом через динамику смыслообразования, и особенно существенно, что она осуществляется как бы автоматически. Человеку достаточно «отдаться» киновосприятию, и он даже против своего желания начинает активно участвовать в кинообщении, получает заряд психологического воздействия.
И думается, именно эти возможности киновоздействия, именно то, что кино «преодолело в сознании зрителя ощущение художественного произведения как чего-то стоящего от него в отдалении, преодолело внутреннюю дистанцию, до сих пор воспринимавшуюся как сущность эстетического переживания» ( там же , с. 100), до сих пор используются недостаточно. Более того, думается, что «интеллектуальные» фильмы, хотя бы они и были по-своему совершенны, не стоят на генеральной линии развития кино, потому что его роль в системе искусств, его специальная эстетическая функция, оправдывающая его историческое возникновение и автономное развитие на уровне техники, языка и динамики смыслообразования, – «выводить из себя, выводить из привычного равновесия и состояния, переводить в новое состояние» ( Эйзенштейн , 1964 б , с. 61).
Воспитательное воздействие кино – это большая проблема, далеко выходящая за пределы теории кино, проблема механизмов и закономерностей психологического воздействия вообще. Для учебного кино, рассчитанного на аудиторию, состоящую из иностранцев, она стоит особенно остро.
Психологически оптимальное воздействие на зрителя (слушателя, читателя) предполагает три необходимых условия. Прежде всего, мы должны знать, с кем мы имеем дело: что собой представляет наш реципиент, чем он живет, что его интересует, что он знает. Затем мы должны ясно понимать, чего мы хотим добиться от него в процессе воздействия, в каком направлении мы хотим развивать его мысли, чувства, установки. И наконец, мы должны, знать, какими оптимальными средствами располагаем (в данном случае – в арсенале кинотехники и киноязыка) для того, чтобы обеспечить воздействие именно в данном направлении (см. Леонтьев А.А. , 1972).
Если кинозритель не владеет адекватным фильму киноязыком, фильм остается непонятным уже на уровне перевода образов в смыслы. Именно так произошло с фильмом «Иваново детство», который оказался для массового зрителя слишком сложным по киноязыку (ср. в этой связи: Мейлах , 1971). Следовательно, необходимо специально учить зрителя киноязыку. В работе С.В. Соколовой убедительно показано, что школьники не умеют видеть фильм таким, каким он создан его авторами, и говорится о том, как надо учить их технике киновосприятия.
Но бывает, что зритель по своему уровню достаточно «грамотен», но ему просто нечего переводить: за кинообразом ничего не стоит. Пример такой явной неудачи – «Король-Олень», фильм приемов, фильм кинотехники без киномысли. Именно это и есть, в сущности, формализм – не то, что непонятно, а то, что не может быть понято.
Бывает также, что кинотехника сама по себе не представляет сложности для зрителя, но фильм остается непринятым из-за того, что он психологически слишком сложен, что динамика смыслообразования невозможна из-за неразвитости эмоциональной сферы зрителя.
Хороший фильм всегда имеет своего адресата: «Судьба человека», «Доживем до понедельника», «Звонят, откройте дверь!». Это не значит, что у каждого фильма должен быть узкий контингент зрителей: просто в общем контингенте есть прослойка, на которую создатели фильма рассчитывают в первую очередь. Эта прослойка может быть возрастной, социальной, образовательной, но она почти всегда имеется в виду. Конечно, есть фильмы «общечеловеческие» («Броненосец "Потемкин"»), но это фильмы тоже не «для всех», а, скорее, «для каждого» зрителя. Именно адресованность фильма и обеспечивает в первую очередь возможность динамики смыслообразования. Второе, что ее обеспечивает, – это отмеченная выше целевая ориентированность воздействия.
«Искусство, – утверждает Н.И. Жинкин, – это поставщик для восприятия некоторой воображаемой действительности, которая становится подобием подлинной действительности» ( Жинкин , 1971, с. 222). Это положение представляется нам принципиально неверным. Не подобием, а преобразованием подлинной действительности является «воображаемая действительность» киноискусства. И не простое восприятие, а переживание этой воображаемой действительности является психологическим содержанием общения искусством.
И учебное кино, поскольку его задачей не является простое сообщение знаний, призвано опираться на общую специфику киновосприятия. Тем более это касается учебных кинофильмов, несущих страноведческую информацию.
В заключение нам хотелось бы подчеркнуть следующее: любой кинофильм, рассчитанный на психологическое воздействие, тем самым подчиняется общим закономерностям киновосприятия, и эти закономерности должны учитываться при его создании . Но они не сводятся к пониманию элементарных приемов кинотехники, как это нередко предполагается.
Литература
Аванесов Р.И. Очерки русской диалектологии. Ч. I. M: Государственное научно-педагогическое издательство Министерства просвещения РСФСР, 1949.
Агеев В.С. Ситуативные вариации параметров речи // Психолингвистика и обучение иностранцев русскому языку. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1972. С. 180—199.
Актуальные проблемы психологии речи и психологии обучения языку / Под. ред Леонтьева А.А., Рябовой Т.В. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1970.
Андриевская В.В. Влияние временного режима коммуникации на формальные характеристики сообщения // Социально-психологические и лингвистические характеристики форм общения и развития контактов между людьми. Тезисы Всесоюзного симпозиума. Л., 1970. С. 18.
Андриевская В.В . О взаимосвязи логических и языковых детерминант при реализации языкового замысла // Материалы IV Всесоюзного съезда Общества психологов. Тбилиси, 1971. С. 298.
Апухтин В.Б . О смысловой структуре связного текста // Психолингвистические проблемы общения и обучения языку / Под ред. А.А. Леонтьева, Е.А. Ножина, А.М. Шахнаровича. М.: Институт языкознания АН СССР. 1976. С. 112—122.
Ароцкер Л.Е. Тактика и этика судебного допроса. М.: Юридическая литература, 1969.
Артемов В.Л. К вопросу о классификации стереотипов // Материалы Третьего всесоюзного симпозиума по психолингвистике. М., 1970. С. 14—15.
Артемов В.Л. Основные направления исследования и современное состояние теории массовой коммуникации за рубежом // Психолингвистические проблемы массовой коммуникации. М.: Наука, 1974. С. 10—19.
Арутюнова Н.Д. Типы языковых значений. Оценка. Событие. Факт. М.: Наука, 1988.
Арутюнян Ю.В., Дробижева Л.М., Сусоколов А.А. Этносоциология. М.: Аспект-Пресс, 1998.
Байкова В.Г. К вопросу о системе идеологической работы // Вопросы теории и методов идеологической работы. Вып. 3. М., 1974.
Балаш Б. Кино. Становление и сущность нового искусства. М.: Прогресс, 1968.
Бархин М.Г. Метод работы зодчего. Из опыта советской архитектуры 1917—1957 г г. М.: Стройиздат, 1981.
Батов В.И., Коченов М.М. Влияние мотива на выбор слов в альтернативных высказываниях // Общение как предмет теоретических и прикладных исследований. Тезисы Всесоюзного симпозиума. Л., 1973. С. 9–10.
Бгажноков Б.X. Психологическая ориентация как фактор, определяющий характер речевого общения // Общая и прикладная психолингвистика. М., 1973.
Берман И.М. Фразовая стереотипия и обучение чтению текстов // Материалы Третьего Всесоюзного симпозиума по психолингвистике. М., 1970. С. 70.
Бернштейн С.И. Язык радио. М.: Наука, 1977.
Богомолова Н.Н. Эффективность массовой коммуникации: смена подходов // Социальная психология в современном мире. М.: Аспект-Пресс, 2002. С. 220—237.
Бодалев А.А. Восприятие человека человеком. Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1965.
Бодалев А.А. Формирование понятия о другом человеке как личности. Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1970.
Божович Л.И. Личность и ее формирование в детском возрасте. М.: Просвещение, 1968.
Бородина М.А. Психолингвистические проблемы полевого анкетирования // Материалы Третьего Всесоюзного симпозиума по психолингвистике. М., 1970. С. 152—154.
Брушлинский А.В. Российские реформы и менталитет (о психологии индивидуального и группового субъекта) // Субъект действия, взаимодействия, познания. Психологические, философские, социокультурные аспекты / Отв. ред. Э.В. Сайко. М.: МПСИ; Воронеж: НПО «МОДЭК», 2001. С. 108—111.
Вальдгард С.Л. Очерки психологии чтения. М.-Л.: Учпедгиз, 1931.
Ван Дейк Т.А. Язык. Познание. Коммуникация. М.: Прогресс, 1989.
Василевич А.П. Субъективные оценки частот элементов текста (в связи с проблемами вероятностного прогнозирования речевого поведения). Дисс. … канд. филол. наук. М., 1966.
Васюков О.К. Эстетика телевидения и формирование личности // Художественная культура и гармоническое развитие личности. Киев, 1982.
Вендлер З. Факты в языке // Философия. Логика. Язык. Сб. статей / Под ред. Горского Д.П., Петрова В.В. М.: Прогресс, 1987. С. 336—370.
Верещагин Е.М. Психологическая и методическая характеристика двуязычия (билингвизма). М.: Изд-во Моск. ун-та, 1969.
Вероятностное прогнозирование в речи / Под ред. Фрумкиной Р.М. М.: Наука, 1971.
Винберг А.И . Криминалистическая экспертиза письма. М.: ВЮА, 1940.
Винберг А.И. Криминалистическая экспертиза в советском уголовном процессе, М.: Госюриздат, 1956.
Виноградов В.В. Проблема авторства и теория стилей. М.: Гослитиздат, 1961.
Витт Н.В. К вопросу о взаимосвязи интеллектуальных процессов и функционального состояния // Лингвопсихологические проблемы обоснования методики преподавания иностранных языков в высшей школе. Тезисы докладов научно-методической конференции. М.: МГПИИЯ, 1971а. С. 81—84.
Витт Н.В. Влияние состояния психического напряжения, вызванного ограничением времени, на качества речи // Материалы IV Всесоюзного съезда Общества психологов. Тбилиси, 1971б. С. 303.
Витт Н.В., Ермолаева-Томина Л.В. К проблеме связи речевых характеристик и свойств нервной системы в эмоциональном состоянии // Материалы IV Всесоюзного съезда Общества психологов. Тбилиси, 1971. С. 415.
Войтасик Л. Психология политической пропаганды. М.: Прогресс, 1981.
Воловик А.Ф., Невельский П.Б. и др. Избыточность, интерес и непроизвольное запоминание лингвистических сообщений // Материалы Третьего Всесоюзного симпозиума по психолингвистике. М., 1970. С. 16—20.
Вольф Е.М . Функциональная семантика оценки. М.: Наука, 1985.
Вопросы порождения речи и обучения языку. Сборник статей / Под ред. А.А. Леонтьева, Т.В. Рябовой. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1967.
Вопросы текстологии. Сборник статей. Вып. 2. М.: Изд-во АН СССР, 1960.
Вул С.М. Характер и пределы изменений письменной речи при ее преднамеренном искажении // Материалы Третьего Всесоюзного симпозиума по психолингвистике. М., 1970. С. 55—56.
Вул С.М. Исследование статистических характеристик письменной речи // Материалы V Всесоюзного симпозиума по психолингвистике и теории коммуникации. М., 1975. Ч. 1. С. 192—195.
Выготский Л.С. Избранные психологические исследования. М.: Изд-во АПН РСФСР, 1956.
Выготский Л.С. Психология искусства. 2-е изд. М.: Искусство, 1968.
Гаврилова Н.И. Влияние внушения на формирование свидетельских показаний. Автореф. канд. дисс. М., 1975.
Гайда В., Штерн А., Михайлов С. К вопросу о точности воспроизведения букв русского алфавита // Материалы Второго симпозиума по психолингвистике. М., Наука, 1968. С. 88—89.
Гайдамак В. Зависимость понимания сообщения от характера инструкции. Дипломная работа. М.: Факультет психологии МГУ, 1970.
Гальперин П.Я. Психология мышления и учение о поэтапном формировании умственных действий // Исследования мышления в советской психологии / Отв. ред. Е.В. Шорохова. М.: Наука, 1966. С. 236—277.
Гвоздев А.Н. Вопросы изучения детской речи. М.: Изд-во АПН РСФСР, 1961.
Гинзбург Е.Л., Пестова В.А., Степанов В.Г. Операции сжатия как средства форсированной реконструкции текста // Теория речевой деятельности. Проблемы психолингвистики. М.: Наука, 1968. С. 101—104.
Гохлернер М.М. Понятие «единица усвоения» при обучении грамматическим явлениям иностранного языка // Психология грамматики. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1968. С. 131—144.
Гохлернер М.М., Ейгер Г.В. О некоторых особенностях функционирования механизма порождения речи при обучении второму языку // Материалы Второго симпозиума по психолингвистике. М., 1968а. С. 28—29.
Гохлернер М.М., Ейгер Г.В. О роли овладения приемами компрессии речи при обучении неродному языку // Психология грамматики. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1968б. С. 153—165.
Гохлернер М.М., Невельский П.Б., Рапопорт И.А. Чувство языка и его измерение // Материалы Третьего Всесоюзного симпозиума по психолингвистике. М., 1970. С. 154—156.
Гражданско-процессуальный кодекс РСФСР. М., 2000.
Гранат Н.Л. О влиянии профессиональных языковых и речевых шаблонов на мышление следователя // Материалы Третьего всесоюзного симпозиума по психолингвистике. М., 1970. С. 56—58.
Греймас А. Договор вердикции // Язык. Наука. Философия: Логико-методологический и семиотический анализ. Вильнюс: Институт философии, социологии и права Лит. СССР, 1986. С. 205—216.
Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. I—IV. М.: Государственное издательство иностранных и национальных словарей, 1955.
Дейч М. Чума // Московский комсомолец, 2001. 21 апр.
Демьянков В.З. Событие в семантике, прагматике и в координатах интерпретации текста // Изв. АН СССР. Отд. литер. и языка. 1983. Т. 42. № 4. С. 320—329.
Диагностика толерантности в средствах массовой информации / Под ред. В.К. Мальковой. М.: ИЭА РАН, 2002.
Доблаев Л.П . Логико-психологический анализ текста (на материале школьных учебников). Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 1969.
Добрович А.Б., Фрумкина Р.М. О расстройствах вероятностного прогнозирования в речевом поведении больных шизофренией // Материалы Третьего Всесоюзного симпозиума по психолингвистике. М., 1970. С. 132—135.
Дридзе Т.М. Некоторые семиотические аспекты психосоциологии языка. Дисс…канд. филол. наук. М., 1969.
Дридзе Т.М. Язык информации и язык реципиента как факторы информированности // Речевое воздействие. Проблемы прикладной психолингвистики. М., Институт языкознания АН СССР, 1972. С. 34—80.
Дридзе Т.М. Текст как иерархия коммуникативных программ (информативно-целевой подход) // Смысловое восприятие речевого сообщения в условиях массовой коммуникации / Отв. ред. Т.М. Дридзе, А.А. Леонтьев. М.: Ин-т языкознания АН СССР, 1976. С. 48—57.
Дридзе Т.М. Текстовая деятельность в структуре социальной коммуникации. Проблемы семисоциопсихологии. М.: Наука, 1984.
Дридзе Т.М. Язык и социальная психология. М.: Высшая школа, 1980.
Дридзе Т.М. Прагматическая классификация текстов (рукопись).
Дурново Н.Н. Введение в историю русского языка. М.: Наука, 1969.
Если преступник в перчатках // За рубежом. 1970. № 2. С. 19.
Жинкин Н.И. Развитие письменной речи учащихся III—VII классов // Известия АПН РСФСР. Вып.78. М., 1956. С. 34—42.
Жинкин Н.И. Психология киновосприятия // Кинематограф сегодня. Вып. 2. М.: Искусство, 1971. С. 214—254.
Журавлев А.П. Тестовое измерение способности восприятия смысла предложений // Вопросы психолингвистики и преподавания русского языка как иностранного / Под ред. А.А. Леонтьева, Т.В. Рябовой. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1971. С. 133—140.
Журавлев А.П. Фонетическое значение. Л.: Наука, 1974.
Журова Л.Е. Развитие звукового анализа слова у детей дошкольного возраста // Вопросы психологии. 1963. № 3. С. 21—32.
Журова Л.Е., Эльконин Д.Б. К вопросу о формировании фонематического восприятия у детей дошкольного возраста // Сенсорное воспитание дошкольников / Под ред. А.В. Запорожца, А.П. Усовой. М.: Изд-во АПН РСФСР, 1963. С. 213—237.
Зарубина Н.Д. О психолингвистическом обосновании приемлемости предложения и сверхфразового единства в качестве единиц обучения // Психология грамматики. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1968. С. 145—152.
Зимняя И.А. К вопросу о восприятии речи. Дисс. … канд. филол. наук. М., 1961.
Зимняя И.А. Некоторые психологические предпосылки моделирования речевой деятельности при обучении иностранному языку // Иностранные языки в высшей школе. 1967а. Вып. 3.
Зимняя И.А. Условия формирования навыка говорения на иностранном языке и критерии его отработанности // Научно-методическая конференция по вопросам обучения иностранным языкам в высшей школе. Тезисы докладов. М., 1967б. С. 90—92.
Зимняя И.А., Леонтьев А.А. Психологические особенности начального овладения иностранным языком // Вопросы обучения русскому языку иностранцев на начальном этапе. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1971. С. 39—48.
Ивин А.А. Основания логики оценок. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1970.
Изотова Е.М. Об осознании ребенком смысловой стороны слова // Материалы Третьего Всесоюзного симпозиума по психолингвистике. М., 1970. С. 120—121.
Ильенков Э.В. Идеальное // Философская энциклопедия. Т. 2. М.: Сов. энциклопедия, 1962. С. 221.
Ильинская И.С., Сидоров В.Н. О сценическом произношении в московских театрах (По материалам сезона 1951/52 г.) // Вопросы культуры речи / Под ред. С. И. Ожегова. 1. М.: Ин-т языкознания АН СССР, 1955. С. 143—171.
Каган М. Морфология искусства. Л.: Искусство, 1972.
Карпова С.Н. Осознание словесного состава речи дошкольниками. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1967.
Кибрик А.Е. Психолингвистический эксперимент в полевой лингвистике // Материалы Третьего Всесоюзного симпозиума по психолингвистике. М., 1970. С. 160—161.
Кибрик А.Е., Ложкина А.А. Влияние синтаксической структуры предложения на процесс его распознавания // Материалы Второго симпозиума по психолингвистике. М.: Наука, 1968. С. 15—17.
Клименко А.П. О психолингвистической модели семантической микросистемы времени в русском языке // Ученые записки филологического факультета Киргизского гос. Университета. Вопросы лексики и грамматики русского языка. Вып. 13. Фрунзе, 1964.
Колшанский Г.В. Функции паралингвистических средств в языковой коммуникации // Вопросы языкознания. 1973. № 1. С. 16—25.
Компаниец А.М. Изучение с помощью ЭВМ количественных характеристик почерка // Криминалистика и судебная экспертиза. Вып. 8. Киев, 1971. С. 186—191.
Конституция Российской Федерации. Официальный текст. М., 2002.
Костомаров В.Г. Русский язык на газетной полосе. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1971.
Коченов М.М. Введение в судебно-психологическую экспертизу. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1980.
Красникова Е.И. Прогнозирование оценки квазислова в связном тексте // Материалы V Всесоюзного симпозиума по психолингвистике и теории коммуникации. М., 1975. Ч. 2. С. 254—257.
Краткий психологический словарь / Сост. Л.А. Карпенко. М.: Политиздат, 1985.
Криминалистическое исследование рукописей, выполненных на некоторых языках народов СССР. Справочник следователя и эксперта. М., 1973.
Кульман А.Д. Методы и приемы семантической обработки информации в буржуазной пропаганде. Дисс…канд. филол. наук. М., 1979.
Ленин В.И . Полн. собр. соч. М.: Политиздат, Т. 21.
Ленин о кино. Сб. документов и материалов. М., 1963.
Леонтьев А.А. Слово в речевой деятельности. М.: Изд-во АН СССР, 1965.
Леонтьев А.А. Психолингвистические единицы и порождение речевого высказывания. М.: Наука, 1969а.
Леонтьев А.А. Словарь стереотипных ассоциаций русского языка // Проблема учебной лексикографии. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1969б. С. 114—127.
Леонтьев А.А. Смысл как психологическое понятие // Психологические и психолингвистические проблемы владения и овладения языком / Под ред. А.А.Леонтьева, Т.В.Рябовой. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1969 в. С. 56—66.
Леонтьев А.А. Язык, речь, речевая деятельность. М.: Просвещение, 1969 г.
Леонтьев А.А. К вопросу об отождествлении личности по речи // Материалы Третьего Всесоюзного симпозиума по психолингвистике. М., 1970. С. 58—62.
Леонтьев А.А. К психологии речевого воздействия // Материалы Всесоюзного симпозиума по психолингвистике и теории коммуникации. М., 1972. С. 28—41.
Леонтьев А.А. Искусство как форма общения // Психологические исследования, посвященные 85-летию со дня рождения Д.Н. Узнадзе. Тбилиси: Мецниереба, 1973. С. 213—222.
Леонтьев А.А. Психология общения. Тарту: Изд-во Тартуского ун-та, 1974.
Леонтьев А.А. Психология киновосприятия // Аудиовизуальные и технические средства в обучении. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1975. С. 42—57.
Леонтьев А.А. Понятие текста в современной лингвистике и психологии // Психолингвистическая и лингвистическая природа текста и особенности его восприятия. Киев: Вища школа, 1979. С. 7–18.
Леонтьев А.А. Личность как историко-этническая категория // Советская этнография. 1981. № 3. С. 35—44.
Леонтьев А.А. Психологические особенности деятельности лектора. М.: Знание, 1981.
Леонтьев А.А. Язык пропаганды: социально-психологический аспект // Язык как средство идеологического воздействия. Сборник обзоров. М.: ИНИОН АН СССР, 1983. С. 15—33.
Леонтьев А.А. Основы психолингвистики. М.: Смысл, 1997.
Леонтьев А.А. Психология общения. 3-е изд. М.: Смысл, 1999.
Леонтьев А.А., Носенко Э.Л. Некоторые психолингвистические характеристики спонтанной речи в состоянии эмоционального напряжения // Общая и прикладная психолингвистика, М.: Ин-т языкознания АН СССР, 1973. С. 88–113.
Леонтьев А.Н. Проблемы развития психики. 2-е изд. М.: Мысль, 1965.
Леонтьев А.Н. Некоторые психологические вопросы воздействия на личность // Проблемы научного коммунизма. Вып. 2. М.: Мысль, 1968. С. 30—42.
Леонтьев А.Н. Проблемы развития психики. 3-е изд. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1972.
Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. М.: Политиздат, 1975.
Леонтьев Д.А. Психология смысла. 2-е изд. М.: Смысл, 2003.
Лотман Ю.М. Семиосфера. СПб: Искусство, 2000.
Лоусон Г. Фильм – творческий процесс. М.: Искусство, 1965.
Лурия А.Р. О патологии грамматических операций // Вопросы педагогической психологии / Под ред. А.А. Смирнова. М.: Изд-во АПН РСФСР, 1946. Известия АПН РСФСР. Вып.3. С. 61—98.
Лурия А.Р. Проблемы и факты нейролингвистики // Теория речевой деятельности. Проблемы психолингвистики. М.: Наука, 1968. С. 198—219.
Лурия А.Р., Цветкова Л.С. Нейропсихологический анализ предикативной структуры высказывания // Теория речевой деятельности. Проблемы психолингвистики. М.: Наука, 1968. С. 219—233.
Лущихина И.М. Использование гипотезы Ингве о структуре фразы при изучении восприятия речи // Вопросы психологии. 1965. № 2. С. 56—66.
Лущихина И.М. О роли некоторых грамматических трансформаций при различных условиях речевого общения // Материалы Второго симпозиума по психолингвистике. М.: Наука, 1968а. С. 9–13.
Лущихина И.М. Экспериментальное исследование психолингвистической значимости грамматической структуры высказывания // Теория речевой деятельности. Проблемы психолингвистики. М.: Наука, 1968б. С. 90–101.
Любимова Т.М. Вербальные способы манипуляции сознанием в деятельности средств массовой информации Франции // Язык средств массовой информации как объект междисциплинарного исследования. Тезисы докладов Международной научной конференции. М., 2001. С. 21.
Лямина Г.М. К вопросу о механизме овладения произношением слов у детей второго и третьего года жизни // Вопросы психологии. 1958. № 6. С. 119—130.
Малькова В.К., Тишков В.А. Этничность и толерантность в средствах массовой информации. М.: ИЭА РАН, 2002.
Мамардашвили М. Форма превращенная // Философская энциклопедия. Т. 5. М.: Советская энциклопедия, 1970. С. 386—389.
Маркс К ., Энгельс Ф . Сочинения. 2-е изд. М.: Госполитиздат, 1955. Т. 3.
Маркс К ., Энгельс Ф . Сочинения. 2-е изд. М.: Госполитиздат, 1955. Т. 4.
Маркс К., Энгельс Ф. Из ранних произведений. М.: Госполитиздат, 1956.
Маслыко Е.А. К психолингвистической природе паралингвистических явлений // Материалы Третьего Всесоюзного симпозиума по психолингвистике. М., 1970. С. 20—23.
Матвеева Л.В., Аникеева Т.Я., Мочалова Ю.В. Психология телевизионной коммуникации. М.: УМК «Психология», 2000.
Мацковский М.С. К вопросу о количественном измерении трудности печатного материала // Материалы Третьего Всесоюзного симпозиума по психолингвистике. М., 1970. С. 23—26.
Мацковский М.С. Проблемы читабельности печатного материала // Смысловое восприятие речевого сообщения в условиях массовой коммуникации / Отв. ред. Т.М. Дридзе, А.А. Леонтьев. М.: Наука, 1976. С. 126—142.
Мейлах Б.С. Пути и методы изучения киновосприятия // Художественное восприятие / Под ред. Б.С. Мейлаха. Л.: Наука, 1971. С. 203—225.
Методические рекомендации Генеральной прокуратуры РФ о применении специальных познаний по делам о нарушении национального равноправия средствами массовой информации. М., 1995.
Мещеряков А.И. Развитие средств общения у слепоглухонемых детей // Вопросы философии. 1971. № 8. С. 125—136.
Морозова Н.Г. О понимании текста // Известия АПН РСФСР. Вып. 7. М.; Л., 1947. С. 191—240.
Москович В.А., Вишнякова С.М. Эксперименты по оценке качества перевода // Материалы Второго симпозиума по психолингвистике. М.: Наука, 1968. С.47—49.
Негневицкая Е.И. Вербальная сатиация и восприятие речи // Материалы Третьего Всесоюзного симпозиума по психолингвистике. М., 1970. С. 27—28.
Негневицкая Е.И. Смысловое восприятие текста и семантическая сатиация // Смысловое восприятие речевого сообщения в условиях массовой коммуникации / Отв. ред. Т.М. Дридзе, А.А. Леонтьев. М.: Наука, 1976. С. 114—119.
Нетерпимость и враждебность в российском обществе. Рабочие материалы для учителя. Выпуски 1–5. М.: Молодежный центр прав человека и правовой культуры, 2000—2001.
Николаева Т.М. Жест и мимика в лекции. М.: Знание. 1972.
Николаева Т.М. «Событие» как категория текста и его грамматические характеристики // Структура текста. М.: Наука, 1980. С. 198—210.
Новиков А.И. Семантика текста и ее формализация. М.: Наука, 1983.
Носенко Э.Л. Об использовании некоторых темпоральных характеристик речи для объективного установления уровня владения устной иноязычной речью // Иностранные языки в школе. 1969. № 5.
Носенко Э.Л. К вопросу о взаимосвязи психолингвистики и методики обучения языку // Материалы Третьего Всесоюзного симпозиума по психолингвистике. М., 1970. С. 87—90.
Носенко Э.Л. Особенности речи в состоянии эмоциональной напряженности. Днепропетровск: Днепропетровский гос. ун-т, 1975.
О некоторых вопросах, возникших при рассмотрении судами дел о защите чести и достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и юридических лиц. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18 августа 1992 г. №11.
Образовательная система «Школа 2100». Педагогика здравого смысла. Сборник материалов / Под науч. ред. А.А. Леонтьева. М.: Баласс, Издательский Дом РАО. 2003.
Оппель В.А. Некоторые особенности овладения ребенком начатками грамоты // Ученые записки ЛГПИ им. Герцена, 1946. Т. 53. С. 53—73.
Опыт диалектологической карты русского языка в Европе / Сост. Н.Н. Дурново, H.H. Соколов, Д.H. Ушаков. Труды Московской диалектологической комиссии. Вып. 5. М.: Синодальная Типография, 1915.
Орфинская В.К. О воспитании фонологических представлений в младшем школьном возрасте // Ученые записки ЛГПИ им. А.И. Герцена, 1946. Т. 53. С. 44—45.
Основы текстологии / Под ред. В.С. Нечаевой. М.: Изд-во АН СССР, 1961.
Остановитесь! Оглянитесь! К вопросу об этнической толерантности и конфликтности в российской прессе. Примеры публикаций о жизни этносов / Сост. В.К. Малькова. М.: ИЭА РАН, 2002.
Пассов Е.И., Сатинова В.Ф. Трансформация как психолингвистический критерий понимания речи // Вопросы психолингвистики и преподавание русского языка как иностранного / Под ред. А.А. Леонтьева, Т.В. Рябовой. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1971. С. 109—132.
Петренко В.Ф. Телевидение и психология // Телевидение вчера, сегодня, завтра. Вып. 6 / Сост. О.И. Дворниченко. М.: Искусство, 1986.
Петренко В.Ф. Психосемантика сознания. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1988.
Петровская Л.А., Жуков Ю.М., Растянников П.В. Диагностика и развитие компетентности в общении. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1990.
Понятия чести и достоинства, оскорбления и ненормативности в текстах права и средств массовой информации. М.: Права человека, 1997.
Пруха Я. Теория речевой деятельности и исследование массовой коммуникации // Основы теории речевой деятельности / Под ред. А.А. Леонтьева. М.: Наука, 1974. С. 286—299.
Психолингвистические проблемы массовой коммуникации. М.: Наука, 1974.
Психологические и психолингвистические проблемы владения и овладения языком. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1969.
Психологический словарь / Под ред. В.П. Зинченко, Б.Г. Мещерякова. 2-е изд. М.: Педагогика-пресс, 1997.
Психология грамматики. М.: Изд-во Моск. ун-та,1968.
Психология и методика обучения второму языку. Тезисы сообщений. М.: МГУ, 1967.
Психология и методика обучения второму языку. Тексты докладов. М.: МГУ, 1967.
Психология и методика обучения второму языку: Объективные методы текущей проверки уровня языковых умений. Тезисы докладов и сообщений. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1969.
Психология национальной нетерпимости. Хрестоматия / Сост. Ю.В. Чернявская. Минск: Харвест,1998.
Ратинов А.Р. Судебная психология для следователей. М.: Юрлитинформ, 1967.
Реформатский А.А. при участии М.М. Каушанского. Техническая редакция книги. Теория и методика работы / Под ред. Д.Л. Вейса. М.: Гос. изд. легкой промышленности, 1933.
Речевое воздействие. Проблемы прикладной психолингвистики. М.: Институт языкознания АН СССР, 1972.
Романович Е. Исследование рекламы методом «семантического дифференциала. Дипломная работа. М.: Факультет психологии МГУ, 1970.
Рубакин Н.А. Психология читателя и книги. М.: Книга, 1977.
Рубакин Н.А. Психология читателя и книги. Краткое введение в библиологическую психологию. М.; Л.: ГИЗ, 1929.
Рубакин Н.А. Тайна успешной пропаганды // Речевое воздействие. Проблемы прикладной психолингвистики. М.: Ин-т языкознания АН СССР, 1972. С. 130—135.
Рубинштейн С.Л. Бытие и сознание. М.: Изд-во АН СССР, 1957.
Русский ассоциативный словарь / Караулов Ю.Н., Сорокин Ю.А., Тарасов Е.Ф., Уфимцева Н.В., Черкасова Г.А. М.: Помовский и партнеры. Т. 1. 1994; Т. 2. 1996.
Рябова Т.В. Механизм порождения речи по данным афазиологии // Вопросы порождения речи и обучения языку / Под ред. А.А. Леонтьева, Т.В. Рябовой. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1967. С. 76—94.
Сахарный Л.В. «Контекстное» и «неконтекстное» в восприятии лексико-семантической стороны слова // Смысловое восприятие речевого сообщения в условиях массовой коммуникации / Отв. ред. Т.М. Дридзе, А.А. Леонтьев. М.: Наука, 1976. С. 107—114.
Сахарный Л.В., Верхоланцева Е.И. Усвоение минимального значения декодирующими // Материалы Третьего Всесоюзного симпозиума по психолингвистике. М., 1970. С. 35—38.
Сахарный Л.В., Орлова О.Д. Типы употребления в речи нескольких вариантов одной гиперлексемы (опыт психолингвистического анализа текста) // Живое слово в русской речи Прикамья. Пермь, 1969. Вып. I. С. 83–113.
Сильдмяэ И. Знания (когитология). Таллинн: Ээсти раамат, 1987.
Словарь ассоциативных норм русского языка (пробные статьи) // Актуальные проблемы психологии речи и психологии обучения языку. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1970. С. 117—142.
Словарь ассоциативных норм русского языка / Под ред. А.А. Леонтьева. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1977.
Словарь русских народных говоров. Вып. I и сл., М.; Л.: Наука, 1965—1991.
Смысловое восприятие речевого сообщения (в условиях массовой коммуникации). М.: Наука, 1976.
Соколова С.В. О формировании элементов эстетического восприятия (на материалах киноискусства). Автореф. дисс. … канд. пед. наук. М.: МГУ, 1971.
Солдатова Г.У. Психология межэтнической напряженности. М.: Смысл, 1998.
Соложенкин В.В. К изучению семантических связей слов в языке шизофреников // Первая Республиканская межвузовская лингвистическая конференция. Тезисы докладов. Фрунзе, 1966. С. 29—32.
Сорокин Ю.А. Некоторые языковые особенности современной китайской прессы // Материалы Третьего Всесоюзного симпозиума по психолингвистике. М., 1970. С. 38—41.
Сорокин Ю.А. Экспериментальная проверка реальности некоторых признаков текста // Общая и прикладная психолингвистика / Под ред. А.А. Леонтьева, А.М. Шахнаровича. М.: Ин-т языкознания АН СССР, 1973. С. 151—161.
Сохин Ф.А. О формировании языковых обобщений в процессе речевого развития // Вопросы психологии. 1959. № 5. С. 112—123.
Стефаненко Т.Г. Этническая идентичность и некоторые проблемы ее изучения // Этнос. Идентичность. Образование. Труды по социологии образования. Т. IV. Вып. VI. М.: Центр социологии образования РАО, 1998. С. 85–104.
Судебно-почерковедческая экспертиза. М.: Юридическая литература, 1971.
Тарасов Г.С. Проблема духовной потребности (на материале музыкального восприятия). М.: Наука, 1979.
Тарасов Е.Ф. Социологические аспекты речевого общения // Роль и место страноведения в практике преподавания языка как иностранного. М., 1969.
Тарасов Е.Ф. Социальное взаимодействие в речевом общении // Материалы IV Всесоюзного симпозиума по психолингвистике и теории коммуникации. М., 1972. С. 8–15.
Тарасов Е.Ф. Психологические и психолингвистические аспекты речевого воздействия // Речевое воздействие: психологические и психолингвистические проблемы / Под ред. Ю.А. Сорокина, Е.Ф. Тарасова, Н.В. Уфимцевой. М.: Ин-т языкознания АН СССР, 1986. С. 4–9.
Теория речевой деятельности (проблемы психолингвистики). М.: Наука, 1968.
Терзиев Н.В., Эйсман А.А. Введение в криминалистическое исследование документов. Ч. I. М.: Всесоюзный юридический заочный институт МЮ СССР, 1949.
Ухванова И.Ф. Отбор и семантическая обработка лексики средствами буржуазной пропаганды. Дисс. … канд филол. наук. Минск, 1980.
Федеральный закон «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации, 2001. № 23.
Фланаган Дж. Л. Анализ, синтез и восприятие речи. М.: Связь, 1968.
Фоше К., Московичи С. К психосоциологии языка // Психолингвистика за рубежом. М., Наука, 1972. С. 102—113.
Фрумкина Р.М. Вероятность элементов текста и речевое поведение. М.: Наука, 1971.
Фрумкина Р.М., Василевич А.М. Изучение «произносительной трудности» русских трехбуквенных сочетаний методом шкалирования // Материалы Второго симпозиума по психолингвистике. М.: Наука, 1968. С. 87—88.
Фрумкина Р.М., Василевич А.М., Мацковский М.С. К вопросу о единицах принятия решений при зрительном распознавании элементов текста // Научно-техническая информация. Сер. 2: Информационные процессы и системы. М.: ВИНИТИ, 1968. № 5. С. 3—8.
Хараш А. У. Психологические функции речевой коммуникации и их место в психолингвистическом изучении языка // Материалы Третьего Всесоюзного симпозиума по психолингвистике. М., 1970. С. 41—44.
Хараш А.У. Лекционная аудитория: социально-психологический аспект. М.: Знание, 1972.
Хараш А.У. К определению задач и методов социальной психологии в свете принципа деятельности // Теоретические и методологические проблемы социальной психологии. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1977. С. 123—126.
Хараш А.У. Смысловая структура публичного выступления // Вопросы психологии, 1978. № 4. С. 84—95.
Хренов Н.А. Структура фильма и зритель // Художественное восприятие / Под ред. Б.С. Мейлаха. Л.: Наука, 1971. С. 232—258.
Цена слова. Из практики лингвистических экспертиз текстов СМИ в судебных процессах по защите чести, достоинства и деловой репутации. 2-е изд.; испр. и доп. М.: Галерия, 2002.
Шaxриманьян И.К., Варламов В.А., Тараканов В.В. Соотношение речевых и неречевых компонентов в деятельности следователя // Общая и прикладная психолингвистика / Под ред. А.А. Леонтьева, А.М. Шахнаровича. М.: Ин-т языкознания АН СССР, 1973. С. 189—201.
Шабес В.Я. Событие и текст. М.: Высшая школа, 1989.
Шафир Я. Очерки психологии читателя. М. – Л.: Госуд. изд-во, 1927.
Шахнарович А.М., Апухтин В.Б. Психолингвистические проблемы предикативности и обучение пониманию текстов // Психолингвистическая и лингвистическая природа текста и особенности его восприятия. Киев: Вища школа, 1979. С. 188—195.
Шерковин Ю.А. Некоторые социально-психологические вопросы пропагандистского воздействия // Вопросы психологии. 1969. №4. С. 131—139.
Шерковин Ю.А. Психологические проблемы массовых информационных процессов. М.: Мысль, 1973.
Шкловский В.Б. За 40 лет. Статьи о кино. М.: Искусство, 1965.
Школьник Л.С., Тарасов Е.Ф. Язык улицы. М.: Наука, 1977.
Эйзенштейн С.М. Собр. соч.: в 6 тт. Т. 2. М.: Искусство, 1964.
Эйзенштейн С.М. Собр. соч.: в 6 тт. Т. 3. М.: Искусство, 1964.
Эйзенштейн С.М. Собр. соч.: в 6 тт. Т. 5. М.: Искусство, 1968.
Эйхенбаум Б.М. Проблемы киностилистики // Поэтика кино / Под ред. Б.М. Эйхенбаума. М.; Л.: Кинопечать, 1927. С. 11—52.
Якубинский Л.П. Ленин о «революционной фразе» и смежных явлениях //
Печать и революция, 1926. Кн. 3. С. 5—17.
Argyle M. The psychology of interpersonal behavior. Harmondsworth: Penguin, 1967.
Back K.-W. Power, influence and pattern of communication // L. Petrillo, B. Bass (ed). Leadership and interpersonal behavior. N. Y.: Holt, Rinehart and Winston, 1961.
Blake R.H., Haroldsen E.O. A Taxonomy of Concepts in Communication. N.Y.: Hastings House Publishers, 1975.
Borden G.A., Gregg R.В., Grove Th.G. Speech behavior and human interaction. Englewood Cliffs: Prentice-Hall, 1969.
Bosmajian H. The Language of Oppression. Washington (DC): Public Affairs Press, 1974.
Communication Theories: Origins, Methods and Uses in Mass Media / ed. by W.J. Severin, J.W. Tankard. 4th ed. N.Y.: Longman, 1997.
Daugherty W.E., Janowitz M. A Psychological Warfare Casebook. Baltimore (MD): Johns Hopkins University Press. 1958.
Dibner A.S. Cue-Counting: a measure of anxiety in interviews // J. of Consulting Psychology, 1956. V. 20 (6). P. 475—478.
Flores d’Arcais G. In: Harvard University. The Center for Cognitive Studies. Sixth Annual Report. Cambridge (MS), 1966.
Gordon G.G. Persuasion: The Theory and Practice of Manipulative Communication. N.Y.: Hastings House, 1971.
Graber D. Verbal Behavior in Politics. Urbana (IL).: University of Illinois Press. 1976.
Hovland C.I., Janis I.I., Kelley H.H. Communication and Persuasion:
Psychological Studies of Opinion Change. New Haven (CN): Yale University Press. 1953.
Hovland C.I., Lumsdaine A.A. and Sheffield F.D . Experiments on Mass Communication. Princeton (NJ): Princeton University Press. 1949.
Janousek J. Socialni komunikace. Praha: Svoboda, 1968.
Katz E., Lazarsfeld P.F. Personal Influence. Glencoe: The Free Press, 1955.
Klapper J. The Effects of Mass Media. Glencoe: The Free Press, 1960.
Lazarsfeld P.F., Berelson B., Gaudet H. The people’s choice: How the voter makes up his mind in a presidential campaign. N.Y.: Columbia University Press, 1944.
Lazarsfeld P, Merton R.K . Mass Communication, Popular Taste and Organized Social Action // Schramm W., Roberts D. (eds), The Process and Effects of Mass Communication. Champaign-Urbana (IL): University of Illinois, 1971.
Mahl G.F. The lexical and linguistic levels in the expression of emotions // P.H.
Knapp (ed). Expression of the emotions in man. N.Y.: International Universities Press, 1963. P. 77–105.
Mass Communication and Political Information Processing. Hillsdale (NJ): Erlbaum, 1990.
McQuail D. Mass Communication Theory: an Introduction. 3rd ed. Thousand Oaks (CA): Sage, 1994.
Metz Ch. Propositions methodologiques par l’analyse du film // Essais sur la signification au cinéma, tome II. KLINCKSIEK, 4è tirage 1986. Р. 97–110.
Moscovici S. Communications processes and the properties of language // erkowitz L. (Ed). Advances in Experimental Social Psychology. Vol. 3. N.Y.: Academic Press, 1967. Р. 225—270.
Moscovici S., Faucheux С. Contribution а une psycho-sociologie du langage // XVIII Congrès International de Psychologie (Moscou). 1966. Symposium, 34. P. 15—26.
Moscovici S., Plon M. Les situations-colloques: I. Observations théoriques et expérimentales // Bulletin de Psychologie, 1966. 19. P. 702—721.
Neuman W.R., Just M.R., Crigler A.M. Common Knowledge: News and the Construction of Political Meaning. Chicago (IL): University of Chicago Press, 1992.
Osgood Ch.E., Walker E.G. Motivation and language behavior: a content analysis of suicide notes // Journal of Abnormal and Social Psychology, v. 59, 1959.
№ 1. Р. 58—67.
Osgood Ch.E. Conservative Words and Radical Sentences in the Semantics of International Politics // G. Abcarian and J.W. Soule (eds). Social Psychology and Political Behavior: Problems and Prospects. Columbus (OH): Charles E.
Merrill, 1971.
Osgood Ch.E., Saporta S., Nunnally J.C. Evaluative assertion analysis // Litera, 1956. № 3. P. 33—88.
Osgood Ch.E., Suci G.J., Tannenbaum P.H. The Measurement of Meaning. Urbana (IL): University of Illinois Press, 1957.
Osgood Ch.E., Tannenbaum P.H. The principle of congruity in the prediction of attitude change // The Psychological Review, v. 62, 1955. P. 42—55.
Pronko N. H. Language and psycholinguistics // Psychological Bulletin, v. 43, 1946. 189—232.
Psycholinguistics: A Survey of Theory and Research Problems / ed. by Osgood Ch., Sebeok T.A. Baltimore (MD): Waverly Press, 1954.
Psycholinguistics. A Survey of Theory and Research Problems / ed. by Osgood Ch., Sebeok T.A. 2 ed., Bloomington (IN): Indiana University Press, 1965.
Shoemaker P.J., Reese S.D. Mediating the Message. 2nd ed. White Plains (NY): Longman. 1996.
Skinner B.F. Verbal behavior. N.Y.: Appleton-Century-Crofts, 1957.
Slama-Cazacu T. Comunicarea оn procesul muncii. Bucureєti, 1964.
Slobin D.J. Grammatical transformations and sentence comprehension in child hood and adulthood // Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior. V. 5, 1966, № 3. Р. 219—227.
Tannenbaum P.H. The congruity principle revisited: studies in the reduction, induction, and generalization of persuasion // L. Berkowitz (ed.) Advances in experimental social psychology. V. 3. N.Y.: Academic Press, 1967. P. 227—320.
Thayer L. Communication and communication systems // Organization, management, and interpersonal relations. Homewood (IL): Richard D. Irwin, Inc., 1968.
Turner E.A., Rommetveit R. Focus of attention in recall of active and passive sentences // Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior. V. 7. 1968, № 2. P. 543—548.
Watson O.M. Proxemic behavior: a cross-cultural study. The Hague: Mouton, 1970.
Примечания
1
Впервые опубликовано в кн.: Речевое воздействие. Проблемы прикладной психолингвистики. М.: Наука, 1972. С. 7—24.
2
Впервые опубликовано в кн.: Исследование рече-мыслительной деятельности. Алма-Ата: Казахский пед. ин-т имени Абая. 1974. С. 3—11. В основу статьи положен текст доклада автора на IX Международном конгрессе антропологических и этнографических наук (Чикаго, 1973).
3
Впервые опубликовано в кн.: Леонтьев А.А., Шахнарович A.M., Батов В.И. Речь в криминалистике и судебной психологии. М.: Наука, 1977. С. 6—19.
4
См. Вопросы текстологии, 1960 (особенно статьи М.П. Штокмара и А.Л. Гришунина); Основы текстологии, 1962; Виноградов, 1961.
5
Об этом существует огромная литература. Ср., например: Терзиев, Эйсман, 1949; Винберг, 1956; Судебно-почерковедческая экспертиза, 1971; Криминалистическое исследование рукописей… 1973.
6
Ввиду того, что мы не даем в тексте никаких конкретных сведений о тех или иных диалектных особенностях, приведем здесь важнейшую литературу вопроса: Опыт диалектологической карты… 1915; Дурново, 1969; Аванесов, 1949. Важнейшие словари: Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка, т. I—IV; в начале I тома дан сжатый и очень полезный, хотя и устаревший, сводный обзор диалектных особенностей разных местностей; Словарь русских народных говоров, вып. I и cл., М.-Л., 1965.
7
Впервые опубликовано в кн.: Леонтьев А.А., Шахнарович A.M., Батов В.И. Речь в криминалистике и судебной психологии. М.: Наука, 1977. С. 43—51.
8
См. Бюллетень Верховного Суда СССР, 1958, № 2, с. 24; Бюллетень Верховного Суда СССР, 1959, № 3, с. 30 (цит. по: Ароцкер, 1969, с. 103).
9
Написана в соавторстве с Б.Х. Бгажноковым. При написании статьи использованы материалы, подготовленные Ю.А. Сорокиным и Е.Ф. Тарасовым. Впервые опубликовано в кн.: НТР и функционирование языков мира. М.: Наука, 1977. С. 57—62.
10
Первая глава этой книги так и называется «Средство есть сообщение».
11
Впервые опубликовано в кн.: Язык СМИ как объект междисциплинарного исследования: Учебное пособие. Часть 2 / Отв. ред. М.Н. Володина. М.: Изд-во Моск. ун-та, 2004. С 97-107.
12
Впервые опубликовано в кн.: Скрытое эмоциональное содержание текстов СМИ и методы его объективной диагностики / Под ред. А.А. Леонтьева, Д.А. Леонтьева. М.: Смысл, 2004. С. 6—18, 29—43, 57—94.
13
См. также: Вендлер, 1987; Вольф, 1985; Греймас, 1986; Демьянков, 1983; Николаева, 1980; Шабес, 1989.
14
Впервые опубликовано в кн.: Язык СМИ как объект междисциплинарного исследования: тезисы докладов международной научной конференции 25—27 октября 2001 г. М.: МГУ, 2001. С. 39—41.
15
Отредактированная стенограмма выступления на научно-практической конференции «Реклама как точная наука» (Москва. 1992). Впервые опубликована в журнале «Вопросы психолингвистики», 2006. № 4. С. 7—12.
16
Отредактированная стенограмма выступления на учебном семинаре НПФ «Смысл» в 1993 г. Впервые опубликована в журнале «Вопросы психолингвистики», 2006. № 4. С. 12—24.
17
Впервые опубликовано в кн.: Телевидение вчера, сегодня, завтра. Вып. 4. М.: Искусство, 1984. С. 50—61.
18
Прекрасный анализ архитектуры как искусства и как «технологии» содержится в кн.: Бархин, 1981.
19
Впервые опубликовано в кн.: Человек в кадре. Материалы научно-практической конференции. М., 1990. С. 41—48.
20
Впервые опубликовано в кн.: Аудиовизуальные и технические средства в обучении. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1975. С. 42—57.
21
О философской проблематике, связанной с идеальными объектами, см. Мамардашвили, 1970; Ильенков, 1962.
22
Сошлемся только на одну из последних публикаций в этой области: Metz, 1971.
23
К сожалению, Н.И. Жинкин в своем содержательном исследовании «Психология киновосприятия» (Жинкин, 1971) фактически остается именно на уровне кинотехники.
24
Ср. идею «образа замысла» у Н.И. Жинкина.






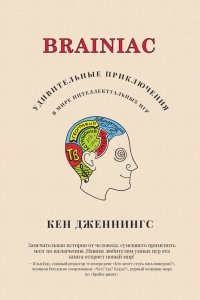

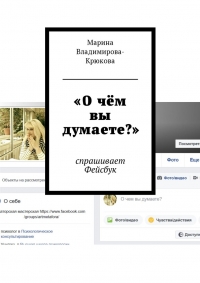

Комментарии к книге «Прикладная психолингвистика речевого общения и массовой коммуникации», Алексей Алексеевич Леонтьев
Всего 0 комментариев