Может показаться, что подсознательные аспекты всего, что с нами происходит, играют очень незначительную роль в нашей повседневной жизни… [но] они и есть едва различимые корни наших сознательных мыслей.
Карл Густав Юнг[1]В июне 1879 года у американского философа и ученого Чарлза Сэндерса Пирса[2], плывшего в каюте первого класса пароходом из Бостона в Нью-Йорк, украли золотые часы[3]. Пирс заявил о краже и потребовал, чтобы весь экипаж судна собрали на палубе. Он допросил каждого, но ничего не добился, после чего, немного побродив в раздумьях, предпринял нечто странное: решил угадать злоумышленника, хотя не имел никаких улик, — так покерный игрок идет ва-банк с двумя двойками на руках. Стоило Пирсу эдак ткнуть вслепую, как он тут же уверовал, что угадал правильно. «Я отошел прогуляться, всего на минуту, — позднее писал он, — вдруг обернулся — и даже тень сомнения исчезла»[4].
Пирс уверенно обратился к подозреваемому, но тот был тоже не промах и отверг все обвинения. Не имея никаких логических доказательств, философ не мог ничего поделать — пока корабль не пришел в порт назначения. Пирс тут же поймал кэб, отправился в местное отделение агентства Пинкертона и нанял сыщика. На следующий же день тот нашел часы в ломбарде. Пирс попросил хозяина описать человека, сдавшего часы. По словам философа, тот описал подозреваемого «так красочно, что почти несомненно это и был человек, на которого указал я». Пирс сам терялся в догадках, как ему удалось опознать вора. Он пришел к выводу, что подсказку дало некое инстинктивное чутье, нечто за пределами его сознательного ума.
Если б история заканчивалась подобным выводом, любой ученый счел бы объяснение Пирса не убедительнее аргумента «птичка насвистела». Однако пять лет спустя Пирс нашел способ превратить свои соображения о бессознательном восприятии в лабораторный эксперимент, видоизменив метод, примененный в 1834 году психофизиологом Э.Г. Вебером[5]. Тот помещал один за другим небольшие грузы разной массы на одно и то же место на теле испытуемого и таким образом определял, какую наименьшую разницу в весе человек может различить[6]. В эксперименте Пирса и его лучшего студента Йозефа Ястрова[7] на тело испытуемого помещали грузы с различием в массе чуть меньшим, чем порог ощущений этой разницы (испытуемыми были, собственно, сами Пирс и Ястров поочередно). Сознательно почувствовать разницу в весе не мог ни тот, ни другой, но они договорились, что все равно попытаются определить, какой груз тяжелее, и станут обозначать степень уверенности в каждой догадке по шкале от нуля до трех. Естественно, почти во всех попытках оба ученых оценили эту степень как нулевую. Однако невзирая на недостаток уверенности, оба верно угадывали в 60% случаев — что гораздо выше простой случайности. Повтор эксперимента в других условиях — оценка поверхностей, слегка отличающихся по освещенности, — привел к сходным результатам: им удавалось угадывать ответ, даже не располагая осознанным доступом к информации, которая бы позволила им сделать соответствующие выводы. Так возникло первое научное свидетельство того, что бессознательный ум владеет знанием, не доступным сознательному.
Позднее Пирс сравнил способность с высокой точностью улавливать бессознательные сигналы с «музыкальными и аэронавигационными талантами птицы… это самые утонченные наши — и птичьи — инстинкты». Он также описывал эти способности как «внутренний свет… свет, без которого человечество давным-давно вымерло бы, не имея никакой возможности бороться за существование…» Иными словами, работа, производимая бессознательным, — неотъемлемая часть нашего эволюционного механизма выживания[8]. Уже более ста лет теоретики и практики психологии признают, что все мы ведем активную подсознательную жизнь, параллельную той, которой живут наши сознательные мысли и чувства, и влияние этой жизни на все наше сознательное мы только сейчас учимся оценивать хоть с какой-то точностью.
Карл Густав Юнг писал, что «есть такие события, которых мы не замечаем на осознанном уровне; они, так сказать, остаются за порогом восприятия. Они произошли, но были восприняты сублиминально…» Слово «сублиминальный» происходит от латинского выражения «под порогом». Психологи применяют этот термин для обозначения всего, лежащего ниже порога сознания. Эта книга — о процессах, протекающих в бессознательной части ума, и о том, как эти процессы на нас влияют. Чтобы достичь подлинного понимания человеческого жизненного опыта, нам необходимо постичь и сознательное, и бессознательное «я», а также их взаимоотношения. Наш подсознательный ум — незрим, но он влияет на самые значительные наши переживания: как мы воспринимаем себя и окружающих, какое значение придаем событиям повседневности, как быстро умеем делать выводы и принимать решения, от которых иногда зависит сама наша жизнь, как мы действуем исходя из собственных инстинктивных порывов.
За последние сто лет о бессознательных аспектах человеческого поведения увлеченно рассуждали Юнг, Фрейд и многие другие, но знание, полученное предложенными ими методами: самоанализом, наблюдением внешнего поведения, изучением людей с мозговыми травмами, введением электродов в мозг животным» — неопределенно и косвенно. Меж тем подлинные корни человеческого поведения оставались скрыты. В наши дни все иначе. Хитрые современные технологии перевернули наше понимание той части мозга, что действует под слоем сознательного ума, — мира подсознания. Благодаря этим технологиям впервые в истории человечества возникла настоящая наука о подсознании; как раз она и является предметом этой книги.
До XX века физика вполне успешно описывала материальную Вселенную такой, как мы воспринимаем ее на собственном опыте. Люди заметили: если что-то подбросить, оно обычно падает, — и нашли способ измерить, с какой скоростью это происходит. В 1687 году Исаак Ньютон облек это бытовое понимание в математическую форму — в книге «Philosophiae naturalis principia mathematica», что в переводе с латыни означает «Математические начала натуральной философии»[9]. Законы, сформулированные Ньютоном, оказались настолько всесильны, что их можно было применять для вычисления орбит Луны и удаленных планет. Однако около 1900 года этот безупречный и удобный взгляд на мир оказался под угрозой. Ученые обнаружили, что за Ньютоновой картиной мира располагается иная реальность — более глубокая истина, известная нам как квантовая теория и теория относительности.
Ученые формулируют теории, описывающие физический мир; мы же, существа общественные, формулируем собственные «теории» социального мира. Теории эти — элемент человеческой одиссеи в океане социума. С их помощью мы толкуем поведение окружающих, предсказываем их поступки, строим догадки, как нам добиться от других желаемого, и, наконец, решаем, как нам к ним относиться. Доверить ли им деньги, здоровье, машину, карьеру, детей, сердце? Как и в физической Вселенной, у Вселенной социальной тоже есть подкладка — иная реальность, отличная от той, которую мы воспринимаем наивно. Переворот в физике возник на стыке XIX и XX веков — технологии позволили наблюдать удивительное поведение атомов и только что открытых атомных частиц — протона и электрона; новые методы нейробиологии дают нам возможность глубже изучать ментальную реальность, скрытую от глаз наблюдателя на всем протяжении истории человечества.
Самой революционной технологией в изучении ума оказалась функциональная магнитно-резонансная томография (фМРТ). Она похожа на МРТ, которую применяют врачи, только фМРТ отражает деятельность различных структур мозга, от активности которых зависит их насыщение кровью. Мельчайшие приливы и отливы крови и фиксирует фМРТ, генерируя трехмерное изображение мозга изнутри и снаружи, с миллиметровым разрешением, в динамике. Вообразите: данных фМРТ вашего мозга ученым хватит, чтобы воссоздать картинку, на которую вы смотрите, — вот каковы возможности этого метода[10].
Взгляните на иллюстрации ниже. Слева — реальное изображение, на которое смотрит испытуемый, а справа — компьютерная реконструкция, созданная исключительно по данным фМРТ мозга испытуемого: путем суммирования показателей активности участков мозга, отвечающих за разные сегменты поля зрения человека, и тех участков, которые отвечают за разные предметные темы. Затем компьютер перебрал базу из шести миллионов изображений и подобрал наиболее соответствующие полученным данным:
Результат подобного исследования — не меньший переворот в научном сознании, чем квантовая революция: возникло новое понимание деятельности мозга — и того, кто мы, человеческие существа, такие. Эта революция породила целую новую дисциплину — нейросоциологию. Первая встреча ученых, посвященная этой новой отрасли науки, прошла в апреле 2001 года[11].
Карл Юнг был убежден, что для постижения человеческого опыта необходимо изучать сновидения и мифологию. История человечества — набор событий, произошедших в развитии цивилизации, а сны и мифы суть выражения человеческой души. Мотивы и архетипы наших сновидений и мифов, согласно Юнгу, не зависят от исторического времени и особенностей культуры. Они происходят из бессознательного, которое управляло нашим поведением задолго до того, как инстинкты скрылись под слоями цивилизации, прочь с глаз, поэтому мифы и сны рассказывают нам, каково быть человеком на самом глубинном уровне. В наши дни, складывая общую картину того, как работает мозг, мы можем напрямую изучать человеческие инстинкты, их физиологическое происхождение. Раскрывая секреты бессознательного, мы можем постичь и нашу связь с другими биологическими видами, и то, что делает нас людьми.
Эта книга — исследование нашего эволюционного наследия, поразительных и диковинных сил, которые движут нашим умом из-под его поверхности, и влияния бессознательных инстинктов на то, что мы привыкли считать рациональным волевым поведением — влияния, гораздо более могущественного, нежели было принято думать. Если мы действительно желаем понять социум, себя и других, а главное — как преодолеть многие преграды, мешающие жить наполненной, насыщенной жизнью, придется разобраться, как на нас влияет скрытый в каждом подсознательный мир.
Часть I. Двухъярусный ум
Глава 1. Новое бессознательное
Сердце имеет свои законы, которых не знает ум.
Блез Паскаль[12]Когда моей матери было восемьдесят пять, она унаследовала от моего сына степную черепаху по кличке Мисс Диннерман. Черепаху поселили в саду, в просторном загоне с кустами и травкой, огороженном проволочной сеткой. Колени маму уже подводили, и ей пришлось отказаться от ежедневной двухчасовой прогулки по району. Она искала, с кем бы подружиться где-нибудь неподалеку, и черепаха оказалась очень кстати. Мама украсила загон камнями и корягами, навещала ее каждый день — как некогда ходила в банк поболтать с клерками или к кассиршам из «Биг Лотс»[13]. Иногда она даже приносила черепахе цветы, чтобы те украшали загон, но черепаха относилась к ним как к заказу из «Пиццы-Хат».
Мама не обижалась на черепаху за то, что она поедает ее букеты. Ее это умиляло. «Смотрите, как ей вкусно», — говорила мама. Но невзирая на шикарные интерьеры, бесплатное проживание, питание и свежие цветы, у Мисс Диннерман была одна цель — удрать. В свободное от сна и еды время она обходила периметр своих владений и искала дыру в загородке. Неловко, словно скейтбордист на винтовой лестнице, черепаха даже пыталась взобраться по сетке. Мама и эти ее попытки оценивала с человеческих позиций. С ее точки зрения, черепаха готовила героическую диверсию, как военнопленный Стив Маккуин из «Большого побега»[14]. «Все живое рвется на свободу, — говаривала матушка. — Даже если ей тут нравится, она не хочет сидеть взаперти». Мама считала, что Мисс Диннерман узнаёт ее голос и отвечает ей. Мама верила, что Мисс Диннерман ее понимает. «Ты домысливаешь за нее лишнего, — говорил я. — Черепахи — примитивные существа». Я даже экспериментально доказывал свою точку зрения — махал руками и вопил как ненормальный; черепаха ноль внимания. «И что? — говорила мама. — Твои дети тоже тебя не замечают, но их ты примитивными существами не считаешь».
Отличить волевое сознательное поведение от привычного или автоматического нередко бывает трудно. Ясное дело, нам, людям, настолько свойственно предполагать осознанное мотивированное поведение, что мы усматриваем его не только в собственных поступках, но и в таковых у животных. У наших домашних питомцев — и подавно. Мы их антропоморфизируем — очеловечиваем. Храбрая, как военнопленный, черепаха; кошка описала нам чемодан, потому что обижается на нас за отъезд; собака явно недаром злится на почтальона. Вдумчивость и целеустремленность более простых организмов могут выглядеть похожими на человеческие. Брачный ритуал жалкой плодовой мушки крайне причудлив: самец похлопывает самку передней ногой и исполняет брачную песнь, трепеща крыльями[15]. Если самка приняла ухаживания, то сама дальше ничего не делает — самец берет дальнейшее на себя. Если же она сексуально не заинтересована, то либо стукнет ухажера ногами или крыльями — или просто улепетнет. И хотя я сам, бывало, вызывал до ужаса похожие реакции у самок человека, подобное поведение у дрозофил глубоко запрограммировано. Плодовых мушек не заботит, как станут развиваться их отношения в будущем, — они просто выполняют свою программу. Более того, их действия настолько впрямую связаны с их биологическим устройством, что, применив к мужской особи некое открытое учеными химическое вещество, буквально в течение нескольких часов гетеросексуальный самец плодовой мушки превратится в гея[16]. Даже поведение круглого червя С. elegans[17] — существа, состоящего из примерно тысячи клеток, — может показаться осознанным и намеренным. Например, он способен проползти мимо совершенно съедобной бактерии к другому лакомому кусочку где-то на другом краю чашки Петри. Может возникнуть искушение расценить такое поведение круглого червя как демонстрацию свободы воли — мы же отказываемся от неаппетитного овоща или слишком калорийного десерта. Но круглый червь не склонен рассуждать: мне надо следить за размером своего диаметра, — он просто движется к питательной массе, которую запрограммирован добывать[18].
Существа вроде плодовой мушки или черепахи находятся в низу шкалы мозговых потенций, но автоматическое поведение свойственно далеко не только этим примитивным тварям. Мы, люди, тоже совершаем многие поступки бессознательно, автоматически, но обычно не замечаем этого, поскольку взаимосвязь сознательного и бессознательного слишком сложна. Эта сложность происходит из физиологии мозга. Мы — млекопитающие, и поверх более простых церебральных слоев, унаследованных от пресмыкающихся, располагаются новые. А поверх этих слоев есть и другие, развитые только у человека. Таким образом, у нас есть бессознательный ум, а над ним — ум сознающий. Какая часть наших чувств, выводов и поступков коренится в том или другом — сказать трудно: между ними существует постоянная связь. К примеру, вам надо утром по дороге на работу заскочить на почту, но отчего-то нужный поворот пролетает мимо: действуя на автопилоте, бессознательно, вы сразу направляетесь в контору. Пытаясь объяснить полицейскому свой поворот через сплошную, вы привлекаете сознательную часть ума и конструируете оптимальное объяснение, а бессознательное тем временем занято подбором соответствующих глагольных форм, сослагательных наклонений и бесконечных предлогов и частиц, обеспечивая вашим оправданиям справную грамматическую форму. Если вас попросили выйти из машины, вы инстинктивно встанете примерно в метре-полутора от полицейского, хотя, общаясь с друзьями, автоматически сокращаете это расстояние сантиметров до шестидесяти-семидесяти. Большинство подчиняется этим неписаным правилам соблюдения дистанции с другими людьми, и мы неизбежно ощущаем неудобства, когда эти правила нарушаются.
Такие простые повадки (например, привычный поворот на дороге) легко распознать как автоматические — стоит только их за собой заметить. Куда занимательнее разобраться, до какой степени автоматичны наши гораздо более сложные поступки, существенно влияющие на нашу жизнь, даже если нам кажется, что они тщательно обдуманы и совершенно рациональны. Как наше подсознание влияет на решения вопросов «Какой дом выбрать?», «Какие акции продать?», «Стоит ли нанимать этого человека для присмотра за моим ребенком?» или «Является ли достаточным основанием для долгосрочных отношений тот факт, что я гляжу не нагляжусь в эти синие глаза?»
Различить бессознательное поведение непросто даже у животных, а у нас, людей, — еще труднее. Учась в колледже, задолго до черепашьей фазы у моей мамы, я звонил ей по четвергам каждый вечер, часов в восемь. И вот однажды не позвонил. Большинство родителей сочло бы, что я просто забыл или наконец, как большой, зажил своей жизнью и отправился развлекаться. Но мамина интерпретация оказалась иной. Около девяти вечера она принялась звонить мне домой и просить меня к телефону. Моя соседка по квартире, видимо, спокойно восприняла первые четыре-пять звонков, но потом, как выяснилось на следующее утро, ее благодушие исчерпалось. Особенно после того, как моя мама обвинила мою соседку в том, что она скрывает от нее полученные мной чудовищные увечья, из-за которых я нахожусь под наркозом в местной больнице и поэтому не звоню. К полуночи мамино живое воображение раздуло этот сценарий еще больше: она теперь винила мою соседку в сокрытии моей безвременной кончины. «Зачем вы мне врете? — возмущалась она. — Я все равно узнаю».
Почти любому чаду было бы неловко от сознания, что мать, человек, который близко знаком с тобой с рождения, скорее поверит, что тебя убили, чем в то, что ты ушел на свидание. Но моя мама откалывала такие номера и раньше. Посторонним она казалась совершенно нормальной — за вычетом, может, мелких пунктиков вроде веры в злых духов или любви к аккордеонной музыке. Подобные чудачества вполне ожидаемы: она выросла в Польше — стране с древней культурой. Но ум моей мамы работал иначе, нежели у кого угодно из наших знакомых. Теперь-то я понимаю, почему, хотя мама этого и не признает: десятилетия назад ее психика переформировалась под восприятие контекста, непостижимого для большинства из нас. Все началось в 1939 году, когда маме было шестнадцать. Ее мать умерла от рака кишечника, целый год промучившись невыносимой болью. Некоторое время спустя мама как-то раз вернулась домой из школы и обнаружила, что ее отца забрали немцы. Маму и ее сестру Сабину тоже вскоре угнали в концлагерь, и сестре выжить не удалось. Чуть ли не в одночасье жизнь любимого и обихаживаемого подростка в крепкой семье превратилась в существование голодной презираемой подневольной сироты. После освобождения мама эмигрировала, вышла замуж, осела в мирном чикагском пригороде и зажила спокойной жизнью среднего класса. Никакой рациональной причины бояться внезапной потери тех, кто ей дорог, не стало, но страх управлял ее восприятием повседневности до конца ее дней.
Мама воспринимала значения поступков по словарю, отличному от нашего, и в соответствии с некими уникальными для нее одной грамматическими правилами. Выводы она делала не логически, а автоматически. Мы все понимаем разговорный язык без сознательного применения грамматики; она точно так же понимала сообщения мира, адресованные ей, — без всякого осознания, что предыдущий жизненный опыт навеки изменил ее ожидания. Мама так и не признала, что ее восприятие исказил неискоренимый страх, что справедливость, вероятность и логика могут утерять силу и значение в любой момент. Сколько бы я ни призывал ее сходить к психологу, она всякий раз поднимала на смех мои предложения и отказывалась считать, что ее прошлое имеет хоть какое-то негативное воздействие на ее восприятие настоящего. «Да ладно, — отвечал я. — Отчего тогда никто из родителей моих друзей не обвиняет их соседей в том, что они сговорились скрывать их гибель?»
У каждого из нас есть скрытые системы координат — хорошо, если не настолько экстремальные, — из которых произрастает наш образ мыслей и поведение. Нам всегда кажется, что действия и переживания укоренены в сознательном мышлении, — и, в точности как моей маме, нам трудно принять, что в нас есть силы, действующие за кулисами сознания. Но их незримость не уменьшает их влияния. В прошлом много рассуждали о бессознательном, но мозг всегда оставался черным ящиком, а его работа — недоступной для понимания. Современная революция нашего мышления о бессознательном произошла потому, что при помощи современных инструментов мы можем наблюдать, как структуры и подструктуры мозга генерируют чувства и эмоции. Мы можем измерить электропроводность отдельных нейронов, разобраться в нервной деятельности, формирующей мысли человека. В наши дни ученые не ограничиваются разговорами с моей мамой и догадками о том, как ее предыдущий опыт повлиял на нее, — они могут определить, какая область мозга претерпела изменения, последовавшие за болезненными переживаниями ее юности, и понять, как эти переживания вызывают физические перемены в отделах мозга, чувствительных к стрессу[19].
Современная концепция бессознательного, основанная на подобных исследованиях и замерах, часто называется «новым бессознательным» — чтобы отличать его от бессознательного, которое популяризовал невролог Зигмунд Фрейд, впоследствии ставший клиническим врачом. Фрейд внес замечательный вклад в неврологию, невропатологию и анестезию[20]. Он, к примеру, предложил применять хлорид золота для маркировки нервных тканей и использовал эту методику в изучении нервных взаимодействий между продолговатым мозгом, или луковицей, находящимся в стволе головного мозга, и мозжечком. В этих исследованиях Фрейд сильно обогнал свое время: пройдет не один десяток лет, прежде чем ученые осознают важность взаимосвязей внутри мозга и разработают инструменты для его изучения. Но сам Фрейд недолго увлекался этими исследованиями и вскоре переключился на клиническую практику. Пользуя пациентов, Фрейд пришел к верному выводу: их поведением в существенной степени управляют неосознаваемые ментальные процессы. Не имея приборов для научного подтверждения этого заключения, Фрейд просто беседовал со своими пациентами, пытался вытянуть из них, что же происходит в укромных уголках их ума, наблюдал за ними и строил предположения, которые казались ему резонными. Но мы увидим, что такие методы ненадежны, и многие бессознательные процессы никоим образом не могут быть выявлены терапевтическим самоанализом, поскольку проявляются в областях мозга, не доступных сознательному уму. Поэтому-то Фрейд по большей части попадал пальцем в небо.
Человеческое поведение формируется в бесконечном потоке восприятий, чувств и мыслей, переживаемых и на сознательном, и на бессознательном уровнях. Нам трудно принять, что мы по большей части не осознаем причин собственных поступков. И хотя Фрейд и его последователи разделяли убежденность, что бессознательное влияет на человеческое поведение, психологи-исследователи до недавнего времени остерегались ее как «попсовой». Один ученый писал: «Многие психологи воздерживаются от термина “бессознательное”, не то коллеги решат, что у них крыша поехала»[21]. Йельский психолог Джон Барг[22] вспоминает: когда он еще учился в аспирантуре Университета Мичигана, в конце 1970-х, было принято считать, что не только наше социальное восприятие и оценки, но и поведение осознанны и произвольны[23]. Высмеивались любые попытки подорвать эту веру: однажды Барг рассказал своему близкому родственнику, состоявшемуся профессионалу, о некоторых разработках, доказывающих, что люди совершают поступки, о мотивах которых не догадываются. Желая опровергнуть результаты таких исследований, родственник Барга привел в пример собственный опыт: он-де не может припомнить в своих действиях ровным счетом ничего, что он делал, не осознавая мотивов[24]. Барг пишет: «Нам всем очень дорога мысль, что мы — повелители собственных душ, что мы — у руля, и обратное очень страшно. По сути, это и есть психоз — ощущение отрыва от реальности, утери контроля, а это кого угодно напугает».
Современная психология признает важность бессознательного, однако внутренние силы нового бессознательного имеют мало общего с теми, которые описывал Фрейд, — вроде желания у мальчика убить отца и жениться на собственной матери или зависти женщины мужскому половому органу[25]. Необходимо, разумеется, отдать должное Фрейду за понимание огромной силы бессознательного — само это понимание есть великое достижение, — но также нужно признать, что наука всерьез сомневается в существовании многих специфических эмоциональных и мотивационных факторов бессознательного, которые Фрейд определял как формирующие сознательный ум[26]. Социопсихолог Дэниэл Гилберт писал, что «из-за духа сверхъестественности фрейдовского undewusst [бессознательного] вся концепция оказалась несъедобной»[27].
Бессознательное, каким его видел Фрейд, — говоря словами группы нейробиологов, — «горячее и влажное; бурлит похотью и гневом; галлюцинаторное, примитивное, иррациональное», тогда как новое бессознательное «добрее и деликатнее — и теснее связано с реальностью»[28]. В новом представлении умственные процессы видятся бессознательными потому, что существуют области ума, не доступные сознанию из-за архитектуры мозга, а не потому что на них воздействуют иные мотивационные силы вроде подавления. Недоступность нового бессознательного — не защитный механизм и не признак нездоровья. Это теперь считается нормой.
Даже если я говорю о каком-либо явлении, и мои рассуждения отдают фрейдизмом, современное понимание этого явления и его причин — совсем не фрейдистское. Новое бессознательное играет куда более значимую роль, нежели защита от непотребных сексуальных желаний (к нашим родителям, например) или от болезненных воспоминаний. Напротив, это — дар эволюции, необходимый для нашего видового выживания. Сознательное мышление — отличное подспорье для проектирования автомобиля или постижения математических законов природы, но избегать змеиных укусов, не попадать под выскочившую из-за угла машину или сторониться опасных людей может помочь лишь спорое и сноровистое бессознательное. Мы увидим, сколько разнообразных процессов восприятия, памяти, внимания, обучения и суждения природа предписала выполнять структурам мозга за пределами осознанности, — все для того, чтобы обеспечить нам бесперебойное функционирование в физическом и социальном мирах.
Предположим, прошлым летом ваша семья отправилась на каникулы в Диснейленд. Оглядываясь назад, вы, может, усомнитесь в рациональности выстаивания в очередях при 35-градусной жаре только ради того, чтобы поглядеть, как вашу дочку болтает в гигантской чайной чашке. Но потом вспомните, что, планируя поездку, оценили все варианты и пришли к выводу, что одна дочкина улыбка от уха до уха будет того стоить. Обычно мы уверены, что знаем мотивы своего поведения. Иногда эта уверенность оправдана. Но, тем не менее, раз уж силы за пределами нашего сознания сильно влияют на наши оценки и поведение, мы точно знаем себя не настолько хорошо, как привыкли считать. Я выбрал эту работу, потому что хотел замахнуться на что-то новое. Мне нравится этот парень, потому что у него классное чувство юмора. Я доверяю своему гастроэнтерологу, потому что на кишечных болезнях та собаку съела. Мы ежедневно задаем вопросы о том, что чувствуем и предпочитаем, и получаем ответы. Наши ответы обычно кажутся разумными, но все равно часто оказываются нисколько не правильными.
Как я люблю тебя? Элизабет Бэрретт Браунинг[29] полагала, что может перечислить, как именно, но, скорее всего, составить точный список причин она бы не смогла. В наши дни нам это почти под силу — взгляните на приводимую ниже таблицу. В ней отражена статистика, кто на ком женился в трех штатах на юго-востоке США[30].
Допустим, все эти пары женились по любви, — да наверняка. Но что есть источник этой любви? Улыбка возлюбленного? Щедрость? Изящество? Обаяние? Чувствительность? Или размеры бицепсов? Целыми тысячелетиями об источнике любви размышляли влюбленные, поэты и философы, но с хорошей точностью можно утверждать, что никто не блеснул красноречием о факторе имен. Таблица, меж тем, показывает, что фамилия избранника может подспудно повлиять на решения сердца — если эти фамилии у вас совпадают.
В верхнем ряду и правой колонке приведены пять самых распространенных американских фамилий. Числа в таблице — количества заключенных браков между женихом и невестой с соответствующими фамилиями. Самые высокие показатели, как видим, располагаются по диагонали, т. е. Смиты женятся на Смитах в три-пять раз чаще, чем на Джонсонах, Джоунзах или Браунах. Фактически Смиты женятся на Смитах так же часто, как на людях с другими фамилиями, купно взятыми. Сходно ведут себя Джонсоны, Уильямсы и Брауны. Но вот что еще поразительнее: здесь не учитывается, что Смитов вдвое больше, чем Браунов, и при прочих равных можно было бы решить, что Брауны женятся на пресловутых Смитах чаще, чем на более редких Браунах, но даже с этой поправкой самые частые браки у Браунов — с другими Браунами.
О чем это говорит? Мы испытываем базовую потребность нравиться самим себе, и поэтому есть склонность к предвзятости: мы предпочитаем в других черты, близкие нашим собственным, даже в случае такой ерунды, как фамилия. Ученые даже определили особую область мозга — полосатое тело (стриатум), — которая отвечает за такие предвзятости[31].
Исследования предполагают, что в понимании чувств мы, человеки, маломощны, но при этом самоуверенны. Может не вызывать сомнений, что новая работа — замах на большее, хотя, возможно, она просто более престижна. Хоть клянись, что тот парень — самое то, потому что у него отличное чувство юмора, на самом деле он нравится улыбкой, которая напоминает мамину. Можно считать, что гастроэнтеролог вызывает доверие своим профессионализмом, но, вероятно, доверять ей хочется потому, что она умеет слушать. Многие из нас вполне довольны собственными представлениями о себе, уверены в них, но возможность проверять их выпадает редко. Однако ученые теперь могут лабораторно протестировать наши теории и убедиться, что они поразительно неверны. Допустим, вы пришли в кино, и тут к вам обращается человек, похожий на работника кинотеатра, и просит ответить на пару вопросов о театре и его услугах в обмен на бесплатный попкорн и напиток. Этот человек не сообщит вам, что раздаваемый попкорн фасуется в стаканы двух размеров: побольше и поменьше, но оба все равно такие великанские, что с ними за сеанс никак не управиться, и они — с двумя «вкусами». Участники эксперимента потом скажут, что один «вкус» — «хороший», «качественный», а другой — «несвежий», «непрожаренный», «жуткий». Вам также не сообщат, что вас приглашают участвовать в научном эксперименте с целью выяснить, сколько попкорна вы съедите и почему. А вот и вопрос, поставленный экспериментаторами: что окажет большее влияние на количество съеденного попкорна — вкус или размер порции? Чтобы собрать статистику; исследователи выдавали испытуемым по одному из четырех возможных вариантов комбинации «вкус-размер». Кинолюбители получали хороший попкорн в меньшем стакане, хороший попкорн в большем стакане, плохой попкорн в меньшем стакане или плохой попкорн в большем стакане. Результат? Люди склонны были «решать», сколько им съесть, исходя и из вкуса, и из размера упаковки — в равной степени. Другие исследования подтверждают этот вывод: увеличение размеров порции закусочного продукта увеличивает потребление на 30–45%[32].
Я взял слово «решать» в кавычки, потому что в нашем восприятии оно связано с осознанным действием. Маловероятно, что обсуждаемое в нашем примере подпадает под это определение. Испытуемые не говорили себе, мол, этот дармовой попкорн — дрянь, но зато его много, а на халяву и уксус сладок. Напротив, подобные исследования подтверждают то, что давно угадали рекламщики: «внешние факторы» — дизайн упаковки, размеры порции, описания блюда в меню — подсознательно влияют на нас. Но более всего поражают масштабы этого эффекта и нежелание людей признавать, что ими манипулируют. Иногда мы отмечаем, что эти факторы влияют на людей, но при этом полагаем — ошибочно, — что уж точно не на нас[33].
На самом же деле внешние факторы оказывают мощное — и бессознательное — влияние не только на то, сколько пищи мы едим, но и на ее вкус. Положим, вы питаетесь не только в кино, но иногда ходите и в рестораны — временами даже в такие рестораны, где подают не только разные виды гамбургеров. В таких более изысканных заведениях меню пестрят названиями вроде «хрустящие огурчики», «бархатное пюре», «свекла на подушке из рукколы, обжаренная на медленном огне», как будто в других ресторанах огурцы — вялые, пюре по консистенции шерстяное, а свеклу жарят напалмом и укладывают на тюфяк из лебеды. Будет ли хрустящий огурчик таким же хрустящим на вкус, если назвать его иначе? Если написать «чизбургер с беконом» по-испански, станет ли он блюдом мексиканской кухни? Превратит ли макароны с сыром поэтическое описание из лимерика в хайку? Исследования показывают, что цветистость не только подталкивает людей заказывать лирически описанные в меню блюда, но и побуждают оценивать эти блюда как более вкусные по сравнению с идентичными кушаньями, но преподнесенными без изысков[34]. Если бы вас спросили, что вы предпочитаете в высокой кухне, и вы бы ответили, что вам по душе гарнир из бодрых прилагательных, это бы произвело на вашего собеседника довольно странное впечатление. И тем не менее описание блюда, оказывается, — важная составляющая вкуса. Поэтому, когда в следующий раз пригласите друзей на обед, не подавайте им салат из соседнего универсама — воздействуйте подсознательно: подавайте меланж из местной зелени.
Усложним задачу. Что вам придется больше по вкусу — бархатное пюре или бархатное пюре? Пока никто не брался изучать влияние шрифта на вкус пюре, но зато поставлен эксперимент, как шрифт влияет на приготовление пищи. В этом эксперименте участников попросили прочесть рецепт японского обеденного блюда и оценить объем усилий и навыков, необходимый для реализации этого рецепта, а также можно ли приготовить это блюдо в домашних условиях.
Испытуемые, которым выдали рецепт, набранный неразборчивым шрифтом, оценили его как трудный и вряд ли пригодный для домашней кулинарии. Эксперимент повторили, предложив другим подопытным вместо рецепта описание набора упражнений, и получили сходный результат: те, кто получил инструкции, напечатанные трудным для чтения шрифтом, оценили упражнения как сложные и сказали, что вряд ли станут их делать. Психологи называют это «эффектом беглости». Трудноусвояемость формы информации влияет на наше восприятие сути информации[35].
Изучение нового бессознательного аккумулировало множество данных о подобных явлениях — причуды в наших оценках и восприятии людей и событий, искажения, вдруг возникающие даже в тех ситуациях, с которыми наш мозг автоматически справляется наилучшим образом. Все дело в том, что мы — не компьютер, перемалывающий данные более-менее в лобовую и выдающий численный результат. Наш мозг — сумма многих модулей, работающих параллельно и связанных друг с другом, и большая их часть оперирует за пределами сознания. Именно поэтому подлинные причины наших оценок, чувств и поступков удивляют нас самих.
Не только академическая психология, но и социологические дисциплины до последнего времени с большой неохотой признавали власть бессознательного. Экономисты, к примеру, строили хрестоматийные теории исходя из того, что люди осуществляют выбор в своих интересах, сознательно взвешивая все относящиеся к делу факторы. Если новое бессознательное настолько сильно, как предполагают психологи и нейробиологи, экономистам придется пересмотреть свои представления. Само собой, растущее меньшинство экономистов-диссидентов добилось больших успехов в подрыве теорий более традиционно мыслящего большинства. В наши дни экономисты-бихевиористы вроде Антонио Рэнгла из Калтеха меняют мировоззрения экономистов — приводят серьезные доводы, доказывающие неполноту хрестоматийных теорий.
Рэнгл совсем не похож на экономиста в традиционном представлении — это не теоретик из тех, кто корпят над цифрами и городят хитрые компьютерные модели для описания рыночной динамики. Дородный испанец, бонвиван и вивер, Рэнгл работает с реальными людьми — студентами-волонтерами, которых затаскивает к себе в лабораторию для экспериментов: те пробуют у него вино или натощак пялятся на конфеты. В своем недавнем исследовании он с коллегами доказал, что люди готовы платить за единицу джанк-фуда на 40–61% больше, если упаковку показали живьем, а не на картинке или компьютерном мониторе[36]. То же исследование показало, что если объект спрятать под стекло, а не дать в руки, желание потребителя приобрести его падает до уровня показанной картинки. Странно, да? Вы оцените один стиральный порошок как лучший, потому что он в сине-желтой коробке? Если в торговом зале играет немецкая музыка из пивных баров, то вы скорее купите немецкое вино или французское? Станете ли решать, какая пара шелковых чулок качественнее, по их запаху?
Во всех этих экспериментах на людей значительно влияли факторы, не имеющие отношения к делу, — факторы наших подсознательных желаний и мотиваций, которыми пренебрегают экономисты-традиционалисты. Более того, оказалось, что испытуемые, по их собственным словам, и не подозревали об этих факторах и их влиянии. Например, в ходе исследования популярности моющих средств испытуемым предоставляли три разных упаковки порошка и просили пользоваться всеми тремя несколько недель, а потом сообщить, какой лучший и почему. Одна коробка была желтая, другая — синяя, а третья — синяя с желтыми пятнами. Подавляющее большинство респондентов выбрало порошок в коробке смешанной расцветки. Все комментировали сравнительные качества моющих средств, но ни один не упомянул в своем отчете коробку. С чего бы? Симпатичная упаковка не улучшает качества содержимого. Но на самом деле только упаковкой эти порошки и отличались — это было одно и то же моющее средство[37]. Мы судим товар по упаковке, книги — по обложкам, и даже годовой отчет компании — по глянцевой бумаге, на которой он напечатан. Потому же и врачи инстинктивно «упаковываются» в аккуратненькие рубашки и галстуки, а адвокатам не пристало встречаться с клиентами в футболках с символикой «Бадвайзера».
В исследованиях продаж вина четыре вида французских и четыре вида немецких сухих вин одного ценового диапазона разместили на полке в одном английском супермаркете. В разные дни над винным стеллажом играла то французская, то немецкая музыка.
В дни, когда включали французскую музыку, 77% покупателей выбирали французское вино, а в «дни немецкой музыки» 73% покупок вина пришлось на немецкое. Очевидно, музыка оказалась важнейшим фактором выбора покупки, однако на вопрос, повлияла ли музыка на предпочтения в вине, лишь один покупатель из семи ответил положительно[38]. В эксперименте с чулками респондентам предложили четыре пары совершенно идентичных шелковых чулок (о чем испытуемым не сообщили), отличавшихся, правда, предварительно нанесенным легким ароматом. Испытуемые «с легкостью определили, какая пара лучше прочих», описав разницу в текстуре, переплетении нитей, мягкости, блеске и весе — во всем, кроме запаха. Чулки с одним определенным запахом были признаны наилучшими чаще прочих, но испытуемые отвергли предположение, что использовали запах как критерий выбора, и лишь 6 из 250 участников эксперимента вообще заметили, что у чулок есть отдушка[39].
«Люди полагают, что их удовлетворенность тем или иным продуктом обоснована качеством этого продукта, но сама их удовлетворенность в существенной степени зависит от рыночного позиционирования продукта, — считает Рэнгл. — Например, одно и то же пиво, описанное разными способами или предложенное потребителю под разными брендами или по разным ценам, может иметь очень разный вкус. То же и с вином, хотя публике нравится думать, что все дело в сорте винограда и мастерстве винодела». Исследования со всей убедительностью показывают, что на винных дегустациях вслепую никакой прямой связи между вкусом вина и его ценой нет, зато она более чем пряма, если вина пробуют с открытыми глазами[40]. Поскольку обычно люди считают, что чем дороже вино, тем лучше оно на вкус, Рэнгла нисколько не удивил вывод добровольцев, которым он дал попробовать вина из двух бутылок, на которых была обозначена только цена — $ 90 и $ 10 за бутылку: первое — лучше[41]. Но Рэнгл всех надул: оба вина, воспринимаемые подопытными как разные, были на самом деле одинаковые — оба из бутылки по $ 90. Еще одна важная деталь: это исследование на добровольцах проводили одновременно с изучением их мозговой активности при помощи фМРТ. Полученные снимки показали, что цена вина активизировала деятельность области мозга за глазными яблоками — орбитофронтальной зоны, отвечающей за переживание удовольствия[42]. Вина-то были одинаковые, но разница во вкусах оказалась вполне реальной — во всяком случае, переживание испытуемыми удовольствия в разных степенях.
Как мозг приходит к выводу, что один напиток вкуснее другого, если они физически — одно и то же? Наивно полагать, что сенсорные сигналы вроде вкуса попадают от органа восприятия к определенной части мозга, где они и интерпретируются более-менее впрямую. Мы еще увидим, что архитектура мозга устроена сложнее. Хоть мы и не осознаем этого, пригубливая прохладное вино, мы вкушаем не только его химический состав, но и цену. Тот же эффект исследователи наблюдали, пока шли войны «Кока-Колы» против «Пепси», — только в отношении брендов. Этот эффект давным-давно назвали «парадоксом “Пепси”»: в слепых дегустациях «Пепси» всегда одерживает верх над «Кока-Колой», а когда испытуемые знают, что пьют, они предпочитают «Кока-Колу». Предлагали множество теорий, пытающихся истолковать этот феномен. Самое очевидное объяснение — влияние бренда, но если поспрашивать людей, не вкус ли жизнерадостной кока-кольной рекламы они выбирают, почти никто не признаётся. Однако в начале нулевых новые технологии исследования мозга подтвердили, что область мозга, расположенная по соседству с орбитофронтальной зоной, — вентромедиальная префронтальная кора — гнездилище неясных, но приятных ощущений, вроде тех, какие мы испытываем, думая о знакомом бренде какого-нибудь продукта[43]. В 2007 году исследователи пригласили группу подопытных с серьезными повреждениями вентромедиальной префронтальной коры и контрольную группу — без повреждений. Как и ожидалось, и та, и другая группы, не зная, напиток какого из двух брендов пробуют, предпочли «Пепси». И, тоже вполне предсказуемо, в группе людей со здоровым мозгом предпочтения рокировались, когда испытуемым во втором эксперименте рассказали, что именно они пьют. Но группа с поврежденной вентромедиальной корой — т. е. зоной мозга, отвечающей за «лояльность бренду», — не изменили своим предпочтениям. «Пепси» им нравился больше в обоих случаях. Без возможности испытывать теплые чувства к бренду парадокс «Пепси» проявляться перестает.
Но истина не в вине и не в «Пепси». Что верно в отношении напитков и брендов, то верно и в отношении прочих наших переживаний. И прямые, выраженные аспекты жизни (например, определенный напиток), и непрямые, невыраженные аспекты (вроде цены или бренда) сообща создают ментальное переживание (вкус). Ключевое слово — «создают». Наши мозги не просто фиксируют вкус или любое другое переживание, они их создают. К этому мы еще не раз вернемся. Нам по нраву думать, что мы предпочитаем один вид гуакамоле всем прочим, потому что у нас есть веские аргументы — вкус, калорийность, цена, настроение, убежденность, что в правильный гуакамоле не кладут майонез… и еще сто факторов, и все у нас под контролем. Мы полагаем, будто, выбирая ноутбук или стиральный порошок, планируя отпуск, покупая акции, принимая деловые предложения, прикидывая потенции спортсмена, заводя дружбу, оценивая незнакомца или даже влюбляясь, понимаем, что сильнее всего на нас повлияло. Очень часто наши выводы бесконечно далеки от истины, и поэтому наши самые базовые представления о самих себе и о социуме — ложны.
Раз влияние подсознания настолько велико, оно проявляется не только в отдельных ситуациях нашей личной жизни — наверняка оно заметно и на обществе в целом. Так и есть — например, в финансовом мире. Коль скоро деньги — важная для нас субстанция, любой индивид, по идее, должен принимать финансовые решения исключительно на основании сознательного, рационального выбора. Поэтому-то основы классической экономической теории базируются именно на этой предпосылке: дескать, люди ведут себя рационально и в полном согласии с ключевым принципом личной заинтересованности. До сих пор никто не выяснил, как разработать общую экономическую теорию, которая учитывала бы, что «рационально» — отнюдь не характеристика человеческого поведения, зато многие экономические исследования указывают на то, как влияет на социум наше коллективное отклонение от холодной расчетливости осознанного ума.
Рассмотрим эффект беглости, который я поминал ранее. Если б вы собрались решить, в какие акции вкладывать деньги, вы бы наверняка оценили положение дел в этом секторе экономики, общий деловой климат и финансовые подробности жизни компании, прежде чем вкладывать в нее свои сбережения. Легко ли произнести название компании — этот фактор явно будет в хвосте любого списка рациональных причин, кто тут станет спорить? Если это окажется причиной вашего инвестиционного выбора, ваши родственники, вероятно, начнут спешно строить планы, как бы перепрятать вашу заначку, поскольку у вас явно не все дома. И тем не менее, мы уже выяснили, что степень легкости, с которой человек усваивает ту или иную информацию (например, название компании), бессознательно влияет на то, какую оценку человек выносит этой информации. Допустим, вы готовы поверить, что простота усвоения информации может влиять на оценку сложности японского кулинарного рецепта, но распространяется ли это влияние на такие значимые решения, как инвестиционные стратегии? У компаний с простыми названиями дела идут лучше, чем у тех, о которые язык сломаешь?
Вот, к примеру, компания готовится к изначальному открытому предложению (IPO). Ее руководители презентуют блистательное будущее предприятия и подкрепляют презентацию имеющимися данными. Но частные компании обычно куда менее известны потенциальным инвесторам, нежели уже работающие на бирже, и поскольку у новичков нет никакого послужного списка, инвестиции в такие компании — совсем уж гадание на кофейной гуще. Чтобы убедиться, действительно ли умники-трейдеры с Уолл-стрит, вкладывающие всамделишные капиталы, бессознательно настроены против компаний с труднопроизносимыми названиями, исследователи подняли статистику по IPO. Взгляните на диаграмму: инвесторы и впрямь более склонны вкладывать в компании с простыми названиями.
Курсы акций компаний с легкими и сложными в произношении биржевыми кодами на Нью-Йоркской бирже в первый день, неделю, полгода и год с момента выхода на торги, за период с 1990 по 2004 г. Сходная закономерность обнаружена и в отношении IPO на Американской фондовой бирже.
Обратите внимание на то, что этот эффект со временем сглаживается — по мере того как компания зарабатывает репутацию на рынке. (Кстати, тот же вывод применим к книгам и их авторам: заметьте, какая простая у меня фамилия: Мло-ди-нов.)
Исследователи выявили и другие факторы, не имеющие никакого отношения к финансам (зато вполне значимые для человеческой психики), влияющие на курсы акций. Вот, допустим, солнышко. Психологи давным-давно установили, что солнечный свет оказывает неосознаваемое положительное воздействие на человеческое поведение. Например, один исследователь подрядил шесть официанток в ресторане чикагского торгового центра последить в течение тринадцати наобум выбранных весенних дней за размерами чаевых и погодой. Посетители, возможно, и не догадывались, что на них влияет метеообстановка, но когда день выдавался солнечный, они проявляли больше щедрости[44]. Другой эксперимент — со сходным результатом — провели с участием официантов, обслуживавших номера в отеле при казино в Атлантик-Сити[45]. Может ли один и тот же фактор подталкивать потребителя накинуть лишний доллар официанту за волнистую картофельную соломку и искушенного трейдера при оценке перспективных барышей «Дженерал Моторз»? И тут можно все проверить. Большая часть торгов на Уолл-стрит производится, понятно, от имени людей, проживающих вдали от Нью-Йорка, да и сами инвесторы могут обитать где угодно, но общие закономерности в поведении биржевых агентов Нью-Йорка значительно влияют на курсы Нью-Йоркской биржи. В частности, как минимум до мирового финансового кризиса 2007–2008 годов деятельность Уолл-стрит сводилась в основном к собственным торговым операциям, т. е. большие компании торговали сами, со своих счетов. В результате значительные суммы денег перераспределялись людьми, осведомленными о погоде в Нью-Йорке: они сами жили в этом городе. И вот один профессор экономики и финансов из Университета Массачусетса решил выяснить связь между погодой в Нью-Йорке и ежедневными движениями индексов акций, торгуемых на Уолл-стрит[46]. Проанализировав данные с 1927 по 1990 годы, он обнаружил, что очень солнечная и очень пасмурная погода влияет на цены акций.
Вполне правомерно сомневаться в подобных выводах. Добыча данных, т. е. просеивание цифр с намерением отыскать ранее не узнанную закономерность, чревата заблуждениями. По закону случайности, если достаточно долго глазеть по сторонам, наверняка углядишь что-нибудь интересное. И вот это «что-нибудь» может быть всего лишь стихийным всплеском, а может — и впрямь тенденцией, и чтобы отличить первое от второго, нужны серьезные компетенции. Золото дураков для информационного проходчика — поражающие глубиной статистические корреляции, которые на самом деле совершенно бессмысленны. Если предположить, что влияние погоды на биржевые торги — чистая случайность, при анализе биржевых показателей в других городах никакой связи обнаружиться не должно. И вот другая пара исследователей повторила анализ данных — по биржевым индексам двадцати шести стран с 1982 по 1997 годы[47]. Взаимосвязь подтвердилась: согласно собранной статистике, если бы в году были исключительно солнечные дни, доходы Нью-Йоркской биржи составили бы 24,8%, а если только пасмурные — то всего 8,7%. (К сожалению, исследователи также обнаружили, что заработать на этой закономерности не получится, поскольку для слежения за погодой придется привлекать слишком много трейдеров, и вся прибыль уйдет на транзакционные расходы.)
Мы принимаем личные, финансовые и деловые решения в полной уверенности, что как следует учли все важные факторы, действуем в соответствии со своими оценками — и знаем, как пришли к тем или иным выводам. Но постигаем мы лишь осознанные нами влияния и поэтому владеем не всей информацией; в результате наши представления о себе, о наших мотивациях и обществе — паззл, в котором большая часть фрагментов утеряна. Мы как-то заполняем пробелы и строим догадки, но истинное положение дел куда сложнее и затейливее, чем нам по силам понять путем прямых расчетов сознательного рационального ума.
Мы воспринимаем, помним пережитое, выносим оценки, действуем — и все это под влиянием факторов, которых не осознаем. На страницах этой книги будет много других подтверждений этому выводу: я обрисую несколько различных проявлений бессознательной части мозга. Мы увидим, как наш мозг обрабатывает информацию на двух параллельных ярусах — осознанном и бессознательном, и тогда можно будет признать мощь бессознательного. Наш бессознательный ум активен, целеустремлен и независим. Сам он скрыт, а вот результаты его деятельности играют ключевую роль в формировании того, как наш сознательный ум воспринимает действительность и взаимодействует с ней.
Начнем мы экскурсию по скрытым пространствам ума с того, что рассмотрим особенности нашего восприятия чувственных стимулов и осознанные и бессознательные каналы, по которым мы усваиваем информацию о физической реальности.
Глава 2. Чувства плюс ум равно реальность
Глаз зрящий — не просто физический орган, а инструмент восприятия, настроенный в соответствии с традицией, в которой взращен его владелец.
Рут Бенедикт[48]Различение осознанного и бессознательного так или иначе бытовало с античных времен[49], а среди наиболее влиятельных мыслителей, копавшихся в психологии сознательного, был немецкий философ XVIII века Иммануил Кант. В его время психологии как самостоятельной дисциплины не существовало: так, собирательный термин, сподручный для философов и физиологов в рассуждениях о природе ума[50]. Их постулаты о мыслительных процессах человека были не научными законами, а лишь философскими утверждениями. Поскольку мыслителям для построения теорий не требовалось эмпирических оснований, всяк был волен отдавать предпочтения своей, а не чьей-то совершенно спекулятивной теории. Кантова сводилась к следующему: мы составляем картину мира творчески, а не документируем реальные события, и наши представления основаны не на том, что действительно существует, а скорее на том, что создано — и ограничено — наклонностями ума. Это убеждение удивительно близко современным представлениям, однако современные ученые шире смотрят на те самые наклонности ума, особенно с учетом предрасположенностей, возникающих из наших нужд, устремлений, верований и предыдущего опыта. В наши дни принято считать, что образ тещи складывается не только из ее оптически наблюдаемых параметров, но и из того, что по ее поводу происходит у нас в голове, — например, из соображений о ее причудливых педагогических привычках или мыслей о том, стоило ли селиться с ней по соседству.
Кант считал, что эмпирическая психология не может стать наукой, потому что невозможно взвесить или любым иным образом измерить происходящее в человеческом мозге. Однако в XIX веке ученые все же рискнули. Одним из первых практикующих психологов стал Э. Г. Вебер — в 1834 году он поставил простой эксперимент с тактильностью: поочередно разместил небольшие фиксированные веса на теле испытуемого и попросил его оценить, какой груз был тяжелее — первый или второй?[51] Вебер заметил интересную закономерность: наименьшая разница в весе грузов, которую мог определить испытуемый, оказалась пропорциональна величине самих весов. Например, если вы едва смогли почувствовать, что шестиграммовый груз тяжелее пятиграммового, минимальной определяемой разницей будет один грамм. Но если взять исходные веса в десять раз тяжелее, минимальная определяемая разница, оказывается, тоже возрастает в десять раз — т. е. в данном случае это будет десять граммов. Ничего сверхъестественно потрясающего в этом результате нет, но он дал толчок развитию психологии: экспериментальным путем можно изучать математические и научные законы ментальной деятельности.
В 1879 году другой немецкий психолог, Вильгельм Вундт[52], обратился к Королевскому Саксонскому министерству образования за финансовой поддержкой для основания первой в мире психологической лаборатории[53]. Просьбу отклонили, но лабораторию он все равно открыл — в небольшой аудитории, где уже работал с 1875 года. В тот же год гарвардский профессор и врач по имени Уильям Джеймс[54], преподаватель сравнительной анатомии и физиологии, начал вести новый курс под названием «Отношение между физиологией и психологией». Он также основал частную лабораторию — в двух подвальных комнатах Лоуренс-Холла. В 1891 году она получила официальный статус Гарвардской психологической лаборатории. В знак признания первопроходческих усилий Вундта берлинские газеты окрестили его «психологическим Папой Старого Света», а Джеймса — «психологическим Папой Нового Света»[55]. Экспериментальная работа этих и других ученых, вдохновленных Вебером, поставила психологию на научные рельсы. Возникшую дисциплину назвали «новой психологией», и какое-то время она держалась на пике научной моды[56].
У каждого первопроходца новой психологии были свои представления о функциях и значимости бессознательного. Воззрения британского психолога и физиолога Уильяма Карпентера[57] оказались самыми провидческими. В работе 1874 года «Принципы ментальной физиологии» он написал, что «два разных поезда ментальной деятельности двигаются одновременно: один сознательно, другой — бессознательно», и чем внимательнее мы изучаем механизмы ума, тем яснее становится, что «не только автоматические, но и бессознательные действия активно вторгаются в умственные процессы»[58]. Это заключение оказалось подлинным прозрением, из которого мы исходим и по сей день.
После публикации книги Карпентера в среде европейских интеллектуалов началось подлинное брожение умов, однако следующий прорыв в постижении мозга — в том же «двухпоездном» контексте — сделал за океаном американский философ и ученый Чарлз Сэндерс Пирс, который исследовал способности человеческого ума распознавать неразличимую разницу в весе и яркости. Друг Уильяма Джеймса по Гарварду, Пирс предложил философскую доктрину прагматизма, хотя развил и прославил ее Джеймс. Название доктрины возникло из представления, что философские концепции и теории должны применяться как инструменты постижения, а не как высшая истина, а об их достоверности должно судить по практическим последствиям для повседневности.
Пирс был вундеркиндом[59]. В одиннадцать лет он написал историю химии. В двенадцать у него уже была собственная лаборатория. В тринадцать он приступил к изучению формальной логики — по учебнику старшего брата. Умел писать обеими руками и развлекался тем, что изобретал карточные фокусы. Повзрослев, регулярно употреблял опий — выписанный по рецепту, для облегчения болезненного невралгического недуга. Однако же на счету Пирса — двенадцать тысяч страниц опубликованных работ в широчайшем диапазоне тем, от физики до социологии. Установленный им факт, что бессознательный ум располагает знанием, недоступным осознанному уму, — это открытие выросло из того самого инцидента, в котором Пирс смог догадаться, кто именно стащил у него золотые часы, — оказался предтечей многих психологических экспериментов. Процесс нахождения ответа, основанного вроде бы на чистой случайности, — правильного ответа, о котором у нас не может быть сознательного знания, — теперь называется «методом вынужденного (или принудительного) выбора», и это стандартный инструмент изучения бессознательного. Хотя Фрейд и стал культурной иконой популяризации бессознательного, корни научной методологии и мысли о бессознательном уме — в работах первопроходцев Вундта, Карпентера, Пирса, Ястрова и Уильяма Джеймса.
Теперь-то нам известно, что Карпентеровы «два разных поезда ментальной деятельности» — скорее две отдельные железнодорожные системы. Осовременивая метафору Карпентера, стоит сказать, что сознательные и бессознательные железнодорожные пути составляют мириады тесно взаимосвязанных маршрутов, и обе эти системы пересекаются друг с другом во множестве точек. Ментальное устройство человека, таким образом, гораздо сложнее системы, представленной Карпентером, но мы постепенно учимся читать его карту маршрутов и станций.
Совершенно ясно, что в этой двухъярусной системе подсознательное намного глубже и фундаментальнее. Оно развилось на ранних этапах эволюции для удовлетворения основных потребностей функционирования и выживания, распознания сигналов внешнего мира и безопасного реагирования на них. Такова стандартная внутренняя структура мозга всех позвоночных; сознательное же можно рассматривать как необязательную его часть. В самом деле большинство низших биологических видов вполне выживает с минимальной способностью к сознательной символьной мысли или без оной, но ни одно животное не выживет без бессознательного.
Согласно учебникам по человеческой психологии, наша сенсорная система ежесекундно отправляет мозгу около одиннадцати миллионов бит информации[60]. Меж тем любому, кто хоть раз брался приглядывать за несколькими детишками, говорящими одновременно, известно: сознательный ум и близко не в силах усваивать столько информации. Реальный объем входящих данных, с которым как-то можно управиться, — от шестнадцати до пятидесяти бит в секунду. Поэтому если бы вся входящая информация была предоставлена сознательному уму на обработку, он бы завис, как перегруженный задачами компьютер. Кроме того, мы ежесекундно принимаем уйму решений, хоть и не осознаем этого. Выплюнуть то, что я положил в рот, — оно странно пахнет? Какие именно мышцы напрячь, чтобы устоять на ногах? Каков смысл слов, которые произносит субъект через стол от меня? И что он за тип вообще?
Эволюция снабдила нас бессознательным умом, потому что именно благодаря ему можно выжить в мире, требующем принимать и усваивать информацию с такой скоростью. Сенсорное восприятие, память, ежедневные решения, оценки и деятельность — все эго дается нам будто бы без всяких усилий, но лишь потому, что необходимые усилия прикладывает часть мозга, находящаяся за пределами осознанности.
Возьмем речь. Большинство людей, читая фразу: «Учительница домоводства сказала, что у детей получились вкусные закуски», — немедленно присваивает слову «получились» определенное значение. Однако предложи вам фразу: «Людоед сказал, что из детей получились вкусные закуски», — вы автоматически припишете тому же слову гораздо более неприятное значение. Только кажется, что подобное различение — проще простого: ученые-компьютерщики, создающие машины, способные отвечать на человеческий язык, знают цену распознания даже самой простой устной речи. Одна история эпической борьбы за автоматический перевод стала притчей во языцех: на заре компьютерной эры машине дали задание перевести библейскую фразу «Дух бодр, плоть же немощна»[61] на русский, а затем — обратно на английский. Согласно этой истории на выходе получилось: «Водка крепка, но мясо тухло». К счастью, наше бессознательное гораздо успешнее в таких делах — оно управляется и с языком, и с сенсорным восприятием, и с кучей других задач прытко и точно, сберегая нашему сознательному время для осмысления более важных вопросов — например, для жалоб на программистов автопереводчиков. Некоторые ученые считают, что мы осознаем всего 5% собственной мыслительной деятельности. Остальные 95% протекают вне нашего сознания и оказывают колоссальное влияние на нашу жизнь, обеспечивая саму возможность этой жизни.
Легко продемонстрировать, что в мозгу происходит активная деятельность, о которой мы не имеем понятия, — проанализировать энергозатраты мозга[62]. Представьте, что вы валяетесь на диване перед телевизором — телу от вас почти ничего не надо. А теперь вообразите, что заняты чем-то физически обременительным — скажем, несетесь по улице. Когда вы бежите, мышечные энергозатраты в сто раз больше тех, что необходимы для обслуживания тела в состоянии «овощ перед теликом»: что бы вы ни говорили своей возлюбленной, бегущее тело трудится в сто раз активнее, чем лежащее на диване. Сравним эту разницу с той, которая возникает между двумя видами ментальной активности: расслабленное плевание в потолок, при котором сознательный ум, в общем, не задействован, и игра в шахматы. Предположим, вы — хороший шахматист, отлично знакомы со всякими ходами и стратегиями и глубоко сосредоточены. Думаете, все это напряжение сознательной мысли затребует с мозга настолько же больше энергии, насколько напряжение мышц при беге? Нет. И близко не так. Глубокая сосредоточенность увеличивает энергопотребление мозга всего на один процент. Совершенно не важно, что вы делаете сознательно, — бессознательная часть ума все равно доминирует и, значит, потребляет почти всю энергию мозга. Трудится ваш сознательный ум или бездействует, бессознательное вкалывает по-черному и производит ментальную работу, эквивалентную отжиманиям, приседаниям и спринтерским забегам.
Одна из важнейших функций бессознательного — обработка данных, поступающих через зрение. Все от того, что животное, охотой ли оно кормится или собирательством, чем лучше видит, тем лучше ест, эффективнее избегает опасностей, а стало быть — и живет дольше. Поэтому эволюция все устроила так, что примерно треть мозга занята обработкой визуальной информации: цвета, границ объектов, движения, глубины, расстояния, определения природы наблюдаемых объектов, распознания лиц и многого другого. Вдумайтесь: треть мозга решает все эти задачи, но доступа к процессам принятия этих решений у нас почти нет, как нет и понимания их. Все рабочие стадии протекают за пределами сознательного ума — он получает лишь чистенькие рапорты с причесанными и растолкованными данными, и никому из нас нет нужды разбираться, сколько там фотонов света упало на те или иные палочки и колбочки сетчатки, или перетолковывать данные, поступившие по оптическому нерву, в схемы пространственных распределений плотности и частоты световых волн, потом в конкретные физические формы, их расположение в пространстве — и суммировать смысл увиденного. Вы же меж тем валяетесь на кровати и, пока бессознательное напряженно вас обслуживает, без очевидного труда распознаете осветительный прибор на потолке — или слова этой книги. Система зрительного восприятия — не только самая важная часть мозга, но и самая изученная нейробиологией. Разобраться в том, как она работает, — значит, пролить свет на совместную — и раздельную — деятельность двух ярусов человеческого ума.
Одно совершенно потрясающее исследование из проведенных нейробиологами при изучении зрительной системы — с участием пятидесятидвухлетнего африканца, обозначаемого в литературе как ТН. Высокий, сильный человек, волею судьбы ТН обрел известность как пациент: в 2004 году он совершил первый шаг по пути страданий и славы — находясь в Швейцарии, он пережил инсульт, отключивший ему левую часть зрительной коры.
Основная часть человеческого мозга разделена на два мозговых полушария, почти зеркально соответствующие друг другу. Каждое полушарие разделено на четыре доли — такое разделение обусловлено формой костей черепа, прикрывающих соответствующие области мозга. Доли эти, в свою очередь, покрыты складчатым слоем материи толщиной со столовую салфетку. У человека этот верхний слой — новая кора (неокортекс) — формирует самую обширную часть головного мозга. Новая кора состоит из шести более тонких слоев, и в пяти из них располагаются нервные клетки и перемычки, соединяющие слои между собой. Между новой корой и другими частями мозга и нервной системой существуют входящие и исходящие связи. Новая кора хоть и тонка, но зато вся в бороздах, и потому четверть квадратного метра нервной ткани (площадь большой коры) помещается внутри человеческого черепа[63]. Разные части новой коры имеют разные функции. Затылочная доля расположена в задней части головы, а ее кора — зрительная — содержит в себе главный центр обработки визуальной информации.
Многое из того, что мы знаем о функциях затылочной доли, получено из исследований существ, у которых эта доля повреждена. Можно, конечно косо смотреть на тех, кто пытается изучать работу тормозных колодок автомобиля, садясь за руль машины без тормозов, но ученые избирательно повреждают отдельные части мозга, исходя из того, что изучить, чем именно заняты те или иные отделы мозга животных, можно, когда эти отделы отключены. Поскольку университетская этика убийство отдельных частей мозга живого человека не поощряет, ученые прочесывают больницы в поисках невезучих, которых пригодными к подобным экспериментам сделала судьба или природа. Подобные поиски довольно кропотливы, поскольку Матери Природе на научную пользу причиняемых ею увечий плевать. Инсульт ТН примечателен именно тем, что он аккуратно вычеркнул из жизни только зрительный центр мозга пострадавшего. Единственная закавыка с исследовательской точки зрения: выключенной оказалась только левая сторона, т. е. ТН мог видеть половину своего поля зрения. К несчастью для ТН, его половинчатое зрение продержалось всего тридцать шесть дней. Потом случилось второе кровоизлияние и уничтожило зеркального двойника области, пострадавшей первой.
После второго инсульта врачи проверили, действительно ли ТН полностью ослеп, поскольку некоторые слепые все-таки слегка улавливают свет. Они могут различить свет и темноту или прочесть слово, если его написать огромными буквами на стене сарая. ТН же не мог увидеть и сарая. Наблюдавшие его врачи отметили, что после второго инсульта он не только перестал различать формы, цвета и движения объектов, но и не ощущал присутствия источника ярчайшего света. Исследования подтвердили, что зрительная зона затылочной доли отключена. А вот оптическая часть зрительной системы ТН была совершенно здорова, т. е. глаза воспринимали свет и передавали электрические импульсы, но зрительная кора утеряла возможность перерабатывать полученную от сетчатки информацию. При таком положении дел — полностью исправная оптическая система и совершенно выведенная из строя зрительная кора — ТН стал привлекательным объектом научного исследования и, пока он лежал в больнице, группа врачей и ученых вовлекла его в эксперимент.
Можно вообразить, сколько всяких опытов можно поставить на слепом субъекте вроде ТН: хочешь — исследуй, как развивается слуховой канал восприятия, хочешь — как меняется память о прошлых визуальных переживаниях. Однако из всего обилия возможностей одна, вероятно, в последнюю очередь попадает в обязательный список: может ли слепой распознать настроение другого человека, глядя ему в лицо. Но именно это ученые и решили исследовать[64].
Начали с того, что в метре от ТН разместили ноутбук и показали ему серию черных фигур — кругов и квадратов — на белом фоне. А потом, в традиции Чарлза Сэндерса Пирса, поставили перед принудительным выбором: просили определить, какая сейчас перед ним фигура. Как бог на душу положит. ТН подчинился — и угадал в половине случаев, что и ожидалось от человека, который понятия не имеет, на что смотрит. Но дальше следовало самое занимательное. Ученые показали испытуемому новую серию картинок, на этот раз — последовательность сердитых и счастливых лиц. Играли по тем же правилам: угадать, сердитое сейчас лицо на экране или счастливое. Но определение выражений лиц — задача совершенно иная, нежели различение геометрических фигур: лица для нас куда важнее, чем черные блямбы.
Лицо играет особую роль в человеческом поведении[65]. Именно поэтому, вопреки расхожему мнению о мужчинах, о Елене Троянской говорили: «лик, что тысячи судов гнал в дальний путь»[66], а не «бюст, что тысячи судов гнал в дальний путь». И именно поэтому, сообщая гостям, что блюдо, которое они в данный момент вкушают, — коровья поджелудка, вы внимательны к их лицам, а не локтям или словам: по лицам вы быстро и точно определите, по вкусу ли им требуха. Мы смотрим людям в лицо и мгновенно можем оценить, радостно им или грустно, довольны они или нет, дружелюбны или враждебны. И наши искренние реакции на происходящее имеют соответствующее выражение на лице, а оно контролируется по большей части бессознательным умом. Выражения лица, как мы увидим в пятой главе, — ключ к общению, их довольно трудно подавить или подделать; оттого так мало по-настоящему великих актеров. Важность того, что у нас происходит с лицом, подкрепляется еще и тем, что как бы ни тянуло мужчин к женским формам, а женщин — к мужским, мы до сих пор не знаем, какая часть человеческого мозга отвечает за анализ нюансов вспученности бицепсов или оценку упругости и крутизны ягодиц или грудей. Зато есть вполне конкретная часть мозга, занятая анализом лиц. Называется она «веретеновидный лицевой участок». Готов показать, каким особым образом мозг обращается с лицами, — взгляните на фотографии Барака Обамы[67] ниже.
Левое фото в той паре, где изображения не вверх тормашками, выглядит жутко искаженным, а в той паре, где снимки перевернуты, левое фото выглядит, в общем, почти обычно.
На самом же деле нижняя пара фотографий идентична верхней, просто верхняя — перевернута. Я-то в этом уверен, потому что сам же их и переворачивал, но если не верите — переверните книгу на 180 градусов и сами увидите, что теперь в верхней паре картинок одна будет искажена, а в той паре, которая теперь стала нижней, все вроде бы на месте и в порядке. Наш мозг одаряет гораздо большим вниманием (и нейронным капиталом) лица, нежели множество прочих визуальных событий, потому что лица — важнее; правда, не перевернутые, поскольку с такими мы редко имеем дело, если не считать стоек на голове на занятиях по йоге. Вот поэтому мы намного лучше вычисляем непорядок на лицах, когда те не перевернуты, а расположены как обычно.
Исследователи, возившиеся с ТН, решили показывать ему второй серией лица как раз потому, что сосредоточенность мозга — особенно его бессознательной части — на лицах поможет улучшить состояние ТН, даже если тот не в силах осознать, что он что-то видит. Смотрел он на лица, геометрические фигуры или спелые персики — все едино, поскольку ТН, как ни крути, слеп. Но в эксперименте с лицами ТН смог правильно определить, радостное лицо оказалось перед ним или сердитое, почти два раза из трех. И хотя та часть мозга, которая отвечает за осознание зрения, была у ТН уничтожена, веретеновидный лицевой участок его мозга по-прежнему воспринимал картинки. Он-то и влиял на осознанное решение ТН в эксперименте с принудительным выбором, но сам ТН об этом не догадывался.
Узнав о первых экспериментах с ТН, другая группа исследователей через пару месяцев пригласила ТН поучаствовать в другом опыте. Различать лица, может, и великий дар, но ходить и не падать — едва ли не больший. Если вдруг под ноги подворачивается спящий кот, вы не тратите сознательных усилий на разработку стратегий, как бы его половчее обойти, — вы просто берете да обходите[68]. Этим маневром управляет наше бессознательное, и как раз этот навык хотели с участием ТН проверить ученые. Они предложили ТН пройти без трости по захламленному коридору[69].
Все страшно увлеклись этой затеей — кроме человека, которому вертикальное положение никто не гарантировал. ТН отказался участвовать[70]. Может, в эксперименте с лицами некоторые успехи и были, но как слепцу согласиться на прогулку по пересеченной местности? Исследователи же уговаривали его именно на это. Но предложили обеспечить сопровождение, чтобы, в случае чего, предотвратить падение. ТН поддался на уговоры — и, ко всеобщему, в том числе, и своему изумлению, — хитрыми зигзагами прошел по коридору, обогнув мусорную корзину, стопку бумаг и несколько ящиков. Он не только ни разу не упал, но и не наткнулся ни на один предмет. Его спросили, как ему это удалось, но у ТН не нашлось ответа. Скорее всего, он лишь потребовал вернуть ему трость.
Феномен, продемонстрированный ТН, — человек со здоровым зрением, но с отсутствующей способностью осознавать его, может, тем не менее, как-то реагировать на то, что видят глаза, — называется слепозрением, или светоощущением слепых. Это важнейшее открытие поначалу «вызвало недоверие и насмешливый вой» и лишь совсем недавно было наконец принято[71]. Но, вообще говоря, чему тут удивляться: слепозрение нормально ожидать у людей, чьи глаза и бессознательная система восприятия в порядке, а не работает лишь осознанная зрительная система. Слепозрение — странный синдром, а также поразительная иллюстрация того, как два яруса мозга работают независимо друг от друга.
Соображение о том, что зрение — не одноколейно, впервые высказал врач Британской армии Джордж Риддох в 1917 году[72]. В конце XIX века ученые взялись исследовать участие затылочной доли в процессах зрения, повреждая отдельные ее участки у собак и обезьян, однако статистика по человеческому мозгу была скудна. Но тут грянула Первая мировая война, и немцы принялись делать из британских военнослужащих человеческий экспериментальный материал с устрашающей скоростью. Отчасти потому, что британские каски традиционно болтались у солдат на макушках — оно, может, выглядело стильно, но плохо прикрывало голову, особенно ее заднюю часть, а также и от того, что война была преимущественно окопная. Солдатское дело было сидеть за бруствером — целиком, кроме головы: ее полагалось совать под обстрел. В итоге 25% проникающих ранений среди британских солдат пришлись на голову — особенно в затылочные доли и зону по соседству — мозжечок.
В наши дни такое попадание пули в голову превратило бы здоровенный шмат мозга в фарш и почти наверняка убило бы жертву. Но в те времена пули летали неторопливее и действовали деликатнее. Обычно они пробивали аккуратные тоннели в сером веществе и окружающие ткани почти не задевали. Раненые оставались в живых и в куда лучшем состоянии, нежели можно предположить, — с поправкой на то, что головы их в результате по своей топологии походили на пончики. Один японский врач, работавший в сходных условиях на Русско-японской войне, перевидал стольких пациентов с такими ранениями, что изобрел метод точного определения внутреннего поражения мозга и ожидаемых функциональных последствий на основании того, где именно пуля пробила череп. (В задачи того врача входило определение размера пенсии для ветеранов войны с ранениями в голову[73].)
Самым интересным пациентом доктора Риддоха оказался подполковник Т., которому пуля угодила в правую затылочную долю, когда подполковник вел солдат в атаку. Приняв пулю, он стер кровь и продолжил сражаться. На вопрос, что он почувствовал, Т. ответил, что его несколько оглушило, но в остальном все в порядке. Он заблуждался. Четверть часа спустя он потерял сознание и очнулся лишь через одиннадцать дней в индийском госпитале.
Хоть он и пришел в себя, к ужину стало понятно: что-то не так. Подполковник Т. заметил, что ему трудно разглядеть кусочки мяса, лежавшие на левой стороне тарелки. У людей глаза связаны с мозгом так, что зрительная информация из левой части поля зрения поступает в правую часть мозга и наоборот — независимо от того, каким глазом мы смотрим. Иными словами, если смотреть строго перед собой, все, что слева от нас, транслируется в правое полушарие мозга; аккурат туда подполковник Т. и получил пулю. После перевода в госпиталь в Англии установили, что подполковник абсолютно не видит того, что находится в левой половине его поля зрения, — за одним странным исключением: движения он все равно засекал. То есть видеть в буквальном смысле слова не мог — «движущиеся объекты» не имели ни формы, ни цвета, — но определенно знал: там что-то двигается. Толку от такой ущербной способности немного, и она его скорее раздражала, чем радовала, особенно в поездах: подполковник чувствовал, что за окном что-то пролетает, но ничего не мог разглядеть.
Поскольку подполковник Т. осознавал, что засекает некое движение, его случай — не слепозрение, как у ТН; тем не менее, это ранение и его последствия произвели революцию: зрение, оказывается, — совокупность нескольких самостоятельных информационных потоков, и сознательных, и бессознательных. Джордж Риддох опубликовал научный труд о подполковнике Т. и сходных случаях, но, к сожалению, другой, гораздо более известный врач Британской армии высмеял работу Риддоха, выводы его канули из оборота, и несколько десятков лет никто к ним не обращался.
До недавнего времени изучать бессознательное зрение было довольно затруднительно, поскольку пациентов со слепозрением исчезающе мало[74]. Но в 2005 году Кристоф Кох, коллега Антонио Рэнгла по Калтеху, предложил новый мощный метод исследования бессознательного зрения на здоровых подопытных. Кох совершил это открытие благодаря своему интересу к оборотной стороне вопроса — сущности сознания. Изучение бессознательного еще совсем недавно было не самым блестящим карьерным ходом, а уж изучение сознательного, по словам Коха, как минимум в начале 1990-х, «считалось знаком когнитивной отсталости». Нынче, однако, ученые исследуют и то, и другое разом, и изучение зрительной системы в некоторых отношениях проще, чем, скажем, памяти или социального восприятия.
Метод, разработанный группой Коха, опирается на явление под названием «бинокулярное соперничество». Если при определенных условиях показывать левому глазу одну картинку, а правому — другую, увидим мы не обе, неким образом наложенные друг на друга, а только одну. Чуть погодя мы увидим вторую картинку, но потом опять первую, и так они будут показываться поочередно, сколь угодно долго. Группа Коха обнаружила, однако, что если показывать одному глазу меняющуюся картинку, а другому — статичную, испытуемые увидят только ту, которая меняется, и совсем не увидят статичную[75]. Иными словами, если правому глазу показывать фильм про двух обезьянок, играющих в пинг-понг, а левому — фотографию стодолларовой купюры, фотографию вы не увидите, хотя левый глаз зафиксирует соответствующие визуальные данные и отправит их мозгу. Этот метод, по сути, — инструмент создания искусственного слепозрения, нового способа изучения бессознательного зрения без какого бы то ни было повреждения мозга.
Другая группа ученых применила этот метод в эксперименте над здоровыми людьми, аналогичном опыту с лицами, проделанному над пациентом ТН[76]. Они показывали правому глазу каждого подопытного разноцветную быстро меняющуюся картинку вроде мозаики, а левому — неподвижную фотографию некого объекта. Объект находился либо ближе к правому краю фотографии, либо к левому, и в задачу испытуемых входило угадать, где именно располагался объект на фотографии, хотя сознательно испытуемые его не воспринимали. Исследователи предполагали, что, как и в случае с ТН, бессознательные догадки подопытных окажутся верными, только если объект на фотографии представляет живой интерес для человеческого мозга. Это и определило выбор изображения: в эксперименте ученые использовали порнографический снимок, или, на научном жаргоне, — «сильно возбуждающий эротический образ». Эротики завались практически в любом газетном киоске, но поди найди научно подобранную эротику. Оказывается, у психологов есть целый банк таких картинок — «Международная система аффективных изображений», коллекция из 480 фотографий, от откровенно сексуальных сцен или изуродованных тел до буколических изображений детишек и живой природы, рассортированных по степени возбуждения, которые они вызывают у наблюдателя.
Как и ожидали ученые, подопытные правильно определяли расположение объекта на непровоцирующей неподвижной фотографии в половине случаев, — такой исход есть чистая случайность, догадка «от фонаря», такой же результат, какой показал ТН, когда угадывал, круг ему показывают или квадрат. Но когда подопытным гетеросексуальным мужчинам показывали фотографию обнаженной женщины, те демонстрировали завидную способность определять, в какой части снимка находится женщина. Тот же эффект наблюдался и в случае с испытуемыми-женщинами — при демонстрации изображения голого мужчины. Когда же мужчинам показывали фото обнаженного мужчины, а женщинам — женщины, эффект успешного распознания исчез — за одним понятным исключением. Гомосексуальные подопытные реагировали ожидаемо, т. е. строго наоборот. Результат эксперимента в точности отражал сексуальные предпочтения испытуемых.
Вопреки успешному определению расположения объекта на фотографии, все испытуемые оказались в силах описать только скучную смену движущихся картинок, которые ученые показывали их правому глазу. Подопытные не догадывались, что, пока их сознательный ум глазел на нечто совершенно снотворное, бессознательный развлекался вовсю, разглядывая горячих девиц или парней. То есть обработка эротических изображений до сознательного ума не долетала, зато бессознательное регистрировало их со всем тщанием, и подопытные имели о них неосознанное представление. И опять вспомним извлеченный Пирсом урок: мы не ocoзнаeм всего, что фиксирует наш мозг, а значит, бессознательное может замечать то, что ускользает от сознательного. Когда такое случается, у нас возникает странное чувство к деловому партнеру или догадка о незнакомом человеке, и мы, как и Пирс, не понимаем, откуда что берется.
Я уже давно заметил, что чаще всего подобными догадками не следует пренебрегать. В двадцать лет я был в Израиле, после войны Судного дня, и как-то отправился на Голанские высоты — территорию Сирии, оккупированную израильтянами. Шагая по пустынной дороге, я заметил интересную птицу на крестьянском поле и, будучи заядлым птицелюбом, решил разглядеть ее получше. Поле окружал забор; обычно птицелюбов это не останавливает, но на заборе имелся примечательный знак. Я попробовал понять, что этот знак гласит. Написано было на иврите, и моего знания языка оказалось маловато, чтобы разобраться. Обыкновенно в таких местах пишут «Вход запрещен», но мне отчего-то показалось, что тут написано нечто иное. Не соваться? Что-то у меня внутри сказало «да, не стоит», — явно то, что когда-то, по-видимому, указало Пирсу на вора. Но мой интеллект, мой свободный сознательный ум подталкивал меня: «Давай! Только по-быстрому». Я перелез через забор, направился к птице и тут услышал, как кто-то орет на иврите. Я обернулся и увидел человека на тракторе, который крайне оживленно мне махал. Я вернулся на дорогу. Разобрать, что хочет сказать этот человек, было довольно трудно, но, мобилизовав весь свой чахлый иврит и понимание человеческой жестикуляции, я наконец его понял. Знак гласил: «Осторожно! Мины!» Мое бессознательное поняло предостережение, но я позволил решать сознательному уму.
Когда-то мне было непросто доверять инстинктам без возможности подвести под них твердую логическую базу, но тот случай все исправил. Мы все до некоторой степени, как ТН, слепы ко многому, но наше бессознательное подсказывает, когда сдать налево или направо, и эти советы частенько спасительны — стоит только прислушаться к ним.
Философы веками обсуждали природу «действительности» — реален ли мир, который мы наблюдаем, или это все морок. Современная нейробиология считает, что до некоторой степени все, что мы воспринимаем, надо бы считать иллюзией, — потому что наше восприятие всегда опосредованно и мы имеем доступ к информации, поступающей от органов чувств в уже обработанном виде. Бессознательное создает для нас модель мира. Как говорил Кант, одно дело «Das Ding an sich» — вещь в себе, и другое — «Das Ding fur uns» — вещь для нас. К примеру, если оглядеться, возникает ощущение, что вокруг — трехмерный мир. Но впрямую мы трехмерным мир не воспринимаем: в мозг поступает плоскостной, двумерный поток данных с сетчатки, и он воссоздает ощущение трехмерности. Бессознательный ум так умело работает с изображениями, что даже если нацепить очки, которые переворачивают картинки вверх ногами, довольно скоро начнешь видеть все как положено, не перевернутым. Если же снять такие очки, мир на некоторое время перевернется вверх тормашками, но тоже ненадолго[77]. Благодаря такой переработке зрительной информации, говоря: «Я вижу стул», — мы на самом деле подразумеваем, что мозг создал ментальную модель стула.
Наше бессознательное не только интерпретирует данные, собираемые органами чувств, — оно улучшает их. Куда же без этого? Поступающая сенсорная информация — довольно паршивого качества, и ее приходится усовершенствовать, чтобы от нее был прок. Например, один дефект в зрительных данных возникает из-за так называемого «слепого пятна» — участка в задней части глазного яблока, где крепится пучок нервных волокон, соединяющих сетчатку с мозгом. Это место — мертвая зона в поле зрения каждого глаза. Обыкновенно мы не замечаем его: мозг достраивает картинку, основываясь на данных о том, что находится вокруг невидимого участка. Но можно создать искусственные условия, в которых эта прореха становится зримой. Закройте правый глаз, смотрите на цифру 1 на правом краю ряда (см. ниже) и приближайте (или удаляйте) книгу от себя, пока грустный смайлик не исчезнет — вот оно, ваше слепое пятно. Держите голову неподвижно и теперь посмотрите на цифру 2, потом на 3 — все так же, левым глазом. Грустный смайлик вновь появится — когда дойдете примерно до цифры 4.
Чтобы скомпенсировать свое несовершенство, глаза непрерывно двигаются — совсем чуть-чуть, но несколько раз в секунду. Эти подрагивания называются микросаккадами и отличаются амплитудой от обычных саккад — более размашистых и скорых движений глаз, когда те что-то разглядывают. Саккада — самое быстрое движение, на какое способно человеческое тело: невооруженным глазом и не увидишь. Например, читая этот текст, вы производите целую серию саккад вдоль строки. А если бы я с вами разговаривал, ваши глаза чиркали бы мне по лицу, в основном — вокруг моих глаз. Глазным яблоком управляют всего шесть мышц и в день они совершают около 100 000 движений — почти столько же ударов отсчитывает человеческое сердце.
Если бы глаза были простой видеокамерой, эдакая подвижность превратила бы картинку в кашу. Но мозг компенсирует этот недостаток: вырезает из «съемки» доли мгновения, в которые глаз движется, и монтирует все так, что мы этого даже не замечаем. Можно самостоятельно поставить яркий эксперимент, иллюстрирующий такой монтаж, но для этого потребуется напарник: друг или знакомый, принявший пару бокалов вина. Делаем так: встаньте напротив напарника — так, чтобы между вашими носами было примерно 10 см, и попросите партнера по эксперименту сфокусироваться в точке посередине между вашими глазами. Затем попросите напарника посмотреть на ваше левое ухо, а потом вернуть взгляд обратно. Повторите несколько раз. Сами же смотрите на глаза напарника — вы без труда заметите, как они двигаются взад-вперед. Вопрос же заключается в следующем: если бы можно было встать нос к носу с самим собой и повторить этот опыт, увидели бы вы, как двигаются ваши глаза? Если мозг действительно перемонтирует зрительную информацию, получаемую от двигающихся глаз, — нет, не увидели бы. Как это проверить? Встаньте к зеркалу так, чтобы от кончика носа до поверхности зеркала осталось около пяти сантиметров (те же десять до кончика носа вашего отражения). Смотрите себе между глаз, затем — на левое ухо и обратно. Повторите несколько раз. О чудо! Вы видите два разных изображения, но того, как двигаются глаза, — нет.
Еще одна брешь в необработанных данных, поступающих от глаз, связана с периферическим зрением — оно у нас довольно паршивое. Судите сами: выставьте руку вперед и смотрите строго на ноготь большого пальца — в хорошем разрешении вы увидите только сам ноготь ну и, может, еще чуть-чуть вокруг. Даже если у вас абсолютное зрение, зоркость ваша за пределами центральной области будет, в общем, примерно такая же, как у человека, которому очень нужны толстые очки. Попробуйте вот что еще: взгляните на эту страницу с расстояния сантиметров 60–70 и сфокусируйтесь на звездочке по центру первой строки (постарайтесь не мухлевать — упражнение не простое!). Две F в этой строке отстоят друг от друга на ширину ногтя большого пальца. Скорее всего А и F вы запросто разглядите, но вот другие буквы — вряд ли. Теперь перейдите ко второй строке. Тут буквы покрупнее, и с ними попроще. Но если у вас глаза, как у меня, всех букв вы все равно не прочтете — только если они такого размера, как в третьей строке. Такое увеличение букв, необходимое для отчетливого разглядывания, свидетельствует о чахлости нашего периферического зрения.
Слепое пятно, саккады, никудышное периферическое зрение — все это должно создавать серьезные проблемы визуального восприятия. Взгляните, к примеру, на своего начальника: подлинная картинка, отражающаяся на сетчатке, — размытый, колышущийся образ человека с черной дырой посреди лица. Как бы оно ни было эмоционально адекватно, не такую картинку мы видим — мозг автоматически обрабатывает полученную информацию, суммирует данные, поступившие от обоих глаз, вычищает последствия мелких глазных движений и заполняет пробелы, опираясь на схожесть визуальных свойств близлежащих участков. Взгляните на картинки ниже — они более-менее иллюстрируют труд мозга по обработке входящей информации. На левой — изображение, зафиксированное камерой. На правой — то же изображение, зарегистрированное сетчаткой человеческого глаза, без обработки. К нашей большой удаче, эта работа производится бессознательно и превращает все, на что мы смотрим, в чистенькую отполированную картинку — как с фотоаппарата.
Похоже устроен и наш слух: мы бессознательно дополняем пробелы в слуховой информации. В одном из экспериментов, подтверждающих эту гипотезу, ученые записали фразу «The state governors met with their respective legislatures convening in state capitals city»[78]и стерли 120-миллисекундную часть предложения — первое «s» в слове «legislatures» — заменили его на покашливание. Двадцати испытуемым сообщили, что сейчас они услышат аудиозапись, в которой есть покашливание, и получат распечатанный текст, в котором нужно обвести точное место, в котором на записи прозвучал кашель. Также участников эксперимента спросили, заглушил ли кашель какой-нибудь из обведенных звуков. Все испытуемые сообщили, что кашель они услышали, но девятнадцать из двадцати сказали, что пропусков в тексте не было. Единственный подопытный, услышавший, что, да, кашель перекрыл какую-то фонему, указал на место пропуска ошибочно[79]. Более того, дальнейшее исследование показало, что даже опытные слушатели не смогли определить вырезанный звук — и не смогли даже близко указать, где он должен был находиться. Покашливание будто и не прозвучало внутри предложения, а скорее возникло параллельно речи, никак не влияя на ее разборчивость.
Даже когда вырезали целый слог в том же слове — «gis» — и вместо него поставили кашель, подопытные не смогли определить недостающее[80]. Этот эффект называется «реставрацией фонем» — по своему принципу он аналогичен тому, как мозг восполняет зрительные пробелы, возникающие из-за слепого пятна, или улучшает разрешение картинки в периферической зоне — или залатывает бреши в знании чьего-нибудь характера соображениями, базирующимися на внешнем облике, этнической принадлежности и общей похожести на вашего дядю Джерри. Но об этом позже.
У реставрации фонем есть одно поразительное свойство: поскольку она отталкивается от контекста, в котором прозвучало все остальное, на то, что вы слышите в начале предложения, может повлиять то, что вы услышите в конце. В другом известном эксперименте слушатели услышали слово «wheel»[81] в предложении «It was found that the *eel was on the axle»[82] (звездочкой обозначено место, которое вырезали и заменили покашливанием), но «heel»[83] — в предложении «It was found that the *eel was on the shoe»[84]. Аналогично все подопытные услышали слово «рееl»[85], если предложение оканчивалось «на апельсине», и слово «meal»[86], если в конце звучало «на столе». В каждом случае мозгу испытуемых предлагался один и тот же звук — «pееl». Каждый мозг терпеливо накапливал информацию, дожидаясь подсказок от контекста, и потом, услыхав «на оси», «на туфле», «на апельсине» или «на столе», подбирал недостающий звук и только после этого передавал итоговое значение сознательному уму. Испытуемый же совершенно не замечал подмены и был уверен, что услышал слово, заглушенное кашлем, правильно и целиком.
Для описания и предсказывания данных о наблюдаемой Вселенной ученые-физики создают модели и теории. Примеры — Ньютонова и Эйншейнова теории всемирного тяготения. Хотя модели описывают один и тот же феномен, они предлагают совершенно разные видения реальности. Ньютон представлял, что массивные тела влияют друг на друга посредством некой прилагаемой силы, а у Эйнштейна любые взаимодействия возникают из-за искажения пространства-времени безо всякого понятия гравитации. Обе теории применимы для точного описания падения яблока, но Ньютонова гораздо проще. С другой стороны, при расчетах для GPS-навигации Ньютонова теория даст неправильные ответы, а Эйнштейнова нет. В наше-то время мы знаем, что обе теории ошибочны: они всего лишь приблизительное отражение того, что на самом деле происходит в природе. Но и обе верны: они позволяют точно описывать природные явления — в пределах своей применимости.
Как я уже говорил, человеческий ум — в своем роде ученый, создающий модели всего, что вокруг нас, мир повседневности, воспринимаемый органами чувств. Как и теории гравитации, наша модель чувственного мира приблизительна и основывается на концепциях, изобретаемых нашим умом. И совсем как теории гравитации, наши ментальные конструкты хоть и не совершенны, обычно они вполне сносно работают.
Мир, который мы воспринимаем, — искусственно сконструированное пространство, чьи свойства и особенности в равной степени плод и бессознательной переработки, и реальных данных. Природа помогает нам восполнить пробелы в информации — она обеспечила нас мозгом, который на бессознательном уровне сглаживает огрехи и недочеты в информации еще до того, как мы что-то воспримем. Наш мозг проделывает эту работу без сознательных усилий всю жизнь — сидим ли мы в детском стульчике и жуем протертую фасоль или валяемся на диване и потягиваем пиво. Мы принимаем видение, состряпанное нашим бессознательным умом, не испытывая сомнений и даже не отдавая себе отчета, что это всего лишь интерпретация, предназначенная для повышения наших шансов на выживание, однако она не универсально точна.
И вот, наконец, ключевой вопрос, к которому мы не раз будем возвращаться, о чем бы ни говорили — хоть о памяти, хоть о том, как мы оцениваем людей при встрече: если главной функцией бессознательного является заполнение пробелов в информации при создании сподручной картины реальности, до какой степени эта картина соответствует оригиналу? Вот, например, встречаете вы незнакомого человека. У вас происходит короткий разговор, и на основании внешнего вида человека, его манеры одеваться, этнической принадлежности, акцента, жестикуляции — и, вероятно, некоторого домысливания — вы формируете оценку. Но насколько уверенным можно быть в ее точности?
В этой главе мы рассуждали о зрении и слуховом восприятии и о том, как двухъярусная система нашего мозга обращается с информацией, а также о том, как она добавляет данных, которые мы недополучили от органов чувств. Но чувственное восприятие — один из многих номеров ментального шапито, где разные участки мозга на уровне бессознательного проделывают трюки, компенсирующие недостаток информации. Память — другой умственный фокус, поскольку бессознательное активно участвует в формировании наших воспоминаний. Сейчас мы посмотрим на бессознательные, но не менее поразительные кульбиты, которые проделывают наши мозги, создавая воспоминания о событиях, нежели выкрутасы с входящими данными, получаемыми от органов зрения и слуха. Трюки нашего воображения, компенсирующего недочеты памяти, могут иметь далеко идущие и не всегда радостные последствия.
Глава 3. Памятование и забвение
Человек берется живописать мир. С годами он населяет пространство образами стран, королевств, гор, заливов, кораблей, рыб, комнат, инструментов, звезд, лошадей и людей. Незадолго до смерти он обнаруживает, что кропотливый лабиринт линий повторяет черты его лица.
Хорхе Луис Борхес[87]К югу от реки Хо в центре Северной Каролины расположен старый фабричный городок Бёрлингтон. Это край голубых цапель, табака и жарких влажных ночей. Квартал Бруквуд-Гарден — вполне типичная бёрлингтонская застройка. Вот милый одноэтажный домик из серого кирпича, в паре миль к востоку от колледжа Элон — ныне Элонского университета. Теперь, после закрытия фабрик, это частное учебное заведение стало сердцем города. В жаркую июльскую ночь 1984 года двадцатидвухлетняя студентка Элона по имени Дженнифер Томпсон спала, и тут некто подобрался к задней двери ее дома[88]. Было три часа пополуночи. Гудел и тарахтел кондиционер, и разбойнику удалось перерезать телефонную линию, разбить лампочку над крыльцом и проникнуть в дом. Весь этот шум не разбудил Дженнифер, но шаги человека все же согнали с нее сон. Она открыла глаза и увидела чью-то тень у кровати. Мгновение спустя человек бросился на нее, приставил нож к горлу и пригрозил убить, если она будет сопротивляться. Пока нападавший ее насиловал, она рассматривала его лицо, стараясь запомнить и впоследствии опознать, если выживет.
Томпсон сумела обхитрить насильника — уговорила его включить свет, якобы чтобы налить ему выпить, а сама удрала нагишом через черный ход. Отчаянно колотила она в дверь соседнего дома. Спящие соседи ее не услышали, а вот насильник побежал за ней. Томпсон проскочила через лужайку к дому, в котором горел свет. Насильник бросил преследование и ворвался в соседний дом, где изнасиловал еще одну женщину. Томпсон тем временем доставили в больницу, и там полиция взяла образцы ее волос и вагинальных выделений. Чуть погодя ее отвезли в участок, и там Томпсон описала лицо насильника художнику-криминалисту.
На следующий день начали поступать свидетельские показания. В одном сообщалось о человеке по имени Роналд Коттон, двадцати двух лет, работавшем в ресторане рядом с домом Томпсон. Коттона уже привлекали к суду: его признали виновным в незаконном проникновении в частные владения, а еще подростку ему вменяли сексуальное домогательство. Через три дня после инцидента следователь Майк Голдин пригласил Томпсон в полицию для опознания: перед ней на столе разложили шесть фотографий. В полицейском отчете говорится, что Томпсон рассматривала снимки пять минут. «Как на выпускных экзаменах», — говорила она. На одном снимке был Коттон. Она выбрала его. Еще несколько дней спустя Голдин выстроил в ряд перед Томпсон пятерых мужчин и предложил указать, кто из них насильник. Каждого в этом ряду просили сделать шаг вперед, произнести вслух одну фразу, потом развернуться и встать в строй. Поначалу Томпсон колебалась, четвертый это мужчина в ряду или пятый, но в конце концов выбрала пятого. Опять Коттон. Когда ей сообщили, что по фотографии она опознала его же, она подумала: «В точку! Все правильно». В суде Томпсон еще раз указала на Коттона и подтвердила, что он и есть насильник. Через сорок минут судьи вынесли приговор: Коттону присудили пожизненное заключение плюс пятьдесят лет. Томпсон говорила, что это самый счастливый день в ее жизни; отпраздновала шампанским.
Первый признак, что здесь что-то не так, — за вычетом протестов подсудимого, — проявился после того как Коттон, распределенный на работу в тюремную кухню, столкнулся там с заключенным по имени Бобби Пул. Пул внешне походил на Коттона и, соответственно, на портрет, нарисованный со слов Томпсон. Более того, Пул сидел за аналогичное преступление — изнасилование. Коттон спросил Пула о деле Томпсон, но Пул сказал, что не имеет к нему никакого отношения. К счастью для Коттона, Бобби Пул разболтал другому сокамернику, что это он изнасиловал Томпсон и ту, другую женщину: Роналд Коттон по чистой случайности наткнулся на подлинного насильника. Пул признался, и Коттону назначили новое слушание.
На втором слушании Дженнифер Томпсон попросили еще раз опознать насильника. Она разглядывала Пула и Коттона с расстояния в четыре с половиной метра, после чего опять указала на Коттона и еще раз подтвердила, что ее насиловал он. Пул смахивал на Коттона, но из-за всего, что происходило после изнасилования, — опознание по фотографии, потом живьем, а потом в суде, — лицо Коттона намертво впечаталось в ее воспоминания о той ночи. Коттон не только не получил свободы, но получил по итогам второго слушания еще более суровое наказание: два пожизненных заключения.
Прошло еще семь лет. Все, что осталось от улик десятилетней давности, включая единственный образец спермы насильника, пылилось на полках Берлингтонского полицейского управления. Тем временем новостные колонки запестрели сообщениями о новом методе идентификации — анализе ДНК, примененном в разбирательстве по делу О. Дж. Симпсона о двойном убийстве. Коттон попросил своего адвоката протестировать оставшийся образец спермы. Тому удалось добиться этого теста. Результаты подтвердили, что насильник Дженнифер Томпсон — Бобби Пул, а не Роналд Коттон.
Про случай Томпсон мы знаем лишь одно: жертва неточно вспомнила нападавшего. Мы никогда не узнаем, точно или нет Томпсон запомнила прочие детали нападения, потому что нет никакой объективной записи того преступления. Но трудно себе представить свидетеля надежнее Дженнифер Томпсон. Она была умна. При нападении держала себя в руках. Разглядывала лицо нападавшего. Специально сосредоточилась на том, чтобы запомнить его. Она не была прежде знакома с Коттоном и не была к нему предвзята. И тем не менее — указала на невиновного. И это, конечно, не может не вызвать беспокойства: уж если Дженнифер Томпсон ошиблась с идентификацией, то, получается, никаким свидетелям на опознании неизвестных людей нельзя доверять. И такому выводу есть масса подтверждений, в том числе — от людей, организующих опознания вроде того, чьей жертвой оказался Коттон.
Ежегодно проходит семьдесят пять тысяч полицейских опознаний, и статистика утверждает, что в 20–25% случаев свидетели указывают на людей, о невиновности которых полиции известно. Эта уверенность основана на том, что свидетели выбирают из «заведомо невиновных», или «наполнителей», — людей, которых следователи включают в опознание просто для полноты комплекта[89]. Обычно это либо сами следователи, либо осужденные, подобранные в местной тюрьме. Подобные ложные идентификации никому не создают неприятностей, но давайте представим последствия: полиция знает, что в пятой части — или даже в четверти! — случаев свидетель определяет виновного из числа тех, кто точно не совершал преступления, но если свидетель указывает на человека, которого полиция тоже подозревает, такому указанию можно верить. Приведенная статистика говорит нам, что нет, нельзя. Поставлены такие эксперименты, в которых люди подвергаются постановочным нападениям, и результат этих экспериментов показывает, что в тех случаях, когда реальный преступник на опознании не присутствует, свидетели более чем в половине случаев поступают так же, как Дженнифер Томпсон: указывают на подозреваемого все равно, подбирая из предложенных того, кто лучше всего подходит под их воспоминания[90]. В итоге ошибочные свидетельские опознания — главная причина ложных приговоров. Организация под названием «Проект Невиновность»[91] обнаружила, что из сотен людей, освобожденных из-под стражи благодаря послесудебному анализу ДНК, 75% угодили за решетку из-за ошибочных показаний свидетелей[92].
Можно было бы предположить, что такие открытия приведут к серьезному пересмотру процесса опознания и применимости свидетельских показаний. К сожалению, правовая система довольно консервативна, особенно когда речь заходит о фундаментальных — и неудобных — изменениях. В итоге и по сей день на масштабы и вероятность оплошностей памяти почти не обращают внимания. Закон время от времени считается с тем, что свидетели могут заблуждаться, но большая часть работы полицейских участков по-прежнему сильно полагается на опознания, и до сих пор приговор можно вынести на одном только основании свидетельских показаний случайных очевидцев. Более того, судьи часто запрещают представителям защиты предъявлять научные доказательства недочетов свидетельского опознания. «Судьи говорят, что эти доказательства либо чересчур сложны, отвлеченны, либо слишком разрозненны и от этого судьям не понятны, а иногда — что в них слишком все упрощают», — комментирует Брэндон Гэррет, автор книги «Осуждение невиновных»[93]. Суды даже призывают присяжных не брать на совещания стенограммы слушаний, на которых они присутствовали. В Калифорнии, например, судьям рекомендуется ставить присяжным на вид, что «их память важнее письменной стенограммы»[94]. Юристы объяснят, конечно, что под этим есть практическое основание: обсуждение займет у жюри присяжных гораздо больше времени, если они все примутся корпеть над стенограммами слушаний. Но мне лично такой подход кажется дикостью — это все равно что доверять чьему-то рассказу о происшествии больше, чем видеозаписи самого происшествия. Ни в одной другой сфере жизни мы такого подхода не допустили бы. Только представьте: Американская медицинская ассоциация рекомендует врачам не полагаться на истории болезни. «Шумы в сердце? Что-то не упомню я никаких шумов. Давайте-ка отменим это лекарство».
Доказательств того, что произошло на самом деле, обычно довольно мало, поэтому в большинстве случаев мы не в силах оценить, насколько точны наши воспоминания. Но есть исключения. Вернее, так: есть один пример, благодаря которому те, кто изучает искажения в памяти, получили такой материал, который и нарочно не придумаешь. Я имею в виду Уотергейтский скандал 1970-х: республиканские оперативники прорвались в штаб Национального комитета демократической партии, но эту операцию администрация президента Ричарда Никсона замела под ковер. Человек по имени Джон Дин, советник Никсона в Белом доме, участвовал в сокрытии улик, которое в итоге привело к отставке Никсона. У Дина, говорят, была невероятная память, и он давал свидетельские показания на слушаниях в Сенате США — и перед миллионами телезрителей. Дин вспоминал разговоры с Никсоном и другими шишками в таких подробностях, что его прозвали «человеческим магнитофоном». Научного веса показаниям Дина придают обнаруженные позднее Сенатом настоящие магнитофонные записи: Никсон тайком записывал свои разговоры с окружением для собственных нужд. Данные человеческого магнитофона можно было сверить с зафиксированными реальными.
Психолог Ульрих Найссер произвел эту сверку — дотошно сравнил показания Дина и расшифровки записей с диктофона Никсона и записал результаты[95]. Выяснилось, что Джон Дин на самом деле скорее исторический новеллист, нежели записывающее устройство. Он почти ни разу не оказался точен в своих воспоминаниях, а частенько даже и близок не был.
К примеру, 15 сентября 1972 года, перед тем как Белый дом захлестнуло скандалом, суд присяжных завершил расследование и вынес обвинение семи подсудимым. Пятеро из них — уотергейтские взломщики, и лишь двое входили в число организаторов, оба — «мелкая рыбешка»: Хауард Хант и Гордон Лидди. Министерство юстиции США откомментировало, что никаких доказательств для привлечения кого покрупнее у них не было. Вроде вот она, победа Никсона. Дину было что сказать о реакции президента на эту новость:
В тот день ближе к вечеру мне позвонили и вызвали к президенту. Когда я прибыл в Овальный кабинет, там уже были Хэлдмен [глава администрации президента США при Никсоне] и Президент. Президент предложил мне сесть. У обоих явно было приподнятое настроение и меня приняли тепло и сердечно. Президент сообщил мне, что Боб — имея в виду Хэлдмена — держал его в курсе происходящего в Уотергейтском деле. Президент отметил, что я все сделал правильно, он понимает, какая непростая передо мной была задача, и он очень доволен, что дело застопорилось на Лидди. Я ответил, что не все похвалы должны быть адресованы мне одному, поскольку другим пришлось гораздо труднее. В обсуждении этого дела с Президентом я сообщил ему, что лично мне удалось не дать ситуации выйти из-под контроля и помочь удержать все это подальше от Белого дома.
Я также сказал ему, что предстоит еще многое сделать, пока дело не завершится окончательно, и что я не могу гарантировать, что однажды это все не всплывет.
Сравнив этот подробный отчет о встрече с транскриптом аудиозаписи, Найссер обнаружил, что не совпало почти ни единое слово. Никсон не произнес ничего из того, что Дин ему приписал; он не сообщил, что Хэлдмен держит его в курсе; он не отметил, что Дин все сделал правильно; он не сказал ничего ни о Лидди, ни про обвинения. Сам Дин тоже не произносил того, что приписал себе самому. Дин не только сказал о том, что «не может гарантировать», что все это не станет общественным достоянием, — он вообще-то сказал строго обратное: уверил Никсона, что «ничто не вылезет». Понятное дело, показания Дина выглядят как подстилание соломки, и, возможно, он осознанно врал насчет своей роли во всем этом деле. Но если он врал, то оказал себе тем самым медвежью услугу, потому что в итоге его показания перед Сенатом получились настолько же порочащими его самого, как и реальный, хоть и совершенно другой по сути, разговор, запечатленный на пленке. В любом случае самое интересное — мелкие детали, ни обеляющие, ни очерняющие, в которых Дин казался совершенно уверен, а они оказались ошибочны.
Можно предположить, что подобные искажения в воспоминаниях характерны у тех, кто либо стал жертвой серьезных преступлений (либо старался, как Дин, скрыть следы подобных преступлений) и в обыденной повседневной жизни такого не случается и не относится к тому, насколько точно мы помним личные разговоры. Но искажения воспоминаний возникают у каждого. Возьмем, допустим, деловые переговоры. Договаривающиеся стороны несколько дней встречаются и обсуждают предмет сделки, и вы уверены, что помните и свои слова, и то, что говорили другие участники. В конструкцию воспоминания же включается не только произнесенное вами, но и транслируемое, а также то, что из вами сказанного восприняли другие — и, наконец, что они из всего этого запомнили сами. Получается целая цепочка, и люди часто сильно расходятся в воспоминаниях о случившемся. Именно поэтому юристы на важных переговорах все записывают. Хоть это и не полностью гарантирует отсутствие пробелов в воспоминаниях, зато сводит их к минимуму. К сожалению, если всю жизнь записывать все личное общение на бумажку, самого общения будет очень немного.
Случаи вроде Джона Дина и Дженнифер Томпсон ставят перед нами тот же вопрос, который возникал многие годы в тысячах судебных разбирательств: как именно в человеческой памяти возникают такие искажения? И насколько мы сами можем доверять собственным житейским воспоминаниям?
Традиционно память рассматривают — и среди нас это представление распространено больше прочих, — как некий архив кинофильмов на жестком диске компьютера. Такая концепция памяти равносильна модели зрения, которую я описывал в предыдущей главе: это-де простенькая видеокамера; такая модель памяти столь же ошибочна. Согласно традиционным взглядам, мозг аккуратно и исчерпывающе фиксирует события, и если что-то не удается вспомнить — исключительно из-за того, что никак не отыскивается соответствующий видеофайл (ну или вам не очень хочется его найти) или же потому, что на жестком диске возникли какие-то повреждения. Лишь в 1991 году психолог Элизабет Лофтус провела опрос, показавший, что большинство людей, включая значительную часть психологов, до сих пор считает, будто наша память — доступна она или подавлена, ясна или затуманена — содержит буквальную запись всех событий[96]. Допустим, воспоминания и впрямь подобны видеозаписям, они могут развеяться или поблекнуть до полной невозможности рассмотреть их во всей живости и яркости, но как тогда объяснить, что люди — Томпсон и Дин в том числе — могли иметь воспоминания и живые, и яркие, но при этом — ложные?
Ученого, в числе первых осознавшего, что традиционное видение описывает механизм человеческой памяти неточно, это прозрение постигло благодаря ложным показаниям — своим собственным. Гуго Мюнстерберг[97], немецкий психолог[98], поначалу не собирался заниматься исследованиями человеческого ума, но, учась в Лейпцигском университете, в 1883 году посещал лекции Вильгельма Вундта, — несколько лет спустя после открытия Вундтом его знаменитой психологической лаборатории. Лекции Вундта не только поразили Мюнстерберга — они изменили его жизнь. Через два года под руководством Вундта он получил докторскую степень по физиологической психологии, а в 1891 году его назначили старшим преподавателем в Университете Фрайбурга. В тот же год на Первом международном конгрессе в Париже Мюнстерберг познакомился с Уильямом Джеймсом, и того весьма впечатлили работы Мюнстерберга. Джеймс в те времена руководил новой Гарвардской психологической лабораторией, но желал уйти с поста и сосредоточиться на своих философских изысканиях. Он переманил Мюнстерберга за океан, чтобы немецкий исследователь заменил его, невзирая на то, что Мюнстерберг, хоть и мог читать по-английски, говорить на нем не умел.
Происшествие, подогревшее интерес Мюнстерберга к процессам памятования, случилось пятнадцать лет спустя — в 1907 году[99]. Пока он отдыхал с семьей на побережье, обокрали его городской дом. Полиция известила его, и он сорвался домой оценить нанесенный ущерб, после чего дал показания под присягой. Он исчерпывающе описал суду все, что увидел, включая след от свечного воска на втором этаже, большие каминные часы, которые вор обернул в бумагу и приготовил к выносу, но потом бросил на обеденном столе, а также улики того, что вор пролез через окно в погребе. Мюнстерберг давал показания очень уверенно: как ученый и психолог, он натренировал наблюдательность и имел репутацию человека с хорошей памятью — как минимум, на сухие научные факты. «За последние восемнадцать лет, — писал как-то Мюнстерберг, — я прочитал около трех тысяч университетских лекций. Ни для одной я не использовал никаких записей — рукописных ли, печатных… Моя память служит мне очень преданно». Но тут он не лекцию читал: в этом случае ничто сказанное им не оказалось правдой. В его уверенных показаниях — точь-в-точь как у Дина — было полно ошибок.
Эти ошибки обеспокоили самого Мюнстерберга. Если память может подводить его, то и у остальных могут возникнуть похожие трудности. Вероятно, его ошибки — не исключение, а норма. Он принялся копаться в свидетельских показаниях — и в горстке самых первых работ по изучению памяти, — чтобы разобраться, как же функционирует человеческое памятование. Один случай привлек внимание Мюнстерберга: к концу некой лекции по криминологии, прочитанной в Берлине, какой-то студент вскочил на ноги и шумно заспорил с маститым профессором — Францем фон Листом, двоюродным братом композитора Ференца Листа. Тут другой студент тоже сорвался с места и принялся защищать фон Листа. Разгорелась перепалка. Первый студент выхватил пистолет. Второй налетел на первого. В потасовку включился сам фон Лист. В разгар спора жахнул выстрел. В аудитории начался переполох. Наконец, фон Лист признал всех к порядку и объявил, что это все розыгрыш. Двое поссорившихся студентов и студентами-то не были — профессор пригласил актеров сыграть заранее подготовленный сценарий. Перебранка оказалась частью большого эксперимента. Какова была его цель? Проверить наблюдательность и память всех присутствовавших. Что может оживить лекцию по психологии лучше холостого выстрела?
После инициированного происшествия фон Лист разделил аудиторию на группы. Одну попросил немедленно написать отчет о событии — то, что участники группы увидели; вторую перекрестно допросил лично; остальным предложил составить отчет чуть позже. За ошибки он считал упущения, искажения и добавления, и их оказалось от 26 до 80% всех перечисленных фактов. Актерам приписывали жесты, которых те не производили, и наоборот — некоторые важные действия были пропущены. Разные слова были вложены в уста спорящих — даже тех, кто не произнес вообще ни слова.
Нетрудно догадаться, что это происшествие вызвало заметный общественный отклик. Вскоре постановочные конфликты стали писком моды у психологов по всей Германии, и, как и в первоначальном эксперименте, в них часто фигурировал револьвер. В одном таком подражательском эксперименте на людную научную встречу прорвался клоун, а за ним по пятам — человек с пистолетом. Человек и клоун ругались, затем подрались, а потом пальнул пистолет, и оба мгновенно ретировались из комнаты — и все это быстрее чем за двадцать секунд. Паяцев-то на ученых сборищах видали, но те обычно не бывают в клоунских нарядах, поэтому с достаточной уверенностью можно предположить, что публика опознала инцидент как постановочный и поняла его цель. И хотя очевидцы знали, что дальше последует опрос, их отчеты все равно содержали массу неточностей. Среди многочисленных фантазий, проявившихся в отчетах, фигурировали самые разнообразные клоунские костюмы и подробные описания элегантной шляпы на человеке с пистолетом. Шляпы в те времена носить любили, но на том человеке ее не было вообще.
Исходя из природы таких оплошностей памяти и многих других задокументированных инцидентов, которые ему довелось изучить, Мюнстерберг вывел теорию памяти. Он предположил, что никто не может держать в памяти гигантское количество деталей и нюансов, которые мы наблюдаем каждое мгновение жизни, и ошибки памяти имеют общий источник: все они — дефекты методов, которые ум применяет, заполняя неизбежные пробелы. Эти методы включают полагательство на имеющиеся ожидания и, более широко, на наши системы верований и прежде накопленное знание. В результате, стоит только нашим ожиданиям, верованиям и предыдущему опыту войти в противоречие с реальными событиями, наши мозги могут оказаться в дураках.
К примеру, в собственном случае Мюнстерберг случайно услышал разговор полицейских о том, что вор проник в дом через подвальное окно. Не осознавая этого, Мюнстерберг встроил эту информацию в свои воспоминания о месте преступления. Но доказательств не последовало: чуть погодя полицейские обнаружили, что их первоначальная догадка была ошибочна. Вор проник в дом, свернув замок на парадной двери. Часы, упакованные в бумагу, были на самом деле завернуты в скатерть, но «воображение постепенно заместило скатерть более привычным упаковочным материалом — бумагой», — писал Мюнстерберг. Что же до свечного воска, который, как ему отчетливо запомнилось, он видел на втором этаже, тот на самом деле был пролит на чердаке. Когда Мюнстерберг его приметил, он не знал, насколько важным это окажется, и пока разговор до этого не дошел, сосредоточивался на разбросанных бумагах и общем беспорядке на втором этаже; видимо, поэтому «вспомнил», что именно там и видел пролитый воск.
Мюнстерберг опубликовал свои соображения о памяти в книге, ставшей бестселлером, — «О позиции свидетеля: очерки по психологии и преступности»[100]. В ней он развил несколько ключевых представлений о механизмах памятования, которые и по сей день ученые считают актуальными: во-первых, у людей память хороша на общий ход событий, но плоха на детали; во-вторых, если вытрясать из человека забытые подробности, даже при чистых намерениях попытки вспомнить неизбежно ведут к заполнению пробелов в воспоминаниях выдумками; и в-третьих, люди верят в воспоминания, которые сами же выдумали.
Гуго Мюнстерберг умер 17 декабря 1917 года, в пятьдесят три: у него случилось кровоизлияние в мозг, прямо на лекции в Рэдклиффе[101]. Его представления о памяти и первопроходческие усилия в применении психологии в юриспруденции, образовании и деловой практике принесли ему славу, а среди его друзей числились президент Теодор Рузвельт и философ Бертран Расселл. Но своего давнего наставника и покровителя Уильяма Джеймса Гуго Мюнстерберг другом не считал[102]. Джеймс увлекся спиритизмом, общением с духами умерших и другими мистическими действами, которые Мюнстерберг и многие другие считали чистым шарлатанством. Сверх того Джеймс — хоть он и не был прозелитом психоанализа, — с интересом следил за трудами Фрейда и находил в них определенную ценность. Мюнстерберг же относился к бессознательному с крайней прямотой и писал так: «Вся эта история про подсознательный ум сводится к трем словам: нет такого ума»[103]. Когда Фрейд в 1909 году посетил Бостон — читал лекцию на немецком в Гарварде, — Мюнстерберг явил свое пренебрежение, демонстративно эту лекцию проигнорировав.
И Фрейд, и Мюнстерберг предложили очень важные теории ума и памяти, но, к сожалению, оба мало влияли друг на друга: Фрейд гораздо лучше Мюнстерберга осознавал исполинскую силу бессознательного, но считал, что не динамическая созидательность восполняет пробелы в нашей памяти, а подавление; Мюнстерберг же лучше Фрейда осознавал механику и причины искажения и потери воспоминаний — но не придавал никакого значения бессознательным процессам, которые их порождают.
Как сумела человеческая память, выбрасывающая столь солидную часть нашего опыта, пережить испытание эволюцией? Хоть она и подвержена реконструкционным искажениям, если эти неосознаваемые изменения ставили бы под угрозу выживание наших предков, ни память, ни наш биологический вид не уцелели бы. Вопреки несовершенству нашей памяти, она в большинстве случаев идеально отвечает требованиям эволюции, т. е. достаточно хороша. Более того, если брать по-крупному, человеческая память чудесна: она эффективна и точна — благодаря ей наши далекие предки умели распознавать существ, которых стоит избегать, а на каких — охотиться, где водится больше форели, какая тропа до родного становища безопаснее прочих. В современных понятиях отправная точка понимания, как работает память, — прозрение Мюнстерберга о том, что мозг беспрестанно бомбардирует такая тьма входящих данных, что все их невозможно обработать и удержать в памяти (около одиннадцати миллионов бит в секунду, о чем я уже упоминал в предыдущей главе). Так что человечество променяло идеальную память на способность оперировать колоссальными информационными потоками.
Вот, положим, проводим мы детский утренник в парке — это два часа в урагане картинок и звуков. Если бы все они поместились разом у нас в памяти, там бы образовался гигантский склад улыбок, усов от глазури и обгаженных подгузников. Важные входящие данные свалились бы в ту же кучу, вперемешку со всякой ерундой, не относящейся к делу, включая рисунок на блузке каждой мамаши на поляне и всю их болтовню о том о сем, визг и рев каждого отпрыска и постоянно растущее количество муравьев, ползающих по столам. На самом же деле вам наплевать на муравьев и треп — и нет желания запоминать все это. Главная задача ума, которую выполняет бессознательная его часть, — перебирать все это скопище данных и удерживать те, что действительно имеют для вас значение. Если бы такой инвентаризации не происходило, вы бы потонули в информационном болоте и за деревьями не увидели бы леса.
Есть одно знаменитое исследование, иллюстрирующее оборотную сторону неразборчивой памяти, — наблюдение за человеком, у которого имелось такое редкое свойство. Исследование проводил в течение тридцати лет, начиная с 1920-х, русский психолог Александр Лурия[104], а знаменитого мнемониста звали Соломон Шерешевский[105]. Шерешевский, похоже, помнил во всех деталях все, что с ним происходило. Однажды Лурия попросил Шерешевского восстановить в памяти их первую встречу. Шерешевский вспомнил, что она происходила дома у Лурии, и описал, как выглядела мебель и во что Лурия был одет, и без единой ошибки выдал список из семидесяти слов, которые — за пятнадцать лет до этого — Лурия прочел при нем вслух и попросил повторить.
Оборотная сторона безупречной памяти Шерешевского заключалась в том, что такое обилие подробностей затрудняло понимание. Например, Шерешевскому было очень непросто распознавать лица. Большинство из нас держит в памяти общие черты некоторых увиденных лиц, и мы, встречая знакомого человека, опознаем его, сопоставляя лицо, которое видим перед собой, с тем, которое бережем в своем ограниченном по объему каталоге. Но память Шерешевского хранила феноменальное количество версий всех лиц, какие ему доводилось видеть. Всякий раз, когда лицо меняло выражение или оказывалось иначе освещено, для Шерешевского это было другое лицо, и он запоминал их все. Таким образом у каждого человека было не одно лицо, а десятки, и, встречаясь со знакомыми, Шерешевскому приходилось, по сути, перебирать огромный склад изображений и искать подходящий эквивалент тому, что он в данный момент видел.
Судя по всему, у Шерешевского были сходные проблемы и с языком. Он умел дословно повторить заново только что завершенную беседу, но понять точку зрения собеседника мог с трудом. Это очень уместный пример — те же деревья, за которыми не видно леса. Лингвисты различают два типа языковых структур: поверхностную и глубинную. Поверхностная включает в себя способ выражения той или иной мысли, т. е. выбор и порядок слов в высказывании. Глубинная же — это суть высказывания, его смысл[106]. В большинстве своем мы решаем проблему захламления сознания просто: запоминаем суть, пренебрегаем деталями. В результате мы, конечно, удерживаем в уме глубинную структуру — смысл сказанного — довольно долго, а вот поверхностную — слова, в которые мысль была облечена, — восемь-десять секунд, не больше[107]. Шерешевский, похоже, имел острую и долгосрочную память на детали поверхностной структуры, и это мешало ему постигать суть сказанного. Его неспособность выбрасывать из головы несущественное настолько его раздражала, что он временами записывал, что помнил, на бумагу и потом сжигал ее, надеясь, что и сами воспоминания тоже сгорят. Ан нет.
Прочтите, пожалуйста, следующий список слов очень внимательно: конфета, кислый, сахар, горький, хороший, вкус, зуб, славный, мед, газировка, шоколад, сердце, торт, съесть, пирог. Если вам удалось внимательно прочесть первые несколько слов, а потом вы просто пробежали глазами по остальным, потому что вам не хватило терпения и вам кажется глупым подчиняться какой-то книге, пожалуйста, давайте еще разок — это важно. Пожалуйста, прочтите этот список. Поизучайте его полминуты. Теперь прикройте его чем-нибудь и не подглядывайте, пока будете читать следующий абзац.
Будь вы Шерешевским, вы без труда вспомнили бы все слова из этого списка, но, скорее всего, ваша память работает несколько иначе. Я скоро дам вам задание, которое за несколько лет получал от меня десяток экспериментальных групп, и результат был всегда один и тот же. Я его рассекречу, но сначала расскажу суть: вспомните, какие из трех слов — вкус, смысл, сладкий — были в нашем списке? Это не обязательно всего одно слово. Может, все три были в списке? Или ни одного? Подумайте. Присмотритесь к каждому слову из этих трех. Можете вспомнить, видели ли вы их в списке? Уверены? Если не можете визуально вспомнить слово в списке или не убеждены, не выбирайте слово. Определитесь, пожалуйста, с ответом. А теперь откройте исходный список и проверьте себя.
Абсолютное большинство людей помнит со всей уверенностью, что слова «смысл» в списке не фигурировало. Большинство помнит, что вроде было слово «вкус». Но самая соль упражнения — в слове «сладкий».
Если вы и впрямь помните, что видели это слово в списке, вот вам иллюстрация того, как память основывается на сути понятий, перечисленных в списке, а не на самом списке: слова «сладкий» в списке не было, но многие слова в нем тематически относились к категории «сладкий». Исследователь процессов памяти Дэниэл Шэктер[108] писал, что проводил эту проверку в разных группах, и абсолютное большинство людей заявляло, что слово «сладкий» было в списке, хотя, как мы знаем, его там не было[109]. Я предлагал проделать это упражнение многим большим группам добровольцев и не могу утверждать, что слово «сладкий» в исходном списке запомнило абсолютное большинство, но примерно половина любой аудитории — наверняка, и примерно столько же участников правильно запомнило, что слово «вкус» в списке значилось. Такой же результат оказался во всех экспериментах, проведенных в разных городах и странах. Разница между моими результатами и таковыми у Шэктера могла возникнуть из-за того, что я иначе формулирую вопрос: я всегда подчеркиваю — участники должны выбирать слова, только если уверены, что могут отчетливо зрительно вспомнить их в исходном списке.
Процесс запоминания можно, в общем, сравнить с тем, как компьютер сохраняет изображения, — с одним исключением: сохраняемые нами данные меняются с течением времени, но об этом мы поговорим чуть погодя. Чтобы сберечь максимум свободного объема хранения, изображения часто претерпевают «сжатие», т. е. сохраняются лишь определенные ключевые атрибуты картинки; этот метод позволяет уменьшить размеры файла — с мегабайтов до килобайтов. Когда картинку открывают, компьютер, исходя из имеющейся минимальной информации сжатого файла, угадывает первоначальное изображение. Когда мы смотрим на картинку для предварительного просмотра, сделанную из сильно сжатых файловых данных, она выглядит очень похоже на оригинал. Но если такую крошечную картинку увеличить, станет видно, сколько там несовпадений с исходником: мы различим целые куски и полосы сплошного цвета — на этих участках компьютер ошибся в предположениях и недостающие детали были просто замещены цветовыми плашками.
Именно так надурила память Дженнифер Томпсон и Джона Дина, и, по сути, так описал этот процесс Мюнстерберг: запоминаем суть, детали додумываем, в результат уверуем. Томпсон запомнила «суть» лица ее насильника и, увидев на опознании по фотографиям человека, чье лицо по основным параметрам подходило под ее воспоминания, слила воедино свои воспоминания и предложенную фотографию, удовлетворив еще и собственные ожидания, что полицейские не станут ей показывать фотографии людей без веских причин считать, что насильник среди них точно есть. (Как выяснилось — нет, его фотографии не было.) То же и с Дином: он запомнил некоторые подробности личной беседы, но в ситуации стресса его ум, чтобы восстановить все целиком, дополнил воспоминания фантазиями — тем, что Дину хотелось бы услышать от Никсона. Ни Томпсон, ни Дин не давали ложных показаний осознанно, и оба, снова и снова рассказывая о пережитом, лишь закрепляли то, что сообщили изначально: если человека просить что-нибудь вспомнить и рассказать, он закрепляет эту историю, вспоминая воспоминание, а не само событие.
Судите сами — это происходит и в вашей жизни. Ваш мозг, например, зафиксировал в нейронных связях стыд, пережитый вами, когда в четвертом классе вас дразнили за плюшевого медведя, которого вы носите в школу. Вы, вероятно, уже и не вспомните ни медведя, ни лицо обидчика, ни его выражение, когда вы метнули в него бутерброд с арахисовым маслом (или с ветчиной и сыром?). Но, допустим, много лет спустя вам зачем-то нужно вспомнить этот эпизод. И тут все эти забытые подробности, любезно предоставленные бессознательным, всплывают в памяти. А если к этому инциденту вам нужно возвращаться не раз — к то знает, может, ретроспективно вся эта детская история обрела некоторое обаяние и окружающих она забавляет, — вы скорее всего в конце концов будете вспоминать ее настолько живо и ясно, что окончательно поверите в точность всех нюансов.
Если все так и есть, почему, спросите вы, не приходилось замечать ошибок собственной памяти? Штука в том, что мы редко попадаем в ситуации Джона Дина, когда можно сверить свои воспоминания с точной записью событий, которые мы якобы помним. Оттого и не сомневаемся мы в своих воспоминаниях. Но те, кто занимается исследованием механизмов памяти профессионально и всерьез, могут дать вам уйму причин для сомнений. Например, психолог Дэн Саймонс[110], настоящий ученый, так увлекся темой ошибок человеческой памяти, что выбрал случай из своей жизни — пережитое им 11 сентября 2001 года — и сделал то, что нам обычно недосуг[111]. Он разобрался — десять лет спустя, — что же на самом деле произошло. Воспоминания о том дне казались ему совершенно отчетливыми. Когда все случилось, он находился в своей гарвардской лаборатории, вместе с тремя студентами (всех троих звали Стивами), и они вчетвером провели остаток дня вместе — смотрели не отрываясь репортажи с места событий. Но исследования Саймонса показали, что на самом деле присутствовал только один Стив — второй был за городом с друзьями, а третий читал лекцию где-то в другом здании. Как и предсказывал Мюнстерберг, Саймонс вспомнил мизансцену такой, какой ее себе представлял, основываясь на предыдущем опыте: эти трое студентов обычно всегда были в лаборатории. Но воспоминание, тем не менее, оказалось неточным.
Благодаря своей любви к изучению реальных случаев и жизненным наблюдениям Гуго Мюнстерберг расширил наши границы понимания процессов накопления и восстановления воспоминаний. Однако труды Мюнстерберга оставили одну большую тему открытой: как наши воспоминания меняются с течением времени? Как выяснилось, почти одновременно с выходом книги Мюнстерберга эволюцию памяти изучал другой первопроходец — лабораторный ученый, который, как и Мюнстерберг, плыл против фрейдистского течения. Сыну сапожника из крошечного провинциального Стоу-он-зэ-Уолд, Англия, юному Фредерику Бартлетту[112] пришлось заняться самообразованием — некое подобие вуза в его городе закрыли[113] в 1900 году. Ему явно все удалось: он поступил на подготовительный курс Кембриджа и продолжил там учиться, а со временем стал в этом вузе первым профессором экспериментальной психологии. Как и Мюнстерберг, Бартлетт не собирался покорять академические вершины в области исследования памяти — он пришел к ним благодаря увлечению антропологией.
Бартлетту было интересно, как меняется культура при передаче от человека к человеку и между поколениями. Этот процесс, по его мнению, должен был походить на эволюцию памяти индивида. Вы, допустим, помните важный баскетбольный матч, в котором заработали четыре очка, но проходят годы — и вот вы вспоминаете, что очков было четырнадцать. А сестра ваша вообще готова поклясться, что вы всю ту игру проработали командным талисманом и болтались вокруг площадки в костюме бобра. Бартлетт исследовал, как время и социальные контакты между людьми, у которых воспоминания об одном и том же событии разнятся, меняют воспоминания о событии. Он надеялся, что это исследование поможет понять, как работает «групповая память» или культура.
Бартлетт воображал, что эволюция и культуры, и личных воспоминаний похожа на игру в испорченный телефон. Помните, как это? Первый человек в цепочке шепчет фразу на ухо соседу, тот передает дальше и т. д. В конце раунда произнесенное первым игроком и то, что озвучивает последний, имеют мало общего. Бартлетт применил эту концепцию к рассмотрению эволюции историй, передаваемых от памяти одного человека к памяти другого. Но подлинный его прорыв — приложение принципа испорченного телефона к метаморфозам различных историй в памяти человека с течением времени. По сути, он предложил своим подопытным сыграть в испорченный телефон с самими собой. В самой известной своей работе Бартлетт читает испытуемым индейскую сказку «Война духов». Это история о двух мальчишках, которые ушли из родной деревни на реку бить ларгу. К ним подплыли пятеро воинов на каноэ и позвали мальчиков на бой с какими-то людьми из города, что выше по течению. Один малец отправился с ними в поход и при атаке услышал, как кто-то из воинов говорит, что его, мальчика, ранили. Но сам мальчик ничего не почувствовал и сделал вывод, что воины — духи. Мальчик вернулся в деревню и рассказал племени о приключении. На следующий день с восходом солнца мальчик упал замертво.
Прочитав сказку, Бартлетт попросил испытуемых вспомнить ее через пятнадцать минут, а потом — через разные интервалы времени еще несколько раз, в течение нескольких месяцев. Бартлетт изучил, как именно его подопечные вспоминают историю по прошествии времени, и заметил интересную тенденцию памяти: есть не только ее потери, но и приобретения. Исходное прочтение истории поблекло, а новые подробности память сфабриковала сама, и они подчинялись определенным общим принципам. Испытуемые помнили основную фабулу сказки, но отбрасывали одни детали и выдумывали другие. Сказка стала короче и проще. Со временем отпали сверхъестественные элементы и появились иные — «непостижимое опускали или перетолковывали» добавлением отсебятины[114]. Люди, не осознавая этого, склонны были трансформировать странную историю в нечто более знакомое и понятное: они пересказывали ее, реконструируя так, чтобы она стала связнее. Неточность — не единственный общий прием памяти испытуемых. Сказку, по словам Бартлетта, «лишили всего, что в ней было неожиданного, диковинного и непоследовательного».
Такое вот, фигурально выражаясь, «сглаживание» воспоминаний поразительно похоже на буквальное сглаживание, которое заметили гештальт-психологи 1920-х, изучая память людей на геометрические фигуры: если показать кому-нибудь неправильную или иззубренную форму, а потом попросить ее нарисовать, то вспомнится нечто гораздо более симметричное и обтекаемое, нежели исходная фигура[115]. В 1932 г., через пятнадцать лет после проведенного исследования, Бартлетт опубликовал результаты. Впихивание воспоминаний в удобную форму — «активный процесс», писал он, зависит от накопленных знаний и верований субъекта о мире и «имеющихся у субъекта склонностей и предубеждений»[116].
Работы Бартлетта по изучению памяти были забыты на многие годы, хотя сам он сделал блистательную карьеру и помог целой череде поколений британских исследователей в области экспериментальной психологии. В наши дни Бартлеттовы труды открыли заново, а его эксперименты повторили в современных условиях. Например, на следующее утро после взрыва космического челнока «Челленджер», Ульрих Найссер, исследовавший дело Джона Дина, предложил группе студентов из университета Эмори рассказать, что они услышали о произошедшем в новостях. Все студенты написали внятные отчеты. Три года спустя он попросил сорока четверых студентов, оставшихся на тот момент в университете, снова вспомнить о том же событии[117]. Ни одного совершенно точного отчета не последовало, а примерно четверть из них — совершенно мимо. Описываемые эпизоды восприятия той новости стали менее случайными и превратились в эмоциональные анекдоты или клише, без неожиданностей — т. е. ровно такие, какие легко можно предположить. Один испытуемый, например, узнал о случившемся, болтая с друзьями в столовой, и позднее сообщил, что «какая-то девчонка вбежала в зал и закричала, что челнок взорвался». Другая узнала о взрыве от однокурсников на религиоведении, но в позднейшем отчете написала: «Мы с соседкой по комнате в общежитии смотрели телевизор. О взрыве сообщили в экстренных новостях, мы обе были в шоке». Еще более поразительной оказалась реакция студентов на их исходные отчеты. Многие настаивали на том, что их позднейшие воспоминания — точнее. Они неохотно соглашались со своим ранними отчетами, хоть те и были написаны от руки их почерком. Один сказал: «Да, это мой почерк, но я все равно помню иначе!» Можно, конечно, считать все эти примеры и исследования странным статистическим выбросом, но даже в этом случае стоит задуматься о собственных воспоминаниях — особенно когда они расходятся с чьими-то. Мы что же, «часто ошибаемся, никогда не сомневаемся»[118]? Всем было бы полезно умерить уверенность, даже если воспоминания и кажутся отчетливыми и яркими.
Какой из вас получился бы очевидец? Психологи Реймонд Никерсон и Мэрилин Эдамз придумали для этого отличную проверку. Представьте — но не подглядывайте! — американский пенни. Этот объект многие видели не раз и не два, но так ли просто его вспомнить? А нарисовать? Попробуйте хотя бы вообразить его себе. Что там на аверсе и реверсе? Когда закончите вспоминать или рисовать, взгляните на картинку на следующей странице и попробуйте решить задачу в упрощенном варианте: выберите правильное изображение пенни из чудесных набросков, любезно предоставленных Никерсоном и Эдамз[119].
Если вы выбрали А — поздравляю: вы — в числе тех немногих испытуемых, кто в эксперименте Никерсона-Эдамз сделал правильный выбор. Если ваш эскиз или воспоминания содержат все восемь элементов дизайна пенни, например профиль Авраама Линкольна на одной стороне, фразы IN GOD WE TRUST и E PLURIBUS UNUM[120], вы входите в 5% людей с лучшей памятью на нюансы. Если вы тест не прошли, это еще не означает, что у вас плохая память: на общие черты память у вас может быть и превосходная. Вообще говоря, большинство людей могут вспомнить прежде виденные фотографии на удивление точно даже заметное время спустя. Но помнится им лишь общее содержание, а не детали[121]. Не хранить нюансы дизайна пенни для большинства из нас — преимущество, если только не приспеет нужда отвечать на вопросы телевикторины с крупными суммами на кону. В противном случае нет никакой необходимости помнить, что там на ней отчеканено, — нам и так есть что запоминать.
Вот одна из причин, почему мы не удерживаем в голове деталей того, на что смотрят наши глаза: для запоминания необходимо сосредоточить на них осознанное внимание. Глаз поставляет мозгу массу разнообразных деталей, но сознательная часть ума их почти не регистрирует. Разница между тем, что мы видим, и тем, что осознанно фиксируем — и, как следствие, помним, — временами поражает воображение.
В одном исследовании именно этой разницы за основу взяли тот факт, что при изучении многообъектной композиции глаз двигается между предметами. Если на снимке изображено, к примеру, двое людей, сидящих за столом, а нем — ваза, сначала вы, скорее всего, посмотрите на одно лицо, потом на вазу, потом на второе лицо, затем, вероятно, опять на вазу, потом на скатерть и т. д. — в довольно быстрой последовательности. Давайте вспомним эксперимент с зеркалом из предыдущей главы — когда нужно было встать перед зеркалом и заметить, возникают ли пробелы в восприятии от того, что вы двигаете глазами? Так вот, исследователи в эксперименте с многообъектным изображением учли, что, если во время мгновенных движений глаз испытуемого картинку быстро подменить на очень похожую, но другую, испытуемый этого может не заметить. Вот как они это устроили: каждому испытуемому показывали некое изображение на экране компьютера. Взгляд испытуемого двигался от объекта к объекту, поочередно сосредоточиваясь на разных аспектах изображения. Чуть погодя, при одном из многочисленных движений глаз наблюдателя, экспериментаторы подменили изображение на другое, чуть-чуть отличное от исходного, и когда глаза испытуемого в очередной раз выбрали объект для разглядывания, некоторые нюансы последнего уже были иными — например, шляпы на двух мужчинах, запечатленных на картинке, поменялись местами. Большинство испытуемых этого не заметило. Скажу больше: только половина обратила внимание, что две шляпы на фотографии сменили хозяев![122]
Интересно порассуждать, насколько важными должны быть детали, чтобы мы их запоминали. Дэн Саймонс и его коллега Дэниэл Левин решили проверить, случаются ли такие выпадения памяти на центральных объектах внимания, если снять видео и от кадра к кадру менять актера, исполняющего определенную роль[123]. Они наняли шестьдесят студентов Корнелл ского университета, согласившихся за конфетку посмотреть отснятый материал. В этом фильме человек, сидящий за столом, слышит телефонный звонок, встает и направляется к двери. Следом в кадре появляется коридор, и уже другой актер подходит к аппарату и снимает трубку (см. скриншоты). Различие между этими двумя актерами, конечно, не такое яркое, как между Брэдом Питтом и Мерил Стрип, но и отличить их труда не составляет. Заметили подмену?
После просмотра фильма студентов попросили описать его краткое содержание. Если в описании не была обозначена подмена, студентов спрашивали напрямую: «Вы заметили, что человек, сидевший за столом, и тот, кто подошел к телефону, — разные актеры?». Примерно две трети зрителей признались, что не заметили. Понятное дело, все присутствовавшие осознавали, что происходит на экране и чем занят наблюдаемый персонаж. Но на особенности внешнего вида мало кто обратил внимание. Это открытие придало экспериментаторам дерзости, и они, решились на еще более смелый опыт. Они изучили, появляется ли этот феномен — слепота к изменению — в реальной жизни. На этот раз они вынесли эксперимент на улицу — в университетский городок Корнелла[124].
В этой версии эксперимента один из исследователей, держа в руках карту университетского городка, обращался к ничего не подозревающему прохожему и спрашивал, как пройти к рядом стоящему корпусу. Через 10–15 секунд разговора появлялись двое мужчин с большой дверью наперевес и беспардонно протискивались между ученым и прохожим. Дверь заслоняла ученого от прохожего примерно на секунду. В это время другой ученый с идентичной картой в руках подменял первого и продолжал разговор на тему «как пройти», а первый скрывался из виду за уносимой дверью. Второй ученый был на пять сантиметров ниже первого, иначе одет и имел заметно отличающийся голос. Собеседник прохожего внезапно превратился в другого человека. Однако большинство испытуемых не заметили подмены и были порядком удивлены, когда им об этом сообщили.
Если уж мы не слишком памятливы на детали событий, произошедших у нас на глазах, чего можно ожидать от наших воспоминаний о том, чего никогда не случалось? Помните, как участники моего эксперимента сообщали, что прямо-таки видят внутренним взором это самое слово «сладкий» в представленном списке? Эти люди продемонстрировали так называемую «ложную память» — память, которая лишь кажется подлинной. Во многих вариациях на тему эксперимента со списком слов, проводившегося много лет, люди, «вспомнившие» фантомные слова, редко ощущали, что целят в молоко. Они очень уверенно говорили, что совершенно отчетливо все помнят. В одном из наиболее красочных экспериментов со словами группе добровольцев два списка слов озвучили два чтеца — мужчина и женщина[125]. По окончании чтения добровольцам выдали другой список, в который входили и прочитанные слова, и случайные, и попросили их определить, где какие. Если слово вспоминалось как услышанное, исследователи просили обозначить, мужчина его прочел или женщина. Испытуемым довольно точно удавалось вспомнить, мужчина или женщина произносили слова. Но ученых поразило, насколько уверенно почти все испытуемые определяли, мужчина или женщина прочитали слова, которые не были произнесены. То есть даже в тех случаях, когда подопытные помнили слово, которое им не прочитали вслух, они помнили это прочтение живо и в подробностях. Когда же после эксперимента им рассказали, что этого конкретного слова в списке для чтения не было, испытуемые частенько отказывались в это верить.
Приходилось для убедительности показывать видеозапись эксперимента, но и тогда некоторые подопытные — совсем как Дженнифер Томпсон на вторичном слушании по делу Роналда Коттона — обвиняли ученых в подмене видеозаписи.
Понятие о том, что нам бывают памятны события, которых не произошло, — ключевой элемент сюжета знаменитого рассказа Филипа Дика «Мы вам все припомним по оптовым ценам»[126]. Завязка рассказа — обращение некого субъекта к фирме с просьбой внедрить ему в мозг воспоминание о незабываемом полете на Марс. Оказывается, посеять незатейливые ложные воспоминания довольно просто, это не требует никаких высоких технологий, вроде представленных Диком. Воспоминания о событиях, которые предположительно произошли много лет назад, внедрять проще всего. Быть может, убедить кого-то, что тот был на Марсе, и не удастся, но если, допустим, ваша детская мечта — полетать на воздушном шаре, то, как доказали ученые, создать вам воспоминания об этом полете без всяких забот и хлопот — и без реального опыта — вполне возможно[127].
В эксперимент на эту тему исследователи вовлекли двадцать добровольцев, ни разу не летавших на воздушном шаре, а также по одному члену семьи на каждого. Члены семьи втайне от подопытного предоставили исследователям по три фотографии, на которых испытуемый был запечатлен в разгаре какого-нибудь довольно важного события, произошедшего, когда испытуемому было от четырех до восьми лет, а также другие снимки, которые исследователи использовали в создании подложных фотографий испытуемого на воздушном шаре. Затем фотографии — и поддельные, и подлинные, — показывали не ведавшим о подлоге испытуемым. Их просили вспомнить все возможное о каждой представленной им фотографии и давали, если нужно, пару минут на раздумья. Опрос повторили еще дважды, с интервалом в три и семь дней. К концу эксперимента каждый второй доброволец вспомнил, как летал на воздушном шаре. Некоторые даже смогли описать чувственные переживания. Когда одному подопытному сообщили, что фото — подделка, он отметил: «А мне до сих пор кажется, что я там был; будто вижу все это как наяву…»
Ложные воспоминания и дезинформацию внедрять так просто, что это удалось проделать с трехмесячными детьми, гориллами и даже голубями и крысами[128]. Люди же настолько подвержены ложным воспоминаниям, что оные можно спровоцировать, всего лишь невзначай упомянув в разговоре некое событие, которого на самом деле не происходило. Со временем человек, вероятно, вспомнит событие, но забудет источник этого воспоминания и в результате перепутает вымышленное событие со своим реальным прошлым. Применяя эту методику, психологи добиваются успеха в 15–50% случаев. В одном из недавних исследований подопытных, действительно посещавших «Диснейленд», попросили несколько раз прочитать и поразмышлять над диснейлендовским рекламным буклетом-подделкой[129]. Текст в буклете призывал читателя «вообразить, каково это — впервые увидеть Кролика Багза своими глазами, так близко… Мама подталкивает тебя к нему — пожать лапу, а сама готовится сфотографировать вас вместе. Тебя вроде и не надо подгонять, но чем ближе к нему подходишь, тем он больше… И ты думаешь, что он по телевизору таким громадным не казался… И тут до тебя доходит: Багз, твой кумир из телевизора, — всего в метре от тебя… Сердце чуть не останавливается, а ладони потеют. Ты их вытираешь и тянешься пожать ему лапу…» Затем участников попросили ответить на вопросы об их личных воспоминаниях от посещения «Диснейленда», и более четверти опрошенных сообщило, что видели в парке Кролика Багза, а из них 62% вспомнили, как жали ему лапу, 46% — как обнимались с ним, и одному вспомнилось, что у Багза была морковка в лапах. Никаких шансов, что такая встреча действительно состоялась: Кролик Багз — собственность компании «Уорнер Бразерз», и представить, что Дисней пригласит Багза шляться по «Диснейленду», равносильно приглашению короля Саудовской Аравии поруководить пасхальным седером.
В других экспериментах люди начинали верить, что терялись в супермаркетах, их возвращали к жизни спасатели, они переживали нападение злобного животного и были однажды противно вылизаны в ухо собакой Плуто[130]. Они верили, что когда-то им прищемило мышеловкой палец[131], они опрокидывали чашу пуншем на чьей-то свадьбе[132] и однажды их увозили в больницу с высокой температурой[133]. Но даже когда воспоминания сфальсифицированы от начала и до конца, они все же отталкиваются от какого-то реального факта. Ребенка можно убедить, что он летал на воздушном шаре, но подробности, которые ребенку приходится добавлять от себя, чтобы как-то объяснить самому себе фотографию с вымышленной экскурсии на воздушном шаре, поднимаются из глубин бессознательного, из массива накопленных чувственных и психологических переживаний, а также ожиданий и верований, которые проистекают из этих переживаний.
Оглянитесь на свою жизнь. Что вспоминаете? Я вот, оглядываясь, понимаю, что этого мало. Об отце, умершем больше двадцати лет назад, моя память хранит какие-то жалкие обрывки воспоминаний. Как я гулял с ним после его инсульта, как он опирается на трость. Или его блестящие глаза и радушную улыбку, которыми он встречал меня в мои нечастые визиты домой.
О более ранних годах помню еще меньше. Я помню его молодым — как он весь светился от радости, купив новый «шевроле», и как рассердился, когда я выбросил его сигареты. А если копнуть еще глубже и попытаться вспомнить самые ранние годы детства, там все еще разреженнее — одни размытые картинки: отец иногда обнимает меня, а мама держит меня на руках, что-то поет и гладит меня по голове.
Затискивая и обцеловывая своих детей, я всегда помню, что большая часть этих эпизодов с ними не останется. Они забудут — и это хорошо. Не пожелал бы я им всепамятной жизни Шерешевского. Но мои поцелуи и объятия не исчезнут бесследно. Они останутся, хоть и неразборчиво, как ощущение любви и эмоциональных уз. Я знаю, что память о моих родителях переполнит любой крошечный сосуд, слепленный из конкретных эпизодов, о каких помнит мое сознание, и надеюсь, что так же будет и с моими детьми. Мгновения могут быть навсегда забыты, могут проглядывать сквозь мутные искажающие линзы, но что-то из всего этого остается с нами, проникнет в подсознательное и оттуда станет лучиться богатством чувств, которые всплывают в нас, когда мы думаем о тех, кто дороже всего сердцу, — или о том, кого только что встретили, или о диковинных или обыденных местах, где мы жили или гостили, или о событиях, которые сделали нас теми, кто мы есть. Мозг наш, хоть и несовершенно, все-таки умеет собирать связные картины нашего жизненного опыта.
В этой главе мы говорили о том, как наше бессознательное берет неполную информацию, поставляемую органами чувств, добавляет недостающие детали и передает готовое восприятие сознательному уму. Глядя на что-нибудь, мы думаем, что получаем отчетливую, определенную картинку-фотографию, но в действительности видим лишь малую ее часть внятно, а остальное дорисовывает наш бессознательный ум. Мозг проделывает тот же трюк и с памятью. Вероятно, если б нам доверили проектировать человеческую память, никто не стал бы внедрять систему, которая избавляется от кучи данных, а если о них запросить, выдумывает отсебятину. Но для большинства из нас эта система, оказывается, вполне работоспособна — по большей части. Будь оно иначе, наш биологический вид не выжил бы. Эволюции нужно не совершенство, а эффективность. Меня лично это учит смирению и признательности. Смирению — потому что никакая моя уверенность в том или ином воспоминании не гарантирует мне, что оно — не подлог; признательности же — за те воспоминания, которые мне удается хранить, и за возможность не хранить абсолютно все. Сознательная память и восприятие творят чудеса, сильно полагаясь на бессознательное. В следующей главе мы посмотрим, как та же двухъярусная система влияет на самое главное в нашей жизни — на то, как мы действуем в нашем сложно устроенном социуме.
Глава 4. Как важно быть общительным
Положение наше на земле странно. Любой из нас здесь ненадолго и неизвестно, зачем, но все-таки иногда кажется, что с божественной целью. Однако с позиции обыденной жизни кое-что мы знаем наверняка: мы здесь ради других.
Альберт Эйнштейн[134]Как-то возвращался я домой поздно, голодный и раздраженный, и заскочил к маме — та жила по соседству. Она ела мороженый ужин, разогретый в микроволновке, и запивала его горячей водой из кружки. Из телевизора верещала «Си-эн-эн». Мама спросила, как прошел мой день. Я ответил, что хорошо. Она оторвалась от черного пластикового лотка с едой и мгновение спустя сказала: «Нет, не хорошо. Что случилось? Поешь жаркого». Маме тогда уже стукнуло восемьдесят восемь, она с трудом слышала и почти ничего не видела правым глазом, который считался здоровым. Но эмоциональное состояние сына она проницала абсолютным рентгеновским зрением.
Она прочитала мое настроение с поразительной беглостью, и я задумался о человеке, с которым в тот день делил работу и тяготы, — о физике Стивене Хокинге. Сорок пять лет он боролся с болезнью двигательных нервов и не мог толком пошевелить ни единой мышцей. На этой стадии недуга он мог общаться, лишь мучительно подергивая правой скулой. Это движение засекал сенсор, встроенный ему в очки, и передавал компьютеру, вмонтированному в его инвалидное кресло. Таким способом он при помощи особого программного обеспечения выбирал буквы и слова, представленные на мониторе, и печатал то, что хотел сказать. В «хорошие» дни он будто играл в компьютерную игру — выигрышем была возможность выражать мысли. В «плохие» казалось, что он моргает морзянкой, но точки и тире для каждого слова ему приходится искать в словаре. В плохие дни — а тот день был плох — совместная работа изнуряла нас обоих. И тем не менее: даже когда он не мог облечь идеи о волновой природе Вселенной в слова, для меня не составляло труда определять, когда его внимание покидало космические глубины и сосредоточивалось на планах о карри на ужин. Я всегда знал наверняка, доволен он, устал, воодушевлен или раздражен, — по одному лишь взгляду в глаза. Его личная помощница тоже так умела. Однажды я спросил у нее, как у нее это получается, и она описала целый набор выражений глаз Хокинга, который накопила за годы. Мое любимое описание — «стальное сияние победного ликования»: такое выражение возникало у него во взгляде, когда он формулировал мощное возражение кому-то, с кем был категорически не согласен. Язык — штука удобная, но у нас в арсенале есть социальные и эмоциональные инструменты, превосходящие слова, и мы общаемся и понимаем с их помощью, не прибегая к сознательной мысли.
Переживание единства с другими возникает у нас, похоже, в самые ранние годы жизни. Изучение поведения младенцев показывает, что даже шестимесячные уже в состоянии оценивать социальное поведение окружающих[135]. В одном таком исследовании младенцам показывали «скалолаза» — всего лишь деревянный кругляш с приклеенными глазами, который карабкался на горку, но все время скатывался и никак не мог добраться до вершины. Чуть погодя в игру вводили «помощника» — деревянную треугольную призму, тоже с глазками: он подбирался к «скалолазу» снизу и подталкивал его вверх. Иногда появлялся «плохиш» — кубик, который спускался с горы навстречу «скалолазу» и спихивал его вниз.
Исследователи хотели понять, возникнет ли у младенцев — не вовлеченных, незаинтересованных наблюдателей, — какое-нибудь отношение к кубику-«плохишу». Как шестимесячный младенец выражает осуждение деревяшке с глазками? Так же, как и шестилетний (или шестидесятилетний) выражает социальное неодобрение: отказывается играть с объектом недовольства. Так и вышло: экспериментаторы дали младенцам возможность взять в руки любую из трех деревяшек, и все маленькие участники эксперимента не пожелали хватать кубик, а тянулись к призме-«помощнику». Более того, когда эксперимент повторили попеременно с «помощником» и нейтральным «наблюдателем», другим кубиком или с «наблюдателем» и «плохишом», дети предпочитали «помощника» «наблюдателю», а «наблюдателя» — «плохишу».
Белки не учреждают фондов помощи больным беличьим бешенством, змеи не помогают незнакомым змеям переползать через дорогу, человечество же высоко ценит взаимовыручку. Ученые обнаружили, что участки человеческого мозга, отвечающие за переработку информации о поощрении, возбуждаются, когда мы участвуем в действиях, связанных со взаимопомощью: учтивость, оказывается, сама себе приз[136]. До умения облекать приятие или отвращение в слова нашим младенцам еще долго, но их притягивает добродушное и отталкивает зловредное.
Преимущество участия в сплоченном обществе, где люди помогают друг другу, очевидно: группа зачастую лучше, чем отдельные разрозненные индивиды, приспособлена отражать угрозы внешнего мира. Люди интуитивно осознают, что в единстве — сила, и ищут прибежища в компании других, особенно в нужде или тревоге. Говоря знаменитыми словами Патрика Хенри[137]: «Вместе выстоим, врозь — упадем». (Уж такова ирония жизни: Хенри потерял сознание и упал на руки стоявших рядом с ним сразу после того как произнес эту фразу.)
Возьмем, к примеру, исследование, проведенное в 1950-х годах. В одной комнате собрали около тридцати прежде не знакомых друг с другом студенток Университета Миннесоты и попросили не разговаривать[138]. В комнате их ожидал «мужчина серьезного вида в роговых очках, облаченный в белый халат, из кармана у него свисал стетоскоп, а за ним высилась махина всякой электротехнической лабуды». Старательно наводя панику, он мелодраматически представился как «доктор Грегор Зильштейн, факультеты неврологии и психиатрии медицинского института». На самом деле это был Стэнли Шехтер, безобидный профессор социальной психологии. Шехтер сказал студенткам, что приглашает их подопытными в эксперимент по изучению воздействия электрошока на человека. Он, дескать, будет подвергать их электрошоку и смотреть на реакцию. Поговорив минут семь-восемь о насущности этого эксперимента, он завершил тираду следующим образом:
Электрошок — это больно… В условиях нашего эксперимента необходимо применять интенсивное воздействие… [Мы] подключим вас к такой вот аппаратуре [указывает на жуткое оборудование за спиной], подвергнем нескольким разрядам и снимем показания вашего пульса, кровяного давления и т. п.
Шехтер далее попросил студенток покинуть комнату минут на десять, чтобы, мол, он смог подтянуть дополнительное оборудование и все подготовить, и добавил, что рядом много свободных аудиторий, и если участницы эксперимента хотят, они могут уединиться, а могут дожидаться начала все вместе. Затем он проиграл тот же сценарий с другой группой из тридцати студенток, только теперь не нагнетал драматизм, а наоборот старался их успокоить: вместо устрашающего пассажа о мощных электрошоках он сказал:
Все будет очень просто: мы подвергнем каждую из вас очень слабому электрошоку. Уверяю вас, не будет никаких болезненных ощущений. Это скорее похоже на щекотку или покалывание, ничего неприятного.
Далее он предложил им то же самое, что и предыдущей группе: подождать порознь или всем вместе. Именно этот выбор и был ключевой точкой эксперимента — никакого электрошокового испытания никто проводить не собирался.
Такое надувательство произвели с целью выяснить, станет ли группа, ожидающая болезненных экспериментов, держаться вместе — в отличие от группы, которой ничего не угрожает. Результат оказался таков: 63% студенток из запуганной группы пожелали ожидать вместе с другими, а из тех, кто ждал щекотного электрошока, — всего 33%. Студентки инстинктивно организовали группы поддержки. Это естественный инстинкт. Если заглянуть в интернет-справочник групп поддержки Лос-Анджелеса, например, выяснится, что таковые существуют среди жертв агрессивного поведения, аддероллщиков, агорафобов, алкоголиков, альбиносов, людей с синдромом Альцгеймера, амбиенистов, ампутантов, анемиков, аноректиков, артритчиков, людей с синдромом Аснергера, астматиков, ативанщиков, аутистов[139] — и это лишь на букву «А». Участие в группах поддержки — отражение человеческой потребности быть вместе с другими, глубинного желания одобрения и дружбы. Все мы, в первую очередь, — социальные существа.
Социальные связи — настолько неотъемлемая часть человеческого опыта, что, лишившись их, мы мучаемся. Во многих языках существуют выражения, вроде «задеть за живое», сравнивающие боль общественного отвержения с физическими страданиями. Это, в общем, не просто метафора. Изучение снимков мозга показывают, что у физической боли есть две компоненты: неприятное эмоциональное переживание и сенсорное чувство недомогания. Эти два компонента связаны с разными мозговыми структурами. Ученые обнаружили, что за боль социальной отверженности отвечает передняя поясная кора — она же отвечает и за эмоциональный компонент физической боли[140].
Поразительное дело: боль в прищемленном пальце и ущемленном достоинстве в мозгу соседствуют. Этот факт натолкнул ученых на безумную с виду мысль: а можно ли с помощью болеутолителей, уменьшающих ответ мозга на физическую боль, гасить и муки общественного отвержения?[141] Чтобы это выяснить, исследователи привлекли двадцать пять здоровых добровольцев и попросили их принимать по две таблетки два раза в день в течение трех недель. Одна половина получила сверхсильный тайленол (ацетаминофен)[142], а вторая — плацебо. В последний день эксперимента исследователи пригласили всех испытуемых по очереди в лабораторию и попросили сыграть в компьютерную игру в мяч. Каждому участнику сообщили, что он играет с двумя другими участниками, размещенными в соседних комнатах, хотя на самом деле за двух других игроков играл компьютер, взаимодействовавший с реальным игроком по тщательно продуманной схеме. В первом раунде другие «игроки» вели себя прилично и играли по всем правилам, во втором раунде они играли только друг с другом и беспардонно исключали испытуемого из игры — как футболисты на поле, упорно не передающие пас какому-нибудь партнеру по команде. По завершении игры испытуемого просили ответить на вопросы, составленные для оценки степени социальной неудовлетворенности. По сравнению с теми, кто был на плацебо, испытуемые, принимавшие тайленол, расстраивались меньше.
В этом эксперименте была дополнительная изюминка. Помните опыт Антонио Рэнгла, в котором испытуемые пробовали вино под присмотром фМР-томографа? Так вот, на втором раунде, когда «партнеры по игре» отшивали реального участника эксперимента, мозг участника тоже сканировали. Оказалось, что у испытуемых под тайленолом активность участка мозга, ответственная за переживание боли социального отвержения, понижена. Тайленол, похоже, и впрямь притупляет реакцию нервной системы на общественное пренебрежение.
Когда-то давно «Би-Джиз» сочинили песню «Как склеить разбитое сердце?»[143]. Они, вероятно, не предполагали, что ответом будет: «Прими две таблетки тайленола». Что тайленол может помочь и такому горю, показалось ученым и большой натяжкой, и они поставили клинический эксперимент: будет ли тайленол иметь то же воздействие вне лаборатории, в реальном мире социального отвержения. Они попросили пятьдесят добровольцев участвовать в опросе «задетых чувств» — стандартном психологическом исследовании — каждый день в течение трех недель. И снова половине добровольцев прописали дозу тайленола два раза в день и половине — плацебо. Результат? Добровольцы-тайленоловцы отчитались о значительном уменьшении огорчительности социальных контактов в период эксперимента.
Взаимосвязь между социальной болью и болью физической отражает сцепки между эмоциональными и физиологическими процессами в организме. Огорчение не просто причиняет эмоциональные страдания — оно влияет на наше физическое состояние. Более того, отношения с другими настолько важны для людей, что недостаток социальных связей — фактор риска для здоровья, сопоставимый с риском от курения, гипертонии, ожирения и гиподинамии. В одном исследовании ученые опросили 4775 взрослых в округе Аламеда, под Сан-Франциско[144]. Участники эксперимента заполнили опросник, охватывавший их семейное положение, контакты с дальними родственниками и друзьями и участие в общественных группах. Все ответы каждого участника переводились в численный показатель под названием «индекс социальной сети». Высокие показатели этого индекса означают, что у человека много прочных и близких социальных контактов, а низкие — относительную социальную изоляцию. Исследователи приглядывали за состоянием здоровья испытуемых следующие девять лет. Поскольку у всех участников эксперимента были разные жизненные ситуации, ученые применили математические методы выделения эффектов социальной контактности из круга остальных факторов риска, вроде курения и прочих, упомянутых ранее, а также факторов социально-экономического статуса и заявленного уровня удовлетворенности жизнью. Результаты получились ошеломительные. За девять лет исследования у тех, чей индекс социальной сети был определен как низкий, вероятность смерти оказалась вдвое выше, чем у участников со сходной жизненной ситуацией, но с высоким индексом. Судя по всему, отшельники страховщикам — плохие клиенты.
Некоторые ученые убеждены, что потребность в социальных взаимодействиях — движущая сила эволюции человеческого сознания[145]. В конце концов, приятно располагать умственными потенциями, достаточными для понимания того, что мы живем в искривленном четырехмерном пространстве-времени, но если бы жизни наших прапредков зависели от GPS и нахождения с его помощью ближайшего японского ресторана, способность развить подобное знание не была бы важна для выживания нашего вида и, стало быть, не толкала бы нашу церебральную эволюцию. С другой стороны, совместные действия и коллективный разум, который для них требуется, оказались для нашего выживания, судя по всему, совершенно необходимы. Другие приматы тоже демонстрируют коллективный разум, но куда им в этом деле до нас. Они, может, шустрее и сильнее нас, но у нас есть гораздо более развитая способность сбиваться в кучи и координировать сложные совместные действия. Много ли ума надо, чтоб быть в контакте с людьми? Могла ли потребность во врожденном навыке общения стать причиной развития этого нашего «высшего» разума и, быть может, то, что мы привыкли считать вершинами умственного развития, — наука, литература — всего лишь побочные продукты этого умения?
Тысячелетия тому назад, чтобы отведать суси, требовались навыки куда серьезнее, чем умение произнести вслух «передайте васаби». Нужно было поймать рыбу. Всего пятьдесят тысяч лет назад люди этого не умели — и вообще не ели животных, водившихся вокруг, но непростых в поимке. И вдруг, довольно внезапно — в эволюционном смысле слова — поведение людей изменилось[146]. На территории Европы найдены доказательства того, что всего за несколько тысячелетий люди научились ловить рыбу, птиц и охотиться на опасных, но вкусных и питательных крупных зверей. Примерно в то же время они начали строить укрытия, изобрели символическое искусство и принялись городить затейливые погребальные сооружения. Люди вдруг одновременно поняли, как наваливаться кучей на мамонта, и стали устраиваться ритуалы и церемонии, легшие в основу того, что мы теперь называем культурой. В кратчайшие сроки человеческая деятельность изменилась сильнее, чем за предыдущий миллион лет. Откуда ни возьмись проявилась тяга к культуре, идеологической искушенности и коллективизму, и при этом — никаких анатомических изменений, которые бы что-то объясняли; иными словами, в человеческом мозге произошла какая-то существенная мутация, некий программный апгрейд, так сказать, благодаря которому возникла способность к коллективным действиям — и обеспечила нашему биологическому виду преимущество в выживании.
Противопоставляя человека собаке, кошке или даже обезьяне, мы обычно склонны думать, что различие между нами — в показателе IQ. Но если человеческий разум развился для решения общественных задач, то именно социальный IQ стоит рассматривать как принципиальный критерий отличия нас от других животных. Самое особенное в нас — желание и умение понимать, что другие люди думают и чувствуют. Моделью психического состояния человека[147] сейчас принято называть способность, дающую нам, людям, могучую возможность постигать поведение других и предсказывать, как они будут себя вести, исходя из текущих и будущих обстоятельств. И хотя в модели психического есть осознанная, логическая компонента, большая часть нашего «моделирования» того, что другие думают и чувствуют, происходит неосознанно — споро и автоматически обрабатывается бессознательным умом. К примеру, наблюдая, как за отъезжающим от остановки автобусом несется женщина, вы не задумываясь делаете вывод: она досадует и ругает себя, что не поспела вовремя, — а видя, как женщина тянется к шоколадному торту вилкой, а потом отдергивает руку, сходу понимаете, что ее беспокоит вопрос избыточного веса. Наша склонность автоматически присваивать другим те или иные состояния ума настолько сильна, что мы распространяем ее не только на людей, но и на животных и даже на неодушевленные объекты — как в эксперименте с шестимесячными младенцами и деревянными фигурками, о котором я рассказывал ранее[148].
Трудно переоценить значимость модели психического для человека. Мы привыкли воспринимать общество как данность, но многие наши повседневные дела возможны лишь благодаря коллективному усилию, масштабному человеческому сотрудничеству. Сборка, скажем, автомобиля требует участия тысяч людей с разнообразными навыками, выполняющих разные задачи в разных местах. Металлическую — например, железную — руду нужно добыть и переработать; стекло, резину, пластмассы — произвести из многочисленных исходных материалов и сформовать; изготовить аккумуляторы, радиаторы и бесчисленное множество других деталей; электронные и механические системы — спроектировать; и все это в итоге свести воедино — всех скоординировать так, чтобы в одном месте собрать готовый автомобиль. В наши дни даже кофе с пончиком утром по дороге на работу — плод трудов людей со всего света: где-то селяне вырастили пшеницу, где-то испекли пончик, откуда-то привезли молоко, из-за моря доставили кофе, где-то в другом месте его обжарили; поставщики и торговцы свезли все это в ваш город. А где-то многие другие произвели жаровни, тракторы, грузовики, корабли, удобрения и все остальное, что нужно для изготовления кофе и пончика. Модель психического позволяет нам обустраивать сложные социальные системы, на которых зиждется наш мир, — от скромных ферм до громадных корпораций.
Ученые до сих пор спорят, применяют ли низшие приматы модель психического в своих общественных занятиях, но если это так, по-видимому — на очень примитивном уровне[149]. Люди — единственные животные, чьи отношения и общественная организация предъявляют жесткие требования к модели психического у индивида. Разум разумом (а заодно и сноровка), но рыбы не строят лодок, а обезьяны не выставляют фруктовых лотков. Свершение подобных подвигов — признак уникальности человека среди других животных. У детенышей нашего биологического вида простенькая модель психического развивается уже на первом году жизни. К четырем годам почти все наши дети уже располагают способностью оценивать ментальное состояние других людей[150]. Когда модель психического отказывает — как в случаях аутизма, — людям становится труднее жить в обществе. В книге «Антрополог на Марсе» клинический невролог Оливер Сакс рассказывает о Темпл Грэндин, высокофункциональной аутистке. Она поведала ему, каково это было — находиться на детской площадке с другими детьми и наблюдать, как дети реагируют на социальные сигналы, которые сама она не могла воспринять.
«Между другими детьми что-то происходило, — описывал Сакс ее мысли, — нечто мгновенное, неуловимое, постоянно изменяющееся — обмен смыслами, договоренностями, и стремительность их взаимопонимания временами казалась телепатической»[151].
Интенциональность — одно из свойств модели психического[152]. Способность организма рефлексировать собственное состояние ума, свои верования и желания называется интенциональностью первого порядка: «Хочу попробовать мамино жаркое». Под эту категорию подходит большинство млекопитающих. Но понимание себя — совсем не то же самое, что понимание других. Интенциональность второго порядка — способность формировать представления о чужих умонастроениях: «Кажется, моему сыну хочется жаркого». Интенциональность второго порядка — самый примитивный уровень модели психического, он освоен любым здоровым человеком, во всяком случае — после первой чашки кофе поутру. Если же вы владеете интенциональностью третьего порядка, вам доступно представление вроде: «Похоже, моя мама думает, что ее сын хочет попробовать жаркое». А уж если можете подняться еще на уровень выше: «Похоже, друг мой Сэнфорд догадывается, что моя дочь Оливия думает, будто его сын Джонни считает ее очаровашкой» или «Похоже, моя начальница Рут знает, что наш финансовый директор Ричард думает, будто мой коллега Джон не уверен, что ее отчетностям и прогнозам оборотов можно доверять», — значит, вы мобилизуете интенциональность четвертого порядка, и т. д. Четвертый порядок смотрится на письме довольно громоздко, но стоит ненадолго над ним задуматься, как станет очевидно, что вы сами частенько его реализуете, настолько он характерен для человеческих отношений.
На интенциональности четвертого порядка строится литература — писателям приходится выносить оценки и суждения, основываясь на собственном опыте интенциональности четвертого порядка: «Думаю, намеки, сделанные в этой сцене, дадут читателю понять, что Хорэс подозревает, будто Мэри собирается его бросить». Политикам и руководителям бизнеса этот навык тоже необходим: без него их легко обставят конкуренты. Я, например, знавал одну начальницу — назовем ее Элис, — нанятую в компании по разработке компьютерных игр, — в щекотливой ситуации она применила свою высокоразвитую модель психического. Элис была уверена, что за некой сторонней компанией, у которой существовал долгосрочный контракт на услуги по программированию с фирмой, только что нанявшей Элис, водятся кое-какие финансовые махинации. У Элис не было доказательств, а контракт с внешней компанией составляли так, что клин некуда вбить: $ 500 000 неустойки за расторжение. Но. Элис понимала, что Боб (управляющий внешней компании) знал, что Элис — новый сотрудник и рискованный шаг сделать побоится. Вот она, интенциональность третьего порядка. Но. Элис понимала, что Боб знает, что она знает, что Боб разбирательств не боится. Это уже четвертый порядок. Обдумав все это, Элис замыслила вот что: а если сблефовать и сказать, что у нее есть доказательства их махинаций и тем самым вынудить Боба позволить безубыточно расторгнуть контракт? Как отреагирует Боб? Применив модель психического, она попыталась взглянуть на ситуацию с позиции Боба.
Боб воспринимает ее как человека, который не станет рисковать, а сам при этом готов сражаться. Пойдет ли такой человек, как Элис, ва-банк? Боб наверняка думал, что нет, и вот результат: он в итоге согласился расторгнуть контракт с малюсенькими (по сравнению с исходными) штрафными санкциями.
Наблюдение за низшими приматами указывает, что они владеют интенциональностью на уровне между первым и вторым порядками. Шимпанзе может думать о себе: «Я хочу банан», — или даже: «Кажется, Джордж хочет мой банан», — но до мысли: «Кажется, Джордж думает, что я хочу его банан», — у них не доходит. Люди же, напротив, обычно оперируют на третьем-четвертом уровнях интенциональности и, говорят, способны додуматься до шестого порядка. Возня с письменным отражением модели психического таких высоких порядков требует от ума того же напряжения, что и размышления в области теоретической физики, как мне кажется, — там тоже приходится держать в голове длинные цепочки взаимосвязанных понятий.
Модель психического обеспечивает общественные взаимодействия и требует необычайных мозговых усилий — вероятно, это и объясняет обнаруженную учеными занятную связь между размерами мозга и численностью групп у млекопитающих. Скажем точнее: размер новой коры — части мозга, развившейся позднее всех остальных, — в процентном отношении ко всему мозгу целиком, похоже, соотносится с численностью групп, в которые сбиваются те или иные виды[153]. Гориллы собираются в группы до десяти особей, паукообразные обезьяны — около двадцати, а макаки держатся стаями под сорок особей — все эти данные точно соотносятся с пропорцией «новая кора — размер всего мозга» в случае каждого вида.
Допустим, с помощью математического соотношения, описывающего связь между численностью группы и относительным размером новой коры у низших приматов, можно предсказать размеры социальных групп у людей. Получится ли? Применимо ли соотношение объемов новой коры и мозга целиком для вычисления размеров человеческих сообществ?
Чтобы ответить на этот вопрос, нам придется сначала разобраться с определением понятия группы у людей. Численность группы у низших приматов определяется характерным количеством животных в так называемых «группировках взаимной чистки» (группировках груминга). Они устроены так же, как те, что формируют дети в школе или взрослые в родительских комитетах. У приматов члены группировки чистят друг друга от грязи, отмерших чешуек кожи, насекомых и других инородных объектов, чешут, гладят, массируют. Индивидуальным особям не все равно, кого чесать и кто чешет их, поскольку такие альянсы служат и защите от других особей того же вида. Размер группы у людей определить сложнее: мы взаимодействуем друг с другом в многочисленных и разнообразных группах — разного размера, уровня взаимопонимания и близости. Кроме того, мы развили технологии, специально разработанные для поддержки широчайшего общения в социуме, поэтому необходимо исключить из расчетов людей, с которыми мы практически не знакомы, — связь с ними поддерживается только по электронной почте. Итак, ученые, рассматривая человеческие группы, являющиеся когнитивным эквивалентом группировок взаимной чистки у низших приматов, — вроде кланов у австралийских аборигенов или женские сообщества по уходу за волосами среди бушменов, или групп людей, которым мы шлем поздравительные открытки, — обнаружили, что человеческая группа обычно состоит из примерно 150 участников, и именно такой результат получается при расчетах по модели «новая кора — общий объем мозга»[154].
Откуда берется связь между мощностью мозга и количеством участников общественной группы? Давайте подумаем о наших кругах общения, состоящих из друзей, родственников и коллег по работе. Чтобы поддерживать осмысленные отношения, необходимо, чтобы круг общения не раздувало сверх мыслительных возможностей, иначе не получится отслеживать, кто тут кто, что им надо, как они друг с другом связаны, кому доверять, на кого полагаться и т. д.[155]
Чтобы разобраться в плотности человеческих связей, психолог Стэнли Милгрэм[156] в 1960-х годах случайным образом отобрал около трехсот человек в Небраске и Бостоне и попросил написать и отправить «письмо счастья»[157]. Добровольцам предоставили пакет материалов по этому эксперименту, включая имя «целевого получателя» — случайно выбранного человека из Шэрона, Массачусетс, который работал биржевым маклером в Бостоне. Участникам было поручено отправить пакет целевому получателю, если они его знали, а если нет — послать любому своему знакомому, который, по их мнению, мог быть как-то связан с тем человеком из Шэрона. Экспериментаторы планировали посредством пересылки от знакомого к знакомому добиться попадания пакета к целевому получателю.
Многие из вовлеченных в это исследование разомкнули цепочку. Но из примерно 300 участников все-таки получилось 64 цепочки, и пакеты добрались до целевого получателя. Через скольких людей прошел каждый пакет, прежде чем обнаружился тот, кто знает кого-то, кто знает кого-то… кто знает целевого получателя? В среднем — всего через пятерых. Благодаря этому исследованию появился термин «теория шести рукопожатий»: мы все отделены друг от друга всего лишь шестью уровнями связей. Сходный эксперимент провели в 2003 году — на сей раз он, благодаря электронной почте, оказался технически гораздо проще[158]. Исследователи пригласили 24 000 пользователей электронной почты из 100 стран мира и назначили 18 целевых получателей, разбросанных по всему земному шару. Из 24 000 цепочек до получателей дотянулись лишь 400. Но результат получился близкий: до конечной точки письмо долетело в среднем через 5–7 адресов.
Мы присуждаем Нобелевские премии в научных областях — физике и химии, — но человеческий мозг достоин золотой медали — за способность создавать и поддерживать социальные связи, будь то корпорации, правительства или баскетбольные команды, где люди работают вместе, слаженно, и добиваются общей цели с минимальными конфликтами и недоразумениями. Возможно, 150 — естественный размер человеческой группы в живой природе, без участия формальных организационных структур и коммуникационных технологий, но дары цивилизации вытолкнули нас за естественные пределы этих 150-ти, потому что есть свершения, на которые могут посягать только группы из тысяч людей, действующих совместно. Разумеется, физические принципы, воплощенные в Большом адронном коллайдере — швейцарском ускорителе частиц, — памятник человеческому уму. Но масштаб и сложность организации, сконструировавшей его, — тоже: всего в одном эксперименте с БАК участвовало 2500 ученых, инженеров и техников из 37 стран, и работали они вместе, сообща решали возникавшие проблемы — и все это в постоянно меняющихся непростых обстоятельствах. Способность создавать организации, которые могут воплощать замыслы подобного масштаба, впечатляет не меньше, чем сами результаты воплощения.
Хотя человеческое социальное поведение очевидно гораздо сложнее, чем у других видов животных, в фундаментальных аспектах поведения млекопитающих есть поразительные сходства. Интересно, что многие низшие млекопитающие — «маломозглые», как называют их ученые, имея в виду, что та часть мозга, которая у людей отвечает за сознательное мышление, у низших млекопитающих относительно невелика по сравнению с областями мозга, занятыми бессознательными процессами[159]. Конечно, никто до сих пор не знает наверняка, как именно возникает сознательная мысль, но, судя по всему, рождается она в передней части новой коры, преимущественно — в ее префронтальной области. У других животных эта область мозга либо гораздо меньше, чем у человека, либо вообще отсутствует. Иными словами, животные в основном реагируют и очень мало думают — если думают вообще. Поэтому бессознательный ум человека при виде дяди Мэтта, собирающегося воткнуть себе шашлычный шампур в руку, может, и встревожится, но сознательный ум тут же напомнит бессознательной части, что дяде Мэтту шокирующие фокусы кажутся забавными. Вашего ручного кролика, напротив, доводы сознательного, рационального ума вряд ли успокоят. Реакция кролика будет автоматической: он попросту удерет от дяди Мэтта и шампура подальше. Но хотя кролик и не может оценить шутку, отделы кроличьего мозга, отвечающие за бессознательную обработку информации, мало отличаются от наших.
На самом деле устройство и химия бессознательной части мозга сходны у всех млекопитающих, многие нервные механизмы у человекообразных обезьян, мартышек и даже более примитивных млекопитающих похожи на наши и заставляют их всех вести себя очень по-человечески[160]. Пусть другим животным нечего нам сказать о модели психического, но ним можно многое понять об автоматических бессознательных аспектах наших социальных наклонностей. Именно поэтому, пока другие изучают труды вроде «Мужчины с Марса, женщины с Венеры»[161], чтобы разобраться в мужских и женских социальных ролях, я обращаюсь к источникам вроде «Материнско-детские связи и эволюция общественных отношений у млекопитающих» — и такой выбор чтения, как кто-то не преминет заметить, отрицательно сказывается на общественных отношениях млекопитающего в моем лице.
Вот вам цитата из этой работы:
Репродуктивная успешность у самцов в основном определяется конкуренцией с другими самцами за право спариться с максимальным количеством самок. Поэтому самцы редко формируют крепкие социальные связи, а коалиции между ними обычно устроены иерархически, с упором на агрессию, а не союзничество[162].
Ученые вроде как обсуждают поведение низших млекопитающих, а кажется, что речь идет о завсегдатаях спорт-бара. Может, разница между самцами человека и быками, котами и баранами не в том, что у низших млекопитающих нет спорт-баров, а в том, что для низших млекопитающих весь мир — спорт-бар. А вот что пишут те же исследователи о самках:
Репродуктивная стратегия самок — вложиться в производство сравнительно небольшого количества потомков… и успешность определяется качеством ухода и способностью обеспечить детенышам выживание до возраста самостоятельного питания. Поэтому самки образуют крепкие социальные связи со своим потомством и склонны к устойчивому союзничеству друг с другом.
И это нам знакомо. Не стоит, конечно, слишком увлекаться поисками общего в поведении млекопитающих «вообще», но цитата все-таки, похоже, объясняет, отчего преимущественно женщины тяготеют к ночным посиделкам, формируют читательские клубы и почему, невзирая ни на какие мои заверения в неагрессивных союзнических намерениях, меня туда не пускают. То, что на некотором уровне люди и низшие приматы ведут себя сходно, еще не означает, что корова оценит ужин при свечах, овца мечтает лишь о том, чтобы вырастить счастливых и приспособленных к жизни детишек, а грызуны стремятся провести старость в Тоскане со своими возлюбленными. Но кое-что мы, наблюдая за низшими млекопитающими, все же можем узнать, потому что, хоть человеческое социальное поведение гораздо сложнее, чем у других животных, эволюционные корни этого поведения у нас общие.
Насколько запрограммированно социальное поведение низших млекопитающих? Возьмем, к примеру, овец[163]. Молодая овца к детям (ягнятам, как их любит называть мясная промышленность) относится довольно гнусно. Если ягненок пытается пристроиться к ярке пососать, та мерзко блеет, а может и в лоб дать. Но роды все меняют. Чистая магия — превращение мегеры в кормилицу. Но не похоже, что происходит это благодаря осознанию материнства и любви к отпрыску. Это химия, а не волшебство. Процесс запускается благодаря растяжению родового канала, и в результате ярке в мозг попадает простенький белок окситоцин. На несколько часов у овцы в голове открывается зазор для налаживания отношений.
Если ягненок подбирается к ней, пока этот зазор не схлопнулся, овца с ним сдружится, и неважно, ее это отпрыск, соседский или вообще с другой фермы. Когда действие окситоцина закончится, она не станет выходить на контакт с новыми ягнятами. Тех ягнят, кто успел втереться в доверие, она будет кормить и разговаривать с ними — что на овечьем диалекте означает низко блеять. Но с посторонними ягнятами она будет вести себя так же пакостно, как и раньше, — даже со своими старшими детьми, если те не успели проскочить в окситоциновое окно. Ученые же успешно открывают и закрывают это окно по собственному желанию, вкалывая овце окситоцин или затормаживая его естественную выработку. Будто щелкают выключателем у робота.
Другую знаменитую серию опытов, в которой ученые смогли запрограммировать поведение животного, манипулируя им химически, произвели на полевках. Это маленький грызун, похожий на обыкновенную мышь; известно около 150 его видов. Один — степная полевка — в человеческом обществе был бы образцовым членом. Степные полевки находят себе пару раз и навсегда. Они верны своим избранникам: если партнер, к примеру, исчезает, менее 30% этих полевок станут связываться с кем-то другим[164]. Из них получаются ответственные отцы: самцы сторожат гнездо и помогают ухаживать за потомством. Ученые изучают степных полевок, потому что у родственных видов — горной и серой полевок — все поразительно иначе. В отличие от степных полевок, горные и серые формируют сообщества сексуально неразборчивых одиночек[165]. Самцы этих видов, по человеческим понятиям, — разгильдяи. Они совокупляются с любой самкой, какая подвернется, а потом бросают ее возиться с детьми. Предоставленные себе в большом пространстве, избегают себе подобных и стремятся забиться в угол в одиночку. (Степные полевки, напротив, склонны сбиваться в небольшие общительные компании.)
Самое удивительное заключается в том, что ученым удалось выяснить, какая именно характеристика мозга отвечает за разницу в поведении трех видов полевок, и применить это знание — поменять поведение, типичное для одного вида, на типичное для другого. Вещество оказалось то же — окситоцин. Молекулы окситоцина связываются химически с особыми молекулами-рецепторами на поверхности клеток мозга и влияют на мозговые реакции и поведение животного. У моногамных степных полевок рецепторов для окситоцина, а также соответствующего гормона — вазопрессина — в определенном участке мозга много. Аналогично высокая концентрация окситоциновых и вазопрессиновых рецепторов обнаружена в мозгу и у других моногамных млекопитающих. А вот у распутных полевок таких рецепторов совсем чуть-чуть. Исследова тели искусственно увеличили число рецепторов в мозгу у серой полевки, и та внезапно стала общительной и контактной — совсем как ее кузен степная полевка[166].
Я, кажется, рассказал о полевках больше, чем вы желали знать, — если только вы не борец с грызунами; что же до ягнят, то большинству из нас ни разу не доводилось с ними общаться — если не считать подаваемых в мятном желе. Но я столь подробно остановился на окситоцине и вазопрессине, потому что они играют важную роль в модулировании социального и репродуктивного поведения у млекопитающих, включая нас самих. Оказывается, похожие вещества сходно влияли на живые организмы как минимум семьсот миллионов лет и действуют даже на беспозвоночных вроде червей и насекомых[167]. Человеческое социальное поведение, понятно, куда более развито и сложно, чем у полевок или овец. В отличие от них, у нас есть модель психического, и мы гораздо успешнее в преодолении бессознательных импульсов сознательными решениями. Но и у людей окситоцин и вазопрессин регулируют установление связей[168]. У человеческих матерей, как и у ярок, окситоцин выделяется во время схваток и родов. Он также выделяется у женщин при стимуляции сосков и шейки матки во время сексуальной близости, и у мужчин и женщин — во время оргазма. И у мужчин, и у женщин окситоцин и вазопрессин, попавшие в мозг во время секса, обостряют влечение и любовь. Окситоцин выделяется даже от объятий, особенно у женщин, и именно поэтому и случайное прикосновение может вызывать переживание эмоциональной близости даже в отсутствие сознательной, интеллектуализированной связи между соприкасающимися.
В более широкой социальной среде окситоцин усиливает доверие и выделяется, когда между людьми происходит позитивный социальный контакт[169]. В одном эксперименте паре не знакомых друг с другом людей предлагали игру, в которой можно выиграть деньги совместными усилиями. Но игра устроена так, что и по отдельности можно выиграть, однако лишь за счет другого. В итоге все упиралось в доверие партнеру, и в процессе игры участники оценивали характеры друг друга. Каждому приходилось прикидывать, играет напарник так, чтобы оба могли выиграть, или на себя одного, чтобы сорвать куш за чужой счет.
Уникальная особенность этого эксперимента: ученые следили за уровнем окситоцина в крови игроков — брали анализ крови после каждого принятого решения. Анализы показали, что если партнер играет доверительно, мозг игрока отвечает на жест доверия выбросом окситоцина. В другом исследовании испытуемые играли в инвестиционную игру, и те игроки, которым давали окситоциновый ингалятор, демонстрировали больше доверия партнерам по игре — вкладывали в них больше денег. Когда участников на окситоцине попросили описать лица напарников, те сообщили — в отличие от игроков, не получавших окситоцина, — что напарники им кажутся симпатичными и заслуживающими доверия. (Неудивительно, что спреи окситоцина теперь можно купить в интернете, хотя они не очень эффективны, если не распылить вещество прямо в нос нужному человеку.)
Едва ли не самое сногсшибательное доказательство нашей автоматической животной природы — в гене, управляющем вазопрессиновыми рецепторами в человеческом мозге. Исследователи обнаружили, что у мужчин с двумя экземплярами особого вида этого гена меньше вазопрессиновых рецепторов, и они из-за этого ведут себя аналогично распутным полевкам: у мужчин с меньшим числом вазопрессиновых рецепторов вероятность возникновения проблем в браке или угрозы развода вдвое выше, а вероятность жениться — вполовину ниже, чем у мужчин с большим числом вазопрессиновых рецепторов[170]. И пусть наше поведение намного сложнее овечьего или мышиного, у людей тоже вшиты определенные бессознательные модели поведения — таково наследие нашего животного прошлого.
Социальная нейробиология — новая область науки, но споры о происхождении и сущности человеческого социального поведения, вероятно, так же стары, как сама человеческая цивилизация. Философы прошлых столетий не имели доступа к исследованиям овец и полевок, но когда бы речь ни заходила о природе ума, тут же начиналось и обсуждение степени нашего сознательного влияния на жизнь[171]. И какими бы разными ни были их концептуальные подходы, наблюдатели за человеческим поведением от Платона до Канта всегда считали необходимым различать прямые причины поведения — мотивации, осознаваемые нами интроспективно, — и скрытые внутренние наклонности, о которых можно только догадываться.
Современным популяризатором бессознательного, как я уже отмечал, стал Фрейд. Но хотя его теории и имели большое значение для клинической практики и популярной культуры, Фрейд больше повлиял на книги и кино, нежели на экспериментальные исследования в психологии. На протяжении почти всего XX века психологи-эмпирики попросту не вспоминали о бессознательном уме[172]. В первой половине прошлого века, когда царили бихевиористы, психологи, как ни странно, вообще пытались избавиться от концепции ума как таковой. Они не только уподобляли поведение человека животному — они считали и человека, и животных всего лишь сложными машинами, предсказуемо реагирующими на внешние стимулы. Однако, невзирая на то, что интроспекция, предложенная Фрейдом и его последователями, ненадежна, а скрытые мозговые процессы в то время были недоступны для наблюдения, сама мысль о полном отказе от принятия в расчет человеческого ума и мыслительных процессов многим казалась абсурдной. К концу 1950-х годов бихевиористское движение увяло, а на его месте возникли и расцвели два новых. Одно — когнитивная психология, вдохновленная компьютерной революцией. Как и бихевиоризм, когнитивная психология в общем отказывалась от интроспекции, зато допускала мысль о том, что у нас есть внутренние состояния ума — например, верования. Она обращалась с людьми как с информационными системами, обрабатывающими ментальные состояния примерно так же, как компьютер обрабатывает входящие данные. Другое новое направление — социальная психология, и в ее задачи входило понять, как другие люди влияют на ментальное состояние человека.
В этих двух новых направлениях психология вновь обратилась к исследованиям ума, но и то, и другое относились к загадочному бессознательному с сомнением. В конце концов, если люди не замечают неосознанных процессов и отследить их в мозге нельзя, каковы доказательства, что эти состояния ума вообще существуют? И в когнитивной, и в социальной психологии термин «бессознательное» старались вообще обходить. Но так же, как психотерапевт с упорством дрессированного песика подтаскивает вас опять и опять к теме вашего отца, горстка ученых продолжала ставить эксперименты, результаты которых указывали на то, что эти процессы необходимо исследовать, настолько важна их роль в социальных взаимодействиях. К 1980-м целый ряд экспериментов, уже ставших классикой, убедительно доказал, что в социальном поведении есть компоненты бессознательного, автоматического.
Некоторые ранние исследования поведения отталкивались от Бартлеттовой теории памяти. Фредерик Бартлетт считал, что искажения, наблюдаемые в человеческих воспоминаниях, можно объяснить, предположив, что ум человека следует определенным бессознательным алгоритмам, в которых недостающие звенья дописаны и все данные согласуются с тем, как человек представляет себе положение дел в окружающем мире. Психологи-когнитивисты предположили, что и в нашем социальном поведении может присутствовать некая бессознательная запрограммированность, и выдвинули гипотезу: многие наши повседневные действия осуществляются в соответствии с предопределенным ментальными алгоритмами[173], т. е. на самом деле выходит, что алгоритмы эти — бездумны.
Проверяя эту гипотезу, один экспериментатор расположился в библиотеке и принялся следить за копиром. Стоило кому-нибудь вознамериться скопировать себе что-то, наш экспериментатор бросался к аппарату со словами: «Простите, мне тут пять страничек надо сделать. Можно, я поксерю?» Конечно, бог велел делиться, но только если подопытный (поневоле) сам собирался ксерить гораздо больше пяти страниц, а нахал никак своего влезания без очереди не объяснил, с чего бы ему потакать? Очевидно, заметная часть людей именно это и думала: 40% «подопытных» примерно так ему и говорили и к копиру вперед себя не подпускали. Естественный способ увеличить шансы на доступ без очереди — предложить убедительную причину, почему другой должен уступить. И, разумеется, когда экспериментатор говорил: «Простите, мне нужно скопировать пять страниц. Можно? Я очень спешу», — процент отказов резко сократился — с 40 до 6. Вроде все логично, но у исследователя возникло подозрение, что тут что-то не так: может, люди не оценивают предложенную причину как уважительную сознательно? Может, они просто бездумно — автоматически — следуют некому умственному алгоритму?
Этот алгоритм, видимо, примерно таков: если некто просит о небольшом одолжении с нулевым объяснением — отказывай; если некто просит о небольшом одолжении, но объясняет причину, — соглашайся. Компьютерная программа для робота какая-то получается — а применима ли она к людям? Это легко проверить. Сами встряньте между копиром и тем, кто им собрался воспользоваться, и скажите что-нибудь вроде: «Простите, мне надо пять страниц отксерить. Можно я первый? Потому что мне XXX», — а вместо XXX — какая-нибудь ерунда, которая будто бы объясняет вашу просьбу, но на самом деле никакого объяснения не дает. Экспериментаторы вместо «XXX» подставили «надо сделать копии», что лишь сообщает очевидное, но реальной причины пропустить без очереди не дает. Если бы люди, которым надо к копиру, осознанно оценивали эту псевдопричину с учетом собственных интересов, они бы не пропустили наших испытателей вперед — в той же пропорции, что и в эксперименте, где никакой причины не сообщалось вообще, т. е. в 40% случаев. Но если самого обозначения причины достаточно, чтобы задействовать алгоритм «соглашайся», независимо от того, что предложенная причина — ерунда, откажет всего лишь 6%, как и произошло в эксперименте, где предложенная причина — «Я спешу» — показалась людям уважительной. Так и вышло. «Простите, мне надо пять страниц отксерить. Можно я первый? Потому что мне надо сделать копии», — говорил экспериментатор другим претендентам на ксерокс, и всего 7% ему отказывали — практически как в случае с уважительной реальной причиной. Дурацкая причина убедила стольких же, скольких и серьезная.
Составляя отчет об эксперименте, исследователи, выполнившие его, отметили, что бессознательное следование предписанному алгоритму «вполне может быть самой распространенной формой социального взаимодействия. Вероятно, время от времени подобная бездумность чревата неприятностями, но, тем не менее, такая степень избирательности внимания и приглушения внешнего мира — возможно, преимущество». Разумеется, если рассуждать в терминах эволюции, так бессознательное выполняет свои обычные обязанности: автоматизирует решение многих задач и высвобождает нас для реагирования на другие запросы окружающей среды. В современном обществе только так и можно решать многие задачи одновременно: сосредоточиваться на одной, параллельно выполняя другие, — при подключении автоматических алгоритмов.
Эксперименты 1980-х указывали на одно и то же: под влиянием бессознательного люди не понимали причин своих чувств, поведения, оценок других, а также устройства невербального общения. Психологам пришлось пересмотреть роль сознательной мысли в социальных взаимодействиях. Термин «бессознательное» воскресили, хотя время от времени заменяли его на еще не затасканное «несознательное» или, еще точнее, «автоматическое», «имплицитное» или «неконтролируемое». Но все поставленные тогда опыты были в основном изобретательными бихевиористскими ухищрениями, и психологам по-прежнему приходилось лишь догадываться о ментальных процессах, вызвавших ту или иную реакцию у испытуемых. Многое можно сказать о ресторанных рецептах, дегустируя блюда, но, чтобы узнать, как все на самом деле готовится, нужно заглянуть на кухню, а человеческий мозг скрывала черепная коробка, и его незримая внутренняя работа так и оставалась недоступной, как и столетием ранее.
Первый намек, что мозг можно наблюдать в действии, проявился в XIX веке: ученые заметили, что нервная деятельность вызывает изменения в кровоснабжении и уровне насыщения крови кислородом.
Наблюдение за этими изменениями теоретически позволяло косвенно судить о деятельности мозга. В книге «Принципы психологии» (1890) Уильям Джеймс ссылается на работы итальянского физиолога Анджело Моссо[174], зарегистрировавшего пульсации мозга пациентов с дефектами черепной коробки перед операциями на мозге[175]. Моссо заметил, что пульсации в отдельных зонах усиливались во время умственной активности, и предположил — как оказалось, верно, — что изменения в пульсациях связаны с нейронной деятельностью в этих зонах. К сожалению, технологии того времени позволяли вести подобные наблюдения и производить замеры только при вскрытом черепе и физически доступном мозге[176]. Для изучения человеческого мозга метод не слишком жизнеспособный, но именно его использовали ученые в Кембридже в 1899 году — на собаках, кошках и кроликах. Кембриджские исследователи применяли к различным животным электрический ток для стимуляции разных нервных окончаний и замеряли реакцию мозга приборами, напрямую подключенными к живым тканям. Они доказали связь между кровоснабжением мозга и метаболизмом, но метод был и груб, и жесток, и распространения не получил. Изобретение рентгеновского аппарата тоже не помогло: рентгеновские лучи высвечивают только физическую структуру мозга, а не динамические, постоянно меняющиеся электрические и химические процессы. Еще целое столетие непосредственная работа мозга оставалась недосягаемой для исследователей. И вот в конце 1990-х, примерно через сто лет после публикации Фрейдова «Толкования сновидений»[177], внезапно стал доступен метод фМРТ.
Как я уже говорил в прологе к этой книге, фМРТ, функциональная магнитно-резонансная томография, — это такой же МРТ, какой применяют врачи, но затейливее. Ученые XIX века справедливо предполагали, что определить, какая часть мозга подключилась к деятельности в данный момент, можно по активизации нервных клеток, вызывающей усиление кровоснабжения: работающим клеткам нужно больше кислорода. При помощи фМРТ ученые могут отслеживать поглощение кислорода мозгом, не вторгаясь в черепную коробку, а наблюдая квантовые электромагнитные взаимодействия атомов в мозге. Таким способом можно извне наблюдать обычный человеческий мозг в действии, в трехмерной проекции. фМРТ позволяет не только составить карту мозговых структур, но и увидеть, какие из них в данный момент активны и что меняется в активных зонах с течением времени, т. е. теперь ментальные процессы можно увязать с определенными нервными проводящими путями и структурами мозга.
Я не раз уже рассказывал о том, что теперь можно сделать снимок мозга испытуемого и определить, какая часть мозга активна или неактивна при определенных обстоятельствах. Например, я говорил, что у пациента ТН не работала затылочная доля, пояснял, что орбитофронтальная кора отвечает за переживание удовольствия, а также рассказывал, что изучение снимков мозга указывает на существование двух центров физической боли. Это знание стало нам доступно только благодаря фМРТ. За последние годы было разработано еще несколько новых поразительных технологий, но фМРТ изменила сам метод изучения ума, и этот прорыв до сих пор играет ключевую методическую роль.
Окажись мы сейчас перед компьютером с фМРТ-сканами мозга, ученые могли бы разглядеть любой его срез, в любой проекции, практически так же, как если бы вскрыли сам мозг.
На этом снимке, к примеру, демонстрируется срез вдоль центральной плоскости, а испытуемый при этом грезит. Затемненные области в левой и правой части снимка указывают на активность средней префронтальной коры, соответственно.
Ныне ученые подразделяют мозг — грубо — на три области, согласно их функциям, физиологии и эволюционному развитию[178]. При такой категоризации самая примитивная область — «рептильный мозг» (древний мозг), он отвечает за базовые функции выживания: питание, дыхание, пульс и простые версии эмоций вроде страха, агрессии и инстинктов типа «дают — бери, бьют — беги». В мозге всех позвоночных тварей — птиц, пресмыкающихся, земноводных, рыб и млекопитающих — есть рептильные структуры.
Вторая область — лимбическая система, она устроена сложнее и является источником нашего бессознательного восприятия. Это причудливо устроенная конструкция, чье определение у разных исследователей несколько отличается, ибо поначалу ее определяли через анатомическое положение, но сейчас в основном — по ее функциям: это часть мозга, отвечающая за формирование социальных переживаний. У человека в лимбическую систему чаще всего включают целый спектр структур (на некоторые нам с вами уже приходилось натыкаться), — вентромедиальная префронтальная кора, задняя поясная кора, мозжечковая миндалина, гиппокамп, гипоталамус, компоненты базальных ядер и, в некоторых случаях, орбитофронтальная кора[179]. Лимбическая система усиливает рефлекторные рептильные переживания и играет важную роль в зарождении общественных повадок[180]. Многие структуры этой второй области ученые иногда рассматривают совокупно и называют «мозгом древних млекопитающих» (старым мозгом). Он есть у всех млекопитающих — в отличие от третьей области, новой коры, или «нового» мозга млекопитающих: вот этой структуры у более примитивных млекопитающих обычно нет.
Новая кора размещается почти над всей лимбической системой[181]. Помните, я говорил во второй главе, что она разделена на доли и у человека очень велика? Она и есть то самое серое вещество, которое мы представляем себе, говоря о мозге. Во второй главе я рассказывал о затылочных долях, расположенных в задней части головы и содержащих центры первичной обработки зрительной информации. В этой главе я упоминал о лобных долях; они, как и предполагает название, размещаются в области лба.
Род Homo, в котором человек, Homo sapiens, — единственный выживший вид, развился два миллиона лет назад. Анатомически Homo sapiens достиг своей нынешней конфигурации около двухсот тысяч лет назад, но, как я уже говорил, поведенчески мы стали тем, чем сейчас являемся, — существами культурными — лишь пятьдесят тысяч лет. За время, отделяющее нас от исходных представителей рода Homo, наш мозг увеличился вдвое. Непропорционально большая часть этого роста случилась в лобной части головы, а значит, именно здесь реализуются некие особые качества, делающие человека человеком. Какие-такие сверхпреимущества в выживании дает нам эта увеличившаяся структура, что природа предпочла именно ее?
В лобных долях размещаются области, управляющие выбором и исполнением мелкой моторики — особенно пальцев рук и ног, кистей, стоп и языка; все эти движения, несомненно, важны для выживания в дикой природе. Что интересно: контроль движений лица тоже располагается в лобных долях. В пятой главе мы обсудим, насколько мелкие нюансы выражения лица важны для выживания — из-за их роли в социальной коммуникации. Кроме того, лобные доли включают в себя структуру под названием «префронтальная кора». «Префронтальная» дословно означает «перед передом» — именно там и располагается префронтальная кора, прямо за лобной костью. Именно в этой структуре отчетливее всего проявляется наша человеческая природа. Префронтальная кора отвечает за планирование и организацию мыслей и действий в соответствии с нашими целями, за интеграцию сознательного мышления, восприятия и эмоций; эту область мозга считают центром нашей осознанности[182]. Вентромедиальная префронтальная кора и орбитофронтальная кора — части лимбической системы и, одновременно, подсистемы префронтальной коры.
Хотя анатомическое подразделение мозга на рептильный, лимбический (или древних млекопитающих) и новую кору полезно, и я буду время от времени на нее ссылаться, важно понимать, что это упрощенная схема. Реальная картина сложнее. Например, подобная схема предполагает соответствующие последовательные эволюционные изменения мозга, но на деле все происходило несколько иначе: у некоторых так называемых примитивных существ есть ткани, подобные новой коре[183]. Поэтому поведение этих животных может не быть нацело инстинктивным, как некогда представлялось. К тому же эти три области кажутся почти не зависящими друг от друга, но на самом деле они работают согласованно, и между ними существует множество нервных связей. Сложность устройства мозга наглядно иллюстрируется, например, тем, что один только гиппокамп, крошечная структура в глубине мозга, — предмет учебника в несколько сантиметров толщиной. Одна недавняя академическая статья, посвященная результатам исследования единственной нервной клетки гипоталамуса, — больше сотни страниц и описывает около семисот причудливых экспериментов. Очевидно, несмотря ни на какие исследования, человеческий ум — и сознательный, и бессознательный — по-прежнему огромная тайна, и десятки тысяч ученых по всему миру пытаются прояснить функции участков мозга на молекулярном, клеточном, нервном и психологическом уровнях и предложить все более глубокие толкования возникновения наших мыслей, чувств и поведения.
С изобретением фМРТ и возрастающей способностью ученых исследовать, как разные структуры мозга участвуют в формировании мыслей, чувств и повадок, два академических движения, возникшие вслед за бихевиоризмом, объединили усилия. Социопсихологи осознали, что могут теперь распутать и подтвердить теории о психологических процессах, отыскав в мозге их первоисточники. Психологи-когнитивисты поняли, что могут обнаружить, откуда берутся различные умственные состояния. Кроме того, нейробиологи, занятые преимущественно физическим мозгом, поняли, что могут разобраться в его функциях, изучая умственные состояния и психологические процессы, происходящие в тех или иных структурах мозга. Так возникло новое направление — социальная когнитивная нейробиология, или, для простоты, — соционейробиология. Такой вот «тройственный союз»: социальная психология, когнитивная психология и нейробиология. Я уже упоминал, что первая встреча соционейробиологов произошла в апреле 2001 года. Вот вам иллюстрация того, с какой прытью развивается эта новая дисциплина: первая академическая публикация экспериментов с использованием фМРТ появилась в 1991 году[184]. В 1992-м за весь год вышло всего четыре статьи. И даже в 2001-м поиск в интернете по словам «social cognitive neuroscience»[185] выдавал всего 53 ссылки. Но уже в 2007 году такая поисковая задача давала результат в 30000 ссылок[186]. К этому времени нейробиологи публиковали результаты фМРТ-исследований каждые три часа.
В наши дни ученые, располагая новой возможностью наблюдать мозг за работой и постигать происхождение и глубины бессознательного, претворяют в жизнь мечты Вундта, Джеймса и других светил новой психологии, мечтавших превратить эту сферу науки в точную экспериментальную дисциплину. И хотя представлениям Фрейда о бессознательном недоставало точности, его уверенность в важности бессознательной мысли становится все более актуальной. Смутные концепции «ид» и «эго» уступили место картам мозговых структур с их взаимосвязями и функциями. Мы поняли, что наше социальное восприятие — через зрение, слух и память — происходит без посредства осознанности, интенции или осмысленного усилия. Как это неосознанное программирование влияет на нашу жизнь, самопрезентацию, манеру общения с людьми, вынесение оценок, реагирование на общественные ситуации и наши представления о самих себе — вот с чем мы будем разбираться далее.
Часть II. Коллективное бессознательное
Глава 5. Читаем людей
Ваши дружелюбные слова ничего не значат, если тело сообщает нечто иное.
Джеймс Борг[187]В конце лета 1904 года — всего за несколько месяцев до начала Эйнштейновского «года чудес»[188] — «Нью-Йорк Таймс» опубликовала статью о другом немецком научном чуде — лошади, которая «умеет все, только не разговаривает»[189]. История, уверял читателей журналист, — не фантазия, она основана на реальных наблюдениях комиссии, собранной прусским министром образования, а также самого журналиста. Герой статьи — жеребец, в дальнейшем прозванный Умным Гансом, — умел решать арифметические и иные интеллектуальные задачи на уровне современных третьеклассников. Гансу в то время исполнилось девять, и для этого возраста — но не для этого биологического вида! — такие навыки нормальны. Но Ганс, в точности как средний девятилетний ребенок, получил четыре класса классического образования: его обучал на дому его хозяин, герр Вильгельм фон Остен — преподаватель математики в местной гимназии, имевший репутацию старого чудака, а также человека, которому на репутации плевать. Каждый день в определенный час фон Остен, на виду у соседей, вставал перед лошадью к школьной доске и учил ее уму-разуму, поощряя морковкой и сахаром.
Ганс научился отвечать наставнику, стуча правым копытом. Журналист «Нью-Йорк Таймс» писал, что Гансу велели, например, стучать один раз, если ответ «золото», два раза — если «серебро» и три — если «медь», и жеребец смог правильно определить, из какого металла сделаны показанные ему монеты. Аналогично его научили опознавать цвета шляп. Языком стука он умел сообщать, который теперь час, месяц и день недели; вычислять, сколько раз по четыре в восьми, шестнадцати и тридцати двух; складывать пять и девять и сообщать остаток от деления семи на три. Ко времени репортажа Ганс уже был своего рода знаменитостью. Фон Остен показывал его по всей Германии, даже самому кайзеру, но никогда не просил платы за показ: его целью было доказать человекоподобный интеллектуальный потенциал у животных. Интерес к феномену лошади с высоким IQ оказался таков, что сформировали даже специальную комиссию — проверить весомость претензий фон Остена; она выяснила, что наставник Ганса не жульничает. Заключение, к которому эта комиссия пришла, объясняло способности лошади выдающимися педагогическими методами фон Остена — сходными с теми, что применялись в прусских начальных школах. Относилось ли определение «выдающиеся педагогические методы» к сахару или к морковке, непонятно, однако, по словам одного члена комиссии, директора Прусского музея естественной истории, «герр фон Остен добился успехов в обучении Ганса путем развития в нем стремления к лакомствам». Он также добавил: «Сомневаюсь, что лошадь получает удовольствие от самого обучения». Уж это-то, сдается мне, очень по-человечески.
Но заключение комиссии убедило далеко не всех. Вот вам красноречивое свидетельство того, что достижения Ганса не сводились к передовым методам лошадиного образования: Ганс иногда отвечал на вопросы фон Остена даже в тех случаях, когда фон Остен их не озвучивал. Иными словами, лошадь умела читать мысли фон Остена. Психолог по имени Оскар Пфунгст[190] решил разобраться, в чем тут дело. С разрешения фон Остена Пфунгст проделал серию опытов. Он обнаружил, что лошадь отвечает на вопросы, заданные не фон Остеном, — но только в тех случаях, если сам спрашивающий знает ответ и находится в прямой видимости Ганса, когда тот, давая ответ, бьет копытом.
Потребовалось еще несколько дополнительных тщательно продуманных экспериментов, но в конце концов Пфунгст обнаружил, что разгадка поразительных интеллектуальных способностей лошади содержится в непроизвольных бессознательных подсказках, которые дает вопрошающий. Пфунгст заметил, что стоит вопрошающему закончить формулирование задачки, как он самую малость подается вперед, и это служит Гансу сигналом, что можно начинать бить копытом в ответ. После чего, когда правильное число ударов прозвучало, другой неприметный сигнал на языке тела указывал Гансу, что нужно остановиться. В покере это называется «жест» — бессознательная смена манеры держаться, которая подсказывает окружающим, что у человека на уме. Пфунгст углядел, что все до единого из тех, кто допрашивал лошадь, делали похожее «минимальное мышечное движение», не отдавая себе в том отчета. Ганс в бегах, может, и не участвовал, но в душе был покерным игроком.
Пфунгст блистательно подтвердил свою теорию, пригласив в эксперимент двадцать пять добровольцев и заняв место Ганса: добровольцам предлагалось задавать вопросы ему, Пфунгсту. Никто из приглашенных участников не был осведомлен о точной цели опыта, но все они знали, что за их минимальными телесными движениями, могущими выдать правильный ответ, следят. Двадцать три участника из двадцати пяти все равно сделали эти минимальные движения, хотя ни один этого не признал. Фон Остен, кстати сказать, отверг заключения Пфунгста и продолжил кататься по Германии с Гансом и собирать немалые толпы поклонников.
Любому из нас, кому хоть раз показывал средний палец водитель из соседнего автомобиля, известно, что невербальное общение — нечто очевидное и сознательное. Но бывают случаи, когда дорогой вам человек говорит: «Не смотри на меня так», — а вы ему: «Не смотри на тебя как?» — хотя вам еще как понятно, что именно за чувство вы пытаетесь скрыть. Или вы, к примеру, и губами причмокнули, и вслух выдали, что, дескать, вашей супруге устрицы в чеддере удались на славу, а она все равно у вас спрашивает: «Что, не понравилось?». Что уж тут… Коли жеребец может читать по лицу, с чего бы супруге это было не под силу?
Ученые придают огромное значение человеческому владению устной речью. Но у нас, помимо этого, есть еще и параллельный канал общения, и его вещание несет куда больше информации, чем самые отборные слова, и частенько противоречит им. Поскольку в основном — если не нацело — невербальные сигналы автоматичны и транслируются в обход осознанного контроля, мы, не желая того, выдаем уйму информации о самих себе и о том, что у нас на уме. Наши жесты, положение тела, выражение лица и невербальные компоненты речи — из всего этого окружающие составляют свое мнение о нас.
Сила невербальных сигналов особенно очевидна в наших отношениях с животными, поскольку те — если только вы не обитаете в «пиксаровском» мультике — понимают человеческую речь в очень ограниченном ее диапазоне. Однако многие животные, как Ганс, чувствительны к человеческим жестам и языку тела[191]. Одно недавнее исследование показало, например, что при соответствующей дрессировке из волка может получиться неплохой приятель, способный отвечать на невербальные сигналы человека[192]. Вы, может, и не стали бы называть волка Фидо[193] и отпускать годовалого отпрыска с ним играть, но волки, тем не менее, — очень общительные животные и умеют реагировать на невербальные сигналы человека именно потому, что у них в волчьем сообществе имеется богатый репертуар сигналов. У волков выработано немало видов общественного поведения, требующих навыков предвидения и расшифровки телесного языка сородичей. Допустим, вы — волк; тогда вы знаете наверняка, что если ваш собрат поднял уши и задрал хвост, значит он тут главный. Если уши отвел назад, а глаза сузил, значит — подозревает. Если прижал уши к голове, а хвост у него между задних лап, — боится. Волков пристально не изучали, но их поведение, похоже, указывает на некоторую степень наличия модели психического. Тем не менее лучший друг человека — не волк, а собака. Собаки происходят от волков, именно они умеют считывать язык тела даже лучше, чем наши сородичи-приматы. Это открытие поразило многих, потому что приматы гораздо более развиты в типичных человеческих умениях вроде принятия решений или плутовстве[194]. Видимо, в процессе одомашнивания эволюция щадила те особи, которым лучше удалось умственно адаптироваться в качестве наших спутников[195] и тем самым получить доступ к благам домашнего очага.
Самое поразительное исследование человеческого невербального языка произвели на животном, с которым человек склонен редко делить кров — во всяком случае, намеренно: на крысе. Студентам на семинаре по экспериментальной психологии выдали по пять особей крыс, T-образный лабиринт и с виду простенькое задание[196]. Один рукав лабиринта покрасили белым, другой — серым. Задача у крысы была незатейлива — научиться приходить в серый рукав и получать там в награду еду. Задача студентов — каждой крысе ежедневно давать десять попыток выучить, что в сером рукаве дают поесть, и честно записывать, как продвигается обучение. Но подопытными в этом эксперименте были не крысы, а сами студенты. Студентам сообщили, что путем тщательного скрещивания можно вырастить разновидности крыс с особым талантом к нахождению еды в лабиринтах, а также таких, которые абсолютно в этом деле бестолковы. Половине студентов сказали, что их крысы — поголовно Васко да Гамы по ориентированию в лабиринтах, а другой — что их крыс вырастили пространственными кретинами. На самом же деле никакого селективного скрещивания никто заранее не производил, и все подопытные грызуны были совершенно одинаковы — для всех, кроме, вероятно, их собственных матерей. Суть эксперимента — сравнить результаты, полученные двумя разными группами людей, и оценить, повлияют ли их предварительные ожидания на достижения подопечных.
Исследователи обнаружили, что крысы тех студентов, которым сказали, что их животные — гении, продемонстрировали ощутимо лучшие результаты, чем те, которых студенты считали балбесами. Ученые попросили студентов описать, как они обращались со своими крысами, и анализ показал разницу в обращении студентов первой и второй групп к своим подопытным животным. Исходя из отчетов, студенты, считавшие своих крыс одаренными, больше с ними возились, были бережнее и таким образом демонстрировали свое отношение. Ясное дело, такое обращение могло быть намеренным, а нам интересны как раз непроизвольные, неконтролируемые сигналы. К счастью, другой паре ученых это тоже было любопытно[197]. Они, по сути, повторили тот же эксперимент, но добавили еще одно условие: ключевая часть задачи — обращаться с любой крысой так, будто никакой предварительной информации о ее происхождении у студентов нет. Участников предупредили, что разница в обращении исказит результаты и, следовательно, скажется на баллах за работу. Но даже с таким условием лучших результатов добились крысы, оказавшиеся в руках тех, кто ожидал от них лучших результатов. Студенты пытались вести себя непредвзято, но не справились.
Они бессознательно подавали крысам знаки исходя из своих ожиданий, и крысы на них отвечали.
Нетрудно провести аналогию влияния бессознательно транслируемых ожиданий на поведение человека, но насколько точна такая аналогия? Роберт Розентал[198], один из тех, кто проводил эксперимент с крысами, решил это выяснить[199]. По плану его исследования, студентам предложили поставить эксперимент, но на сей раз не с крысами, а с людьми. Понятное дело, условия проведения пришлось подогнать под человеческих подопытных. Розентал предложил студентам-экспериментаторам — своим подлинным подопытным — следующее: показать добровольцам-испытуемым фотографии неких людей и попросить оценить их степень успешности или неудачливости, исходя из того, что, по их мнению, сообщает лицо на фотографии. Розентал предварительно собрал большую коллекцию снимков, ранее оцененных как нейтральные. Но своим студентам он этого не сообщил. Он объявил, что собирается повторить уже поставленный эксперимент и сказал одной половине студентов, что им досталась подборка фотографий успешных людей, а другой — неудачников.
Чтобы студенты-экспериментаторы ни в коем случае не выдали в устной речи своих ожиданий, Розентал снабдил всех письменными инструкциями и наказал ни в чем от них не отступать и не произносить никаких других слов. В задачу студентов входило показать фотографии добровольцам-испытуемым, зачитать им инструкции и записать их ответы. Словом, все мыслимые предосторожности, чтобы никакая предубежденность не проявилась вслух, были предприняты. Но проявится ли она на невербальном уровне? Отреагируют ли, подобно крысам, подопытные люди?
Оказалось, что студенты, ожидавшие, что их испытуемые присвоят высокие рейтинги успешности людям на фотографиях, не только такие рейтинги в среднем и получили, но и все до единого студенты из группы, работавшей со снимками «успешных» людей, получили от своих испытуемых оценки выше всех без исключения оценок, полученных группой, работавшей со снимками «неудачников». Как-то они все-таки ухитрились неосознанно транслировать свои ожидания. Но как именно?
Год спустя еще одна исследовательская команда повторила эксперимент Розентала, но с некоторыми дополнениями[200]. Зачитываемые подопытным инструкции записали на пленку, после чего повторили опыт, но людей-экспериментаторов из него убрали совсем: инструкции прозвучали в записи. Таким образом исследователи хотели избавиться от любых возможных намеков испытуемым — кроме самой голосовой записи инструкций. Результаты опять распались на две группы, но разница в оценках оказалась вдвое меньшей. Вывод: важный канал трансляции ожиданий экспериментаторов — тон и модуляции голоса. Но это лишь полдела. Что же еще? Толком никто не знает. За годы многие ученые пытались выяснить это, модифицируя эксперимент так и эдак, но, хоть сам эффект регулярно подтверждался, никому так и не удалось точнее определить, каковы же они, эти другие невербальные сигналы. Какими бы ни были, они явно бессознательны, неуловимы и, возможно, у всех людей заметно отличаются.
Полученные выводы, очевидно, применимы к нашей личной и профессиональной жизни, они касаются нашей семьи, друзей, подчиненных, нанимателей и даже тех, кого маркетологи опрашивают в фокус-группах: хотим того или нет, мы сообщаем о своих ожиданиях окружающим, и те часто нашим ожиданиям соответствуют. Задумайтесь о ваших ожиданиях — проговоренных или же нет — в отношении людей, с которыми вы общаетесь. У них в отношении вас тоже есть ожидания. Я от своих родителей получил одно такое в подарок: они обращались со мной как с крысой-гением, как с человеком, который добьется успеха, за что бы ни взялся. Родители не сообщали мне о том, что они в меня верят, но я это чувствовал, и это всегда придавало мне сил.
Розентал много изучал именно этот эффект — какое влияние оказывают ожидания на наших детей[201]. Он доказал, что ожидания наставника существенно влияют на успехи ученика, даже если педагог старается никого из учеников не выделять. Они с коллегой попросили школьников в восемнадцати разных классах заполнить IQ-тест, однако результаты этих тестов сообщили не школьникам, а их учителям. Исследователи сообщили педагогам, что тесты показывают, у кого из детей выше интеллектуальный потенциал[202].
Но учителям не сказали, что дети, которых им представили как одаренных, на самом деле не добились самых высоких результатов в IQ-тесте — у них были вполне средние показатели. Некоторое время спустя учителя определили детей, которых исследователи не включили в число «одаренных», как менее любознательных и заинтересованных, чем «одаренные» ученики, — и оценки учащихся отражали эти выводы.
Но больше всего потрясали — и отрезвляли — результаты повторного IQ-теста, проведенного восемь месяцев спустя. При повторе такого теста нормально ожидать некоторые отклонения результатов от предыдущих у любого ребенка. В целом, результаты примерно у половины детей должны улучшиться, а у другой половины — ухудшиться, просто вследствие изменений в интеллектуальном развитии каждого ребенка по сравнению со сверстниками. Также можно ожидать и произвольные отклонения от предыдущей статистики. Розентал, проведя повторный тест, обнаружил, что половина детей, обозначенных для педагогов как «нормальные», показали рост IQ. Но у тех, кого обозначили как «гениев», результаты получились другие: около 80% этих учеников набрали как минимум на 10 баллов больше, чем в первый раз. Более того, около 20% группы «одаренных» набрали 30 и более баллов сверх исходных, тогда как всего 5% остальных детей смогли продемонстрировать подобные успехи. Лепить на детей ярлык одаренных оказалось мощным самореализующимся пророчеством. Мудрый Розентал не стал обзывать никого из детей отсталым. Но печально то, что такие ярлыки все же развешивают, и резонно предположить, что самореализующееся пророчество действенно в любом случае: у ребенка, которого считают бестолковым, больше шансов таким стать.
Человеческое общение языковыми средствами, развитие которых стало ключевой точкой эволюции нашего вида, изменило саму природу человеческого общества. Эта наша способность, похоже, уникальна[203]. У прочих животных коммуникация сводится к простым сообщениям — представиться или предупредить об опасности; сложных коммуникативных структур у них нет. Если бы Умному Гансу пришлось отвечать развернутыми предложениями, не вышло бы у него никакой концертной программы. Даже среди приматов нет ни одной разновидности, у которой от природы имелось бы в запасе больше нескольких сигналов и способности комбинировать их сколько-нибудь хитрым способом, все примитивно. Среднему человеку, напротив, известны десятки тысяч слов, и он способен выстраивать их друг за другом по затейливым правилам, почти без всяких сознательных усилий и специальных наставлений.
Ученые до сих пор не вполне понимают, как у человека развилась речь. Многие считают, что древние человеческие виды — Homo habilis и Homo erectus — располагали примитивным языковым или символьным аппаратом. Но в теперешнем виде язык стал развиваться лишь с появлением современного человека. Некоторые датируют появление языка сотней тысяч лет назад, некоторые — позднее, но потребность в сложной коммуникации стала безотлагательной, когда возник «поведенчески современный» социальный человек, т. е. около пятидесяти тысяч лет назад. Мы уже разобрались, насколько важны для нашего вида общественные связи, а с ними — и необходимость коммуникации.
И необходимость эта настолько остра, что даже глухие младенцы развивают языкоподобную систему жестов, а если научить их языку глухонемых, станут лепетать и гулить руками[204].
Но зачем людям было развивать невербальную коммуникацию? Одним из первых всерьез взялся за эту тему некий англичанин, поначалу увлекшийся теорией эволюции. Сам себя гением он не считал. По его словам, у него не было «ни особой сообразительности, ни смышлености», ни «силы ума, чтоб следить за ходом долгой абстрактной мысли»[205]. Не единожды приходилось мне разделять похожие соображения, и всякий раз меня воодушевляет, что англичанин-то в итоге не оплошал — его звали Чарлз Дарвин. Через тринадцать лет после публикации «Происхождения видов» Дарвин издал еще одну революционную книгу — «О выражении эмоций у человека и животных»[206]. В этом труде Дарвин доказывает, что эмоции и способ их выражения давали преимущество в выживании не только человеку, но и многим другим видам. Разобраться в том, какое значение имеют видимые эмоции, таким образом, можно, сравнив невербальные эмоциональные реакции у разных биологических видов.
Дарвин, допустим, не считал себя умницей, но точно знал, что интеллектуально силен в тщательной, дотошной наблюдательности. Конечно, не он первый предположил универсальность эмоций и их выражения[207], но именно он посвятил несколько десятилетий скрупулезному изучению физических проявлений умственных состояний. Он наблюдал за соотечественниками и иностранцами — пытался отыскать различия и сходства у представителей разных культур. Он изучал домашних животных и зверей в Лондонском зоопарке. В опубликованной книге Дарвин классифицировал многочисленные выражения человеческого лица и эмоциональные жесты и выдвинул гипотезу об их происхождении. Он отметил, что даже низшие животные выражают намерения и эмоции, меняя выражение морды и позу, а также применяя жестикуляцию. Дарвин предположил, что большая часть наших навыков невербального общения может быть врожденной, т. е. полученной автоматически по наследству от более ранних эволюционных стадий. Мы, например, умеем любовно покусывать — как и другие животные. Мы ощериваемся, как прочие приматы, — раздуваем ноздри и обнажаем зубы.
Улыбка — еще одно выражение эмоций, которым владеем и мы, и низшие приматы. Представьте, что находитесь где-нибудь в публичном месте и вдруг замечаете, что на вас кто-то смотрит. Если вы перехватите взгляд и смотрящий улыбнется, вам, скорее всего, станет приятно. Но если этот незнакомец продолжит таращиться без всякой улыбки, вам, возможно, станет не по себе. Откуда берутся эти инстинктивные реакции? Улыбка — ходовая валюта, и, обмениваясь ею, мы переживаем те же чувства, что и наши кузены-обезьяны. В сообществах низших приматов впрямую уставленный взгляд — сигнал агрессии. Часто за ним следует нападение, а значит, сам взгляд может спровоцировать драку. Поэтому если, к примеру, подчиненная особь обезьяны хочет угомонить доминантную, она в знак перемирия оскалится. На обезьяньем языке оскаленные зубы означают: «Простите, что уставился. Ну да, я глазею, но в драку лезть не планирую, поэтому, ПОЖАЛУЙСТА, не надо на меня нападать». У шимпанзе улыбка применяется и встречно — доминантная особь может улыбнуться подчиненной и тем самым сообщить ей: «Не волнуйся, я не собираюсь нападать». Таким образом, если вы наткнулись в коридоре на незнакомого человека, и он вам коротко улыбается, между вами происходит общение, коренящееся глубоко в нашем обезьяньем прошлом. Есть даже некоторые свидетельства того, что у шимпанзе — как и у людей — обмен улыбками может означать дружбу[208].
Улыбка, как может показаться, — тот еще барометр истинных чувств: в конце концов, любой из нас может ее сымитировать. Да, мы можем сознательно продемонстрировать улыбку или же любое другое выражение лица, задействовав лицевые мышцы, — этому мы научены. Достаточно вспомнить, что мы делаем с лицом, когда нужно произвести приятное впечатление на какой-нибудь гулянке, хотя участие в ней — сплошная тоска и уныние. Но выражения лица подвластны и неосознанному — мышцам, которые мы сознательно контролировать не можем. Подлинную экспрессию не подделаешь. Понятное дело, всякий может изобразить улыбку, сократив большие скуловые мышцы, подтягивающие уголки рта вверх. Но в настоящей улыбке задействована еще пара участников — круговые глазные мышцы, они стягивают кожу вокруг глаз к глазному яблоку, в результате чего возникают так называемые «гусиные лапки», хотя их видно далеко не всегда. Впервые на этот эффект указал в XIX веке французский невролог Дюшенн де Булонь[209], заметно повлиявший на Дарвина и собравший большую коллекцию фотографий улыбающихся людей. Существует два отдельных нервных проводящих пути сокращения мышц при улыбке: произвольный — больших скуловых мышц и непроизвольный — круговых глазных[210]. Поэтому если какой-нибудь фотограф уговаривает сказать «сыр», чтобы рот занял улыбчивую позицию, улыбка все равно будет фальшивая — если только вас не веселит само предложение сказать «сыр».
Разглядывая фотографии двух типов улыбающихся людей, предоставленные Дюшенном, Дарвин заметил, что и другие видят разницу в улыбках, но точно обозначить эту разницу он сам не может: «Меня часто поражает паша удивительная способность распознавать столь многие оттенки чувств — мгновенно, без осознанного анализа»[211] Этой особенностью никто долгое время не интересовался, но современные исследования показали, что, в соответствии с наблюдениями Дарвина, даже люди, не обученные оценке улыбок, могут инстинктивно отличать фальшивые от настоящих, если показать им, как один и тот же человек улыбается искренне и деланно[212]. Улыбки, которые мы интуитивно распознаем как фальшивые, — одна из причин, по которым мы навешиваем на торговцев подержанными машинами, политиков и прочих, кто изображает улыбку, ярлык «дешевый». Актеры школы Станиславского пытаются обойти эту нашу особенность, стараясь по-настоящему почувствовать то, что им нужно сыграть, и многие успешные политики, говорят, умеют вызывать у себя подлинное дружелюбие и сочувствие, разговаривая с толпами посторонних людей.
Дарвин понял: если выражения человеческого лица развивались вместе с нашим биологическим видом, многие способы выражения ключевых эмоций — радости, страха, гнева, отвращения, грусти и удивления — у представителей разных культур должны быть похожи. В 1867 году он организовал опрос, проведенный на пяти континентах среди коренного населения; некоторые участники опроса почти не общались с европейцами[213]. Исследование включало вопросы вроде «Выражают ли широко открытые глаза и рот и вскинутые брови удивление?» На основании полученных ответов Дарвин заключил, что «одно и то же состояние ума выражается по всему миру поразительно одинаково». Конечно, сами вопросы Дарвинова исследования содержали подсказки-ответы и сам его вклад в психологию, как и многие другие ранние работы в этой области, устарел: позднее стали считать, что умение выражаться лицом — приобретаемое в младенчестве знание, поскольку младенец копирует мимику окружающих его близких. Однако накопленные за последнее время результаты межкультурных исследований доказали, что Дарвин, по сути, был прав[214].
В первой части своих знаменитых экспериментов психолог Пол Экман[215] показывал фотографии людей с разным выражением лица испытуемым в Чили, Аргентине, Бразилии, США и Японии[216]. За несколько лет Экман и его коллега показали эти фотографии людям из двадцати двух стран. Их наблюдения совпали с выводами Дарвина: представители самых разных культур очень похоже оценивают эмоциональное значение в широком диапазоне выражений лиц. Тем не менее, сами по себе эти результаты не означают, что особенности человеческой экспрессии — врожденные или действительно универсальные. Поборники теории «приобретенного навыка» оспаривали результаты Экмана: они-де не могут претендовать ни на какую фундаментальность, ибо представители культур, которые Экман изучал, все смотрели «Остров Гиллигана»[217] и другие фильмы и телепрограммы. Тогда Экман отправился в Новую Гвинею, где в то время было обнаружено племя с культурой периода неолита[218]. У коренного населения не было письменности и они до сих пор применяли каменные орудия груда. Очень немногие хоть раз в жизни видели фотографию, а кинофильм или телепрограмму — еще меньше. Экман привлек сотни таких испытуемых — никто из них ни разу не сталкивался с иными культурами — и, при участии переводчика, показал им фотографии американцев, отражавшие основные человеческие эмоции.
Примитивные собиратели продемонстрировали ту же сообразительность в распознании радости, страха, гнева, отвращения, грусти и удивления, что и представители двадцати одной образованной страны. Ученые провели и обратный эксперимент: они сфотографировали гвинейцев, когда те показывали, как бы они отреагировали, если бы у них умер ребенок, они бы нашли давно сдохшую свинью и т. д. Все зафиксированные Экманом выражения оказались также однозначно опознаваемыми[219].
Наша поголовная способность демонстрировать и распознавать выражения лица возникает в момент рождения или сразу после. Новорожденные для выражения тех или иных эмоций производят практически те же движения лицевыми мышцами, что и взрослые. Младенцы умеют и различать выражения чужих лиц и, как взрослые, корректировать свое поведение в соответствии со своими наблюдениями[220]. Сомнительно, что их этому научили. Даже врожденно слепые маленькие дети, никогда не видевшие ни улыбки, ни сдвинутых бровей, располагают навыками спонтанного выражения лицом эмоций, практически идентичного тем, какие есть у зрячих[221]. Наш каталог экспрессии, судя по всему, — стандартное устройство, входящее в базовую комплектацию. А поскольку в основном это врожденная бессознательная часть нашего существа, предъявление чувств для нас естественно, а вот сокрытие требует значительных усилий.
У людей язык тела и невербальная коммуникация не сводятся просто к жестам и выражениям лица. Наш невербальный язык — сложнейшая система, и мимоходом мы участвуем в сложных бессловесных обменах информацией, даже не осознавая этого. Взять к примеру случайный контакт с противоположным полом: я бы поспорил на годовой абонемент в какой-нибудь манхэттенский кинотеатр, что если проводящий соцопрос мужчина обратится к девушке, стоящей в очереди в этот самый кинотеатр со своим молодым человеком, тот, скорее всего, не настолько не уверен в себе, чтобы воспринять опрашивающего как угрозу. Но давайте рассмотрим эксперимент, проведенный за два приятных осенних вечера в очень не бедной части Манхэттена[222]. Все испытуемые были парами, стоявшими в очереди к кассе кинотеатра.
Исследователи тоже работали в парных командах: один обращался к девушке в очереди и спрашивал, не откажется ли она поучаствовать в опросе, а второй исподтишка наблюдал с происходящее с близкого расстояния. Некоторым дамам задавали нейтральные вопросы, например, «Какой у вас любимый город и почему?» Другим же — личные, вроде «Каково ваше самое стыдное воспоминание детства?» Исследователи предположили, что чем интимнее вопрос, тем более сильное вторжение в личное пространство почувствует бойфренд опрашиваемой и, следовательно, тем большую опасность для него будет представлять опрашивающий. Как же отреагировали молодые люди?
В отличие от самцов павианов, которые лезут в драку, стоит лишь другому самцу сесть слишком близко от его самки[223], никакого откровенно агрессивного поведения бойфренды не демонстрировали, но определенные бессловесные сигналы все же подавали. Ученые установили: если опрашивающий угрозы не представлял — задавал нейтральные вопросы или вообще был женщиной — мужская половина пары просто стояла спокойно. Но если опрашивающий оказывался мужчиной, да еще и задавал личные вопросы, бойфренд незаметно влезал в разговор и, что называется, предъявлял права на свою девушку — невербально. Дымовой семафор включал в себя разворот корпуса на партнершу и перехватывание ее взгляда во время опроса. Вряд ли бойфренды сознательно ощущали потребность отстаивать свои отношения перед лицом вежливого спокойного интервьюера, но хотя эти самые предъявления прав до рукоприкладства в стиле павианов не доходили, они, тем не менее, выражали потребность самца примата показать, где тут чье место.
Другая, более сложная мода невербального общения — выяснение, кто главнее. У низших приматов здесь существует тонкая градация: у них есть точные иерархии подчинения, на манер армейских чинов. Любопытно, однако, как шимпанзе распознают, кому отдавать честь, а кому — нет, если нет нашивок и звездочек. Заявляя о своем высоком положении, доминирующие особи колотят в грудь кулаками, кричат и подают иные сигналы. Как я уже говорил, один из способов среди шимпанзе выказать покорность — улыбнуться. Другой способ — развернуться спиной, нагнуться и засветить начальству зад. Да, как ни странно, этот конкретный жест до сих пор распространен среди людей, однако его значение в процессе эволюции несколько изменилось.
В современном человеческом обществе бытует два вида превосходства[224]. Первый — физическое, основанное на агрессии или угрозе агрессии. Демонстрация физического превосходства у людей аналогична таковой у низших приматов, хоть мы и обозначаем его иначе: мало кто среди шимпанзе заявляет о своем главенстве, таская при себе финку, «магнум-357» или облачаясь в футболки в обтяжку. Но людям доступна и другая форма доминирования — социальная.
Вес в обществе основан скорее на обожании, нежели на страхе, и аккумулируется общественными успехами, а не физическим устрашением. Маркеры общественного превосходства — ношение «ролексов» или вождение «ламборгини» — могут иметь не менее явный и открытый характер, чем битие себя кулаками в грудь, как это делают бабуины. Но есть и более тонкие сигналы, например нежелание демонстрировать свое богатство: появление на публике в драных ношеных джинсах неведомой марки и в старой «гэп»-овской майке или отказ носить брендовые вещи (что, недоумки в «Прада» с сумочками «Луи Вюиттон», съели?)
У людей есть уйма способов заявить, кто тут царь горы, а кто нет, не прибегая к демонстрации голого зада или ношению погонов со звездами. Как и в других сообществах приматов, направление и настойчивость взгляда — важный сигнал главенства в человеческом обществе[225]. Вот, например, родитель отчитывает ребенка, а тот отводит глаза. Взрослый часто говорит в таком случае: «Смотри на меня, когда я с тобой разговариваю!» Я сам это произносил в соответствующих ситуациях, хотя какой практический смысл в этом, мы же не глазами слушаем? В том, что это — требование родителя уважать его; в переводе с обезьяньего — подчиняться. На самом деле взрослый имеет в виду буквально следующее: «Равняйсь. Смирно. Я тут главный, поэтому когда я говорю, ты должен смотреть на меня!»
Может, мы и не осознаем этого, но в гляделки играем не только с детьми, но и с друзьями и приятелями, с начальниками и подчиненными, когда говорим с королевой или президентом, с садовником или продавщицей — или с чужими людьми на тусовке. Мы автоматически регулируем продолжительность прямого взгляда в глаза в соответствии с нашим социальным положением в той или иной ситуации и сами этого обычно даже не замечаем[226]. Парадокс? Ведь некоторые страсть как любят всем смотреть в глаза, а другие, наоборот, склонны отводить взгляд, с кем бы ни разговаривали, от директора до пацана, который раскладывает куриные ножки по пакетам в магазине. Как же все-таки индивидуальные особенности глазения связаны с главенством в обществе?
Дело здесь не в манере глядеть на людей, а в том, как вы регулируете поведение, когда меняете роли слушающего и говорящего. Психологи смогли охарактеризовать эту линию поведения количественно, и собираемые таким способом данные совершенно поразительны.
Вот как это устроено: берем процент времени, которое вы смотрите другому человеку в глаза, когда сами говорите, и делим на процент времени глядения в глаза собеседнику, когда слушаете. Если, к примеру, независимо от того, кто из вас говорит, вы смотрите в глаза собеседнику столько же времени, сколько в сторону, ваше соотношение будет равно единице. Но если вы склонны больше смотреть по сторонам, когда говорите, чем когда слушаете, ваше соотношение будет меньше единицы. Если вы меньше отводите взгляд, когда говорите, чем когда слушаете, соотношение будет больше единицы. Этот коэффициент, как обнаружили психологи, очень показателен. Его назвали визуальным индексом доминирования (ВИД); он отражает положение человека в иерархии общественного подчинения по отношению к собеседнику. ВИД равный единице или превышающий ее характеризует людей с относительно высоким уровнем социального веса. ВИД меньше единицы указывает на более низкое положение в иерархии доминирования. Иными словами, если у вас ВИД около единицы и выше, вероятно, вы руководитель, если около 0,6 — подчиненный.
Бессознательный ум оказывает нам массу замечательных услуг и совершает невероятные подвиги, но вот этот меня совершенно покоряет. В конкретике этих цифр меня поражает не только то, что мы неосознанно подстраиваем свою манеру глядеть на собеседника, чтобы занять место, причитающееся нам в человеческой иерархии, но то, что делаем мы это регулярно и с арифметической точностью. Вот вам пример: офицеры запаса на военных сборах, общаясь между собой, продемонстрировали ВИД, равный 1,06, а курсанты в разговорах с офицерами — 0,61[227]; абитуриенты на курсе введения в психологию показали коэффициент 0,92, разговаривая со студентом, которого считали отличником по химии в колледже и которого приняли в престижный медицинский вуз[228]; эксперты-мужчины в разговорах с женщинами в своем поле компетенций показали ВИД 0,98, а в разговорах в поле компетенций женщин — 0,54[229]. Все эти исследования производили на американцах. Вероятно, данные от культуры к культуре несколько варьируются, но сам феномен — вряд ли.
Поскольку люди распознают такие сигналы, к какой бы культуре вы ни относились, логично предположить, что производимое на людей впечатление можно регулировать, осознанно глядя в глаза или отводя взгляд в ходе разговора. Например, устраиваясь на работу, беседуя с начальством или договариваясь о сделке, возможно, имеет смысл демонстрировать некоторый уровень подчинения — но насколько именно, зависит от обстоятельств. В собеседовании при устройстве на работу, требующую лидерских качеств, демонстрация излишней покорности — вряд ли удачная стратегия. Но если сам интервьюер очень не уверен в себе, выказанное подчинение доставит ему удовольствие и может склонить его в пользу претендента. Один очень преуспевающий голливудский агент как-то сказал мне, что всегда настаивает на ведении переговоров по телефону — чтобы избежать любых влияний и самому ничего лишнего не выдать через контакт глазами.
Мой отец, оказавшись в концлагере в Бухенвальде, на собственной шкуре испытал силу и опасность простого взгляда. Он весил меньше пятидесяти килограммов и мало чем отличался от ходячего трупа. В концлагере смотреть в глаза тюремщикам, если они с тобой заговаривали, было равносильно вызову на драку. Низшие существа не имели права отвечать на взгляд высшей расы. Я иногда рассуждаю в понятиях дихотомии между человеком и «низшими приматами» и вспоминаю отцовский опыт и тонкую грань — лобные доли, — отделяющую цивилизованных людей от диких зверей. Назначение этого мозгового вещества — возвышать нас, но часто оно этого назначения не исполняет. Отец же рассказывал мне, что с некоторыми охранниками правильным взглядом можно было добиться словечка, разговора или даже какого-нибудь маленького проявления доброты. Отец считал, что способность смотреть в глаза возвышала его до статуса человека. Но я думаю, что, вызывая человеческую реакцию у охранника, мой отец своим взглядом на самом деле возвышал до статуса человека своего тюремщика.
В наше время большинство людей обитает в больших, густонаселенных городах. Во многих один-единственный квартал может быть равен населению всего мира в эпоху великой социальной трансформации человечества. Мы шагаем по тротуарам и в людных торговых и офисных центрах, почти ни слова не произнося, не семафоря о своем маршруте, и как-то ухитряемся ни на кого не натыкаться и не нарываться на драку за право первым проскочить в распашные двери. Мы разговариваем с людьми, которых не знаем или знаем едва-едва или предпочли бы не знать совсем, и автоматически располагаемся от них на расстоянии, которое устраивает всех. Это расстояние варьируется от культуры к культуре и от одного человека к другому, но, тем не менее, не говоря ни слова и обычно даже не задумываясь, мы оставляем между собой взаимно удобное расстояние. (Ну, большинство из нас, по крайней мере. Всем нам известны исключения!) В беседе мы автоматически чувствуем, когда надо бы сделать паузу, чтобы другие тоже могли вставить слово. Когда готовы уступить трибуну, мы обычно начинаем говорить тише, растягиваем последнее слово, прекращаем жестикулировать и взглядываем на собеседника[230]. Как и модель психического, эти навыки когда-то помогли нашему виду выжить, и благодаря им же мы и по сей день маневрируем в сложном социальном мире людей.
Невербальная коммуникация формирует социальный язык, который во многих отношениях богаче и глубже слов. Наши бессловесные датчики имеют такую мощность, что даже движений, ассоциирующихся с языком тела, — да-да, одних движений, без самого тела, — для нас достаточно, чтобы точно распознать эмоцию. В рамках одного исследования сняли видеофрагменты, в которых участники были облачены в одежду, обшитую в десятке ключевых точек маленькими лампочками или светящимися полосками, как на рисунке ниже[231]. Видеозапись произвели при очень слабом освещении: видны были только светящиеся нашивки. Когда участники замирали, нашивки создавали впечатление бессмысленной грозди точек.
Но когда те двигались, зрителям удавалось считать поразительное количество информации, наблюдая лишь совокупность движущихся светящихся точек и полосок. Зрители могли определить, мужчина это или женщина, и даже вычислить людей, которых они лично знали, — и все это по одной лишь походке. Среди участников были актеры, мимы и танцоры, их попросили движениями выразить поочередно основные человеческие эмоции, и наблюдателям не составило труда определить, какое переживание им сейчас показывают.
К школьному возрасту у некоторых детей социальный календарь уже забит до отказа, а некоторые иногда целыми днями плюют в потолок. Один из ключевых факторов социальной успешности даже в юные годы — способность ребенка считывать невербальные сигналы. В одном исследовании, проведенном в шестидесяти детских садах, воспитанников попросили определить, с кем из согруппников они бы хотели сидеть, когда им читают, с кем — играть, а с кем — рисовать. В тех же группах малышей попросили определить по двенадцати фотографиям взрослых и детей, какие чувства испытывают сфотографированные. Эти два опроса, как выяснилось, взаимосвязаны: исследователи обнаружили согласованность между популярностью отдельных детей и их способностью считывать эмоции окружающих[232].
Среди взрослых невербальная коммуникация дает преимущества и в личной, и в деловой жизни, играет существенную роль в оценке, насколько человек приятен[233], доверителен[234] и убедителен[235]. Дядя Стю, может, и самый славный малый на планете, но если горазд болтать о том, какой дивный мох он видел в Коста-Рике, и не замечать, что мхом уже подернулись лица его собеседников, он вряд ли душа компании. Чувствительность к сигналам других людей, сообщающим об их мыслях и настроениях, помогает нам организовывать социальную коммуникацию гладко и с минимумом стычек. С раннего детства тем из нас, у кого хорошо получается подавать и принимать сигналы, легче дается создание общественных структур и достижение поставленных целей в социальных ситуациях.
В начале 1950-х годов многие лингвисты, антропологи и психиатры пытались классифицировать невербальные намеки тем же манером, каким мы классифицируем устную речь. Один антрополог даже разработал систему перевода, поставив в соответствие практически любому возможному человеческому жесту некий символ, чтобы жестикуляцию можно было стенографировать[236]. Современные социопсихологи иногда делят нашу невербальную коммуникацию на три основных вида. Первый — движения тела: выражение лица, жесты, поза, движения глаз. Второй — параязык, он включает тон и высоту голоса, количество и протяженность пауз, а также несловесные звуки вроде откашливания и всяких «э-э». И третий — проксемика, или обращение с личным пространством.
Авторы многих популярных книг заявляют, что предоставляют инструкции по интерпретации всех этих факторов и могут научить, как их применять с пользой для себя. Они вам расскажут: напряженно сложенные на груди руки означают вашу закрытость от того, что вам пытаются сообщить, а если вам нравится то, что вам говорят, вы, скорее всего, примете открытую позу и даже, возможно, чуть склонитесь вперед. Они также поведают, что ссутуленные плеч означают отвращение, горе или страх, а разговаривание с большого расстояния есть знак вашего низкого социального положения[237].
Исследований, подтверждающих эффективность советов, которые дает эта куча книг, не богато, но, возможно, некоторая истина в том, что все эти позы могут неким образом подспудно повлиять на то, как люди вас воспринимают, есть. Присутствует она и в том, что понимание некоторых невербальных сигналов перейдет из вашего бессознательного на уровень осознанного. Но и без осознанного понимания вы — хранилище информации о невербальных сигналах. Когда будете в следующий раз смотреть кино на языке, которого не знаете, попробуйте отключить субтитры. Вы удивитесь, сколько всего сможете понять, не разобрав ни слова из того, что произносят с экрана.
Глава 6. По одежке встречаем
Есть путь от глаз к сердцу не через интеллект.
Гилберт Кит Честертон[238]Если вы — человек, а вас сравнивают с трупиалом[239], это не то чтобы комплимент. Ну то есть совсем не комплимент. Самец трупиала, видите ли, вообще лодырь: территорию свою не защищает, о малышах-трупиалах не заботится, зарплату домой не носит. В трупиальем сообществе, как сообщает нам один исследовательский отчет, «самкам прямой пользы от самцов почти никакой»[240]. Судя по всему, самец трупиала качественно — и с удовольствием — делает только одно дело. Но, видимо, так в этом хорош, что самки трупиала гоняются за ним — как минимум, в брачный сезон.
Для влюбленной трупиалихи эквивалент лепного лица или могучих мышц — песня самца трупиала. Улыбаться клювом не получается, поэтому, если песня даме нравится, она отвечает на нее своим завлекательным вокализом, который называется «щебет». В точности как и человеческие девчонки-подростки, самка трупиала считает самца соблазнительным, если другим самкам он тоже нравится. Скажу больше: вообразите, что перед брачным сезоном юной трупиалихе дают несколько раз послушать песнь юнца-трупиала, а следом — восторженный щебет других половозрелых самок. Сформирует ли наша юница независимое мнение, чего ей рекомендовали бы наши здравомыслящие родители? Нет. Настанет брачный сезон, и наша девушка, заслышав трели того самца, автоматически ответит на них приглашениями к спариванию. Почему я настаиваю, что ее ответ — автоматика, а не продуманная стратегия сватовства к парню, с которым желает делить пшено и лучшие годы жизни? Потому что стоит ей только услышать призывную песнь, как она включит кокетку, даже если пение производит не живая птица, а магнитофон[241].
У нас и у более примитивных животных есть много общих поведенческих черт, но заигрывание с магнитофоном к ним явно не относится. Или все-таки бывает? Мы уже обсудили, как люди непроизвольно выражают свои мысли и чувства, даже если желают держать их в тайне, но могут ли они автоматически реагировать на невербальные социальные сигналы? Реагируем ли мы, подобно влюбленным трупиалам, даже в тех ситуациях, когда наша логика и сознательный ум считают реагирование неприличным и нежелательным?
Несколько лет назад стэнфордский профессор по имени Клиффорд Нэсс[242] усадил пару сотен компьютерных умников из студенческой среды перед компьютерами, которые разговаривали с ними заранее записанными голосами[243]. Студентам сообщили, что задача этого эксперимента — пройти компьютеризованное обучение и подготовиться к зачету под руководством компьютера. Темы зачетов варьировались от СМИ до любви и личных отношений. Завершив занятия и сдав зачет, студенты получили развернутую оценку своих успехов либо от того же компьютера, на котором они учились, либо от другой машины. В завершении эксперимента студенты сами заполнили некую итоговую анкету, в которой оценивали и пройденный курс, и компьютер-наставник.
Нэсса интересовало, понятно, не проведение обучающих компьютерных курсов по СМИ или любовным отношениям. Эти прилежные студенты были для Нэсса трупиалами, и в ходе эксперимента он и его коллеги пристально следили за подопечными и собирали данные о том, как студенты взаимодействуют с безжизненной техникой, а также пытались оценить, реагируют ли студенты на голос компьютера так, будто у машины есть чувства, устремления или даже пол. Нелепо, конечно, ожидать извинений от студента, если он ненароком налетит на монитор. Такая реакция — вполне осознанная, и, по здравому размышлению, студенты, конечно же, понимали, что компьютер — не человек. Но Нэссу был интересен другой уровень их поведения, который студенты не демонстрировали сознательно, — социальное поведение, которое Нэсс обозначает как «автоматическое и бессознательное».
В одном таком эксперименте исследователи разделили испытуемых на две группы — одну учили компьютеры с мужскими голосами, а другую — с женскими. Других отличий в обучающих сессиях не было — одинаковый материал представляли в одинаковой последовательности, мужские и женские компьютеры оценивали успехи учеников по одинаковому алгоритму. В седьмой главе мы увидим, что если бы педагоги были реальными людьми, оценки студентов, выносимые учителям, возможно, отражали бы некоторые гендерные стереотипы. Например, стереотипное представление, что женщины лучше разбираются в отношениях, чем мужчины. Спросите женщину, что скрепляет пару, и ожидаемый ответ будет, вероятно: «Открытое общение и близость». Спросите парня — он, скорее всего, ответит: «Чё?» Исследования показывают, что из-за этого стереотипа женщина воспринимается как более компетентная, даже если знания мужчины и женщины в этой сфере равны. Нэсс хотел выяснить, распространят ли студенты это гендерное представление на компьютеры.
Распространили. Те студенты, которым достались электронные наставники с женским голосом и тема обучения «Любовь и отношения», оценили своих преподавателей как владеющих более глубоким знанием предмета, чем те, кому преподавал компьютер с мужским голосом, несмотря на то, что все компьютеры давали совершенно идентичное знание. Но в преподавании гендерно-нейтральных тем — например, массовые коммуникации, — «мужские» и «женские» компьютеры были оценены студентами одинаково. Другой бестолковый гендерный стереотип считает напористость в мужчинах добродетелью, а в женщинах — недостатком. И конечно же, студенты, заслышав напористый мужской голос из компьютера, сочли его гораздо более привлекательным, чем напористый женский, хотя, повторимся, слова компьютеры произносили абсолютно одинаковые. Очевидно, даже в исполнении компьютера самоуверенность в женском голосе воспринимается как навязчивая или высокомерная, нежели то же качество, но в мужском исполнении.
Исследователи также решили разобраться, станут ли люди применять социальные нормы учтивости по отношению к компьютерам. Обычно, оказавшись в ситуации, когда необходимо высказать критику в лицо, люди мнутся или обкладывают свое подлинное мнение ватой. Представьте, что я спрашиваю у своих студентов, понравилось ли им наше обсуждение стохастической природы пастьбы антилоп гну. По моему опыту, аудитория ответит мне кучей кивков и некоторым различимым бормотанием. Но ни одному не хватит пороху сказать: «Антилопы гну? Я и слова не услышал из всей этой нуднятины. Но монотонный бубнеж вашего голоса послужил прекрасным звуковым оформлением, пока я лазил по интернету с ноутбука». Даже те, кто сидел в первом ряду и впрямь лазил по интернету с ноутбуков, не осилят такую откровенность — они ее приберегут для анонимных опросов по оценке качества курса. А если похожий вопрос задаст компьютер? Нэсс и его коллеги предложили половине студентов заполнить анкету на том же компьютере, который преподавал им самим, а другой половине проделать это на другой машине с другим голосом. Разумеется, сознательно смягчать критику, чтобы пощадить чувства компьютера, студенты не стали бы, — но, как вы уже догадались, открыто критиковать машину «в лицо» они несколько постеснялись: оценили своего наставника гораздо выше, отвечая на опрос на той же машине, чем в том случае, когда им предложили заполнить анкету на другом компьютере[244].
Не стоит, наверное, писать в резюме, что у вас — сложившиеся отношения с записанным на диктофон голосом. Но, подобно трупиалам, эти студенты относились к говорящей машинке как к особи своего биологического вида, хотя голос не исходил из живого человека. Трудно поверить? Не нам одним. По завершении части эксперимента исследователи открыли студентам его истинную цель, и все единодушно заявили, что никогда не стали бы применять социальные нормы к компьютеру[245]. Проведенное исследование показывает, что они заблуждались. Пока наш сознательный ум возится со смыслом произносимого другими людьми, бессознательный тем временем оценивает говорящего по иным критериям, а человеческий голос контачит с датчиком в глубинах мозга независимо от того, произносящий — человек или же нет.
Люди любят поговорить и подумать о том, как представители противоположного пола выглядят, но почти не обращают внимание на то, как они звучат. Но для нашего бессознательного ума голос чрезвычайно важен. Наш род, Homo, развивался пару миллионов лет. Эволюция мозга происходит много тысяч и миллионов лет, но в цивилизованном обществе мы живем меньше одного процента от всего этого времени. Значит, как ни набивай мы голову знанием XXI века, орган внутри нашего черепа — по-прежнему родом из каменного века. Мы воображаем себя цивилизованными существами, а наш мозг научен выносить испытания более ранних эпох. Как у птиц и многих других животных, восприятие голоса нам, людям, помогает осуществлять одну такую старинную задачу — воспроизведение, и поэтому так же важно для нас. Мы еще увидим, сколько всяких сложных сигналов мы вычитываем из тона и свойств голоса, из его высоты, но существеннее прочих наша реакция на голос, строго аналогичная трупиаловой: наши женские особи тянутся к мужским именно из-за определенных качеств их «зова».
Женщины могут со мной поспорить о своих предпочтениях смуглых бородачей, гладко выбритых блондинов или мужчин любой наружности, лишь бы они сидели за рулем «феррари», но если попросить их оценить мужчин, которых они не могут увидеть, а лишь услышать, тут-то происходит чудо единодушия: чем ниже голос у мужчины, тем привлекательнее он кажется[246]. Если в таком эксперименте спросить у испытуемых дам, какой мужчина у них ассоциируется с низким голосом, большинство скажет, что высокий, мускулистый и с волосатой грудью — таковы общепринятые черты сексуальной мужской внешности.
Мужчины же, как недавно выяснила группа ученых, бессознательно регулируют высоту голоса в соответствии со своей оценкой собственного положения в иерархии доминирования по отношению к возможным соперникам. В поставленном эксперименте, к которому привлекли около двухсот мужчин в возрасте от двадцати до тридцати, каждому участнику сообщили, что ему предстоит отвоевать право на обед с привлекательной дамой в соседней комнате у другого мужчины, находящегося в третьей комнате[247].
Каждый участник разговаривал с потенциальной визави посредством цифровой видеосвязи, а со своим соперником — по телефону и мог его только слышать, но не видеть. И соперник, и дама были подсадными и следовали прописанным инструкциям. Мужчинам-участникам поручили обсудить — и с женщиной, и с соперником — причины, по которым другие мужчины должны уважать и ценить их. После того как участник изливал душу о собственной виртуозности на баскетбольной площадке, шансах на присуждение Нобелевской премии или пироге со спаржей по личному рецепту, диалоговая часть сессии заканчивалась, и участника просили оценить себя самого, соперника и даму, а затем его отпускали. Победителей, увы, не чествовали.
Исследователи проанализировали записанные голоса участников и пристально оценили ответы каждого в итоговом опросе. Одна из поставленных задач — восприятие участником собственного уровня физического превосходства над соперником. Оказалось, что если участник считал себя физически превосходящим соперника — т. е. сильнее и агрессивнее, — он разговаривал с ним более низким голосом, а если воспринимал себя менее доминирующим, тембр повышал. Ни в том, ни в другом случае участники этого, судя по всему, не осознавали.
С точки зрения эволюции занимательно вот что: мужчины с низким голосом особенно сильно привлекают женщин в фертильной фазе менструального цикла[248]. Более того, не только женские голосовые предпочтения зависят от периода репродуктивного цикла, но и сами женские голоса — их высота и мягкость. Исследования показывают, что чем выше вероятность зачатия, тем сексуальнее мужчинам кажется голос женщины[249]. То есть и женщин, и мужчин особенно сильно тянет друг к другу во время самого фертильного периода женского цикла. Вывод очевиден: наши голоса — неосознанная реклама нашей сексуальности. В фертильной фазе женщины обе завлекаемые стороны горят рекламными огнями, призывая тыкнуть в кнопку «Купить» именно тогда, когда наиболее высоки шансы обзавестись не только подругой, но и дополнительно — без (предварительной) оплаты — потомком.
Но кое с чем надо бы разобраться. Почему именно низкие голоса привлекают женщин? Почему не высокие писклявые или среднего тембра? Так вышло случайно или чем ниже голос, тем круче половое могущество? Мы уже отмечали, что, по мнению женщин, мужчина с низким голосом — высок, волосат и мускулист. На самом деле связи между этими качествами и высотой голоса нет практически никакой[250]. Однако обнаружена связь между высотой голоса и уровнем тестостерона: у мужчин с низкими голосами уровень тестостерона обычно выше[251].
Проверить, осуществляется ли замысел природы или нет, — действительно ли мужчины с более высоким уровнем тестостерона производят на свет больше детей, — затруднительно: современные методы контрацепции не позволяют судить о репродуктивных потенциях мужчины по количеству родившихся от него детей. Но один гарвардский антрополог и его коллеги нашли способ проверить. В 2007 году они отправились в Африку изучать голоса и многодетность семей у народности хадза[252] — моногамного племени охотников-собирателей численностью около тысячи человек. Хадза обитают в залесненной танзанийской саванне, мужчины у них что надо, корнеплодов хватает на всех, и никто не предохраняется. И вот в саваннах-то баритоны дают фору тенорам. Исследователи обнаружили, что высота женского голоса никак не связана у хадза с плодовитостью, а вот у мужчин с более низкими голосами детей оказалось больше[253]. Сексуальная привлекательность низких мужских голосов для женщин, похоже, действительно имеет точную эволюционную причину. Так что, если вы — женщина и хотите большую семью, следуйте инстинктам — ищите кого-нибудь типа Моргана Фримена[254].
Подчиненный, несомненно, обрадуется больше, если ему сказать: «Очень вас ценю и разобьюсь в лепешку, лишь бы поднять вам зарплату», — нежели предложить объяснение: «Расходы нужно сокращать, проще всего — платить вам как можно меньше». Но транслировать и то, и другое можно, хоть и не дословно, тем, как вы это говорите. Поэтому некоторым удается сказать что-нибудь вроде: «Он катился с горки на санках с монограммой и при этом жевал спелый виноград», — и ухитряться производить впечатление глубокомыслия, а другие, даже рассуждая о том, что пространственную геометрию Вселенной определяет плотность ее материи, кажутся нам нытиками. Высота, тембр, громкость, модуляции, скорость и даже то, как мы регулируем высоту и громкость, — все влияет на убедительность речи и на то, какое впечатление производят на окружающих наше состояние ума и натура.
Ученые разработали замечательные компьютерные инструменты, позволяющие определять степень влиятельности одного только голоса независимо от содержания речи. В одном таком методе исследователи перемешивают слоги так, чтобы невозможно было разобрать ни единого слова. В другом применяются очень высокие частоты, и наша способность различать и опознавать согласные летит псу под хвост. Либо так, либо эдак слушатель не в силах оценивать смысл произносимого, но ощущение речи остается. Эксперименты демонстрируют, что, прослушивая подобную «бессодержательную» речь, испытуемые все равно получают впечатление от оратора и улавливают эмоциональную составляющую точно так же, как и те, кто слушает обычную речь[255]. Почему? Потому что параллельно с расшифровкой значения произносимого, которое мы называем «язык», мы заняты анализом и оценкой качеств голоса, не имеющих ничего общего со словами и влияющих на наш ум.
В одном эксперименте ученые записали несколько десятков ответов на два вопроса — политический и личный: «Что вы думаете о разнарядках в колледжах при приеме представителей различных социальных меньшинств?» и «Что бы вы предприняли, выиграй вы или получи по наследству крупную сумму денег?»[256] Затем исследователи создали по четыре дополнительных версии каждой записи, программными средствами задрав и понизив высоту голоса говорящего на 20% и ускорив и замедлив речь на 30%. Полученные записи все еще были в пределах естественного звучания, равно как и их акустические свойства. Но повлияют ли эти изменения на слушательское восприятие?
Исследователи привлекли для оценки этих записей десятки добровольцев. Каждый участник эксперимента прослушал по одной версии каждого голоса — все версии выбирали случайным образом из исходных и видоизмененных вариантов. Поскольку содержательная часть ответов говорящих не отличалась в пределах всех версий одной и той же записи, зато отличалась звуковая составляющая, разница в слушательской оценке должна была возникнуть только из-за особенностей этой самой составляющей, а не из-за смысловой. Результат оказался таков: говорящие с более высокими голосами были оценены как менее искренние, менее чувствующее, менее убедительные и более нервные, чем те, у кого голоса ниже. Говорящих медленно оценили как менее искренних, менее убедительных и более вялых, чем тех, кто говорил быстрее. «Тарахтение», может, и привычно ассоциировать с «сомнительными» торгашами, но, похоже, некоторое ускорение речи делает говорящего умнее и убедительнее в восприятии слушателей. Если же два оратора произносят одно и то же, но один говорит чуть быстрее и громче, с меньшим количеством пауз и большей вариативностью по громкости, его воспримут как более энергичного, знающего и умного. Выразительная речь, модулируемая по громкости и высоте с минимумом пауз усиливает доверительность и улучшает впечатление об интеллекте говорящего. Другие исследования показывают, что мы обозначаем собственные эмоции не только лицом, но и голосом. Слушатели, например, инстинктивно улавливают, что понижение голоса по отношению к нормальному звучанию означает, что говорящий опечален, а повышение — что рассержен или напуган[257].
Если голос настолько влиятелен, то ключевой вопрос очевиден: до какой степени мы можем осознанно менять звучание голоса? Вспомним Маргарет Хилду Робертс, избранную в 1959 году в Парламент Великобритании от консерваторов Северного Лондона. Амбиций у нее хватало, но близкий круг знал, что с голосом у Робертс проблема[258]. «Голос у нее был, как у училки, слегка надменный и несколько задиристый», — вспоминал Тим Белл, руководитель промокампаний ее партии. Ее советник по связям с общественностью Гордон Рис был куда безжалостнее в оценках. На верхних нотах ее голос, по его словам, был «опасен для пролетающих воробьев». Маргарет Хилда Робертс, тем не менее, доказала, что политику она проводит твердую, зато голос у нее гибкий: она приняла советы своих конфидантов и понизила тембр, тем самым усилив свое общественное влияние. Точно измерить масштабы изменений в этом случае невозможно, но, похоже, у нее все получилось. В 1974 году консерваторы проиграли на выборах, а Маргарет, вышедшая в 1951-м замуж за состоятельного предпринимателя Дениса Тэтчера, стала лидером партии, а позднее — премьер-министром страны.
Когда я учился в старших классах, пару раз мне удалось собрать мужество в кулак и подойти к девочке, что было равносильно проведению с ней опроса с несколькими вариантами ответа, на который она неизменно отвечала: «Ничто из предложенного». Я уже как-то смирился с мыслью, что парень, проводящий все свободное время с книгами по неэвклидовой геометрии, вряд ли завоюет титул короля школьного двора. И вот однажды я искал в библиотеке очередную книжку по математике, влез не в тот стеллаж и наткнулся на что-то типа «Как склеить девчонку». Я и не подозревал, что люди пишут учебники на такие темы. У меня сразу возникла куча вопросов: не означает ли сам факт моего интереса к подобным книгам, что мне никогда не добиться успеха, обещанного на обложке? По силам ли юноше, склонному разговаривать об искривлениях пространства-времени, а не о тачдаунах, хоть раз одержать какую-нибудь победу на личном фронте? Может, эта книга и впрямь — шляпа волшебника?
Книга упирала на то, что, если девушка меня толком не знает — это распространялось на всех девушек в моей школе, — не стоит ожидать от нее согласия на свидание, и отказы принимать близко к сердцу не надо. Не нужно и отчаиваться, сколько бы ни было отказов, и продолжать приглашать, потому что, несмотря на малые шансы, законы математики говорят нам: рано или поздно в лотерею мы выиграем. Математические законы — это я понимал, а настойчивость — годная жизненная философия, поэтому совет я принял. Нельзя сказать, что полученные мною результаты имеют статистическую ценность, но несколько десятилетий спустя я с изумлением обнаружил, что группа французских исследователей повторила, по сути, эксперимент, предложенный в той книге. И они его проделали в контролируемой научной среде и добились результатов, которые как раз были статистически репрезентативны. Что самое поразительное: они обнаружили, как именно я мог бы повысить вероятность успеха[259].
Французская культура легендарна много чем — далеко не только кулинарией, виноделием и любовными утехами. В последнем, однако, французов принято считать непревзойденными, и экспериментом, о котором сейчас пойдет речь, они сделали из этой своей способности науку. Для проведения опыта они выбрали солнечный июньский день, декорации — пешеходная зона в Ванне, небольшом городе на атлантическом побережье Бретани, западная Франция. В течение дня трое юных красавцев обратились к 240 случайным дамам без спутника, предлагая каждой свидание. Всем до единой они говорили слово в слово одно и то же: «Здравствуйте. Меня зовут Антуан. Захотелось сказать, что вы очень красивы. Мне сейчас надо на работу, но, может, вы оставите мне свой телефон? Я вам позвоню и мы выпьем где-нибудь вместе». Если женщина отказывала, ответ тоже был одинаковый: «Жалко. Значит, не судьба сегодня. Всего хорошего», — после чего экспериментатор подходил к следующей женщине. Если же дама давала номер телефона, ей сообщали, что предложение было сделано в пользу науки, женщины в ответ на это объяснение, по свидетельству исследователей, смеялись. Суть опыта заключалась в следующем: половину опрашиваемых женщин наши испытатели мимолетно трогали за руку, а другую половину — нет.
Исследователей интересовало, добавит ли успеха такое секундное прикосновение или не добавит? Насколько важны прикосновения как социальные сигналы? За день эксперимента молодые люди собрали около тридцати телефонных номеров. Общение с прикосновением принесло победу в 20% случаев, без — в 10%. Всего лишь одно касание — и популярность подскакивает вдвое. Почему женщины, которых коснулись, оказались в два раза более склонны соглашаться на свидание? Думали ли они: «М-м, Антуан-то как трогает расчудесно, может, и впрямь стоит как-нибудь раздавить с ним бутылочку бордо в “Bar de l'Oćean’?» Маловероятно. Однако на бессознательном уровне прикосновение, судя по всему, создает ощущение заботы и близости.
В отличие от неэвклидовой геометрии, у исследования прикосновений масса очевидных практических следствий[260]. К примеру, в одном эксперименте с привлечением восьми официантов и нескольких сотен посетителей ресторана официантов подучили трогать некоторых случайно выбранных гостей — прикасаться к руке, спрашивая в конце трапезы, все ли им поправилось. В результате официанты получили примерно 14,5% чаевых от тех, кого не трогали, и 17,5% — от тех, к кому прикоснулись. Тот же эффект наблюдался и в исследовании, проведенном в баре. В другом ресторанном эксперименте около 60% гостей согласились заказать блюдо дня после того, как официант до них дотронулся, и всего 40% — из тех, к кому не прикасались. Прикосновения, как выяснилось, увеличивают вероятность того, что одинокая женщина в ночном клубе примет приглашение на танец; соглашающихся подписать петицию; студентов, готовых пережить позорище выхода к доске на семинаре по статистике; торопливых прохожих в торговом центре, желающих потратить десять минут на опрос; покупателей в супермаркете, приобретающих продукты, которые им дали попробовать; вероятность того, что посторонний человек, у которого спросили, как пройти, поможет собрать дискеты, которые тут же нечаянно рассыпал спросивший.
Можно отнестись ко всему этому скептически: некоторые, допустим, шарахаются, когда чужие люди их трогают. И вполне вероятно, что кое-кто и впрямь отшатнулся, когда к нему прикоснулись, но все же позитивно отреагировавшее большинство перевесило. Напомню, что во всех случаях это были еле заметные касания, никто никого не лапал. Более того, в тех экспериментах, после которых участникам рассказали о его сути, менее трети опрошенных вообще замечали, что их трогали[261].
Так что же, люди, склонные к телячьим нежностям, более успешно обстряпывают дела? Данных о том, что у начальства, которое время от времени оглаживает подчиненных по головам, дела идут лучше, чем у прочих, нет, но исследование 2010 года, проведенное командой ученых из Беркли, показало, что обычай поощрительно похлопывать по голове есть признак успешного группового контакта[262]. Исследователи изучили взаимодействия в баскетбольных командах, а баскетбол требует интенсивной ежесекундной командной игры и знаменит развитым языком прикосновений. Берклиевцы обнаружили, что чем популярнее в команде «стукаться кулаками, давать “пять” сверху, сшибаться грудью, толкаться плечами в прыжке, плюхать кулаком в грудь, хлопать по голове, хватать за голову, давать “пять” снизу, давать “десять” сверху, приобнимать и собираться кучей», тем слаженнее игроки действуют на площадке — передают пас тому, вокруг кого меньше защитников из другой команды, помогают выбраться из окружения — ставят так называемый «заслон» — и иным образом демонстрируют доверие партнерам по команде ценой личной игры. Команды, в которых сильнее всего развиты прикосновения, лучше играют вместе — и чаще выигрывают.
Прикосновения — настолько важный инструмент отладки общественных взаимодействий и объединения, что у нас даже образовался специальный физический маршрут, по которому неосознанные переживания социального контакта передаются от поверхности кожи к мозгу: ученые открыли особый вид нервных волокон в человеческой коже — преимущественно на лице и руках — который, судя по всему, развился исключительно для ретрансляции радостей прикосновений. Сигналы по этим нервам двигаются слишком медленно, чтобы выполнять задачи, которые мы привычно связываем с тактильностью: определение, что именно к нам сейчас прикасается и примерно к какому месту[263]. «Эти нервные волокна не помогут отличить грушу от пемзы или щеку от подбородка, — объясняет первопроходец социальной нейробиологии Ралф Адолфс, — зато они напрямую ведут в особые зоны мозга — к островковой области, например, — отвечающие за эмоции»[264].
Приматологов высокая значимость прикосновений не удивляет. Низшие приматы постоянно трогают друг друга, когда ищут в шерсти. И хотя это процедура, как может показаться, сугубо гигиеническая, животному для поддержания чистоты хватило бы и десяти минут в день, при этом некоторые звери занимаются этим часами[265]. Зачем? Помните группировки взаимной чистки? У низших приматов коллективная чистка — важный способ поддержания социальных контактов[266]. Тактильность — самое развитое врожденное чувство и весь первый год после рождения играет фундаментальную роль в общении, а впоследствии влияет на всю человеческую жизнь[267].
Без четверти восемь вечера 26 сентября 1960 года кандидат в президенты от демократов Джон Ф. Кеннеди вошел в аффилиированную с «Си-би-эс» чикагскую студию «Дабл-ю-би-би-эм»[268]. Выглядел он отдохнувшим, загорелым и подтянутым. Журналист Хауард К. Смит позднее скажет, что Кеннеди производил впечатление «атлета, явившегося за своим лавровым венком». Тед Роджерз, телеконсультант оппонента Кеннеди республиканца Ричарда Никсона, отметил: «Когда он вошел в студию, я принял его за Кочиса[269], такой он был загорелый».
Никсон же, напротив, выглядел осунувшимся и бледным. Он приехал за пятнадцать минут до триумфального прибытия Кеннеди. Оба прилетели в Чикаго на первые президентские дебаты в истории США. Никсона недавно клали в больницу с инфекцией колена, и оно по-прежнему его донимало, но он пренебрег советом не прерывать отдыха, продолжил мучительную национальную предвыборную кампанию и сильно исхудал. Выбравшись с температурой 39°C из своего «олдсмобиля», он заявил, что сил на дебаты ему хватит. Если судить по сказанным словам, Никсон тем вечером планку удержал. Но дебаты проходили на двух уровнях — вербальном и бессловесном.
В список тем дебатов входили противостояние коммунистам, сельское хозяйство и проблемы занятости, а также личный опыт кандидатов. Президентские выборы — игра с высокими ставками, и дебаты предполагались и о глубокой философии, и о вопросах практических, а значит, только слова кандидатов должны были иметь значение, верно? Вы бы переменили свое мнение о кандидате только потому, что из-за колена у него усталый вид? Не один лишь голос и прикосновения, но и поза и выражение лица сильно влияют на наши оценки людей. Но станем ли мы выбирать себе президента исходя из его облика?
Продюсеру дебатов с «Си-би-эс» Дону Хьюитту хватило одного взгляда на перекошенное лицо Никсона, чтобы встревожиться не на шутку. Он предложил обоим кандидатам услуги студийного гримера, но Кеннеди отказался, а за ним — и Никсон. Пока команда Никсона втихаря мазала подернутые знаменитой небритостью щеки своего кандидата гримом «Ленивое бритье», продававшимся в любой аптеке, люди Кеннеди его полностью загримировали. Хьюитт осторожно поинтересовался у Роджерза насчет внешности его патрона, но Роджерз сказал, что его все устраивает. Тогда Хьюитт нажаловался своему начальнику в «Си-би-эс». Тот тоже обратился к Роджерзу, но его удостоили того же ответа.
Дебаты смотрело около семидесяти миллионов человек. Когда они закончились, один видный республиканец из Техаса якобы сказал: «Этот сукин сын стоил нам выборов». Видный республиканец знал, о чем говорит: это был Генри Кэбот Лодж младший, соратник Никсона по выборам, метивший в вице-президенты. Через шесть с небольшим недель выборы состоялись, и Никсон и Лодж проиграли на самую малость — всего на 113 тысяч из 67 миллионов голосов, меньше одного из пятисот; но если те дебаты склонили против Никсона мнение даже крошечной части электората, этого хватило, чтобы изменить исход выборов.
Что интересно: часть зрителей вроде Лоджа сочли, что Никсон на дебатах провалился, а некоторые — в том числе и другие большие республиканцы — оценили ситуацию совершенно иначе. Например, Эрл Мазо, политический обозреватель «Нью-Йорк Хералд Трибьюн» и сторонник Никсона был на сходке в Хот-Спрингз, штат Арканзас, посвященной дебатам, в которой участвовали одиннадцать губернаторов штатов и члены их команд[270]. Все они сочли, что у Никсона все получилось. Почему же их восприятие так сильно отличалось от Лоджева? Они слушали дебаты по радио: телетрансляцию в Арканзасе задержали на час.
Вот что сказал Мазо о прослушанной радиотрансляции: «В глубоком, проникновенном голосе [Никсона] было больше убедительности, властности и уверенности, чем в более высоком голосе Кеннеди и в его бостонско-гарвардском выговоре». Но когда наконец началась телетрансляция, Мазо и остальные стали смотреть телевизор — всю программу с самого начала. И тогда Мазо изменил мнение: «По телевизору Кеннеди производил впечатление человека более умного, уверенного и твердого». Филадельфийская коммерческая исследовательская фирма «Синдлингер и Ко» позднее подтвердила этот вывод. Отраслевой журнал «Бродкастинг» обнародовал статью с результатами исследования среди радиослушателей: среди них Никсон выиграл почти два к одному, но среди сильно превосходящей по численности телеаудитории Кеннеди его обогнал.
Данные «Синдлингера» в научных журналах не публиковались, и всякие милые пустяки типа объема статистической выборки и методологии подсчета с учетом демографической разницы между пользователями радио и телевидения не афишировались. Тему не трогали лет сорок. И вот в 2003 году один исследователь привлек для оценки тех дебатов 171 студента летних курсов в Университете Миннесоты. Половина добровольцев отсмотрела видеосъемку, а половина прослушала только аудиозапись[271]. При самих дебатах такую идеальную подборку испытуемых собрать было невозможно: современные студенты не имели личной предвзятости ни к одному из кандидатов и мало что знали (или не знали ничего) об истории вопроса. Для избирателей в 1960 году имя Никиты Хрущева было очень эмоционально значимым. Студенты в 2003-м думали, что это какой-то хоккеист. Но полученное ими впечатление от дебатов совпало с тем, какое получили избиратели сорока годами ранее: добровольцы, посмотревшие телепрограмму, в значительно большей степени предположили, что выиграл Кеннеди, чем те, кто слушал радиозапись.
Как некогда на выборах 1960 года, любой из нас хоть раз предпочел одного человека другому исходя из обличья. Мы голосуем за политических кандидатов, но кроме этого выбираем из претендентов на роль супруга, друга, автомеханика, адвоката, врача, стоматолога, продавца, подчиненного, начальника. Насколько сильно влияние внешнего вида? И я сейчас говорю не о красоте, а о чем-то более тонком — о виде вдумчивом, профессиональном, образованном. Политические выборы — отличный способ исследования влияния внешности: и данных, и денег на изучение навалом.
В одном парном эксперименте, поставленном исследовательской группой из Калифорнии, разработали промо-листовки нескольких кандидатов вымышленных выборов в конгресс штата[272]. Все якобы за республиканца, против демократа. В роли «кандидатов» выступили модели, нанятые учеными и сфотографированные для промо-листовок в черно-белой гамме. Половина моделей выглядела уверенными и знающими. Другая — наоборот. Исследователи не стали полагаться только на себя: они провели предварительную оценочную сессию, в которой добровольцы проранжировали всех моделей по степени визуальной привлекательности. И вот на готовых листовках появились пары кандидатов — один более уверенно смотрящийся, второй — менее. Ученые хотели проверить, получат ли кандидаты с более привлекательными лицами больше голосов.
Вдобавок к фотографии каждому кандидату приписали (ненастоящее) имя и развернутую информацию о положении в партии, образовании, профессии, политическом опыте и три строчки предвыборной программы. Для нивелирования эффекта пристрастий к той или иной партии половина избирателей получила листовки, на которых более уверенным выглядел республиканец, а половина — те, на которых увереннее казался демократ. В принципе, по замыслу только это и было содержательной частью агитации.
К голосованию привлекли около двухсот добровольцев. Исследователи сообщили участникам, что агитационные материалы основаны на реальной информации о реальных кандидатах. Ученые к тому же сообщили добровольцам ложную цель эксперимента: выяснить, какой выбор сделают люди, когда им предоставлен одинаковый объем информации о каждом кандидате — одна листовка. Задача добровольцев, по словам экспериментаторов, — просмотреть агитационные материалы и проголосовать за избранника по каждой паре. «Эффект лица» оказался мощным: кандидаты с более внушительной внешностью выиграли в среднем 59% голосов. В современной политике это означает полную победу на выборах: единственный американский президент со времен Великой депрессии, выигравший выборы с таким перевесом голосов, — Линдон Джонсон, победивший Голдуотера с 61% на выборах 1964 года. Тогда, отметим, Голдуотера к тому же позиционировали как человека, у которого руки чешутся развязать ядерную войну.
Во втором исследовании применили похожую методологию, но «кандидатов» подбирали иначе. В первом эксперименте все потенциальные кандидаты были мужчинами, и из них выбирали тех, кто выглядит более или менее уверенным в себе. В новом эксперименте все потенциальные кандидаты были женщинами, и из них выбирали тех, кто производил нейтральное впечатление. Затем наняли голливудского гримера и фотографа, которым поручили создать две фото версии каждой кандидатки: на одной фотографии она должна выглядеть более уверенной, а на другой — менее. В этих фиктивных выборах «компетентной» версии одной женщины противопоставляли «менее компетентную» версию другой. Результат: в среднем те кандидатки, что выглядели увереннее, завоевали на 15% больше голосов. Оцените эффект: такого процента смещения избирательских предпочтений было достаточно, чтобы изменить исход недавних выборов в конгресс штата Калифорния в пятнадцати из пятидесяти трех округов.
Меня лично результаты этих экспериментов ошарашили и встревожили. Они означают, что предвыборная гонка может быть окончена, не начавшись, если такую огромную фору кандидату дает один только внешний вид. В мире столько нерешенных проблем, а мы запросто готовы отдать кому-то голос лишь потому, что нам лицо понравилось. У исследований, конечно, есть одно слабое место: то были не всамделишные выборы. Полученные данные, может, и показывают, что внешняя уверенность добавляет кандидату очков, но исследование не проверяло выраженные предпочтения на стойкость. Легко предположить, что избиратели с устойчивыми идеологическими предпочтениями не переметнутся в другой лагерь за здорово живешь. На колеблющийся электорат воздействовать, конечно, проще, но достаточно ли силен этот феномен, чтобы влиять на реальные выборы?
В 2005 году исследователи из Принстона собрали черно-белые фотографии лиц всех победителей и вторых кандидатов девяносто пяти предвыборных кампаний в Сенат США и шестисот — в Палату представителей 2000, 2002 и 2004 годов[273] и предложили группе добровольцев оценить компетенции кандидатов, исходя из быстрого просмотра фотографий и без учета каких-либо сведений о запечатленных людях. Результаты поражают воображение: кандидаты, которых добровольцы сочли более компетентными, выиграли в 72% сенатских выборов и в 67% представительских. Эти данные превосходят даже полученные калифорнийцами. А в 2006 году ученые произвели еще один эксперимент и пришли к не менее поразительным — и удручающим — выводам. Они провели оценку лиц до выборов и предсказали результат исключительно по внешнему виду кандидатов. И оказались на диво точны: кандидаты, на которых добровольцы указали как на более компетентных, выиграли в 69% губернаторских выборов и в 72% сенатских.
Я подробно рассмотрел политические исследования не только потому, что они сами по себе важны, но и оттого, что они, как я уже отмечал, проливают свет на социальные взаимодействия вообще. В старших классах мы выбираем старосту — и этот выбор может быть основан на одной лишь внешности. Хотелось бы верить, что мы из такой примитивности выросли, но стать успешным выпускником бессознательного — задача нелегкая.
В автобиографии Чарлз Дарвин рассказывал, как ему чуть не отказали в историческом путешествии на борту «Бигла» только из-за его наружности и в особенности — из-за формы носа, довольно крупного и мясистого[274]. Сам Дарвин позднее шутливо ссылался на свой нос как аргумент против креационизма: «Вы что, искренне хотите сказать… будто верите, что мой нос сотворило “разумное начало”?»[275] Капитан «Бигла» не желал брать Дарвина на борт из-за того, что считал форму носа показателем натуры человека, а такой нос, как у Дарвина, свидетельствовал о том, что его хозяин никак не может «располагать достаточной энергией и настойчивостью для такого путешествия». В конце концов Дарвин получил место на судне. О капитане Дарвин впоследствии писал: «Думаю, он в итоге был рад, что мой нос ему наврал»[276].
В конце «Волшебника из Страны Оз» Дороти и компания приходят к чародею и подносят ему метлу Злой Колдуньи Запада. Они видят лишь дым, огонь и плавающее в воздухе лицо Волшебника и слышат его громогласную повелительную речь, от которой Дороти и ее друзья содрогаются в страхе. И тут песик Дороти Тото тащит занавес в сторону, и всем открывается истинный вид зловещего Волшебника: это обычный человек с микрофоном, который управляет всеми этими фейерверками при помощи рычагов. Он задергивает штору и повелевает: «Не обращайте внимания на человека за занавесом», — но трюк развенчан и Дороти ясно, что Волшебник — просто добродушный старичок.
Под маской любого из нас — мужчина или женщина. Среди наших разнообразных социальных контактов лишь немногие близки настолько, что нам позволено заглянуть за занавес — в отношениях с нашими друзьями, ближайшими соседями, родными людьми, иногда — с родными собаками (но точно не с кошками). Однако большинство людей слишком далеко отдернуть занавес нам не даст, а у тех, кого мы видим впервые, он вообще зашторен наглухо. И поэтому многие поверхностные качества — голос, выражение лица, поза и другие невербальные свойства, о которых я говорил в этой главе, — формируют наши суждения о людях: о милых или гадких персонажах на работе, о наших соседях, врачах, учителях наших детей, политиках, за или против которых мы голосуем или пытаемся их игнорировать. Мы ежедневно выносим оценки вроде «Я доверяю этой няньке», «Эта адвокатесса знает, что делает», «Тот парень, по-моему, из тех, что умеют нежно гладить по спине и читать сонеты Шекспира при свечах». Если вы приходите на собеседование, стиль вашего рукопожатия может повлиять на решение о приеме вас на работу. Если вы что-нибудь продаете, степень зрительной контактности может повлиять на то, как оценит ваш товар или услугу покупатель. Если вы врач, тон вашего голоса может изменить не только степень удовлетворенности пациента, но и склонность судиться с вами, если что-то пойдет наперекосяк. Мы, человеки, превосходим трупиалов в способности к сознательному пониманию. Но глубоко внутри у нас жив трупиалий ум, реагирующий на невербальные сигналы, не подвластные логике сознания. Выражение «быть настоящим человеком» означает действовать из сострадания. В других языках это выражение тоже есть, в немецком — ein Mensch sein.Человек по своей природе не может не улавливать эмоции и устремления окружающих. Эта способность встроена в наш мозг — без тумблера «выкл.».
Глава 7. Раскладываем по ящикам
Если бы нам пришлось разбираться со всем, что мы видим, с каждым зрительным впечатлением отдельно и, всякий раз открывая глаза, все это увязывать заново, мы бы свихнулись.
Гэри Клейн[277]Если зачитать кому-нибудь список из десяти-двадцати продуктов, которые надо купить в магазине, человек запомнит лишь несколько пунктов. Если повторить список несколько раз, он запомнится получше. Но вернее всего будет разделить продукты на категории — овощи, фрукты, крупы. Ученые полагают, что у нас в префронтальной коре есть нейроны, отвечающие за категоризацию, и упражнение с разделением списка на группы иллюстрирует это: категоризация — прием, с помощью которого наш мозг управляется с обработкой информации[278]. Помните Шерешевского, человека с безупречной памятью, которому трудно было запоминать лица? В его памяти у каждого человека было много лиц: под разными углами зрения, при разном освещении, с разными выражениями и во всех вариантах эмоциональных переживаний. Энциклопедия лиц на книжной полке его ума получалась страшно толстая, искать в ней было затруднительно, а процесс сопоставления нового лица с ранее виденными — что и есть суть категоризации — выходил тягомотный.
Любой объект или человек, с которым мы сталкиваемся во внешнем мире, уникален, но жить было бы ох как непросто, если бы мы воспринимали их таковыми. Нету нас ни времени, ни широты диапазона ментального восприятия, достаточных для наблюдения и осмысления каждого фрагмента каждого объекта в поле зрения. Мы выделяем несколько ярких черт, которые как раз вполне пристально рассматриваем, и по ним определяем категорию объекта и дальнейшую оценку выносим, исходя из приписанной этому объекту категории. Обращаясь с системой категорий, мы увеличиваем свою реактивность. Если бы мы не эволюционировали таким образом, если бы наш мозг обращался с каждым встречным объектом индивидуально, то пока мы разбираемся, настолько ли опасен конкретный лохматый зверь, как тот, что съел дядю Боба, медведь нас бы успел сожрать. Нам же довольно один раз увидеть, как парочка медведей уплетает наших родственников, чтобы вся эта разновидность зверей попала в черный список. И дальше, стоит завидеть крупное косматое животное со здоровенными острыми когтями, мы не станем околачиваться поблизости и собирать дополнительные сведения — мы поступим в соответствии с чутьем и унесем ноги. Нам хватит пару раз увидеть стул, чтобы прийти к выводу: объект о четырех ногах и спинке придуман для того, чтобы на нем сидеть. Если водитель впереди закладывает петли, как полоумный, мы сходу понимаем, что лучше держаться подальше.
Мышление общими категориями — «медведи», «стулья», «полоумные водители» — помогает нам обращаться с реальностью быстро и эффективно; мы сначала улавливаем общую суть объекта, а в индивидуальных его чертах разбираемся потом. Категоризация — одно из самых важных ментальных действий, которым мы владеем и которое применяем постоянно. Даже ваша способность читать эту книгу зависит от умения категоризировать: навык чтения включает в себя способность сортировать похожие символы — например, «ш» и «щ», — в разные группы, а символы с виду совсем разные — щ, щ, щ, Щ — представляют одну и ту же букву.
Классификация объектов — задачка нелегкая, вот
Подумаешь — смесь шрифтов; мы классифицируем объекты с такой скоростью и без осознанных усилий, что велико искушение недооценивать сложности этого процесса. Вот, к примеру, еда; мы автоматически объединяем банан и яблоко в одну группу (фрукты), хотя выглядят они очень по-разному, а яблоко и красный бильярдный шар раскладываем в разные кучи, невзирая на их внешнее сходство. Бродячая кошка и немецкая такса, допустим, обе бурые и примерно одного размера и формы, а бобтейл — совсем другой, он большой, белый и пушистый, но даже ребенок знает, что бродячая кошка относится к категории кошачьих, а такса и бобтейл — псовых. Оцените сами сложность этой с виду детской задачи: отличить пса от кота, — компьютерщикам удалось наконец понять, как спроектировать компьютерную систему визуального распознавания, которая может отличить собаку от кошки, всего несколько лет назад.
Из перечисленных ранее примеров видно, что один из ключевых принципов, который мы применяем для классификации объектов, — усиление одних различий (наличие или отсутствие нижнего элемента в буквах «щ» и «ш» или как именно торчат усы у животного) и нивелирование других (затейливость «щ» по сравнению с «щ» — или окрас животного). Но палка нашего разумения — о двух концах. Если мы заключаем, что некий набор объектов объединяется в одну группу, а другой набор — в другую, мы можем воспринять объекты в одной группе более похожими друг на друга, чем на самом деле, а объекты из разных групп — более разными, чем в действительности. Простое разделение объектов на группы может влиять на наше суждение о них. Да, категоризация — естественный и необходимый метод упрощения восприятия, как и многие трюки мозга, но и у него есть свои границы.
В одном из первых экспериментов по исследованию искажений восприятия, обусловленных категоризацией, испытуемых попросили оценить длину восьми отрезков. Самый длинный был на 5% больше другого, тот на 5% больше следующего и т. д. Исследователи попросили половину испытуемых прикинуть длину каждого отрезка в сантиметрах, а для второй половины разделили отрезки на две группы по четыре — которые подлиннее, назвали «группой А», а которые покороче — «группой Б». Экспериментаторы обнаружили, что стоило обозначить эти самые группы, как испытуемые стали воспринимать их иначе. Они оценили разницу в длинах отрезков внутри группы меньше, чем она есть, а разницу в длинах между группами — больше[279].
Аналогичные исследования продемонстрировали тот же эффект в самых разных контекстах. В одном эксперименте оценку длины заменили на оценку цвета: добровольцам показали буквы и цифры, отличавшиеся оттенками, и попросили оценить «глубину красного». Те, кому показывали образцы цвета с самыми красными символами, сгруппированными вместе, воспринимали их ближе друг к другу по цвету и дальше от тех, что оказались в другой группе, нежели добровольцы, которым показывали те же символы тех же цветов, но не сгруппированные[280]. В другом исследовании экспериментаторы обнаружили, что люди в определенном городе разницу температур 1 и 30 июня недооценивают, а 15 июня и 15 июля — переоценивают[281]. Искусственное группирование дней в месяцы путает нам карты: мы воспринимаем два дня одного месяца более похожими друг на друга, чем настолько же удаленные друг от друга дни разных месяцев, хотя интервал между ними одинаковый.
Во всех этих примерах, когда мы категоризируем — мы поляризуем. Все, что по той или иной условной причине определяется нами как принадлежащее одной категории, кажется нам более схожим, чем есть на самом деле, а все, чему мы приписываем разные категории, разнится в наших глазах сильнее, чем в действительности. Бессознательный ум превращает смутные отличия и нюансы в жесткое разграничение. Задача бессознательного — отмести несущественное и сберечь значимое. Если эта задача выполняется успешно, мы упрощаем действительность, тем самым делая ее проходимее и сподручнее. Если же задача решена с ошибками, наше восприятие искажается, а результат наносит вред и окружающим, и нам самим. Особенно сильно тенденция категоризировать ударяет по нашему представлению о людях: мы склонны считать врачей определенной специализации, адвокатов из определенной конторы, фанатов определенной спортивной команды или людей из определенной этнической группы более похожими друг на друга, чем на самом деле.
Одна калифорнийская адвокатесса как-то написала о деле молодого выходца из Сальвадора — единственного небелого работника картонажной фабрики где-то на выселках. Его не повышали по службе, а потом и вообще уволили за постоянные опоздания и «разгильдяйство». Работник заявил, что то же самое можно сказать о любом рабочем на фабрике, но на их опоздания почему-то никто внимания не обращает. К ним наниматель, по словам уволенного, отчего-то относился с пониманием: бывает, в семье кто-нибудь приболеет, или у ребенка проблемы, или машина сломается. Но его опоздания автоматически расценивались как лень. Его оплошности раздували, а достижения преуменьшали. Нам не удастся разобраться, действительно ли наниматель не учел личных качеств сальвадорца или просто налепил на него ярлык «латинос» и интерпретировал его поведение в соответствии со сложившимся стереотипом. Разумеется, наниматель такое обвинение отверг. А потом добавил: «Вон Матео мексиканец, а мне без разницы. Я даже и не заметил»[282].
Термин «стереотип» ввел в оборот французский типограф Фирмен Дидо[283]. Изначально этим термином обозначали способ печати, при котором с помощью специальных формочек изготовляли металлические доски для наборного шрифта. Размножив эти доски, можно было производить несколько экземпляров газет или книг одновременно — так родилась массовая печать. В современном значении термин впервые употребил в 1922 году американский журналист-интеллектуал Уолтер Липпманн, в своей книге «Общественное мнение»[284] — критическом анализе современного демократического строя и роли общественности в определении судеб демократии. Липпманна беспокоило усложнение проблем, возникающих перед избирателями, и то, как развиваются их взгляды на эти проблемы. Он особенно тревожился о роли СМИ. Выражаясь языком, словно скопированным из научной статьи по психологии категоризации, Липпманн писал: «В целом, окружающая среда — слишком сложное и изменяющееся образование, чтобы можно было познавать ее напрямую… Но поскольку нам приходится действовать в этой среде, прежде чем начать с ней оперировать, необходимо воссоздать ее на более простой модели»[285]. Эту более простую модель он и назвал стереотипом.
Липпманн признавал, что имеющие хождение стереотипы происходят от смешения культур. Он жил в эпоху, когда массовое распространение газет и журналов, а также нового СМИ — кино, несло мысли и информацию аудитории немыслимой доселе широты. СМИ предоставили публике невероятно широкий обзор мира, но без всяких гарантий точности этого представления. Особенно кино транслировало живую, почти как настоящую картину жизни, однако ее обитатели часто представляли собой карикатурные шаблоны реальных людей. Скажем больше: на заре кинематографа режиссеры прочесывали городские улицы в поисках «характерных актеров» — легко вычисляемых социальных типажей. Современник Липпманна Гуго Мюнстерберг писал: «Если [продюсеру] нужен толстый бармен с хитрой ухмылкой, или скромный еврейский разносчик, или органист-итальянец, он не станет полагаться на грим и парики; он найдет их готовеньких в Ист-Сайде [Нью-Йорка]». Шаблонные персонажи были (и остаются) удобным подручным обобщением — мы без труда узнаем их, но при их использовании характерные черты, представляющие приписываемую им категорию, усиливаются. Историки Элизабет и Стюарт Юэн писали, что, заметив аналогию между общественным восприятием и печатным процессом как возможность создавать бесконечное число одинаковых оттисков, «Липпманн выделил и поименовал одну из мощнейших черт нашего времени»[286].
Хоть категоризация людей по их расовой, религиозной, гендерной и национальной принадлежности — любимая тема прессы, мы делим людей на группы и многими другими способами. Думаю, запросто вспоминаются случаи, когда мы группировали спортсменов или банкиров или еще кого-нибудь по их профессии, внешности, этносу, образовательному уровню, возрасту, цвету волос или даже по марке их автомобиля.
Некоторые ученые умы XVI–XVII веков категоризировали людей по их схожести с тем или иным животным — взгляните на иллюстрацию. Она взята из «De Humana Physiognomonia» — в некотором роде справочника человеческих характеров 1586 г., авторства Джамбаттисты делла Порта[287].
Более современную иллюстрацию нашей склонности категоризировать «по одежке» можно было наблюдать в одном крупном скидочном торговом центре в Айова-сити. Небритый мужчина в замызганных латанных джинсах и синей спецовке прикарманил какую-то носильную ерунду. Покупатель, оказавшийся рядом, заметил это. Чуть погодя аккуратно причесанный мужчина в выглаженных брюках, спортивной куртке и при галстуке проделал тот же трюк на глазах у другого случайного покупателя. Похожих инцидентов в тот день произошло еще несколько, вплоть до самого вечера — всего счетом более пятидесяти, и еще сотня — в торговых точках по соседству. Будто артель мелких воришек снарядили избавить город от дешевых носков и дурацких галстуков. Но нет, не Национальный День Клептомана отмечали в Айове: это был эксперимент, поставленный двумя cоциопсихологами[288]. В это исследование вовлекли сотрудников и администрацию торговых заведений с целью изучить реакцию случайных свидетелей на социальную принадлежность хулигана.
Все воришки были добровольными участниками эксперимента. Сразу после совершения кражи вор отходил за пределы слышимости, но оставался на виду у засекшего его покупателя. Тут в поле зрения покупателя появлялся другой волонтер, облаченный в форму работника магазина, и принимался возиться с товарами на полках. Вот она, доступная возможность сообщить о правонарушении. Все покупатели наблюдали один и тот же проступок, но реагировали по-разному. Гораздо меньше покупателей, на чьих глазах воровал хорошо одетый человек, доносили на него — по сравнению с тем, насколько часто стучали на неряху. Еще интереснее оказалось отношение покупателей в разговоре с сотрудником. Их анализ произошедшего шел дальше простой констатации увиденного — они будто составляли в уме портрет вора, исходя не только из его действий, но и из представлений о его социальном статусе. Доносить на прилично одетого человека они не торопились, зато с энтузиазмом стучали на нечесанного прощелыгу, украшая свои рапорты комментариями вроде «вон тот козел что-то сунул себе в карман». Словно один внешний вид неопрятного жулика указывал на то, что магазинное воровство — наименьший из его грешков, и натура у него такая же пропащая, как и одежда.
Нам всем хотелось бы думать, что мы оцениваем людей индивидуально, и иногда мы сознательно очень стараемся судить окружающих только на основании их неповторимых качеств. Часто нам это удается. Но если человек нам знаком не близко, наш ум обращается к его социальной принадлежности. Ранее мы говорили о том, как мозг восполняет пробелы в зрительной информации — например, компенсирует слепое пятно в поле зрения, в том месте, где зрительный нерв крепится к сетчатке. Мы рассмотрели, как наш слух заполняет лакуны в услышанном — вспомним пример с фразой «Губернаторы встретились со своими законодательными собраниями в соответствующих столицах штатов», где слог-другой заглушило кашлем. И мы узнали, как наша память добавляет подробности к произошедшему, которое мы помним лишь в общих чертах, и воспроизводит живое, детальное изображение лица, даже если ум запечатлел его лишь приблизительно. В каждом случае неосознанная часть нашего ума берет неполные данные и при помощи ситуативного контекста и других аллюзий достраивает полную картину, производит эмпирическую оценку и предлагает конечный результат — когда верный, когда ошибочный, но всегда убедительный. Точно так же наш ум заполняет пробелы при оценке других людей, и принадлежность человека к той или иной категории — часть используемых при этом дополнительных данных.
Осознание того, что предубежденность категорийного восприятия есть корень предрассудков в существенной степени принадлежит психологу Анри Тайфелю[289], автору описанного мною в этой главе эксперимента с длинами сгруппированных и разгруппированных отрезков. Сын польского предпринимателя, Тайфель стал бы рядовым химиком, а не прославленным социопсихологом, если бы не примечательная социальная категория, к которой он сам относился. Тайфель был евреем, и принадлежность к этой социальной группе означала, что в Польше путь в колледж был ему заказан. Тогда он переехал во Францию и там изучал химию, но оказался к ней равнодушен. Ему больше нравилось кутить — или, по словам одного коллеги, «наслаждаться французской культурой и парижской жизнью»[290]. Его наслаждениям положила конец Вторая мировая война: в ноябре 1939 года он вступил во французскую армию. Довольно скоро услада совсем сошла на нет — он попал в немецкий лагерь для военнопленных. Там Тайфель столкнулся с крайними формами социальной категоризации, и именно это, с его слов, сделало из него социопсихолога.
Немцы пожелали знать, к какой социальной группе относится Тайфель. Он француз? Французский еврей? Невесть откуда еврей? Нацисты хоть и считали евреев недолюдьми, тем не менее в сортах евреев разбирались — так виноделы различают сорта «шато» по месту происхождения. Француз — значит, враг. Французский еврей — значит, животное. Польский еврей — сразу на убой. Не имело никакого значения, какие у него там личные качества или каково отношение к немецким захватчикам, говорил Тайфель позднее, — если бы его происхождение раскрыли, сразу причислили бы к польским евреям и судьба его была бы решена[291]. Но совсем завираться тоже было опасно, и из предложенного меню ярлыков Тайфель выбрал нечто среднее: последующие четыре года он изображал французского еврея[292]. Его освободили в мае 1945 года. Тайфель писал: «…меня и сотни других выгрузили из спецпоезда на вокзале Д’Орсэ в Париже… [и вскоре обнаружилось,] что почти никого из моих знакомых до 1939 года, включая мою семью, не осталось в живых»[293]. Тайфель девять послевоенных лет проработал с беженцами — особенно с детьми и подростками — и много раздумывал над связью между категорийным мышлением, стереотипизацией и предрассудками. Психолог Уильям Питер Робинсон считает, что сегодняшнее теоретическое понимание этих предметов «почти без исключения произрастает из выводов Тайфеля и его исследовательской работы»[294].
К сожалению, как и с другими первопроходцами, прошло немало лет, прежде чем наука доросла до прозрений Тайфеля. Даже в 1980-х многие психологи рассматривали дискриминацию как сознательное и намеренное поведение, нежели нечто возникающее естественно из неизбежных умственных процессов, связанных со склонностью ума к категоризации[295]. Но в 1998 г. трое ученых из Университета штата Вашингтон опубликовали статью, которую многие считают неопровержимым доказательством того, что бессознательная, или «имплицитная» стереотипизация — правило, а не исключение[296]. В статье ученые представили компьютеризованную программу под названием «Тест подсознательных ассоциаций» (Implicit Association Test, IАТ), ставшую стандартным инструментом измерения индивидуальной склонности людей связывать те или иные человеческие черты с социальными категориями. IАТ революционизировал взгляды социологов на стереотипизацию.
Разработчики IAT в статье о тесте предложили читателям «мысленный эксперимент». Допустим, вам показывают череду наименований родственников обоих полов — «брат», «тетя» и т. п. Нужно сказать «привет», если показывают наименование родственника-мужчины, и «пока» — если женщины. (В компьютеризованной версии слова появляются на экране, а отвечать нужно, нажимая на определенные кнопки на клавиатуре.) Задача — отвечать как можно быстрее и стараться делать минимум ошибок. Большинство людей, выполняющих задание, говорят, что это легко, и справляются с ним быстро. Следующее упражнение — с именами вместо наименований родни, вроде Дика или Джейн. Имена бывают неоднозначны по гендерному признаку, но, тем не менее, и этот список вы проскочите без запинки. Но это пока разминка.
Главная часть эксперимента: в первой части вам показывают набор слов, часть которого — имена, а часть — наименования родственников. Нужно сказать «привет» мужским именам или родственникам и «пока» — женским. Это чуть сложнее, чем предыдущие задания, но все равно посильно. Важное наблюдение в этом задании — сколько времени необходимо на принятие решения в каждом случае. Попробуйте сами — ниже на странице есть такой список. Можете говорить «привет» и «пока» про себя, если опасаетесь напугать родственников, которые могут вас услышать («привет» = мужское имя или родственник, «пока» = женское имя или родственница):
Джон, Джоан, брат, внучка, Бет, дочь, Майк, племянница, Ричард, Леонард, сын, тетя, дедушка, Брайан, Донна, папа, мама, внук, Гэри, Кэти.
Теперь — часть вторая. Вам снова показывают список имен и наименований родственников, но на этот раз нужно говорить «привет», когда видите мужское имя или родственницу, и «пока» — когда женское имя и родственника. Еще раз: самое важное — замечать, сколько времени вам всякий раз требуется на осуществление выбора. Пробуем («привет» = мужское имя или родственница, «пока» = женское имя или родственник):
Джон, Джоан, брат, внучка, Бет, дочь, Майк, племянница, Ричард, Леопард, сын, тетя, дедушка, Брайан, Донна, папа, мама, внук, Гэри, Кэти.
Во второй части времени на раздумье требуется как правило существенно больше, чем в первой: примерно три четверти секунды на каждое слово во второй части, а в первой — всего полсекунды. Чтобы понять, отчего это так, давайте рассмотрим эту задачу как упражнение на сортировку. Вас попросили применить четыре категории объектов: мужские имена, наименования родственников, женские имела, наименование родственниц. Но эти категории взаимосвязаны: мужские имена и наименования родственников соотносятся с мужчинами, а женские имена и наименования родственниц, соответственно, — с женщинами. В первой части вас просят обозначить эти четыре категории сообразно этой ассоциации: всех мужчин определять одним способом, женщин — другим. Во второй же части вам предлагают отставить эти ассоциации и обозначить мужчин одним способом, если это имя, и другим — если наименование родства, и так же по-разному определить женщин отдельно по имени, отдельно — по родству. И вот это уже трудно, ментального ресурса требуется больше, и процесс замедляется.
Вот она, ключевая точка IАТ: если категоризация согласуется с вашими ассоциациями, она осуществляется быстро, а если идет поперек ассоциаций — замедляется. Измеряя разницу во времени между двумя способами категоризации. можно оценить плотность связей в сознании тестируемого между индивидуальными чертами и социальной категорией рассматриваемых объектов.
Предположим, я показываю вам не наименования родственников, а всякие термины, связанные с наукой или искусством. Если у вас нет ментальных ассоциаций «мужчина = наука» или «женщина = искусство», то вам будет все равно, говорить ли «привет» мужским именам и научным терминам и «пока» женским именам и терминам из области искусства или «привет» мужским именам и терминам из области искусства и «пока» женским именам и научным терминам. И поэтому разницы по времени между первой и второй стадиями не будет никакой. Но если вы сильно ассоциируете женщин с искусством, а мужчин — с наукой, как это, оказывается, устроено у большинства из нас, выполнение задания будет очень похоже на исходное, с именами и родством, и разница во временах принятия решения между первой и второй частями будет столь же заметной.
Проводя подобные тесты, исследователи поражаются результатам. Например, они обнаружили, что примерно половина людей имеет сильную или умеренную склонность ассоциировать мужчин с наукой, а женщин — с искусством, независимо от того, сознают они это или нет. Выяснилось, что связь между результатами теста подсознательных ассоциаций и измерениями «сознательных» гендерных предрассудков методом опросов и самоотчетов минимальна. Испытуемым показывали, например, изображения белых лиц, черных лиц, негативных понятий (ужасный, неудача, злой, мерзкий и т. д.) и позитивных понятий (мир, радость, любовь, счастливый и т. д.). Если у испытуемого есть предубежденность против черного в пользу белого, то увязывать вместе позитивные понятия и черные лица и негативные понятия и белые лица получится дольше, чем если черное и негативное складывать в одну кучу. Около 70% участвовавших в этой версии теста демонстрируют крен в сторону белого, включая тех многих, кто (осознанно) с отвращением узнал о своих склонностях. Согласно IAT, даже чернокожие люди, как выяснилось, имеют бессознательные предрассудки в пользу белых. Этого трудно избежать, живя в культуре, воплощающей все негативные стереотипы афро-американцев.
Ваша оценка другого человека может казаться вам рациональной и произвольной, но на деле она сильно подпитана автоматическими, бессознательными процессами вроде тех, что регулируют наши эмоции. Они протекают в вентромедиальной префронтальной коре. Повреждение ВМПК, судя по результатам исследований, устраняет бессознательные гендерные стереотипы[297]. Уолтер Липпманн признавал: нам не избежать впитывания категорий, определяемых обществом, в котором мы живем. Они проникают во все: в новости, телевидение, кино и все остальные проявления нашей культуры. И поскольку мозг человека естественным образом категоризирует входящую информацию, мы поневоле действуем исходя из предлагаемым им категорий. Но прежде чем порекомендовать ампутацию ВМПК как обязательную при подготовке менеджеров в вашей компании, вспомните, что склонность категоризировать (даже людей), вообще говоря, — благословение. Благодаря ей мы можем отличать водителя автобуса от пассажира, продавца от покупателя, медсестру в регистратуре от врача, метрдотеля от официанта и всех остальных незнакомых людей, с которыми сталкиваемся, мгновенно, без сознательного размышления при каждой новой встрече. Задача не в том, чтобы перестать категоризировать, а в том, чтобы осознавать это в тех случаях, когда категоризация мешает нам воспринимать отдельных людей теми, кто они есть.
Один из первопроходцев психологии Гордон Оллпорт[298] писал, что категория насыщает все объекты, которые в нее входят, одним и тем же «умозрительным и эмоциональным духом»[299]. Доказывая свое утверждение, он привел в пример эксперимент 1948 года, когда некий канадский социолог написал в 100 различных курортных гостиниц, чьи объявления он собрал в газетах перед началом сезона отпусков[300]. Ученый сочинил и отправил по два разных письма в каждую гостиницу и запросил бронирование на одни и те же даты. Одно письмо он подписал как «г-н Локвуд», а второе — «г-н Гринберг». Г-н Локвуд получил подтверждение бронирования из 95 гостиниц. Г-н Гринберг — из 36. Решение отказать г-ну Гринбергу было принято явно не на основании личных качеств г-на Гринберга, а исходя из религиозной категории, к которой он, исходя из фамилии, принадлежал.
Судить людей по их социальному статусу — освященная временем традиция даже среди тех, кто воспевает обездоленных. Вот вам цитата из высказывания знаменитого борца за равенство:
Нескончаемо наше сопротивление упадку, в какой пытаются ввергнуть нас европейцы, жаждущие низвести нас до уровня диких кафров[301]… которым только и надо что накопить сколько-то голов скота, купить жену и прожить жизнь, бездельничая нагишом[302].
Это слова Махатмы Ганди. А вот что говорил Че Гевара, революционер, который, согласно журналу «Тайм» покинул родную землю, чтобы «поднять с колен бедняков земли» и помог сбросить кубинского диктатора Фульхенсио Батисту[303]. Что думал этот марксистский лидер обездоленных и эксплуатируемых кубинцев о чернокожих бедняках США? «Негр ленив да празден, деньги тратит на баловство, а вот европеец целеустремлен, организован и умен»[304]. Еще цитат великих правозащитников? Пожалуйста:
Я вам скажу, что не был и не есть поборник какого бы то ни было социального или политического равенства белой расы и черной… между белой и черной расами есть физическое различие, которое, по моему мнению, навеки возбраняет двум этим расам жить вместе общественно и политически на равных… и я, как и любой другой, ратую за верховенство, положенное белой расе.
Так на дебатах в Чарлзтауне, Иллинойс, в 1858 году сказал Авраам Линкольн. Для своего времени он был неслыханно прогрессивен, но верил, что если не юридическая, то уж общественная категоризация точно сохранится навсегда. Мы пошли далеко вперед. В наши дни во многих странах затруднительно даже представить себе серьезного кандидата на место в национальном политическом управлении со взглядами, подобными Линкольновым. Во всяком случае, его бы никто не рассматривал как борца за гражданские права. Современная культура развилась до той степени, что большинство людей понимает: сознательно лишать человека равных с другими возможностей из-за характерных черт социальной группы, к которой он принадлежит, нехорошо. Но нам еще предстоит пободаться с нашими бессознательными предрассудками.
Наука-то, может, и признала бессознательную стереотипизацию, а вот закон — пока нет. В США, к примеру, субъекты, заявляющие, что их дискриминируют на основании их расовой, религиозной, сексуальной или национальной принадлежности, должны не только доказать, что с ними обращаются не как с остальными, но и что дискриминируют их злонамеренно. Несомненно, дискриминация часто злонамеренна. Всегда найдутся люди вроде одного начальника из Юты, кто сознательно дискриминировал женщин и на суде было процитировано его устное высказывание: «Блядские бабы! Не выношу этих блядских баб у себя в конторе»[305]. Выявлять дискриминацию в тех случаях, когда у людей слова не расходятся с делом, довольно просто. Но научное сообщество предлагает юристам взглянуть глубже, разобраться с проблемой более заковыристой — с бессознательной дискриминацией, с предрассудками неприметными, скрытыми даже от тех, кто их демонстрирует.
Каждый из нас может бороться с бессознательными предубежденностями: исследования показали, что наша склонность категоризировать людей зависит от наших осознанных целей. Если мы знаем о собственных предрассудках и намерены их преодолевать, нам это подвластно. Например, изучение уголовных слушаний выявило обстоятельства, в которых люди регулярно преодолевают предубеждения, обусловленные человеческой внешностью. Давно известно, что на оценку вины и суровость приговора подсознательно влияет внешность подсудимого[306]. Но: обычно более привлекательные подсудимые получают приговоры мягче, только если обвиняются в малых преступлениях вроде нарушения правил дорожного движения или мошенничества, но не в случаях более серьезных преступлений вроде убийства. Наши бессознательные суждения, сильно полагающиеся на категории, к которым мы относим людей, всегда конкурируют с сознательным мышлением, более произвольным и аналитичным, которое умеет видеть в людях индивидов. Эти два начала всякий раз соперничают друг с другом, и в результате степень нашего восприятия человека как индивидуального существа, а не представителя какой-либо группы, варьирует в пределах скользящей шкалы. Именно это и происходит, видимо, в залах суда. С тяжкими преступлениями разбираются дольше, обвиняемого рассматривают пристальнее, ответственность в таких делах гораздо выше, и дополнительный фокус сознательного внимания пересиливает эффект миловидности.
Мораль истории проста: если мы хотим преодолеть бессознательный предрассудок, придется потрудиться. Начинать неплохо с более внимательного взгляда на тех, кого мы судим, даже если они не проходят по делу об убийстве, а всего лишь нанимаются на работу или просят о займе — или об избирательном голосе. Наше знакомство с конкретным представителем определенной категории может помочь преодолеть предрассудок к человеку, но, что еще важнее, повторные контакты с представителями этой категории могут служить противоядием от негативных черт, приписываемых обществом этой категории людей вообще.
Не так давно у меня открылись глаза на то, как реальный опыт помогает разрушать стереотипы. Это произошло после того, как моя мама переехала жить в дом престарелых. Ее тамошние друзья были в основном под девяносто. Поскольку мне мало приходилось общаться с большими коллективами людей этого возраста, я поначалу считал их всех одинаковыми: седые, сгорбленные, прикованные к ходункам. Мне казалось, что если эти люди когда-то и работали, то наверняка возводили еще пирамиды. Я воспринимал их не как отдельных людей, а как образчики социального стереотипа, сводящего их всех (не считая моей мамы, конечно) к довольно бестолковым, слабоумным и беспамятным существам.
Мои представления изменились в одночасье, когда я сидел с мамой в столовой и она вдруг сказала, что на днях к ним приходил парикмахер, и у мамы возникло головокружение и мигрень, когда она откинула голову в раковину. Одна мамина подруга заявила, что это дурной знак. Я было подумал: что она имеет в виду? Это что-то астрологическое — дурной знак? Но дама объяснила, что мамина жалоба — классический симптом закупорки сонной артерии, могущий вести к инсульту, и посоветовала маме обсудить это с терапевтом. Мамина подруга была не просто девяностолетней старушкой — она была врач. Постепенно, знакомясь с другими стариками в этой богадельне, я понял, что все они — индивидуальные неповторимые характеры, с массой разнообразных талантов, и нет среди них ни одного строителя пирамид.
Чем больше мы общаемся с отдельными людьми и наблюдаем уникальные их черты, тем экипированнее наш ум в борьбе со стереотипами. Черты, которые мы присваиваем тем или иным человеческим группам, — порождения не только общества, но и нашего личного опыта. Я не проходил тест подсознательных ассоциаций до и после моего прозрения в отношении стариков, но, похоже, подсознательных ассоциаций у меня с ними стало гораздо меньше.
В 1980-х годах в руки лондонских ученых попал 77-летний хозяин магазина, переживший кровоизлияние в затылочную зону мозга[307]. Двигательная система и память оказались не затронутыми, речь и зрение тоже без повреждений. В общем и целом мыслительные процессы были в норме, но одна проблема все же проявилась: если ему показывали два объекта с одинаковыми функциями, но при этом не идентичные — скажем, два разных поезда, две щетки, два графина, — он не мог установить между ними связи. Ему даже буквы «а» и «А» казались разными. В результате повседневная жизнь пациента оказалась невыразимо затруднена — он не справлялся даже с такими простыми задачами, как накрыть на стол. Ученые говорят, что без способности категоризировать мы бы не выжили как биологический вид, но я бы сказал даже больше: без этой способности человек не выживет даже как индивид. В этой главе мы разобрались, что у категоризации, как и у многих бессознательных процессов, есть светлые и теневые стороны. В следующей главе мы рассмотрим, как мы категоризируем самих себя, когда определяем себя в связи с другими людьми по определенным признакам. Как влияет такое определение на наше обращение с людьми внутри группы и вне ее?
Глава 8. Свои и чужие
Любая группа… вырабатывает способ жить с характерными опознавательными знаками и верованиями.
Гордон Оллпорт[308]Лагерь располагался в густом лесу на юго-востоке Оклахомы, примерно в семи милях от ближайшего города, в самом центре заповедника Робберз-Кейв, скрытый густой листвой и окруженный забором. Когда-то в этих лесах скрывался Джесси Джеймс, отсюда и название заповедника[309]. Здесь по-прежнему было идеальное место для желающих затихариться. Внутри ограждения находились две избы, отделенные друг от друга и от дороги диким лесом, они не просматривались и не прослушивались ни друг от друга, ни с дороги. В 1950-х, задолго до мобильных телефонов и интернета, это была достаточная гарантия полной изоляции для обитателей обоих домов. В ночь налета, в 22:30 обитатели одного дома вымазали себе лица и руки до локтей грязью, прокрались по лесу ко второму дому и проникли внутрь. Дверь не запиралась, обитатели второго дома спали, а захватчики были обозлены и пришли мстить. Им всем было по одиннадцать лет.
Вендетта оказалась страшна: дети оборвали накомарники, проорали всякие гадости и стащили трофей — пару джинсов. Когда все жертвы пробудились, мстители так же споро дали деру обратно в свою избушку. Им требовалось не ранить, но уязвить. Вполне себе история из жизни взбаламученного летнего лагеря, но этот лагерь был особенный: пока мальчишки играли и воевали, ели и болтали, планировали и замышляли, армия взрослых тайком и без разрешения наблюдала, подслушивала и изучала каждое их движение.
Мальчишек из лагеря Робберз-Кейв вовлекли в смелое и яркое — и, по сегодняшним меркам, неэтичное, — полевое социопсихологическое исследование[310]. В отчете об этом исследовании сообщается, что подопытных подбирали очень тщательно: ни один ничем не выделялся среди прочих. Исследователи скрупулезно отсматривали детей, прежде чем включать их в подопытную группу, исподтишка наблюдали их на игровой площадке, изучали их школьные характеристики. Все испытуемые были представителями среднего класса, протестанты, европеоиды, со средней умственной развитостью. Никто ни с кем в этой группе не был ранее знаком. Набрав 200 кандидатов, исследователи обратились к их родителям с отличным предложением: можно сдать чадо в трехнедельный летний лагерь за символическую плату, но с оговоркой, что повидаться будет нельзя. Все эти три недели, объяснили ученые родителям, будут проходить исследования «отношений в групповой деятельности».
Двадцать две пары родителей согласились. Исследователи поделили мальчиков на две группы по одиннадцать человек, чтобы обе команды были приблизительно равны между собой по росту, весу, физической подготовке, популярности участников и определенным навыкам, которые были бы полезны в мероприятиях, запланированных в лагере. Группы поселили отдельно друг от друга, им не рассказывали, что умеет другая группа, и первую неделю в Робберз-Кейв было, по сути, два отдельных лагеря, и мальчишки в этих лагерях друг о друге не знали.
Обитателей обоих лагерей развлекали играми в бейсбол, пением и прочими обычными лагерными делами, но за ними неотступно наблюдали и все записывали их вожатые, которые были на самом деле исследователями. Среди прочего ученым было интересно, станут ли мальчики сплачиваться, и если да, то как и почему. Те, конечно, сплотились. У каждой группы сформировалось свое лицо, подобралось имя («Гремучие Змеи» и «Орлы»), появился флаг. В каждой группе были свои, отличные от другой, «любимые песни, занятия и особые нормативы поведения». Но гвоздь эксперимента — изучить, как и почему после сплочения группы начнут реагировать друг на друга. И вот на второй неделе «Орлов» и «Змеей» представили друг другу.
Фильмы и романы, живописующие картины далекого прошлого или пост-апокалиптического будущего, предупреждают нас: с изолированными группами Homo sapiens надо обращаться осторожно — их члены скорее отчекрыжат вам нос, чем поднесут в дар благовония. Физик Стивен Хокинг когда-то поддержал этот тезис, заметив, что от пришельцев из космоса лучше держаться подальше, а не на чай приглашать. Колонизаторская история человечества подтверждает эту гипотезу. Когда представители одной нации высаживаются у берегов другой, и культуры у них очень разные, пришельцы могут сколько угодно заявлять, будто пришли с миром, — все равно скоро начнется пальба. В случае «Змеев» и «Орлов» эпизод имени Христофора Колумба случился в начале второй недели: вожатый-наблюдатель рассказал по отдельности каждой группе о существовании другой. Реакции у обеих групп оказались сходные: а давайте померяемся силами с другой командой — посостязаемся в спорте. Произошли переговоры, и стороны договорились о нескольких встречах на следующей неделе, включая бейсбольный матч, перетягивание каната, постановку палатки на время и поиск клада. Вожатые взяли на себя организацию призов и медалей победителям.
Вскоре «Змеи» и «Орлы» включились в ту же динамику, что и бесчисленные воинствующие клики задолго до них. В первый день состязаний «Орлы» продули в перетягивание каната и, топая домой, оказались на стадионной поляне, где «Змеи» подняли свой флаг. Пара «орлов», огорченная поражением, влезла на флагшток и спустила стяг противника. «Орлы» его затем подпалили, после чего обожженным повесили на место. Вожатые на поджог флага никак не отреагировали, но втихаря все законспектировали, организовали следующую встречу команд и сообщили им, что дальше будут соревнования по бейсболу и всему остальному.
Наутро после завтрака «Змеев» привели на стадион, где, ожидая «Орлов», они увидели, что им спалили флаг. Исследователи наблюдали, как «Змеи» измыслили расплату, которая воплотилась в массовой потасовке с появившимися на площадке «Орлами». Персонал некоторое время наблюдал за дракой, после чего детей разняли. Вражда продолжилась ночным нападением «Змеев» на дом «Орлов» и прочими событиями следующего дня. Экспериментаторы надеялись, что наличие групп с конкурирующими целями, но без предопределенных различий, покажет им, как возникают и развиваются уничижительные общественные стереотипы, подлинная межгрупповая нетерпимость и все прочие симптомы межгрупнового конфликта, которыми человечество так знаменито. Их ожидания сбылись. Мальчишки Робберз-Кейв уже давно достигли пенсионного возраста, но история того лета и исследовательский анализ ее до сих пор цитируется в психологической литературе.
Люди испокон веку сбивались в группировки. Если невинное перетягивание каната породило межгрупповую распрю, вообразите накал страстей между двумя человеческими группами, которым надо прокормить ртов больше, чем на редких убитых мамонтах бывает мяса. Это сейчас для нас война хотя бы отчасти идеологически обоснована, но нужда в еде и воде — сильнее любых мировых идеологий. Задолго до изобретения коммунизма, демократии и теорий расового превосходства соседствующие группы людей дрались и далее массово уничтожали друг друга, отвоевывая жизненные ресурсы[311]. В такой среде развитое чувство «мы против них» было необходимым условием для выживания.
Внутри группировок это самое «мы против них» тоже существовало: доисторические люди, как и другие человекообразные, формировали альянсы и коалиции внутри своих же групп[312]. Одаренность в офисной политике — полезный талант нашего времени, а двадцать тысяч лет назад, кому удастся поесть, могла определять групповая динамика, и отдел кадров мог приструнить халтурщика копьем в спину. И если способность улавливать, куда дует ветер внутренней политики, в современной работе очень полезна, в доисторические времена она была жизненно необходима: сегодня ты уволен, а тогда был бы мертв.
Ученые называют любую группу, к которой люди себя причисляют, «ингруппой», или «своей группой», а группу, которая их в себя не включает, — «они-группой», или «другими». В отличие от общеупотребимого использования, термины «своя группа» и «они-группа» в техническом смысле означают не уровень популярности человека в группе, а просто различают «нас» и «их». Это важное различение: мы думаем по-разному о тех, кто вхож в ту же группу, что и мы сами, и о тех, кто входит в группы, где мы не числимся; более того, мы и ведем себя по-разному в обоих случаях — мы в этом вскоре убедимся. И все это происходит с нами автоматически, независимо от того, хотим ли мы сознательно различать группы этих двух видов. В предыдущей главе я рассуждал о том, как наша склонность категоризировать других людей воздействует на наши о них суждения. Категоризация себя по отношению к «своей группе» и «они-группе» тоже очень заметна — она влияет на то, какое место в мире мы отводим себе и как воспринимаем в этой связи других. Далее мы рассмотрим, что происходит, когда мы применяем категоризацию, определяя себя самих и отделяя «наших» от прочих.
Мы все входим во многие «свои группы», и поэтому наша самоидентификация от ситуации к ситуации меняется. Один и тот же человек может в разное время считать себя женщиной, начальником, сотрудницей компании «Дисней», бразильянкой, матерью — в зависимости от того, что в данный момент уместнее или что, скажем, приятнее. Жонглирование принадлежностями к той или иной «своей группе» — трюк, применяемый всеми нами, это очень помогает производить яркое впечатление на окружающих: «свои группы», с которыми мы идентифицируемся, — важная компонента нашего внутреннего образа. И экспериментальные, и теоретические исследования выявили: люди готовы жертвовать серьезными финансовыми ресурсами ради принадлежности к «своей группе», которая им почему-либо притягательна[313]. По этой причине, например, люди готовы платить большие деньги за членство в каком-нибудь эксклюзивном загородном клубе — и даже не пользоваться его услугами. Один большой начальник компании по разработке компьютерных игр поведал мне о замечательном примере готовности отдать много денег за престиж принадлежности к некой «своей группе». Одна из старших продюсеров, узнав, что другой продюсер пошел на повышение, решительно заявилась в кабинет к начальнику. Он сказал, что ей продвижения по службе пока не даст — по финансовым причинам. Но та продолжала настаивать: другому-то коллеге подняли зарплату. Большому начальнику жить было непросто: рынок сверхконкурентный, другие компании дышат в затылок и норовят стибрить хорошие кадры, если плохо лежат, но раздавать деньги направо и налево всем, кто их заслуживает, он не может. Какое-то время пообсуждав с коллегой эту тему, он заметил, что не сама прибавка к жалованию ей покоя не дает, а то, что коллега младше ее получил ту же должность, что и она. Тогда он предложил ей компромисс: он ее назначит на должность повыше, а прибавку даст чуть погодя. Как и офис продаж загородного клуба, он наградил ее доступом в «свою группу» — в обмен на деньги. Рекламисты отлично улавливают эту динамику. Поэтому «Эппл» тратит сотни миллионов долларов на рекламные кампании, напирая на то, что ассоциирование со «своей группой» «Мака» — это принадлежность к сообществу умных, элегантных и хипповых, а ассоциирование со «своей группой» PC-пользователей — к неудачникам.
Стоит начать думать о себе как о члене эксклюзивного загородного клуба, круга больших начальников или класса пользователей определенных компьютеров, как взгляды других участников «своей группы» начинают проникать в наше мышление и окрашивают нашу картину мира по-своему. Психологи называют эти взгляды «групповыми нормами». Вероятно, самую дистиллированную иллюстрацию такого влияния предложил автор эксперимента в Робберз-Кейв. Его звали Музафер Шериф. Турок, эмигрировавший в США учиться в университете, он получил докторскую степень в Колумбийском университете в 1935 году. Его диссертация была посвящена влиянию групповых норм на зрительное восприятие. Вам, возможно, думается, что зрение — процесс объективный, но работы Шерифа показывают, что групповые нормы могут влиять даже на визуальное восприятие световой точки.
В своих исследованиях Шериф, обогнав развитие этой отрасли науки на десятилетия, приглашал испытуемых в темную комнату и показывал им небольшое световое пятно на стене. Через некоторое время складывалось ощущение, что пятно движется. Но это всего лишь иллюзия. Такой эффект возникает из-за малюсеньких движений глаз, в результате которых картинка на сетчатке слегка колебалась. Как я уже рассказывал во второй главе, в нормальных условиях мозг, улавливая одновременное легкое подрагивание всех объектов в поле наблюдения, корректирует его, и мы воспринимаем то, что видим, как неподвижное. Но мозг можно надурить, показывая ему световое пятно вне контекста, и тогда воспринимающему покажется, что пятно движется. Более того, поскольку сравнить расстояния и скорости не с чем, степень подвижности пятна наблюдатель может оценивать очень по-разному. Если спросить разных испытуемых, как далеко пятно сдвинулось от начальной точки, ответы будут сильно отличаться.
Шериф проводил эксперимент на группах из трех человек одновременно и попросил их сообщать вслух, насколько продвинулось пятно. И вот что интересно: участники каждой группы поначалу называли разные значения, кто побольше, кто поменьше, но вскоре их оценки свелись к некому общему узкому диапазону — «норме» данной группы. «Норма» варьировалась в широком диапазоне от группы к группе, но внутри каждой группы воцарялось согласие, к которому участники приходили без всяких переговоров и убеждений. Более того, когда отдельных участников групп пригласили повторить эксперимент через неделю, на сей раз поодиночке, они повторили те же оценки, что давали коллективно. Восприятие участников «своей группы» стало их личным восприятием.
Считая себя частью какой-либо группы, мы автоматически определяем всех вокруг как «мы» и «они». Некоторые «свои группы» — семья, коллеги по работе, приятели-велосипедисты — включают в себя только тех, с кем мы знакомы лично. Другие — например женщины, латиноамериканцы, старики — гораздо шире; общество объединяет их и обобщает их черты. Но к каким бы «своим группам» мы ни принадлежали, они по определению состоят из людей, с которыми мы усматриваем нечто общее. Благодаря этой схожести мы воспринимаем нашу судьбу связанной с судьбой группы, а ее успехи и поражения — как свои собственные. И вполне естественно в таком случае, что для членов «своей группы» мы отводим в сердце особое место.
Люди в целом нам могут и не нравиться, но как бы мы ни относились к роду человеческому, наше неосознанное «я» склонно симпатизировать членам «своей группы» больше, чем прочим. Возьмем, скажем, «свою группу» людей вашей профессии. В одном исследовании ученые попросили испытуемых оценить общую симпатичность врачей, адвокатов, официантов и парикмахеров по шкале от 1 до 100[314]. Трюк эксперимента состоял в том, что все его участники сами были врачами, адвокатами, официантами или парикмахерами. Результаты оказались очень стабильными: любой из трех представителей профессии оценил представителей четвертой как среднюю, с симпатичностью около 50 баллов. Но собратьев по цеху все оценили ощутимо выше — дали им около 70 баллов. Возникло, правда, одно исключение — адвокаты: они оценили и представителей других профессий, и своей одинаково — приблизительно в 50 баллов. Сразу, видимо, вспоминаются анекдоты об этой профессии, так что я тут не буду их пересказывать. Однако объяснять отсутствие у адвокатов особых симпатий к другим юристам лишь тем, что единственная разница между адвокатом и сомиком в том, что один кормится подонками, а другой — рыба, не стоит. Из всех четырех профессиональных групп, приглашенных к эксперименту, лишь адвокатская предполагает постоянное противостояние ее членов друг другу. Поэтому, несмотря на то, что адвокаты — «своя группа», отдельные ее представители всегда могут оказаться в «они-группе» по отношению друг к другу. Но если оставить за скобками эту аномалию, исследование показывает, что мы имеем встроенную склонность к участникам «своей группы», будь то религия, раса, национальность, фасон компьютера или отдел в компании, где мы работаем. Эксперименты демонстрируют, что принадлежность к одной группе может даже перекрывать дурные личные качества ее участников друг для друга[315]. Один исследователь обобщает это так: «Человеку могут нравиться те или иные люди как участники группы, даже если они ему не нравятся как личности».
У этого открытия — что нам люди могут нравиться только потому, что мы с ними себя как-то ассоциируем, — наблюдается естественное следствие: мы предпочитаем иметь дело и в социальной жизни, и в бизнесе с представителями «своей группы», а также оценивать их работу и ее плоды более снисходительно, чем в общем случае, даже если нам кажется, что мы со всеми обращаемся одинаково[316]. Например, в одном эксперименте исследователи разделили участников на группы по трое. Группы спарили по две, и каждой парной группе дали три задания: создать произведение искусства из набора детских игрушек, набросать проект дома престарелых и написать притчу с моралью. В каждом задании одного члена тройки в парной группе («не-участника») отделяли от остальных, и он в выполнении заданий не участвовал. По завершении выполнения каждого задания обоих не-участников просили оценить результаты усилий обеих троек в группе.
У не-участников никакой заинтересованности в результатах, достигнутых «своими группами», к которым они изначально относились, не было; «свои группы» формировались без всякой системы и соотнесения с личными качествами участников. Если бы не-участники были непредвзяты, они бы отдавали предпочтение плодам трудов и «своей группы» и «они-группы» в равной пропорции. Но вышло иначе. В двух случаях из трех, если предпочтения возникали, они были в пользу продукта «своей группы».
Еще одна особенность различения «своей группы» и «они-группы»: мы склонны думать о представителях «своей группы» как более разношерстных и сложно устроенных, нежели члены «они-группы». В исследовании по четырем профессиям, о котором шла речь ранее, исследователи попросили всех участников оценить, насколько различаются представители каждой из четырех профессий по творческому потенциалу, гибкости мышления и нескольким другим качествам. Все участники оценили профессиональные группы, отличные от их собственной, как гораздо более однородные. Другие эксперименты привели к такому же заключению в отношении групп, отличающихся по возрасту, национальности, гендеру, расовому признаку и даже по принадлежности к выпускникам того или иного колледжа или женскому университетскому обществу[317]. Именно поэтому, как подметил один исследователь, газеты, издаваемые преимущественно верхушкой белых, публикуют заголовки типа «Черные сильно расходятся во мнениях о ситуации на Ближнем Востоке», будто это невидаль и новость, что не все афроамериканцы думают одинаково, однако никто не видал заголовков вроде «Белые сильно расходятся во мнениях о реформе рынка ценных бумаг»[318].
Казалось бы, это так естественно — воспринимать «свою группу» как более разнообразную, потому что часто мы лучше знакомы с участниками «своих групп» лично. Я, например, знаю уйму физиков-теоретиков лично, и на мой взгляд они довольно пестрая компания. Некоторые любят фортепианную музыку, другие предпочитают скрипку. Кто-то читает Набокова, кто-то — Ницше. Ну ладно, ладно, может, не так уж они и отличны. Но тут я задумываюсь об инвестиционных банкирах. Я мало с кем из них знаком, но мне они кажутся еще более похожими, чем физики-теоретики: по-моему, они все читают «Уолл-Стрит Джорнэл», водят дорогие автомобили и вообще не слушают музыку, а только смотрят финансовые новости по телевизору (а если новости плохие — наливают себе вина по $ 500 за бутылку). Но фокус же вот в чем: наше восприятие «своей группы» как более разнородной не зависит от того, насколько близко мы знакомы с представителями «они-групп» — для формирования такого суждения достаточно лишь категоризации людей на своих и чужих. Совсем скоро мы разберем, как превалируют наши особые чувства к «своей группе» даже в тех случаях, когда в рамках эксперимента исследователи собирают не знакомых друг другу людей в случайные «свои» и «они-группы». Когда Марк Антоний обратился к народу после убийства Цезаря со словами, в Шекспировой версии событий: «Внемлите, друзья, собратья, римляне!»[319], он на самом деле произнес: «Участники “своей группы”, участники “своей группы”, участники “своей группы”!» Мудро.
Несколько лет назад трое гарвардских исследователей дали нескольким десяткам женщин, выходцев из Азии, непростой математический тест[320]. Но перед командой «на старт» ученые попросили участниц заполнить анкету о себе самих. Эти женщины были членами двух «своих групп» с конфликтующими нормами: они были из Азии — эта группа ассоциируется с математическими наклонностями, и при этом женщинами — эта группа считается для математики потерянной. Одна часть подопытных получила анкету, в которой был вопрос о том, какими языками владеют они сами, их родители, их прародители, и сколько поколений назад семья переехала в Америку. Эти вопросы внедрили в анкету для того, чтобы опрашиваемые идентифицировали себя с выходцами из Азии. Другой части испытуемых предложили вопросы о правилах проживания в общежитии, чтобы те идентифицировали себя с женщинами. А третьей части — контрольной группе — достались вопросы о компаниях, которые предоставляют им услуги телевидения и телефонной связи. После анкетирования участницы проделали математический тест и ответили на заключительный опрос, а исследователи оценили полученные результаты. Судя по заключительным самоотчетам, стартовая анкета никак не повлияла на сознательную оценку участниц их способностей и на прохождение теста. Но неосознанно на них явно что-то повлияло: женщины, которых подтолкнули воспринимать себя как азиаток, решили задачи теста лучше, чем контрольная группа, а участницы, которым напомнили об их принадлежности к «своей группе» женщин, — хуже. Наша идентификация себя со «своей группой» влияет на то, как мы оцениваем и окружающих, и самих себя, на то, как мы себя ведем и даже на результаты наших усилий.
Мы все входим в разнообразные «свои группы», и они, как «своя группа» азиатов и «своя группа» женщин, могут иметь противоречащие друг другу нормы. Я обнаружил, что если это осознать, таким конфликтом можно пользоваться в своих интересах. К примеру, я иногда курю сигары и при этом ощущаю определенное «групповое» родство с лучшим другом по колледжу, с научным руководителем моей диссертации, с Альбертом Эйнштейном и всеми остальными физиками, кому по душе сигары. Но когда мне начинает казаться, что я увлекаюсь курением, я сосредоточиваюсь на другой «своей группе» курильщиков, в которую входит мой отец, страдавший болезнью легких, и мой двоюродный брат, подкошенный раком ротовой полости.
Конфликтующие нормы «своих групп» временами приводят к занимательным противоречиям в нашем поведении. Например, телевидение время от времени показывает социальную рекламу, направленную на борьбу с вандализмом — против замусоривания заповедников и растаскивания на сувениры природных объектов. Эти рекламные ролики также занижают угрожающую частоту, с которой эти прецеденты случаются. В одном таком ролике индеец, облаченный в национальный костюм, плывет на каноэ через загаженную реку. Вот он добирается до заваленного мусором противоположного берега, и тут на машине к берегу подкатывает некий типичный американец и вытряхивает всякий хлам прямо под ноги индейцу. В кадре появляется лицо индейца крупным планом, одинокая слеза сбегает по щеке. Эта реклама недвусмысленно транслирует нашему сознанию мысль о том, что мусорить нехорошо. А нашему бессознательному уму — что члены нашей группы, собратья-туристы, мусорят. Какая часть видеообращения победит — призыв к нашей этике или напоминание о нашей групповой принадлежности? Никто не занимался изучением эффекта, который производит этот конкретный ролик, но исследование воздействия другого ролика социальной рекламы, впрямую осуждающего небрежение чистотой в публичных местах, показало, что он помог улучшить ситуацию, а похожая реклама, в которой фигурировала фраза «Американцы произведут рекордное количество мусора!», привела к усилению замусоривания[321]. Сомнительно, что кто-либо из зрителей сознательно воспринял фразу «Американцы произведут рекордное количество мусора!» как призыв, а не как критику, но определение замусоривания как групповой нормы дало именно этот результат.
В связанном по смыслу исследовании был создан транспарант, осуждающий разворовывание древесины в Национальном парке «Окаменелый лес»[322]. Транспарант разместили на проходном месте, а вокруг разложили специально помеченные куски окаменелой древесины и стали смотреть, какой эффект произведет воззвание[323]. Оказалось, что в отсутствие транспаранта охотники за сувенирами всего за 10 часов растащили около 3% всех маркированных деревяшек. Но в виду у транспаранта за то же время разворовали почти втрое больше — 8%. Опять-таки, вряд ли собиратели буквально подумали — «Все так делают, и я буду». Но, видимо, именно так их бессознательное трактовало обращение на транспаранте. Исследователи отдельно подчеркнули, насколько широко распространены воззвания, порицающие нежелательные социальные нормы — но и акцентирующие на них внимание: они приводят к контрпродуктивным результатам. Администрация колледжа может сколько угодно думать, что призыв, адресованный студентам: «Долой засилье массовых попоек в студгородке!» — не усваивается как девиз: «Студгородку — массовые попойки!» В детстве я пытался оправдать игру в бейсбол по субботам вместо похода в синагогу привычками своих друзей, и мама спрашивала меня: «А если Джои прыгнет в окошко — ты тоже прыгнешь?» Теперь, много лет спустя, я понимаю, что должен был бы отвечать: «Ага, мам. Эксперименты доказывают, что прыгну».
Я уже отмечал, что мысленно мы обращаемся с людьми из «своих групп» и «они-групи» по-разному, хотим мы осознанно так думать это или нет. Любознательные психологи годами пытались определить минимальные требования, необходимые, чтобы человек почувствовал родство с некой «своей группой». Выяснилось, что таких требований не существует. Нет нужды ни разделять взгляды, ни быть похожим на других членов группы — с ними даже не обязательно водить знакомство. Довольно знать об этой принадлежности, и приверженность возникает сама.
Ученые, например, предложили эксперимент, в рамках которого испытуемых просили взглянуть на картины швейцарского художника Пауля Клее[324] и русского художника Василия Кандинского[325] и сообщить, что им больше понравилось[326], и исследователи обозначили каждого участника как поклонника Кандинского или поклонника Клее. У обоих художников собственный узнаваемый стиль, но только оголтелые энтузиасты истории искусств, специализирующиеся на авангардной европейской живописи начала XX века, окажись они среди участников, могли бы проникнуться некоторой теплотой по отношению к тем, кто разделяет их вкусы. Для большинства людей по шкале пылкости Клее против Кандинского — не то же самое, что Бразилия против Аргентины или меховое манто против драпового пальто.
Итак, раздав всем участникам наименования поклонников одного или другого художника, ученые предприняли нечто довольно странное: они, по сути, выдали каждому испытуемому по чемодану денег и предложили поделить их с другими участниками по какому угодно принципу. Дележ производили приватно, участники не были знакомы друг с другом и не видели друг друга в процессе дележа. И тем не менее больше денег получили участники «своей группы» — люди с одинаковыми пристрастиями.
Огромный корпус экспериментальных работ подтверждает этот вывод: наша групповая социальная идентификация настолько сильна, что мы готовы предпочесть «наших» «чужим», даже если различие между «нашими» и «ненашими» определяется подбрасыванием монеты. Только представьте: мы не только ассоциируем себя с той или иной группой на основании совершенно случайного различия, но и воспринимаем членов групп по-разному — даже если членство в той или иной группе никак не связано ни с какими осмысленными личными качествами ее участников; этот эффект затрагивает не только нашу личную жизнь — он влияет на целые организации. Например, компаниям выгодно поддерживать идентификацию сотрудников со «своей группой» (работников одной компании) — этого можно достичь созданием и поддержанием яркой корпоративной культуры, что вполне удалось компаниям «Дисней», «Эппл», «Гугл». С другой стороны, если подразделения внутри компании развивают сильное групповое начало, положение становится щекотливым: могут возникнуть пристрастные отношения внутри «своих групп» и дискриминация по отношению к «они-группам», а исследования показывают, что вражда скорее возникнет между группами, чем между отдельными людьми[327]. Но несмотря на то, какова природа общей самости группы, если она вообще есть внутри команды, многие компании считают эффективным поддерживать групповую самость у своих покупателей. Именно поэтому «свои группы», основанные на предпочтении «макинтоша» «РС» или «мерседеса» — «кадиллаку» или «BMW», — не просто клубы компьютерщиков или автолюбителей: эти категоризации мы воспринимаем куда более значимыми и всеохватными, нежели они того заслуживают.
Собачники против кошатников. Любители бифштексов с кровью против любителей прожаренного мяса. Порошковые чистящие средства против жидких. Мы что же, и впрямь делаем глубокие выводы из таких мелких различий? Опыт с Клее и Кандинским — и еще, без преувеличения, десятки подобных — продолжение классической экспериментальной модели, порожденной Анри Тайфелем и его экспериментом с длинами отрезков[328]. В рамках этой модели испытуемых разделили на две группы. Им сообщили, что их определили в ту или иную группу на основании некого общего с другими членами группы признака, который, строго говоря, не имел никакого смысла для создания приверженности группе — равно как и пристрастие к Клее или Кандинскому или точность оценки количества точек, быстро мелькающих по экрану.
Как и в исследовании, о котором я говорил чуть ранее, Тайфель предложил своим подопытным раздать награды другим участникам эксперимента. Если точнее, он предложил испытуемым начислить баллы, которые потом можно будет обналичить. Испытуемые ничего не знали друг о друге — кроме того, к какой группе тот или иной участник принадлежит. В исходном эксперименте Тайфеля раздача баллов была довольно затейлива, но суть эксперимента именно в том, как именно все было придумано, и это имеет смысл описать подробнее.
Эксперимент состоял из десятка этапов. На каждом этапе участник («наградитель») должен был решить, как именно он будет выдавать вознаграждения двум другим анонимным, как я уже говорил, участникам («получателям»), В каких-то случаях оба получателя были членами той же группы, что и наградитель, в каких-то — оба из другой группы; или один был из группы наградители, а другой — нет.
Закавыка состояла в том, что варианты раздачи баллов, предоставленные наградителям, не были беспроигрышными, т. е. задача не сводилась к разделению фиксированного количества очков. Напротив, суммарное количество баллов, которое можно было раздать, зависело от того, какие решения наградитель принимает в случае каждой пары получателей. На каждой стадии эксперимента наградитель должен был выбирать из десятка разных вариантов присвоения баллов. Если бы у наградителей не было предпочтений к «своим», логично было бы выбирать такой метод, который бы максимально увеличивал число баллов у каждого получателя. Но этой логике наградители следовали лишь в одном случае: когда делили между двумя получателями из «своей группы». Присуждая баллы паре участников из «они-группы», наградители выбирали варианты, при которых сумма наградных баллов была существенно меньше. Но самое поразительное в том, что если необходимо было поделить награду между представителем «своей группы» и «они-груипы», наградители склонны были выбирать вариант присвоения баллов так, чтобы максимально увеличить разницу в наградах, даже если такой вариант уменьшал сумму баллов у члена «своей группы»!
Да, вот так: из многих вариантов индивидуального вознаграждения испытуемые стремились увеличить не общее число баллов в «своей группе», а разницу между суммарным вознаграждением «своих» и «чужих». Напомню, что этот опыт повторили много раз, с привлечением участников всех возрастов и очень разных национальностей, но результат получался один и тот же: мы все увлеченно стараемся отличаться друг от друга — в лучшую сторону, и совершенно не важно, насколько беспочвенны наши притязания на превосходство и насколько они могут навредить нам самим.
Узнавать такое довольно неприятно: даже в тех случаях, когда разделение на группы анонимно и совершенно случайно, даже ценой командных потерь люди однозначно предпочитают участников «своей группы», а не действуют во имя наибольшего блага. Но само по себе нас это не обрекает на нескончаемую социальную дискриминацию. Как и бессознательную стереотипизацию, бессознательную дискриминацию можно преодолеть. На самом деле, хоть мы и запросто находим подоплеку для групповых предубеждений, устранить эту подоплеку проще, чем кажется. Поставив эксперимент в Робберз-Кейв, Шериф заметил, что одно лишь простое общение между «Орлами» и «Змеями» противостояния между группами не ослабило, зато оказалась действенной другая тактика: подвергнуть мальчишек череде испытаний, которые можно было преодолеть лишь всем вместе.
Одно из испытаний, выдуманных Шерифом, — огрубить в лагере водоснабжение. Он объявил о возникшей проблеме, сказал, что причины неизвестны, и попросил 25 добровольцев помочь проверить систему подачи воды. На самом же деле ведущие эксперимента закрутили главный вентиль, завалили его парой валунов и закупорили кран. Дети целый час возились все вместе, выявили все неисправности и устранили их. В другой раз Шериф подстроил все так, что грузовик, который ездил в город за провиантом, никак не заводился. Сотрудник лагеря, водивший машину, «пыхтел и потел» и извлекал из двигателя всевозможный грохот и фырчание, пока мальчишки подтягивались глазеть. Наконец до них дошло, что машина может завестись, если ее толкнуть. Но автомобиль стоял носом в горку. И тогда двадцать пацанов из обеих групп привязали к передку канат, который не так давно скандально перетягивали, и тянули его, пока машина не завелась.
Шериф и его коллеги создали еще несколько ситуаций, в которых у обеих групп появлялась общая цель и требовалась слаженная межгрупповая деятельность, и исследователи отметили, что межгрупповой конфликт в результате резко пошел на убыль. Шериф писал: «Разница в особенностях межгруппового поведения была поразительная»[329]. Чем выгоднее людям традиционных «своих групп» — расовых, этнических, классовых, гендерных, религиозных — действовать вместе, тем меньше они друг друга дискриминируют[330].
Я сам жил в Нью-Йорке неподалеку от Всемирного торгового центра и пережил это лично — с 11 сентября 2001 года и далее. Нью-Йорк называют плавильным котлом культур, но некоторые элементы, вброшенные в этот котел, бывает, не плавятся и даже не смешиваются с остальными. Этот город — скорее рагу из очень разных ингредиентов: банкиры и булочники, юные и старые, черные и белые, богатые и бедные, и частенько они плохо сочетаются, а бывает, даже сталкиваются лбами. Я оказался у Северной башни ВТЦ в 8:45 утра 11 сентября, в суматошной толпе уличных торговцев-иммигрантов, типов с Уолл-стрит в костюмах, евреев-ортодоксов в полной выкладке — город как он есть, во всем разнообразии этносов и классов. Но в 8:46, когда первый самолет врезался в Северную башню и воцарился хаос, когда на нас полетели первые горящие обломки и чудовищная картина смерти развернулась в небе над нами, произошло нечто неуловимо магическое. Все различия будто испарились, и люди бросились помогать друг другу, неважно, кто есть кто. В последующие несколько месяцев мы все были, в первую очередь, нью-йоркцами. Тысячи погибших, десятки тысяч бездомных и безработных всех профессий, цветов кожи и классов — и миллионы нас, потрясенные тем, что пришлось перенести нашим собратьям, и все мы, нью-йоркцы, пережили такую сплоченность, какой мне не приходилось ощущать никогда прежде. Целые кварталы продолжали чадить, едкий запах разрухи пронизывал воздух, которым мы дышали, со стен зданий и подземки, с фонарных столбов и заборов на нас смотрели лица пропавших без вести, а мы изо всех сил старались быть добрее друг к другу, в большом и малом, и город ничего подобного раньше не видел. Человеческая общественная природа явила свою наилучшую сторону — целительную силу группового инстинкта человека.
Глава 9. Чувства
Каждый человек есть отдельное повествование, которое ведется непрерывно и бессознательно им самим, через него и внутри него самого.
Оливер Сакс[331]В начале 1950-х двадцатипятилетняя женщина по имени Крис Костнер Сайзмор пришла на прием к психиатру с жалобами на жестокие головные боли, иногда сопровождавшиеся кратковременной потерей памяти[332]. Сайзмор производила впечатление нормальной молодой матери в неудачном браке, но без особых психологических проблем. Ее врач позднее описывал ее как скромную и скованную, осмотрительную и щедрую на честные подробности. Он с ней обсудил ее эмоциональные трудности, но дальнейшее лечение, длившееся несколько месяцев, не показало, что Сайзмор действительно теряла сознание или всерьез страдала каким-либо умственным заболеванием. Ее семья тоже не заметила никаких странностей. И вот однажды на терапевтической сессии она сказала, что, кажется, недавно куда-то ездила, но совершенно ничего об этом не помнит. Врач подверг ее гипнозу, и туман забвения рассеялся. Несколько дней спусти психиатр получил неподписанное письмо. По штампу на конверте и знакомому почерку он понял, что писала Сайзмор. В послании она сообщила, что ее обеспокоило это помрачение памяти, — как же ей теперь быть уверенной, что она все помнит и что подобная забывчивость не нападет на нее вновь? В конце письма было нацарапано еще одно предложение, другим почерком, неразборчиво.
На следующем приеме Сайзмор заявила, что письма не отправляла, хотя помнит, что вроде за него садилась, но так и не закончила. И тут вдруг очень огорчилась, разволновалась и спросила, ужасно стесняясь, не является ли признаком сумасшествия то, что она слышит голоса? Пока терапевт размышлял над ответом, Сайзмор изменила позу: закинула ногу за ногу и всем своим видом являла теперь «детскую бесшабашность», какой ее врач никогда за ней не замечал. Он писал об этой метаморфозе так: «Тысяча мимолетных изменений в манерах, жестах, выражении лица, позе и особенностях рефлекторных инстинктивных реакций, взгляда, движения бровей и глаз — все указывало на то, что эту женщину будто подменили». И вот эта «подменная» женщина принялась рассказывать о Крис Сайзмор и ее проблемах в третьем лице — «она», «ее».
Врач спросил у Сайзмор, как ее зовут, и та назвала другое имя. Это она, женщина с другим именем, нашла письмо, дописала его и отправила. В последующие месяцы врач Сайзмор провел психологические тесты личности с обеими субличностями Сайзмор. Он показал результаты независимым экспертам, которым не сообщил, что это тесты, выполненные одним человеком[333]. Эксперты заключили, что эти две личности очень по-разному воспринимают самих себя. Женщина, обратившаяся к врачу, считала себя вялой, слабой, нехорошей. Она не догадывалась о другой себе — женщине, воспринимавшей себя активной, сильной, славной. Сайзмор вылечили. На излечение ушло восемнадцать лет[334].
Случай Крис Сайзмор довольно радикален, но разные личности есть у всех нас. Мы не только разные люди в свои тридцать и пятьдесят, мы меняемся в течение одного дня — по обстоятельствам, в зависимости от социального окружения и гормонального состояния. Мы по-разному ведем себя в хорошем настроении и в дурном. У нас разные повадки на обеде с шефом и на обеде с подчиненными. Исследования показывают, что люди принимают иные этические решение после просмотра фильма со счастливым концом[335], что женщины при овуляции носят более откровенные наряды, проявляют больше полового соперничества и явственнее предпочитают мужчин, склонных к половому соперничеству[336]. Наш характер не выбит в нас, как в мраморе, он подвижен, изменчив. Исследования бессознательных предрассудков показали, что мы вообще бываем двумя разными людьми одновременно: бессознательным «я» с камнем за пазухой против черных (или стариков, или толстяков, или геев, или мусульман) — и сознательным «я», презирающим предрассудки.
Несмотря на эти выводы, психологи традиционно считали, что чувства и поступки человека отражают неизменные черты, которые есть основа конкретной личности. Они полагали, что люди знают себя и действуют последовательно, осознанно и свободно[337]. Это представление было настолько убедительным, что в 1960-х один исследователь предположил: вместо дорогостоящих и длительных экспериментов психологи могут получить достоверные данные путем простого опроса добровольцев, в котором им нужно предсказать свои чувства и поведение в тех или иных обстоятельствах, интересующих ученых[338]. Действительно, клиническая психотерапия по большей части основана примерно на том же — при помощи интенсивной, терапевтически направляемой рефлексии мы можем постичь свои подлинные чувства, отношение к происходящему, мотивы поступков.
Но вспомним статистику браков между Браунами и Браунами и инвесторов, пренебрегающих акциями компаний с непроизносимыми названиями. Ни один Браун сознательно не планировал выбрать супруга-однофамильца; ни один профессиональный инвестор не подумает, что на его впечатление от новой компании влияет легкость произношения ее названия. Неосознанные процессы у нас в голове скрывают завесой тайны и происхождение наших чувств, и сами эти чувства. Говорить о чувствах — штука полезная, но некоторые сокровенные переживания не выдают секретов даже при самой глубокой интроспекции. Поэтому многие традиционные выводы психологов о наших чувствах попросту не выдерживают никакой критики.
«Я потратил годы на психотерапию, — сказал мне как-то один известный нейробиолог, — пытался разобраться, почему я веду себя так, а не иначе. Я размышляю о своих чувствах и мотивациях. Я обсуждаю их с психотерапевтом и даже, кажется, сочинил некую осмысленную историю, она меня устраивает. Да, мне нужна история, в которую можно верить, но есть ли в ней правда? Может, и нету. Настоящая правда — она где-то в структурах моего мозга, в таламусе и гипоталамусе, в мозжечке, но туда мне нет сознательного доступа никакой интроспекцией». Если нужно по-настоящему понять, кто мы такие и, следовательно, как будем реагировать в разных ситуациях, придется разобраться в причинах наших решений и поступков и — еще глубже — в чувствах и их происхождении. Откуда они берутся?
Начнем с простого: с переживания боли. Сенсорное и эмоциональное переживание боли происходит от вполне определенных нервных сигналов и играет четко очерченную и очевидную роль в нашей жизни. Боль поддерживает наше решение срочно поставить куда-нибудь раскаленную сковородку, наказывает за прибитый молотком палец и напоминает, что на дегустации шести сортов односолодовых напитков не надо просить двойную порцию. Приятелю, возможно, придется отвезти вас домой прежде, чем вы постигнете свои чувства к финансовому аналитику, который притащил вас в бар вчера вечером, но зверская головная боль — чувство, постижимое без чужой помощи. Но и оно не так-то просто, как показывает знаменитый эффект плацебо.
Кстати о плацебо. Когда мы его себе представляем, перед глазами возникает пресловутое сахарное драже, действенное, как «тайленол», — покуда мы верим, что приняли лекарство. Но воздействие плацебо бывает куда мощнее. Например, стенокардия, хроническое заболевание, возникающее из-за недостаточного кровоснабжения мышцы сердечной стенки, часто вызывает острые боли. Если у вас стенокардия, и вы при этом испытываете физические нагрузки (а при этом заболевании открыть входную дверь — уже нагрузка), нервы в сердечной мышце срабатывают как датчик двигателя: они отправляют сигналы по позвоночнику в мозг, сообщая, что вы требуете невозможного от системы кровоснабжения, и вы тут же испытываете чудовищные боли — маячок, который невозможно игнорировать. В 1950-х пациентам со стенокардией хирурги обычно пережимали определенные артерии в грудной полости. Такие операции провели на очень многих больных, с виду — успешно. Но что-то все же шло не так: патологоанатомы, вскрывавшие впоследствии трупы этих пациентов, не видели никаких признаков дополнительного кровоснабжения сердца.
Очевидно, операции успешно справлялись с симптомами, но не с причиной заболевания. В 1958 году один любознательный кардиохирург произвел эксперимент, который по этическим соображениям был бы невозможен в наши дни: он симулировал операцию. Этот хирург рассек кожу в области нужных артерий у пяти пациентов, а потом просто зашил им грудь, а с артериями не возился. На группе из тринадцати пациентов произвели операции по всей форме. Хирург не сообщал ни пациентам, ни их кардиологам, кто какую операцию перенес. Среди пациентов, прооперированных по-честному, 76% отметили улучшение состояния, а среди пяти, переживших псевдо-операцию, — все пятеро. В обеих группах верование в то, что нужная операция произведена, значительно ослабила грудные боли по сравнению с состоянием до операции. Поскольку никаких реальных физических изменений ни в той, ни в другой группе операции не производили (дополнительного кровоснабжения сердца не возникало), болевые центры мозга всех пациентов, по идее, должны были бы получать нервные сигналы на том же уровне. Но в обеих группах сознательное переживание боли существенно уменьшилось. Похоже, наше знание об ощущениях — даже физических — настолько зыбко, что мы толком даже не разумеем, когда испытываем жуткую боль, а когда не очень[339].
Преобладающий современный взгляд на эмоции восходит не к Фрейду, который верил, что бессознательное содержимое ума недоступно из-за подавления, а к Уильяму Джеймсу, о котором мы уже несколько раз вспоминали. Джеймс был натурой загадочной. Он родился в Нью-Йорке в 1842 году в семье очень состоятельного человека, тратившего нажитые богатства на путешествия, и Джеймс к своим восемнадцати годам успел поучиться в пятнадцати с лишним школах в Европе и Америке — в Нью-Йорке, Ньюпорте (Род-Айленд), Лондоне, Париже, Булони-сюр-Мер (северная Франция), Женеве, Бонне. Его увлечения сменялись столь же часто — искусства, химия, военное дело, анатомия, медицина. Пятнадцать лет он пробовал то и это, и вот однажды получил приглашение от знаменитого гарвардского биолога Луи Агассиса[340] отправиться в экспедицию в амазонскую сельву в Бразилии. Большую часть путешествия Джеймс страдал морской болезнью и вдобавок подцепил оспу. Джеймсу удалось закончить высшее образование только в области медицины и получить степень доктора медицины в Гарварде в 1869 году, в двадцать семь. Однако медицину он никогда не практиковал и не преподавал.
Поездка к минеральным источникам в Германии в 1867 году — там Джеймс поправлял здоровье после амазонского приключения — подтолкнула его к психологии. Как и Мюнстерберг шестнадцать лет спустя, Джеймс посетил лекцию Вильгельма Вундта и очень увлекся предметом, в особенности — целью превратить психологию в настоящую науку. Он принялся читать работы немецких психологов и философов, но вернулся в Гарвард — завершить свое медицинское образование. По окончании университета Джеймс впал в глубокую депрессию. Его дневники того периода — почти сплошь тоска и отвращение к себе. Он так страдал, что даже обратился в клинику в Сомервилле, Массачусетс, за помощью; однако своим излечением он счел себя обязанным не клинике, а статье о свободе воли французского философа Шарля Ренувье[341]. Ознакомившись с ней, Джеймс решил победить депрессию силой собственной воли. По правде говоря, ему это не вполне удалось: еще полтора года он был по-прежнему нехорош, а хронической депрессией страдал до конца своих дней.
Но все же к 1872 году Джеймс оправился достаточно и начал преподавать физиологию в Гарварде, а к 1875-му он уже вел предмет «Отношение между физиологией и психологией» — первый в США курс по экспериментальной психологии. Прошло еще десять лет, и Джеймс обнародовал свою теорию эмоций, отразив ее в общих чертах в статье под названием «Что есть эмоция?» (1884). Статья была опубликована в философском журнале «Майнд», а не в психологическом издании, потому что первый журнал по психологическим исследованиям на английском языке появится только в 1887 году.
В статье Джеймс рассмотрел эмоции «удивления, любопытства, восторга, страха, гнева, похоти, жадности и тому подобных», сопровождающиеся изменениями в теле — учащенным дыханием или пульсом, движениями лица или тела[342]. Вроде бы очевидно, что все эти телесные изменения вызваны соответствующими эмоциями, однако Джеймс предположил, что все строго наоборот. «Я утверждаю обратное, — писал Джеймс, — Изменения в теле происходят сразу вслед за ВОСПРИЯТИЕМ возбуждающего факта, а затем наше переживание этих изменений и ЕСТЬ эмоция. …Если бы не состояние тела, следующее за восприятием, последнее было бы чисто умозрительным по форме, блеклым, бесцветным, лишенным эмоционального тепла». Иными словами, нас не трясет от гнева и мы не плачем от грусти; точнее будет сказать, что мы осознаем, что гневаемся, потому что нас трясет, и нам грустно, потому что мы плачем. Джеймс предположил физиологический источник эмоций, и это представление обрело вес в наши дни, отчасти благодаря технологиям исследования мозга, позволяющим наблюдать физические процессы, связанные с эмоциями, в тот же миг, когда они возникают в мозге.
Эмоции в сегодняшнем нео-джеймсовском видении подобны восприятию и памяти — они воссоздаются из подручных данных. Большая часть этих данных поступает из бессознательной части ума: она обрабатывает информацию, которая поступает от органов чувств, и выдает физиологическую реакцию. Мозг применяет и другие сведения — верования, ожидания и информацию о текущих обстоятельствах. Все данные обрабатываются вместе и на выходе получается осознанное переживание эмоции. Такой механизм может объяснить результаты исследований стенокардии — и воздействие эффекта плацебо на болевые ощущения вообще. Если субъективное переживание боли компонуется и из физиологического состояния, и из данных о сопутствующих обстоятельствах, неудивительно, что наш ум интерпретирует одинаковые физиологические данные (нервные импульсы, означающие боль) по-разному. В результате, когда нервные клетки отправляют сигналы болевым центрам мозга, переживание человеком боли может быть разным, даже если интенсивность сигналов неизменна[343].
Джеймс развил теорию эмоций — среди многих других тем — в книге «Научные основы психологии», которую я упоминал в четвертой главе, рассказывая об опытах Анджело Моссо на мозге пациентов с дефектами черепа. Джеймсу заказали эту книгу в 1878 году. Он начал ее, будучи и так по уши в работе, к тому же — в разгар медового месяца[344]. Но медовый месяц закончился, а Джеймс корпел над книгой еще двенадцать лет. Она стала классикой настолько революционной и значимой, что Джеймс, согласно опросу историков психологии в 1991 году, занял второе место среди ключевых фигур психологии, уступив лишь своему вдохновителю — Вундту[345].
Как ни странно, ни Вундт, ни сам Джеймс книгой не остались довольны. Вундт разочаровался в Джеймсе, потому что тот отклонился от Вундтовской доктрины о том, что все в психологии должно быть измерено. Как, допустим, можно количественно измерить эмоции? К 1890 г. Джеймс решил, что, поскольку это невозможно, психологии придется отойти от чистой экспериментальности, и назвал работу Вундта «меднотрубной психологией»[346]. Вундт, в свою очередь, отозвался о книге Джеймса так: «Это литература, прекрасная литература, но не психология»[347].
К самому себе Джеймс оказался гораздо более критичен. Он писал: «Никого так не отвращает эта книга, как меня самого. Нет такого предмета, какой достоин 1 000 страниц. Будь у меня еще десять лет, я был уместил ее в 500; но, так уж вышло, либо это, либо ничего — омерзительная, раздутая, распухшая, обрюзгшая, отечная масса, свидетельствующая лишь о двух вещах: во-первых, нет такой науки как психология, а во-вторых, У. Дж. — никчемен»[348]. Вслед за публикацией книги Джеймс решил оставить психологию в пользу философии и выманил Мюнстерберга из Германии, чтобы тот принял у него лабораторию. Джеймсу тогда было сорок восемь лет.
Теория эмоций Джеймса некоторое время преобладала в психологии, но потом уступила место другим воззрениям. В 1960-х годах психология свернула в когнитивистику, а идеи Джеймса, называемые ныне теорией Джеймса-Ланге, пережили взлет популярности: концепция переработки мозгом разнородных данных при производстве эмоций отлично встраивалась в Джеймсову систему. Но «красивая» теория не означает «правильная», и ученые занялись поиском дополнительных подтверждений. Самое знаменитое из первых исследований — эксперимент Стэнли Шехтера в Университете Миннесоты, а затем — в Колумбийском университете: тот самый «электрошок» доктора Зильштейна. Исследования Шехтер проводил в паре с Джеромом Сингером, кого впоследствии назвали «лучшим вторым автором в психологии» — он стоял вторым в списках фамилий авторов во многих известных экспериментах[349]. Если эмоции конструируются на основании ограниченных данных, а не на прямом восприятии — так же, как и зрительные переживания и память, должны существовать обстоятельства, по аналогии со зрением и памятью, в которых восполнение умом пробелов в информации приводит к искажению восприятия — к «эмоциональным иллюзиям», аналогичным визуальным и иллюзиям памяти.
Допустим, вы ощущаете физиологические симптомы эмоционального возбуждения — без всякой очевидной причины. Логическая реакция на это переживание — мысли примерно такого содержания: «Ух ты, у меня в теле откуда ни возьмись — какие-то необъяснимые физиологические изменения! Что вообще происходит?» А теперь давайте предположим, что те же ощущения вы испытываете в контексте, подталкивающем вас интерпретировать свою реакцию как следствие некоторой эмоции — страха, гнева, счастья или сексуального притяжения, хотя объективных причин переживать эти эмоции по-прежнему нет. В этом смысле ваше переживание эмоции — эмоциональная иллюзия. Чтобы продемонстрировать это явление, Шехтер и Сингер разработали два искусственных эмоциональных контекста — «радости» и «гнева» и изучили состояние психологически возбужденных добровольцев, помещенных в эти два эмоционально разных контекста. Исследователи поставили себе цель разобраться, можно ли искусственно вызвать в испытуемых ту или иную выбранную психологами эмоцию.
Вот как организовали эксперимент. Шехтер и Сингер сообщили всем испытуемым, что цель эксперимента — определить, как инъекция витаминного препарата под названием «супроксин» повлияет на их зрение. На самом деле испытуемым вкалывали адреналин, вызывающий учащение пульса и дыхания, повышение кровяного давления, приливы — словом, симптомы эмоционального возбуждения. Испытуемых поделили на три группы. Одной группе («просвещенным») объяснили подлинное воздействие препарата, но подали его под соусом «побочных эффектов супроксина». Второй группе («непосвященным») не сказали ничего. Ее участники переживут те же физиологические эффекты, но не будут знать, что их вызвало. А третьей группе, контрольной, вкололи невинный физраствор. У этой группы никаких физиологических эффектов не ожидалось, но ее членам об этом не сообщалось.
Произведя инъекции, исследователи оставили каждого участника наедине с другим якобы участником, а на самом деле — подсадным из группы исследователей. В «радостном» сценарии подсадной выражал неуемный восторг от участия в эксперименте, тем самым создавая искусственный социальный контекст. В «гневном» сценарии подсадной неумолчно ныл и жаловался на эксперимент и то, как его проводят. Исследователи предположили, что в зависимости от созданного контекста «непосвященные» участники интерпретируют свое возбужденное физиологическое состояние как следствие радости или гнева, а «просвещенные» никаких эмоций не переживут, потому что даже оказавшись в тех же социальных условиях, они будут знать, откуда берутся эти физиологические ощущения и им не потребуется изобретать для них какие бы то ни было эмоциональные объяснения. Шехтер и Сингер также ожидали, что контрольная группа, у которой никакого возбуждения возникнуть не должно вообще, не испытают и никаких эмоций.
Реакции участников оценивали двумя способами. Во-первых, за ними тайком приглядывали из-за непрозрачного стекла незаинтересованные наблюдатели, которым было поручено оценить поведение испытуемых по заранее определенной системе. А во-вторых всем участникам выдали письменную анкету, в которой им надо было оценить свой уровень радости по шкале от 0 до 4. И по первому, и по второму способу оценки все три группы полностью оправдали ожидания Шехтера и Сингера.
Участники и просвещенной, и контрольной группы наблюдали очевидное проявление радости или гнева у напарника-подсадного, но сами таких эмоций не испытывали. «Непосвященные», наблюдая радостного или обозленного напарника, приходили к выводу, что ощущения, которые они испытывают, — радость либо гнев. То есть они попались в ловушку «эмоциональной иллюзии», ошибочно допустив, что реагируют на ситуацию так же, как подсадной.
Модель Шехтера и Сингера была отработана многократно, на протяжении многих лет и в разных модификациях; ученые стимулировали психологическую реакцию и изучили целый диапазон эмоциональных контекстов при помощи более мягких стимуляторов, чем адреналин. Излюбленный контекст — переживание сексуального возбуждения. Как и боль, секс — область переживаний, в которой мы вроде бы сознаем, что именно чувствуем и почему. Но, как выяснилось, сексуальные переживания не настолько линейны, как нам кажегся. В одном таком исследовании ученые привлекли студентов колледжа к участию в двух последовательных экспериментах — в первом ученые собирались рассмотреть якобы воздействие физических нагрузок, а во втором — оценить подборку «небольших фрагментов кинофильма»[350]. На самом деле это был единый двухчастный эксперимент. (Психологи никогда не сообщают испытуемым правду о целях эксперимента, иначе результат будет не «чистый»). Физические упражнения в первой части выполняли функции адреналиновой инъекции — вызывали физиологическое возбуждение неопознаваемого происхождения. Справедливо задаться вопросом: это кому же невдомек, что накрутив милю на беговой дорожке, разгонишь себе и пульс, и дыхание, — но оказывается, есть недолгий период после физической нагрузки, всего несколько минут, когда кажется, что тело уже успокоилось, а оно все еще возбуждено. Как раз в этот зазор ученые и влезли со своим кинофрагментами — показали их «неинформированной» группе. «Просвещенной» группе их показали сразу после упражнений, и поэтому ее участники знали причину своего возбуждения. Как и в эксперименте Шехтера-Сингера, была и контрольная группа, которая вообще не делала упражнений и, соответственно, никакого физического возбуждения не испытывала.
Перейдем к сексу. Как вы уже, наверное, догадались, «небольшие фрагменты» — не из диснеевских фильмов. Экспериментаторы взяли французское эротическое кино «Мотоциклистка» (в американском прокате — «Ничего под курткой»)[351]. Оба названия вполне образные. Французская версия увязана с сюжетом: эта картина — история о путешествии новобрачных, в котором новоиспеченная жена бросает мужа и отправляется на мотоцикле навестить своего любовника в Гейдельберге. Для французов, может, «мотоциклистки» достаточно, чтобы заинтересоваться фильмом, а американские распространители решили, что следует выражаться яснее.
И, конечно, именно то, что «под курткой ничего», привлекло исследователей к этому фильму. Оттуда они и нарезали фрагментов. Правда, по этой части кинолента восторга не вызвала: в контрольной группе студенты дали ей 31 балл из 100. «Просвещенная» группа согласилась — ее участники оценили свою сексуальную реакцию на видеоряд в 28 баллов. А вот студенты из «непосвященных», все еще на взводе после зарядки, но не ведавшие об этом, видимо, приняли свое возбуждение за сексуальное. Они дали фильму 52 балла.
Похожий результат получила и группа исследователей, привлекшая симпатичную интервьюершу для проведения опроса случайных прохожих-мужчин — якобы для учебного задания. Некоторых участников опрашивали на прочном деревянном мосту на высоте всего в несколько метров над небольшой речушкой. Других — на шатающей подвесной переправе шириной в метр и длиной в сто пятьдесят, на высоте пятидесяти с лишним метров над каменной осыпью. По окончании опроса девушка выдавала участникам номер своего телефона — на случай если у участника «возникнут вопросы». Те, кого опрашивали на жутком мостике, наверняка ощущали учащенный пульс и другие адреналиновые эффекты. Они хотя бы отчасти должны были осознавать, что такие телесные реакции связаны с их положением в пространстве. Сочтут ли они свои ощущения сексуальными? На тех, кого опрашивали на низком безопасном мосту, чары собеседницы распространялись, но в меру: всего двое из шестнадцати позвонили ей. Но зато из тех восемнадцати, кто был встречен на переправе над пропастью, позвонили девятеро[352]. У значительного числа мужчин-испытуемых перспектива падения с высоты в сотню футов на скопление крупных валунов вызвала те же ощущения, что игривая улыбка и черное шелковое белье.
Эти эксперименты иллюстрируют, как неосознанная часть нашего мозга комбинирует информацию о физическом состоянии с другими данными, полученными из социального и эмоционального контекста, и таким образом определяет наши переживания. Думается, из этого можно сделать вывод, применимый к повседневной жизни. Есть, конечно, прямая аналогия, интересное следствие: стоит взобраться на пару лестничных маршей, обдумывая деловое предложение, и тогда на вершине лестницы вырвется «Ух ты!», хотя, вообще говоря, обычно в таких случаях логично говорить «Хм». Но стоит вспомнить и о стрессовых ситуациях. Всем нам известно, что стресс приводит к нежелательным физическим эффектам, но гораздо реже мы учитываем вторую часть этой петли: физическое напряжение, вызывающее или поддерживающее ментальный стресс. Вы, допустим, повздорили с другом или коллегой и перевозбудились. Плечи и шея напряглись, голова разболелась, пульс подскочил. Если оставаться в этом состоянии и завести разговор с кем-то другим, не имеющим никакого отношения к конфликту, из-за которого вы физически напряглись, ваши суждения о чувствах к этому невинному человеку могут оказаться ошибочными. Одна моя приятельница, редактор, рассказывала, что у нее произошла неожиданно желчная перепалка с литературным агентом, из которой она сделала вывод, что агент — натура сволочная и работать с ним не стоит. Но пока мы с ней разговаривали, стало понятно, что ее раздражение агентом не возникло в разговоре с ним, а было при ней бессознательно — перетекло из другого огорчительного инцидента, случившегося незадолго до беседы с агентом.
Веками наставники-йогины повторяли: «Успокой тело, успокой ум». Соционейробиология располагает доказательствами действенности этого рецепта. Некоторые исследования пошли еще дальше: они показывают, что вхождение в физическое состояние счастья — улыбаясь насильно, например, — может помочь чувствовать себя счастливее[353]. Мой сын Николай, похоже, интуитивно это понял сам: играя в баскетбол, он сломал руку, и, когда это случилось, он вдруг перестал плакать и начал смеяться, а потом объяснил, что когда больно, от смеха делается легче. Старинное присловье «Ты жарь, а рыба будет», которую Николай прочувствовал на собственном опыте, — теперь тема серьезного научного рассмотрения.
Примеры, которые я привел в этой главе, демонстрируют, что часто мы не понимаем своих чувств, хотя думаем обратное. Более того, когда нас просят объяснить, почему мы чувствуем так, а не иначе, большинство из нас, поразмыслив, сможет выдать причину. Откуда мы их достаем, эти причины чувств, которые временами даже не есть то, что нам кажется? Мы их выдумываем.
В одной занимательной демонстрации этого феномена исследователь показывал снимки двух женских лиц, каждый размером с игральную карту, по одной в каждой руке. Он просил испытуемых выбрать более привлекательную[354]. Затем он переворачивал обе фотографии изображением вниз, протягивал выбранное фото участнику и просил взглянуть на него и объяснить, почему именно эта женщина понравилась больше. Потом показывал следующую пару фотографий и так далее — еще с десяток пар. Трюк состоял в том, что в нескольких парах экспериментатор шулерским приемом менял фотографии местами и выдавал испытуемому изображение женщины, которую тот счел менее привлекательной. Лишь в четверти случаев участники исследования заметили подмену. Но самое примечательное в оставшихся 75% случаев, когда испытуемых удавалось обхитрить, — их объяснения. Когда их спрашивали, почему им больше понравилась та женщина, которая понравилась на самом деле меньше, они отвечали: «Она вся сияет. К такой я бы подошел знакомиться в бар — в отличие от той, второй», — или: «Она смахивает на мою тетю», — или: «По-моему, она приятнее той, другой». И раз за разом они уверенно объясняли, почему предпочли то лицо, которое на самом деле не предпочли.
Полученные результаты не были статистическим выбросом: ученые проделали тот же фокус в супермаркете — на предпочтениях покупателей варенья и чая[355]. В тесте с вареньем покупателям предлагали выбрать один из двух видов варенья, а затем давали еще ложку того, которое им больше понравился, чтобы они смогли точно определить, почему оно лучше. Однако в банках с вареньем была потайная внутренняя перегородка и крышка поднималась с обеих сторон, и исследователи могли влезть ложкой за второй порцией и добыть то варенье, которое не понравилось, из банки с «правильным» вареньем. И опять лишь треть испытуемых заметила подмену, а остальные дне трети без труда объяснили свои «предпочтения». Похожая ловушка спровоцировала аналогичные результаты в эксперименте с чаем.
Чистый кошмар исследователя-маркетолога: спроси людей, что они думают о продукте или упаковке, и получишь замечательные объяснения — искренние, детальные, прочувствованные, но имеющие мало отношения к истине. Та же проблема и у людей, проводящих политические опросы: почему избиратели проголосовали или собираются проголосовать так, а не иначе. Одно дело, когда люди говорят, что не сформировали мнения, и совсем другое, когда их мнению нельзя доверять. Однако именно об этом исследования нам и сообщают[356].
Самые внятные иллюстрации к тому, что же на самом деле происходит, ученые получают, исследуя людей с отклонениями в развитии мозга, — взять, к примеру, знаменитый цикл экспериментов с пациентами, у которых нарушена связь между правым и левым полушариями мозга[357]. Информация, предоставленная одному полушарию мозга такого пациента, не доступна другому полушарию. Когда пациент видит что-то в левой части поля зрения, только правая половина мозга фиксирует эти данные, и наоборот. Сходным образом правое полушарие в одиночку контролирует движения левой руки, а левое полушарие — правой. Одно нарушение этой симметрии — речевой центр у большинства людей расположен в левом полушарии, поэтому когда пациент говорит, это разговаривает его левое полушарие.
Пользуясь преимуществом отсутствия сообщения между полушариями мозга, исследователи предложили пациентам с этим диагнозом, обращаясь к правому полушарию, выполнить некую задачу, а потом попросили левое полушарие объяснить, зачем они это сделали. Например, пациента через его правое полушарие попросили помахать рукой. А потом спросили, зачем он это сделал. Левое полушарие заметило, что рука помахала, но о просьбе помахать рукой не была осведомлена. Но и признать пациенту свое неведение левое полушарие не позволило: пациент сообщил, что помахал, потому что, как ему показалось, он увидел знакомого. Когда ученые таким же способом попросили пациента посмеяться и спросили потом, почему он засмеялся, пациент сказал, что ученые, дескать, его развеселили. Снова и снова левое полушарие объясняло поведение пациента так, будто доподлинно знало ответ. В этих и сходных исследованиях левое полушарие генерировало уйму подложных объяснений — в отличие от правого, — и ученые предположили, что в функции левого полушария мозга входит далеко не только простая регистрация и определение наших чувств, но и попытка их осмыслить. Левое полушарие будто поставило себе цель найти в этом мире порядок и логику.
Оливер Сакс писал о пациенте с Корсаковским синдромом — это такой вид амнезии, при котором больной теряет способность формировать новые воспоминания[358]. Такие пациенты забывают, что говорили или видели минуту назад. Тем не менее они вводят себя в заблуждение, будто понимают логику происходящего. Когда Сакс пришел в очередной раз осмотреть пациента, некоего г-на Томпсона, тот его не помнил — но не осознавал этого. Он всегда цеплялся за какую-нибудь подсказку и убеждал себя, что помнит Сакса. Поскольку на Саксе был белый халат, а сам Томпсон держал продуктовую лавку, он вспомнил Сакса как мясника с той же улицы. Несколько мгновений спустя он забыл о своем «воспоминании» и заново вспомнил Сакса как своего покупателя. Понимание Томпсоном мира, его собственного состояния, своей самости постоянно менялось, но он верил в каждое из череды мимолетных объяснений, которые он придумывал, чтобы в окружающем была хоть какая-то логика. Сакс писал, что Томпсону «необходимо искать смысл, отчаянно создавать его, непрестанно перебрасывая мосты смысла через пропасти бессмысленности».
Термин «конфабуляция»[359] часто обозначает восполнение пробела в памяти подлогами, которые человек принимает за правду. Но мы так же конфабулируем, заполняя пробелы в представлениях о собственных чувствах. Мы все к этому склонны. Мы спрашиваем себя или друзей: «Почему ты ездишь на этой машине?» — или «Чем тебе нравится этот парень?» — или «Почему тебе смешно от этого анекдота?» Исследования показывают: нам кажется, что мы знаем ответы на эти вопросы, а на самом деле зачастую — нет. Когда нас просят объяснить свои чувства или поступки, мы начинаем поиск истины, который смахивает на интроспекцию. И хотя вроде бы знаем, что чувствуем, мы не осознаем ни состава этого чувства, ни его бессознательного происхождения. И тогда мы лепим некие убедительные объяснения, в которых либо совсем нет правды, либо они лишь отчасти соответствуют реальности, но мы им все равно верим[360]. Ученые, исследующие такие расхождения, заметили, что они отнюдь не эпизодичны[361] — они системны и постоянны, и основа их лежит в хранилище социальной, эмоциональной и культурной информации, к которому у всех нас есть доступ.
Представьте, что вас везут домой с гулянки, которая происходила в пентхаусе шикарного отеля. Вы замечаете вслух, как все было отлично, а ваш водитель спрашивает, что именно вам понравилось. «Люди», — отвечаете вы. Но действительно ли вас воодушевила остроумная беседа с дамой, которая написала бестселлер о достоинствах веганской диеты? Или, может, что-то неуловимее? Переливы арфы? Или аромат роз, наполнявший комнату? Или дорогое шампанское, которое вы хлестали весь вечер? Если ваш ответ не был результатом пристальной вдумчивой интроспекции, на каком основании вы его дали?
Когда вы даете объяснение своим чувствам и поступкам, мозг производит манипуляцию, которая, возможно, удивит вас: он шерстит ментальную базу данных — ищет и выбирает подходящие культурные нормы. Например, в данном случае ваш ум, вероятно, обратился к разделу «Что человечеству нравится в тусовках» и выбрал ответ «люди» как наиболее годный. Такой подход может показаться ленивым, но исследования доказывают, что мы его, тем не менее, применяем: если нас спрашивают, что мы чувствуем или будем чувствовать, мы склонны отвечать описаниями или предположениями, соответствующими некому набору стандартных причин, ожиданий и культурных и общественных объяснений, которые ассоциируются с данным переживанием.
Если та картина, которую я только что обрисовал, верна, у нее есть прямое следствие, легко проверяемое экспериментально. Скрупулезная интроспекция подразумевает использование нашего личного знания о себе самих. Формулирование обобщающего, обусловленного социокулыурными нормами объяснения нашим чувствам — нет. Поэтому — если мы действительно близко знаем свои чувства — предсказания их в самих себе получатся точнее предположений, которые делают о нас другие. Если же мы, объясняя то, что чувствуем, полагаемся лишь на социальные нормы, окружающие должны, по идее, уметь предсказывать наши чувства так же точно, как мы сами — и делать точно такие же ошибки.
Ученые исследовали этот вопрос применительно к контексту, знакомому тем, кто когда-либо нанимал персонал[362]. Наём — задача непростая, потому что это значимое решение, а узнать человека достаточно близко в краткой встрече или по резюме затруднительно. Если вам приходилось нанимать кого-нибудь, вы, возможно, задавали себе вопрос, почему именно этот человек — то что надо. Несомненно, объяснения находились, но теперь, по прошествии времени, вы уверены, что действительно выбрали того человека по причинам, которые пришли тогда вам в голову? Может, ход рассуждений был обратным — у вас возникло некое чувство к одному претенденту, затем — предрасположенность к нему, а уже потом вы задним числом, бессознательно приделали социальные нормы, чтобы объяснить то, самое первое чувство к этому человеку.
Один мой приятель-врач рассказывал, что был уверен в поступлении в престижнейший медицинский университет, который в итоге и окончил, лишь по одной причине: он понравился профессору, проводившему собеседование; родители профессора и моего знакомого эмигрировали из одного и того же города в Греции. После зачисления на учебу мой приятель узнал, что профессор считал его оценки, школьные заслуги и личные качества (критерии, обусловленные социальными нормами) причиной успешности их собеседования. Но оценки и заслуги моего приятеля были ниже среднеуниверситетских при зачислении, и он до сих пор считает, что именно их общее землячество повлияло на решение профессора.
Чтобы разобраться, почему одних нанимают, а других нет, а также осознают ли нанимающие причины своего выбора, исследователи привлекли 128 добровольцев-женщин. Каждую попросили изучить и оценить развернутое досье женщины, претендующей на вакансию консультанта в антикризисном центре. Среди представленных бумаг было рекомендательное письмо и подробный отчет о собеседовании, которое претендентка прошла с директором центра. После ознакомления с досье участницам задали несколько вопросов о квалификациях претендентки, в том числе таких: насколько она умна? насколько сможет проявить гибкость? а как у нее с сочувствием к проблемам клиентов? насколько она вам нравится?
Суть этого эксперимента состояла в том, что информация, предоставленная разным участницам, отличалась во многих нюансах. Кто-то получил досье, из которого следовало, что кандидатка закончила школу второй лучшей ученицей и теперь была почетной студенткой колледжа, а кто-то прочитал, что она еще не решила, идти ей в колледж или нет; некоторые вычитали в бумагах упоминание о том, что претендентка хороша собой, другие не нашли никаких сведений о ее внешности; кто-то увидел в отчете о собеседовании, что претендентка пролила кофе на директорский стол, а у других в досье не было упоминания об этом инциденте; в нескольких досье говорилось о том, что кандидатка пережила серьезную автокатастрофу, в некоторых — ничего подобного. Некоторым участницам сказали, что их с кандидаткой потом познакомят, другим — нет. Все эти элементы перемешали всеми возможными способами — создали десятки возможных представлений о человеке. Изучив связь между набором фактов, полученным разными участницами, и суждениями, которые они вынесли, исследователи смогли математически рассчитать влияние каждого отдельного факта на оценку, сделанную участницами. Задача исследования — сравнить реальное влияние каждого фактора на восприятие участниц с оценкой этого влияния участницами, а также с предсказаниями, сделанными внешними наблюдателями, не знакомыми с участницами.
Чтобы понять, что именно, по соображениям самих участниц, на них повлияло, после вынесения оценок кандидатке участниц опросили по следующим пунктам: вы оценивали интеллектуальные способности претендентки по ее академической успеваемости? повлияло ли на вашу оценку ее человеческой привлекательности замечание о ее физической привлекательности? повлияло ли то, что претендентка пролила кофе на стол директора, на вашу оценку ее общей привлекательности? и т. д. Для оценки того, насколько точно внешние наблюдатели смогут предсказать влияние каждого фактора, привлекли другую группу добровольцев («наблюдателей»); им досье не показывали, а попросили хотя бы прикинуть, насколько сильно каждый фактор может повлиять на человеческие суждения.
Факты, включенные в досье, выбирали с умом. Некоторые — например, высокие оценки в школе — согласно социальным нормам должны были оказать однозначно позитивное влияние на оценивающих. Исследователи ожидали, что и участницы, и наблюдатели назовут эти факторы в первую очередь. Другие — вроде пролитого кофе или предвкушения от личной встречи — ни к каким социальным нормам не приписаны. Исследователи, соответственно, предположили, что их влияния наблюдатели не отметят. Однако и эти факторы были включены в эксперимент, ибо исследования показывают, что в отличие от ожиданий, вытекающих из социальных норм, эти факторы действительно влияют на человеческие суждения: одиночный промах вроде пролитого кофе обычно усиливает симпатии к человеку, у которого в остальном вроде все в порядке с компетенциями, а ожидание личной встречи улучшает оценку его личных качеств[363]. Ключевой вопрос заключался в том, удастся ли участницам, хорошенько поразмыслив, осознать лучше наблюдателей, что на них действительно повлияли эти неожиданно значимые факторы.
Анализ ответов участниц и наблюдателей показал впечатляющую схожесть результатов и их единодушное попадание пальцем в небо. Обе группы, судя по всему, сделали выводы о том, какие факторы влиятельны, исходя из социальных нормативных объяснений, а реальные причины проигнорировали. Например, и участницы, и наблюдатели сообщили, что инцидент с кофе на их симпатии к претендентке не повлиял, однако на самом деле он и был самым значимым. Обе группы предположили, что успехи в учебе производят на них большое впечатление, а те на поверку вообще никак не изменили ни мнений, ни предсказаний. И обе группы решили, что перспектива личной встречи ничего не меняет, а оказалось, что меняет. В каждом случае обе группы заблуждались: влиятельные факторы считали незначительными и наоборот. Как и предсказывала психологическая теория, участницы понимали о себе не больше наблюдателей.
Эволюция создала человеческий мозг не для того, чтобы он себя доподлинно постигал, а для того, чтобы мы выжили. Мы наблюдаем себя и окружающий мир и смекаем, что к чему, в достаточной мере, чтобы все как-то ладилось. Желающие разобраться в себе поглубже — чтобы принимать более удачные жизненные решения, жить ярче или просто из любопытства — пытаются прорваться сквозь интуитивные представления о себе самих. Нам это под силу. Можно использовать сознательную часть ума для изучения, идентификации и развенчания иллюзий нашего мышления. Принимая в расчет то, как оперирует наш ум, мы расширяем собственное восприятие и можем добиться более просветленного видения себя самих. Но лучше понимая себя, не стоит отказываться от признательности за то, что наш ум воспринимает мир искаженным: у этого искажения есть причины.
Гостя в Сан-Франциско, я как-то зашел в одну антикварную лавку, собираясь купить дивную вазу, которую заметил в витрине: на ярлыке значилось, что ее уценили со 100 до 50 долларов. Я выбрался из магазина, унося персидский ковер, который стоил $ 2500. Если точнее, я вовсе не уверен, что он стоил $ 2500, но именно столько я за него заплатил. Я не искал себе ковер, не собирался просадить две с половиной тысячи долларов на сувенир из Сан-Франциско и не планировал тащить на себе ничего тяжелее хлебницы. Не знаю, зачем я это сделал, и никакие интроспекции, произведенные мною в последующие дни, не внесли ясности. Да и кроме того, нет никаких социальных норм по части приобретения персидских ковров, повинуясь каникулярным капризам. Но я точно знаю одно: мне нравится, как этот ковер смотрится на полу у меня в гостиной. Он мне нравится, потому что в комнате от него уютнее, и он отлично сочетается по цвету с мебелью и обоями. Или, может, из-за него комната смахивает на столовский закут в дешевой гостинице? А может, на самом деле он мне дорог потому, что теперь прекрасный деревянный пол у меня в гостиной застлан уродливым ковром за $ 2500, но мне об этом неприятно думать? Это осознание меня не тревожит; я благодарен своему незримому напарнику, бессознательному уму, за поддержку, которая нужна мне, покуда я шагаю, спотыкаясь, по жизни.
Глава 10. Самость
Секрет владычества в том, чтобы вера в свою непогрешимость сочеталась с умением учиться на прошлых ошибках.
Джордж Оруэлл[364]В 2005 году ураган Катрина опустошил территории Луизианы и Миссисипи у побережья Мексиканского залива. Более тысячи человек погибло, сотни тысяч остались без крова. Новый Орлеан затопило, некоторые части города ушли под воду на четыре с лишним метра. Репутация правительства США во всей этой истории оказалась, по мнению всех, сильно подмочена. Ну, по мнению почти всех. Когда главу федерального агентства по чрезвычайным ситуациям Майкла Брауна обвинили в халатном руководстве и недостатке инициативы, и Конгресс создал комиссию для расследования, признал ли за собой малоопытный Браун какие-нибудь ошибки? Нет. Он заявил, что вялые действия правительства были обусловлены «очевидным недостатком координации и планирования со стороны главы штата Луизиана Кэтлин Бланко и мэра Нового Орлеана Рэя Нэгина». Самому себе Браун казался трагической фигурой, Кассандрой: «Я уже несколько лет предполагал, — говорил он, — что мы рано или поздно дойдем до такой точки [кризиса] — из-за недостатка ресурсов и нерадивости»[365].
Быть может, в глубине души Браун принимал на себя больше ответственности. Может, все эти публичные заявления — просто неуклюжая попытка переориентировать общественные обвинения со своей халатности на бессилие. Оспорить двурушничество О. Дж. Симпсона, бывшего спортивного кумира, обвиненного в убийстве двух человек, но оправданного в суде, несколько труднее. Он, впрочем, продолжил искать неприятностей на свою голову. В 2007 году с двумя подельниками он ворвался в гостиничный номер в Лас-Вегасе и под дулом пистолета отобрал у торговцев неких спортивных сувениров их добро. При вынесении приговора Симпсон мог извиниться и попросить судью о смягчении наказания. У О. Дж. были очень веские причины продемонстрировать искреннее покаяние или хотя бы его сымитировать. И как, оказал он сам себе услугу, попытавшись скостить хоть пару лет тюремного срока? Выразил ли сожаление о том, что вел себя как уголовник? Нет. Он стоял на своем. Отвечал искренне. Да, ему жаль, что все так вышло, но он был уверен, что ничего дурного не делает. И даже годы тюрьмы не уняли желания оправдывать себя.
Похоже, чем мощнее угроза самодовольству, тем сильнее человеческая склонность воспринимать реальность через искажающую линзу. В классической книге Дейла Карнеги «Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей»[366] описаны представления о самих себе у знаменитых гангстеров 1930-х годов. Голландец Шульц[367], терроризировавший Нью-Йорк, убийств не чурался — и в глазах коллег-уголовников вряд ли потерял вес, если б говорил о себе, что выстроил преступную империю на костях. Но газетчикам он представлялся как «благодетель общества». Аль Капоне[368] — поставщик паленого алкоголя, ответственный за сотни убийств, — говаривал: «Я положил лучшие годы жизни на то, чтобы нести людям простые удовольствия, помогать им радоваться, и не получил за это ничего, кроме притеснений и гонений». А когда убийцу-рецидивиста Фрэнсиса Краули по кличке «Два ствола»[369] отправили на электрический стул за убийство полицейского, который попросил Краули показать водительские права, он нимало не грустил об отнятой им человеческой жизни, а лишь посетовал: «Вот, значит, что мне будет за самооборону».
Мы и правда верим в такие вот улучшенные версии самих себя, какие выдаем вовне? Нам и впрямь удается убедить себя, что наша деловая стратегия была блистательна, хотя обороты упали, и что нам причитается 50 миллионов долларов выходного пособия — при том, что компания под нашим чутким руководством потеряла в двадцать раз больше за те три года, пока мы стояли у руля? Мы неотразимо вели защиту, но подзащитный все равно сел на электрический стул — и что с того? Мы курим только в компании — пачку в день, хоть на людях, хоть в компании; подумаешь, а что такого? Насколько точно наше восприятие самих себя?
Рассмотрим исследование, проведенное среди примерно миллиона старшеклассников[370]. Когда их попросили оценить способность ладить с окружающими, 100% выдало среднюю оценку и выше, 60% поместили себя в верхние 10%, а 25% — в верхний 1%. В оценке лидерских качеств всего 2% признали себя ниже среднего. Учителя, надо сказать, к реальности не ближе: 94% преподавателей колледжей считают, что работу свою делают выше среднего[371].
Психологи называют эту тенденцию раздутой самооценки «эффект выше среднего» и располагают обширными данными о том, как этот он проявляется в разнообразных контекстах — от водительских до менеджерских качеств[372]. Инженеров попросили оценить свои профессиональные качества, и 30–40% из них записали себя в верхние 5%[373]. Оценки армейских офицеров своих лидерских качеств (харизмы, интеллекта и т. д.) оказались гораздо шикарнее представлений о них у младших и старших по чину[374]. Медики воспринимают свои коммуникативные качества гораздо выше, нежели о них думают их пациенты и начальство, а знания свои оценивают гораздо выше, чем показывают объективные тесты[375]. В одном исследовании терапевты, поставившие пациентам диагноз «пневмония», продемонстрировали уверенность в правильности диагноза на 88%, хотя на деле оказались правы всего в 20% случаев[376].
Подобное самовозвеличивание характерно и для делового мира. Большинство руководителей компаний считают, что именно у их компании больше шансов на успех, чем у средней компании в этом сегменте рынка, потому что это их компания[377]. Директоры демонстрируют сверхуверенность, внедряясь на новые рынки или берясь за рискованные проекты[378]. В результате такой сверхуверенности компании при покупке других фирм за их акции обычно переплачивают на 41% больше, чем реальная цена акций этой фирмы, — руководство компании-покупателя уверено, что уж они-то сделают купленную фирму более прибыльной, но при этом суммарная стоимость сливающихся компаний обычно падает: незаинтересованные наблюдатели с руководством, очевидно, не согласны[379].
Биржевые игроки тоже обычно чрезмерно оптимистичны в отношении своих умений угадывать, на что делать ставки. Сверхуверенность, бывает, подталкивает толковых разумных инвесторов к вере, что они могут предсказывать движения акций на рынке, — даже вопреки тому, что на интеллектуальном уровне они так не считают. Экономист Роберт Шиллер после биржевого краха в «Черный понедельник» (октябрь 1987 г.) провел специальное исследование и выяснил, что около трети инвесторов заявили, что им было «вполне ясно, когда начнется рост», хотя мало кто сумел сформулировать причины своей уверенности в предсказаниях будущего рынка[380].
Как ни странно, люди, в общем, признают, что раздутая самооценка и чрезмерная уверенность в себе могут усложнять жизнь — но только другим людям[381].
Да-да, мы переоцениваем даже собственную способность сопротивляться переоценке собственных способностей. Что вообще происходит?
В 1959 году социопсихолог Милтон Рокич[382] собрал троих психиатрических пациентов в больнице Ипсиланти в Мичигане[383]. Все трое верили, будто они — Иисус Христос. Как минимум двое из троих, по идее, заблуждались, Рокичу интересно было посмотреть, как они будут с этим разбираться. Такие прецеденты история уже знавала. В знаменитом случае XVII века за подобное заявление человека по имени Симон Моран отправили в дурдом. Там он познакомился с другим Иисусом, его «до глубины души потрясла глупость подобных претензий, и он отказался от собственных». К сожалению, впоследствии он вернулся к исходному убеждению и, как и Иисус, был убит — его сожгли на костре за ересь. В Ипсиланти никого сжигать не собирались. Один пациент, как и Моран, отказался от своих верований; второй счел двух других — но не себя самого — психами; третьему же никакого дела до разбирательств не было. Таким образом двоим из трех пациентов удалось удержаться за собственные представления о себе, несмотря на их несоответствие реальности. Хоть мы и не настолько оторваны от действительности, но и про нас, но большей части не порывающихся ходить по воде, можно сказать то же самое. Если поспрашивать (или хотя бы попросту обратить внимание), большинству станет заметно, что наше представление о себе и более объективное — о нас у других — несколько расходятся.
Примерно к двум годам большинство из нас уже считало себя социальными агентами[384]. Когда нам стало понятно, что подгузники — не самый модный аксессуар, мы при участии взрослых принялись лепить представления о пережитом. К детсадовскому возрасту мы научились делать это самостоятельно. Но кроме того, мы уже поняли, что поступки людей мотивированы их желаниями и верованиями. Вот с того времени и далее мы вынуждены примирять того, кем хотели бы стать, и того, с чьими мыслями и поступками мы имеем дело каждую минуту своей жизни.
Я уже много рассуждал о том, как психологи-исследователи отказались от большей части фрейдистских теорий, но есть одна идея Фрейда, с которой терапевты и экспериментальные психологи согласны до сих пор: эго яростно отстаивает свое достоинство. Согласие это возникло относительно недавно. Не одно десятилетие психологи-исследователи воспринимали людей как беспристрастных наблюдателей, которые оценивают события, при помощи логики отыскивают истину и постигают природу социального мира[385]. Нас научили собирать данные о самих себе и выстраивать представления о себе на более-менее симпатичных и точных выводах. В традиции такого видения уравновешенный здоровый человек представлялся эдаким ученым самости, а человек, чьи представления о себе были затуманены иллюзиями, воспринимался как подверженный, а то и уже поддавшийся умственным расстройствам. В наше время нам известно, что обратное куда ближе к истине. Нормальный здоровый человек — студент, профессор, инженер, подполковник, врач, руководитель компании — склонен думать о себе не просто как о профессионале, а как об асе, даже если это не так.
Неужели руководитель отдела не должен ставить под вопрос свои компетенции, если отдел теряет деньги? А подполковник — задавать себе вопрос, почему он никак не может стряхнуть со своего чина приставку и стать наконец полковником? Как мы убеждаем себя, что мы сплошь состоим из талантов, а повысили не нас, а другого лишь потому, что босса водят за нос?
Психолог Джонатан Хейдт[386] утверждает, что есть два пути к истине: путь ученого и путь адвоката. Ученый собирает показания, высматривает закономерности, формулирует теорию, которая объясняет установленные факты и закономерности, и проверяет ее. Адвокат начинает с заключения, в котором надо убедить окружающих, а потом собирает данные, подкрепляющие эго заключение, попутно дискредитируя сведения, которые заключения не подкрепляют. Человеческий ум умеет работать и как ученый, и как адвокат: сознательный искатель объективной истины и бессознательный пылкий защитник того, во что мы хотим верить. Оба эти подхода состязаются за право создавать нашу картину мира.
Верить в то, что желанно считать правдой, и искать этому подтверждений — вроде бы не лучший подход к принятию ежедневных решений. Допустим, вы ставите на скачках. Разумно ставить на ту лошадь, которая, по-вашему, самая шустрая, и никакого смысла считать лошадь самой прыткой лишь потому, что вы на нее поставили. Аналогично имеет смысл выбирать работу, которая нравится, а верить, что работа вам нравится, потому что вы ее выбрали, — иррационально. Но хотя в обоих случаях второй подход вроде бы бессмыслен, зато он, возможно, будет вам в радость. А ум при прочих равных предпочитает радоваться. В обоих примерах, как показывает эксперимент, второй подход люди как раз и применяют[387]. «Стрелка причинности» человеческого мышления склонна регулярно вращаться от веры к доказательству, а не наоборот[388].
Оказывается, мозг — довольно сносный ученый, но совершенно непревзойденный адвокат. В результате, пытаясь соорудить связное, убедительное представление о нас самих и об окружающем мире, этот страстный адвокат обычно одерживает верх над правдорубом. В предыдущих главах мы рассмотрели, как бессознательный ум мастерски работает с ограниченным объемом данных и создает версию окружающей среды, которая сто напарнику, сознательному уму, кажется реалистичной и исчерпывающей. Зрительное восприятие, память и даже эмоции — это все конструкты, собранные из смеси сырых, неполных и частенько противоречащих друг другу данных. Точно так же создается и наше представление о себе самих: наше адвокатское бессознательное смешивает факты и иллюзии, преувеличивает наши достоинства и приуменьшает слабости — искажает практически в стиле Пикассо некоторые наши черты, раздувая до огромных размеров те, что нам милы, а прочие мельча до почти полной неразличимости. Рациональный ученый — сознательный ум — с восторгом взирает на предложенный автопортрет и верит, что это изображение фотографически точно.
Психологи называют подход нашего внутреннего адвоката «мотивированным мышлением». Мотивированное мышление помогает нам верить в то, что мы хороши и умелы, ощущать владение ситуацией и в целом воспринимать себя в мажорном ключе. Оно же формирует наше понимание и восприятие окружающего мира, особенно его общественной части, и подводит причины под то, во что мы склонны верить. И тем не менее 40% впихнуть в верхние 5%, 60% — в верхние 10% или 94% в верхние 50% невозможно, поэтому убеждать себя в собственном величии — задачка не всегда простая. К счастью, у нашего ума есть великолепный союзник — аспект жизни, с чьей важностью нам уже приходилось сталкиваться: неоднозначность. Неоднозначность оставляет пространство для маневра в том, что иначе было бы неоспоримой правдой, и наш бессознательный ум использует это пространство на полную катушку — вьет наилучшее из возможных повествование о нас самих, об окружающих людях и обстоятельствах, и эта сага питает нас в славные времена, а в лихие — утешает.
Что изображено на этой странице? Сходу вы увидите либо лошадь, либо тюленя, но приглядевшись, рассмотрите и другое животное. И как только вы увидите обоих зверей, восприятие станет скакать между двумя вариантами видения. Правда же в том, что картинка — и то, и другое, и ни то, ни другое. Это некий набор кривых, набросок, который, как и ваш характер, личность и таланты, может быть воспринят по-разному.
Я уже говорил, что неоднозначность открывает ворота стереотипизации — неверному суждению о людях, которых мы плохо знаем. Те же ворота открываются и для неверного суждения о нас самих. Если бы наши дарования и навыки, личность и характер можно было эмпирически померить и выбить на каменных скрижалях, двоякое восприятие себя самих, конечно, стало бы невозможным. Но наши черты больше похожи на картинку лошади/тюленя — интерпретируй как заблагорассудится.
Насколько просто нам кроить реальность в угоду своим желаниям? Социопсихолог Корнеллского университета Дэйвид Даннинг годами размышлял на эту тему. Он посвятил большую часть своей карьеры изучению того, как и когда человеческое восприятие реальности вылепливается под действием личных предпочтений. Вернемся к картинке «лошадь / тюлень». Даннинг и его коллеги загрузили это изображение в компьютер, привлекли несколько десятков добровольцев и дали им веские причины видеть на картинке либо только лошадь, либо только тюленя[389]. Вот что они затеяли: исследователи сказали испытуемым, что им придется выпить стакан одного из двух напитков — либо вкусного апельсинового сока, либо «оздоровительного коктейля», который выглядел и пах так гадко, что многие участники сразу отказались ввиду перспективы принимать это внутрь. Оставшимся сказали, что выбор предназначенного им напитка им сообщат посредством компьютера: на мониторе на секунду покажут изображение — ту самую картинку «лошадь/тюлень». За одну секунду люди обычно не успевают увидеть и ту, и другую версию, а значит, каждый участник увидит либо лошадь, либо тюленя[390].
Соль эксперимента заключалась в том, что половине участников сказали, что если они увидят на картинке «сельскохозяйственное животное», то будут пить сок, а если «морское животное», то «коктейль»; второй половине сообщили обратное. Если мотивации участников искажают восприятие, то бессознательный ум, которому сказали, что сельскохозяйственное животное равно апельсиновому соку, будет склонен разглядеть лошадь. Аналогично, если бессознательному уму сказать, что сельскохозяйственное животное означает пакостный коктейль, то он постарается разглядеть морское животное. Именно так и получилось: из тех, кто надеялся увидеть сельскохозяйственную скотинку, 67% отчитались, что увидели лошадь, а из тех, кто желал увидеть морское животное, 73% опознали тюленя.
Эксперимент Даннинга вполне убеждал, что мотивации влияют на восприятие, но сама двусмысленность была ясной и простой. Наш ежедневный опыт, напротив, полон гораздо более затейливых задач, нежели различение, на какое именно животное мы смотрим. Способность командовать бизнесом или взводом, умение ладить с людьми, стремление не нарушать этики и масса прочих определяющих нас черт — качества, устроенные непросто. И поэтому в распоряжении нашего бессознательного целый шведский стол интерпретаций, которыми можно пичкать сознательный ум, и нам в итоге кажется, что мы кормимся фактами, хотя на деле нам впихивают предпочтительные выводы.
Субъективные интерпретации неоднозначных событий — святая святых наших самых горячих споров. В 1950-х годах двое профессоров психологии, один из Принстона, второй — из Дартмута, решили выяснить, смогут ли студенты Принстона и Дартмута отнестись объективно к одному важному футбольному матчу[391]. Речь шла о жесткой игре, в которой Дартмут вел себя чрезвычайно грубо, но Принстон его все равно уделал. Ученые показали студентам обоих университетов видеозапись матча и попросили их фиксировать любые нарушения, которые они заметят при просмотре, помечая их как «злостные» и «мягкие». Студенты Принстона углядели, что дартмутская команда нарушала вдвое чаще принстонской, а студенты Дартмута насчитали примерно поровну нарушений с обеих сторон. Фанаты Принстона оценили большинство дартмутских вольностей на поле как злостные, а принстонских — совсем чуть-чуть; фанаты Дартмута лишь немногие свои нарушения сочли злостными, зато среди нарушений принстонской команды — половину. Всех зрителей спросили, намеренно ли Дартмут играл так жестко, и абсолютное большинство принстонцев сказало «да», а абсолютное большинство дартмутцев — «нет». Исследователи потом писали: «Одни и те же сенсорные ощущения от наблюдения за футбольным полем через зрительный канал проникают в мозг… и там порождают разные переживания у разных людей… Нет такого “явления” как игра, которая происходит “где-то” сама по себе и которую люди просто “наблюдают”».
Мне эта цитата нравится вот чем: хоть она и о футболе, ее, похоже, можно без потерь распространить на игру всей жизни вообще. Даже на моем игровом поле — в науке, — где объективности поклоняются, часто очевидно, что человеческое видение фактов сильно связано с личными интересами людей. Например, в 1950-60-х годах жарко обсуждали, было ли у Вселенной начало или она существовала всегда. Один лагерь ученых поддерживал теорию Большого взрыва, согласно которой начало Вселенной положил этот самый Большой взрыв, а второй верил в теорию стационарной Вселенной, которая предполагает, что Вселенная была всегда и примерно в том же состоянии, в каком она есть сейчас. В конце концов, с точки зрения невовлеченного наблюдателя, все доказательства оказались в пользу теории Большого взрыва — особенно после 1964 года, когда последствия Большого взрыва очень кстати зафиксировала пара разработчиков спутниковой связи из лабораторий «Белл»[392]. Это открытие попало на первую страницу «Нью-Йорк Таймс», где объявлялось, что теория Большого взрыва окончательно победила в научном споре. А что же поборники теории стационарной Вселенной? Три года спустя один из них принял победившую теорию со словами: «Вселенная-то, оказывается, сляпана на скорую руку, но нам, похоже, выбирать не приходится». Тридцатью годами позже другой ведущий теоретик стационарной Вселенной, уже состарившийся и седовласый, по-прежнему верил в несколько модифицированную версию своей теории[393].
Экспериментов, проделанных учеными на ученых, не так много, но они показывают, что и среди академических умов адвокатский подход вполне распространен. Особенно это касается общественных наук, где неопределенности куда больше, чем в естествознании. В одном таком исследовании успешных аспирантов Университета Чикаго попросили оценить научные отчеты по темам, о которых у этих аспирантов уже сформировалось свое мнение[394]. Аспиранты, правда, не знали, что эти научные отчеты сфабрикованы. По каждой теме половине аспирантов показали отчет с данными, поддерживавшими один подход к проблеме, а половине — другой, противоположный. Отличались только численные показатели, а методология исследования и представления данных были идентичными.
В ответ на вопрос, зависит ли их оценка отчетов от того, поддерживают ли представленные данные их теорию, аспиранты в основном ответили «нет». Но заблуждались. Изучение результатов эксперимента показало, что отчеты, данные которых поддерживали убеждения аспирантов, те оценили как более грамотные методологически и более внятно оформленные, чем идентичные им по тем же параметрам отчеты, данные которых вошли в противоречие с представлениями испытуемых, и этот эффект был тем сильнее, чем незыблемее были исходные представления[395]. Я не хочу сказать, что притязания науки на истину — фикция, отнюдь. История показывает, что более верная теория в конце концов берет верх. Поэтому-то теория Большого взрыва и победила, а стационарной Вселенной отмерла, и все успели позабыть о холодном ядерном синтезе[396]. Но правда и в том, что ученые, прикипевшие к привычной теории, временами упорно цепляются за старые убеждения. Экономист Пол Сэмюэлсон писал: «Наука жива похоронами»[397].
Поскольку мотивированное мышление — бессознательно, заявления людей о собственной непредвзятости могут быть вполне искренними, даже если эти люди принимают решения в своих шкурных интересах. Многие врачи, к примеру, думают, что на них фактор денег не влияет, но эксперименты доказывают, что пользование благами медицинской промышленности и подарки оказывают значительное влияние на качество ухода за пациентом[398]. Сходные исследования выявили, что врачи, у которых есть финансовые связи с фармацевтическими производствами, значительно чаще независимых ревизоров сообщают о положительных результатах использования спонсорских лекарств и гораздо реже — об отрицательных; управляющие инвестициями оценивают возможности различных событий в сильной связи с предположительной желательностью этих событий; суждения аудиторов зависят от того, какое вознаграждение им предложено; половина населения Британии верит в рай и только четверть — в ад[399].
Недавние фМРТ-исследования мозга начинают проливать кое-какой свет на то, как именно наш мозг создает подобные бессознательные предубежденности. Эти исследования показывают, что, оценивая эмоционально связанные данные, наш мозг автоматически включает в процесс наши желания, мечты и устремления[400]. Наши внутренние расчеты, которые, как нам кажется, объективны, — совсем не калькуляции бесстрастного компьютера, они по определению окрашены тем, кто мы такие и что нам нужно. Мотивированное мышление, которое мы включаем, когда на кону нечто для нас лично очень важное, осуществляется по другим физическим каналам внутри мозга, нежели холодный объективный анализ, на который мы способны, когда ничего личного не примешивается. В мотивированное мышление вовлечены именно те структуры мозга, которые не отвечают за «холодное» разумение, — орбитофронтальная кора и передняя поясная кора (части лимбической системы), а также задняя поясная кора и предклинье, которые также активизируются у человека при вынесении эмоционально нагруженных моральных суждений[401]. Таков физический механизм того, как мозг нас околпачивает. А каков ментальный механизм? Какие методы неосознанного мышления мы применяем для поддержания излюбленных представлений о мире?
Наш сознательный ум — не дурак. Поэтому если бы бессознательный ум искажал реальность топорно и очевидно, мы бы заметили и не купились. Мотивированное мышление не сработало, если бы потребовалось верить в невозможное: тогда наш сознательный ум засомневался бы, и с играми самообмана было бы покончено. Чрезвычайно важно, что у мотивированного мышления есть пределы, потому что одно дело иметь раздутое самомнение по поводу своих навыков в приготовлении лазаньи, и совсем другое — верить в свою способность одним махом перепрыгивать по крышам с одного высотного здания на другое. Чтобы раздутые представления о себе самом приносили пользу и давали преимущества в выживании, они должны быть раздуты до нужного внутреннего давления и не больше. Описывая такой баланс, психологи говорят, что итоговое искажение реальности должно поддерживать «иллюзию объективности». Наше дарование в таком деле — способность подкрепить наши радужные представления о самих себе убедительными аргументами, т. е. так, чтобы не переходить дорогу очевидным фактам. Какие инструменты применяют наши бессознательные мозги, когда ваяют из смутного, неоднозначного человеческого опыта ясное и однозначно позитивное видение самости, которую мы и хотим видеть?
Один метод похож на тот, что поминается в старом анекдоте о католике, еврее (оба белые) и чернокожем; все трое умерли и подошли к райским вратам. Католик говорит:
— Я всю жизнь был хорошим человеком, но меня жутко притесняли. Что мне нужно сделать, чтобы попасть в рай?
— Проще простого, — отвечает Бог. — Чтобы пройти в рай, тебе нужно сказать, как пишется одно слово.
— Какое? — спрашивает католик.
— Бог, — отвечает Господь.
Католик сходу проговаривает слово по буквам — Б-О-Г, — и его впускают. Следом подходит еврей. Тоже говорит:
— Я был хорошим человеком, — и добавляет: — Мне было непросто, всю жизнь я терпел притеснения. Что мне сделать, чтобы попасть в рай?
Бог отвечает:
— Проще некуда. Скажи, как пишется одно слово.
— Какое? — спрашивает еврей.
— Бог, — отвечает Господь.
Еврей произносит «Б-Г», и его тоже впускают. И тут к вратам подходит чернокожий и говорит, что был добр, но его чудовищно притесняли по цвету кожи.
Бог отвечает:
— Оставь тревоги, здесь никто никого не притесняет.
— На том спасибо, — отвечает чернокожий. — Так как же мне попасть в рай?
— Очень просто, — говорит Бог. — Скажи, как пишется одно слово.
— Какое? — спрашивает чернокожий.
— Гипнопотомомонстросесквиппедалиофобия.
Господний метод дискриминации — классика, и наш мозг применяет его довольно часто: информацию, подходящую нашему представлению о мире, мы спрашиваем о правописании слова «Бог», а нежелательную — слова «гипнопотомомонстросесквиппедалиофобия».
К примеру, группе испытуемых выдали по бумажной полоске — для проверки концентрации в организме фермента ТАА, чей недостаток делает человека уязвимым для всяких расстройств поджелудочпой железы[402]. Исследователи попросили обмакнуть полоску в слюну испытуемых и подождать 10–20 секунд: бумажка должна позеленеть. Половине испытуемых сказали, что если полоска позеленеет, это означает, что у них с ТАА все в порядке, а другой половине — что если позеленеет, то опасный недостаток фермента — налицо. На самом деле никакого такого фермента нет, бумажка была обычной оберточной, поэтому никаких изменений цвета не ожидалось. Исследователи наблюдали за тем, как испытуемые проделывают тест. Те, кто желал увидеть бумажку без цветовых изменений, макнули полоску в слюну, ничего не произошло, и они быстро и счастливо приняли полученный ответ, решив, что тест завершен. Те же, кто желал бумажке позеленения, таращились на нее еще с полминуты сверх обозначенного времени и только после этого готовы были смириться с приговором. Более того, больше половины из этой части участников занялись чем-то вроде повторного теста. Один испытуемый макал бумажку в слюну двенадцать раз, как ребенок, который что-то клянчит у родителей. «Давай ты будешь зеленая, а? Давай? Ну пожалуйста? А?»
Может, с виду такие испытуемые и кажутся дурачками, но мы все макаем еще и еще — от желания подпитать любимые воззрения. Люди изыскивают причины и дальше поддерживать когда-то понравившиеся политические фигуры — даже зная о серьезных и убедительных обвинениях во всяких проступках или невежестве; зато если кто-то наболтает сплетни из третьих рук, что кандидат из другой партии однажды свернул под «кирпич», они тут же решают, что за такое надо гнать из политики в шею. Точно так же, когда кому-то хочется верить в некий научный вывод, он и два слова в новостях о том, что где-то вроде бы поставили какой-то эксперимент, сочтет за веское доказательство. А когда не хочется что-либо принять, Национальная научная академия, Американская ассоциация развития науки, Американский геофизический союз, Американское метеорологическое общество и тысяча других исследовательских команд могут хоть сто раз слиться в экстазе единодушия — люди все равно найдут причины сомневаться.
Именно это произошло в случае явления глобального изменения климата — проблемы тревожной и дорогостоящей в решении. Вышеперечисленные организации, тысяча академических статей на заданную тему единогласно заключили, что за глобальное потепление своей деятельностью несет ответственность человек, но вот поди ж ты: больше половины населения США исхитрилась убедить себя, что изучение глобального потепления еще не пришло к окончательным выводам[403]. На самом деле добиться того, чтобы все эти организации и ученые договорились хоть о чем-то, кроме утверждения, что Альберт Эйнштейн был голова, очень непросто, и их согласие отражает факт, что мнение о глобальном потеплении еще как окончательно. Просто новость эта нехорошая. Многим по-прежнему не очень нравится мысль, что мы происходим от обезьяны, и такие люди нашли способы и этот факт не принимать.
Когда кто-нибудь видит ситуацию не по-нашему из политических предубеждений или шкурных интересов, мы склонны думать, что этот человек сознательно искажает очевидные факты, чтобы оправдать свои политические решения или извлечь личную выгоду. Но мотивированное мышление позволит любой стороне найти способы объяснить свои выводы и опорочить противоположные, при этом неизменно веря в собственную объективность. Точно так же обе стороны дискуссии по любой существенной теме могут искренне полагать, что рациональна только их интерпретация. Вдумайтесь в следующие исследования, касающиеся смертной казни. Людям, поддерживающим или отвергающим высшую меру наказания на основании теории, что она обуздывает (или не обуздывает) уголовщину, показали фиктивные результаты двух экспериментов. В обоих якобы применяли различные статистические методы для доказательства того или иного довода. Назовем их метод А и метод Б. Половине испытуемых сказали, что эксперимент по методу А доказал сдерживающий эффект смертной казни, а эксперимент по методу Б доказал, что никакого сдерживающего эффекта нет. Второй группе испытуемых объяснили все наоборот. Если бы люди были объективны, в обеих группах согласились бы, что метод А или метод Б — лучше, независимо от того, поддерживает ли его применение в эксперименте их личные убеждения или нет (или договорились бы до того, что они одинаковы по эффективности). Но этого не произошло. Участники выдали на-гора критические замечания вроде «Слишком много неизвестных», «Не думаю, что у них исчерпывающие данные» или «Приводимое доказательство относительно бессмысленно». Но обе стороны похвалили метод, который лил воду на мельницу их убеждений, и разнесли в пух и прах тот, который не лил. Очевидно, не сами методы, а выводы к которым они привели, вдохновили участников на проведенный ими анализ[404].
Приведение взвешенных аргументов за и против смертной казни не порождает понимания противоположной точки зрения. Напротив, мы склонны пробивать бреши в доводах, нам не симпатичных, и латать дыры в тех, что нам нравятся, и поэтому эффект этого исследования — усиление противостояния. Похожее исследование обнаружило, что после просмотра одинаковых фрагментов телерепортажа одного крупного телевизионного канала о бойне в Бейруте в 1982 году и произраильски, и проарабски настроенные опрошенные обвинили и программу, и телеканал в предубеждении против своей стороны[405]. Из этого исследования получаются чрезвычайно важные выводы. Во-первых, всегда стоит помнить, что те, кто с нами не согласен, необязательно двуличны и неискренни в отказе признать очевидные промахи мышления. Но еще важнее другое: всем нам крайне полезно перестать отрицать, что наши собственные доводы тоже часто не блещут объективностью.
Регулирование собственных внутренних установок так, чтобы можно было принять новые подтверждения излюбленных выводов, — еще один инструмент из набора мотивированного мышления. Кроме этого мы мастаки регулировать оценку значимости разных доводов, — иногда мы не обращаем совсем никакого внимания на доводы, если они не поддерживают наши представления о мире (и нас самих). Вы обращали внимание, что при выигрыше любимой команды фанаты вопят о мастерстве игроков, а при проигрыше — о госпоже Удаче и судьях матча?[406] Руководители открытых акционерных компаний точно так же гладят себя по голове, когда прибыли хороши, а если прибыли так себе, вдруг вспоминают о важности случайных внешних факторов[407]. И не понять, искренни ли подобные истолкования паршивого исхода событий, плод ли они бессознательного мотивированного мышления или вообще сознательны и своекорыстны.
Но есть одна ситуация, в которой неопределенности нет места: графики работ. Зачем давать невыполнимые обещания о сроках выполнения задачи, если потом с вас потребуют их соблюдения? И тем не менее подрядчики частенько срывают сроки, даже когда по договору им за это грозят штрафы; исследования показывают, что мотивированное мышление — главная причина подобных просчетов. Выяснилось, что мы при расчетах даты исполнения задачи думаем, что делаем очевидное: разбиваем весь проект на некое количество промежуточных стадий, оцениваем время, необходимое для завершения каждой, и получаем результирующее время. Но оказывается, что на самом деле ум часто делает все наоборот, т. е. бессознательное влияние желательной даты настолько сильно, что мы под нее подгоняем время, необходимое для промежуточных стадий. Скажу больше: анализ фактических данных показывает, что продолжительность выполнения задачи впрямую зависит от того, насколько мы заинтересованы в оперативности ее выполнения[408].
Если продюсеру важно выпустить новую игру для компьютерной приставки за два ближайших месяца, ум этого продюсера найдет причины верить, что программирование и тестирование игры на сей раз пойдет как по маслу. Если хозяйке надо налепить триста шаров попкорна к Хэллоуину, она сумеет с собой договориться о том, что если привлечь к конвейерной работе детей, впервые в истории семейства все выйдет как надо. Мы принимаем такие решения, ибо искренне верим, что они осуществимы, и поэтому все мы — устраивая ли обед для десятерых или изготовляя новый истребитель, — постоянно выдаем оптимистические графики сдачи работ[409]. По оценкам Счетной палаты США, когда бы армия ни закупала оборудование нового поколения, его доставляют в обещанные сроки всего в 1% случаев[410].
В предыдущей главе я рассказывал, что, как показывают результаты исследований, наниматели далеко не всегда знают, почему на самом деле они кого-то наняли. Менеджеру, проводящему собеседование, кандидат может понравиться или не понравиться по причинам, далеким от объективных компетенций собеседуемого. Они, может, в одну школу ходили или оба любят птиц. Или кандидат напоминает интервьюеру его любимого дядюшку. Какой бы ни была причина, собеседующему довольно принять решение «нутром», а бессознание включит мотивированное мышление и поддержит интуитивное предпочтение. Если интервьюеру нравится кандидат, он, не осознавая своих мотивов, уделит много внимания сильным сторонам собеседуемого и отмахнется от слабых.
В одном эксперименте участники оценивали заявки мужчины и женщины на соискание вакансии шефа полиции. Стереотипически это мужская работа, и исследователи решили, что участники поддержат кандидата-мужчину и, сами того не ведая, сузят критерии, по которым станут оценивать обоих претендентов, до таких, какие подкрепят их решение. Эксперимент был устроен так: одно резюме рисовало человека бывалого, но плохо образованного и никудышного руководителя, а второе говорило о человеке высокообразованном и изощренном административно, но не ушлом. Часть испытуемых получила резюме, в которых мужчина был тертый калач, а женщина — умница, а другая — наоборот. Участников попросили не просто сделать выбор, но и объяснить его.
Результаты показали, что те участники, которые получили резюме ушлого мужчины, решили, что бывалость важнее для такой работы, и выбрали мужчину, а те, у которых мужчина был умник, сочли, что ушлость явно переоценена, и выбрали мужчину. Со всей очевидностью решение все участники принимали, исходя из пола кандидатов, а не из противопоставления ушлость — образованность, но, судя по всему, не отдавали себе в этом отчета: ни один из участников не упомянул гендер как фактор влияния[411].
Наша культура обожает рисовать происходящее черно-белыми красками. Антигерои все поголовно подлые, двуличные, жадные и злобные. Герои, им противостоящие, — по всем статьям их противоположность. Но правда-то в том, что уголовники, жадные деляги и мерзавцы с нашей же улицы, люди, чьи поступки мы презираем, обычно уверены в своей правоте.
Силу своекорыстия при оценках данных о различных социальных ситуациях отлично проиллюстрировал ряд экспериментов, в которых исследователи в случайном порядке предложили добровольцам роли истца или ответчика в театрализованном судебном разбирательстве, срежиссированном по мотивам реального случая, произошедшего в Техасе[412]. В одном из этих экспериментов ученые выдали обеим сторонам документацию по делу: мотоциклист, сбитый автомобилем, судится с водителем. Испытуемым сообщили, что в реальном разбирательстве судья присудил ответчику выплатить истцу сумму от 0 до 100 000 долларов, а затем участников разбили на пары «истец-ответчик» и дали полчаса на выяснение отношений и выработку своей версии исполнения предписания. Исследователи сказали испытуемым, что те получат деньги в соответствии с достигнутыми соглашениями и объявили «гвоздь программы»: любой, кто угадает с точностью до 5 000 долларов, каков был реальный вердикт судьи, заработает премию наличными.
Чтобы найти правильную разгадку, участникам необходимо было абстрагироваться от той роли, которую они получили в эксперименте: шанс выиграть премию выше, если подобрать для этого случая самое справедливое решение, основываясь исключительно на фактах и действующих законах. Вопрос состоял именно в том, смогут ли участники соблюсти такую объективность.
В среднем добровольцы, которым досталась роль истца, предположили, что судья предпишет ответчику выплату около $ 40 000, а те, кому досталась роль ответчика, — всего $ 20 000. Вдумайтесь: $ 40 000 против $ 20 000. Если, невзирая на потенциальное вознаграждение за честную оценку справедливого штрафа, участники, которым произвольно выдали роли по ту или другую сторону спора, разошлись во мнениях на 100%, вообразите масштабы искренних разногласий между адвокатами с обеих сторон судебного разбирательства или переговорщиками при дальнейшем финансовом улаживании дела. Мы оцениваем информацию предвзято и не осознаем этого, и такое положение дел может тормозить переговоры даже в тех случаях, когда обе стороны искренне желают справедливого решения.
В другой версии того же эксперимента были изучены мыслительные механизмы, задействованные участниками при формировании конфликтующих выводов: в конце переговорной сессии исследователи попросили добровольцев подробно прокомментировать доводы обеих сторон и вынести однозначные суждения по следующим вопросам типа «Мешает ли водителю вести машину заказ пиццы с луком по мобильному телефону?» и «Влияет ли на безопасность вождения бутылка пива, выпитая за пару часов до поездки на мотоцикле?» Как и в эксперименте с приемом на работу шефа полиции, испытуемые с обеих сторон склонны были обращать больше внимания на факторы, которые поддерживали их собственные выводы, нежели на те, что поддерживают мнение оппонента. Эти эксперименты указывают на то, что участники, зная, на какой стороне им предстоит выступать, знакомились с фактами дела так, что бессознательно, неуловимо формировали суждения предвзято — и тем самым задавили всякое намерение разобраться в ситуации объективно.
Исследователи решили пойти дальше и предложили привлеченным участникам оценить факты аварии до того, как сообщили им, какую сторону кто будет представлять. Затем участникам раздали роли и попросили предложить справедливую сумму откупных, так же пообещав вознаграждение за самую близкую к реальности цифру. Испытуемые в этом эксперименте рассматривали обстоятельства дела непредубежденно, но оценки суммы делали, уже зная, на какой стороне им играть. В таком раскладе разница в оценках упала с $ 20 000 до $ 7 000 — почти на две трети. Более того, результаты показали: после того, как участникам дали проанализировать сведения по делу, прежде чем те заняли свои места в дискуссии, количество пар «истец-ответчик», не пришедших к согласию за предписанные полчаса, упало с 28% до всего лишь шести. «Побыть в чужой шкуре» — клише, но, судя по всему, по-прежнему лучший способ понять другую точку зрения.
Все эти исследования говорят об одном: изворотливость нашего мышления позволяет нам поддерживать иллюзию собственной объективности, даже когда мы смотрим на мир через призму предвзятости. Процессы принятия решений гнут, но не ломают привычные нам правила, и мы считаем, что выносим суждения от частного к общему, от исходных данных — к выводам, но на самом деле идем от общего к частному — облюбованные нами выводы диктуют нам подход к анализу данных. Применяя мотивированное мышление при оценке самих себя, получаем позитивную картину мира, согласно которой мы все — выше среднего. Если с грамматикой у нас лучше, чем с арифметикой, мы считаем, что знание языка важнее, а если хорошо умеем считать, но пишем с ошибками, то уверены, что лингвистика не имеет значения[413]. Если мы настойчивы, упорны и знаем, чего хотим, нам нравится считать, что целеустремленные люди — самые эффективные руководители; если воспринимаем себя демократичными, дружелюбными и общительными, мы склонны видеть лидерами руководителей-гуманистов[414].
Даже наши воспоминания — декоративный материал для автопортрета. Возьмем, к примеру, школьные оценки. Группа исследователей опросила 99 перво- и второкурсников колледжей вспомнить свои школьные оценки по математике, физике, истории, иностранным языкам и английскому в старших классах[415]. У студентов не было причин врать: им сразу сказали, что их воспоминания сравнят со школьными табелями, и все испытуемые подписали разрешение на эту проверку. В общей сложности исследователи проверили воспоминания студентов о 3220 оценках. Вышло забавно: думаете, пары лет, прошедших после школы, вполне достаточно, чтобы студенты забыли, как они успевали по разным предметам? А вот и нет. Память у студентов была очень даже на месте: они восстановили оценки четырех последних лет в школе с очень хорошей точностью — до 70%. Но некоторые пробелы в воспоминаниях все-таки обнаружились. Что же они забыли и почему? Не мгла прошедших лет застила память опрошенных, а плохая успеваемость: пятерки вспомнили в 89% случаев, четверки — в 69%, тройки — в 51% и двойки — в 29%. Так что если вас огорчает дурной отзыв — бодритесь: со временем он улучшится.
Мой сын Николай, который сейчас учится в десятом классе, получил тут как-то письмо. Его прислал человек, живший у нас в доме, но теперь его больше нет. Письмо это написал сам Николай четыре года назад. В пространстве оно почти не перемещалось, зато прилетело издалека во времени — особенно в восприятии ребенка. Он сочинил это письмо в шестом классе — такое им дали домашнее задание. Одиннадцатилетний Николай писал пятнадцатилетнему, в будущее. Все письма собрала и хранила четыре года их чудесная учительница английского и вот теперь отправила их подросткам, в которых превратились ее шестиклашки.
В письме говорилось следующее: «Дорогой Николай, ты хочешь попасть в НБА[416]. Жду не дождусь сыграть в баскетбол в команде средней школы, а потом и в старшей, где ты уже учишься второй год». Но Николай не попал в команду ни в седьмом, ни в восьмом классе. И — такая уж у него судьба — тренер на первом году старшей школы оказался тот же и опять не зачислил Николая в команду. В тот год завернули всего нескольких мальчишек — к вящей горечи Николая. Самое примечательное во всем этом вот что: Николаю хватило бы ума оставить свою затею, но он все эти годы мечтал играть в баскетбол так страстно, что как-то летом по пять часов в день тренировался один на пустой площадке. Если вы знаете, как это устроено у детей, то поймете, что мальчишка, уверенный, что рано или поздно попадет в НБА, но год за годом не попадающий даже в школьную команду, не добавляет очков своему общественному положению. Другие дети, бывает, дразнятся и обзывают лохом, но они точно будут травить лоха, для которого победа — главное в жизни. Поэтому Николаю его вера в себя дорогого стоила.
История баскетбольной карьеры Николая еще не окончена. В конце девятого класса новый тренер младшей команды университета как-то заметил, как Николай день за днем тренируется, иногда дотемна, когда и мяч-то уже видно с трудом. Тем летом тренер пригласил Николая в команду. Осенью Николай вошел в игру. Капитаном.
Я поминал уже успех компании «Эппл», и много всякого было сказано о способности основателя «Эппла» Стива Джобса создавать так называемое «поле искривления реальности», которая позволила ему убедить себя и остальных, что им удастся все, что ни вздумается. Но это поле искривления реальности удалось создать не одному ему; у Николая так получилось тоже — и это дар любого бессознательного ума, в той или иной мере, производное нашей естественной склонности к мотивированному мышлению.
Немного есть достижений, великих ли, малых, которые не зависят до некоторой степени от веры дерзающего в себя, — а величайшие достижения уж точно произрастают не просто из оптимизма человека, но из оптимизма безосновательного. Возможно, не стоит упорствовать в вере в себя как в Иисуса, но как в игрока НБА — запросто, или, подобно Джобсу, воспрянуть от унизительного увольнения из собственной компании, или веровать в себя как в великого ученого, писателя, актера или певца, и эта вера может принести заметную пользу. И пусть в деталях все будет не совсем так, как вам видится, вера в себя в конечном итоге — позитивная сила бытия. Стив Джобс говорил: «Точки не соединишь, глядя вперед; их можно соединить, только обернувшись. Поэтому остается верить, что точки как-то соединятся в будущем»[417]. Если вы верите, что точки в конце пути как-то соединятся, вам хватит уверенности следовать зову сердца, даже когда оно ведет вас нехожеными тропами.
В этой книге я попытался осветить множество способов, какими бессознательный ум человека служит ему верой и правдой. Для меня самого масштабы власти неведомого внутреннего «я» над моим сознательным умом стали полной неожиданностью. Еще большая неожиданность — осознание, насколько беспомощен я был бы в его отсутствие. Но больше прочих преимуществ из тех, что дает нам бессознательное, я ценю следующее. Нашему бессознательному нет равных в создании жизнеутверждающего и уютного чувства самости, ощущения силы и власти в мире, исполненном мощи, не сопоставимой с человеческой. Сальвадор Дали как-то сказал: «Просыпаясь каждое утро, я переживаю неслыханное наслаждение: быть Сальвадором Дали, — и я завороженно спрашиваю себя, какое еще гениальное творение породит сегодня этот Сальвадор Дали?»[418] Может, Дали был славным малым, а может — невыносимым эгоманом, но в его неукротимой и непоколебимой вере в оптимистическое будущее есть нечто волшебное.
В психологической литературе полно экспериментов, подтверждающих и личные, и общественные преимущества в поддержании позитивных «иллюзий» о нас самих[419]. Исследователи регулярно обнаруживают, что каким бы способом ни провоцировали они у людей позитивный настрой, те при этом гораздо охотнее взаимодействуют друг с другом, помогают друг другу. Те, кто сам себе нравится, покладистее в переговорах и легче находят конструктивные решения в конфликтных ситуациях. Такие люди лучше решают проблемы, более мотивированы на успех и переносят испытания с меньшими потерями. Мотивированное мышление защищает наш ум от печалей, дает нам силы преодолевать жизненные трудности, которые иначе свалили бы нас с ног. Чем лучше мы о себе думаем, тем лучше, судя по всему, становимся: мотивированное мышление, похоже, вдохновляет нас стремиться стать тем, что мы о себе измыслили. Исследования показывают, что люди с наиболее честной оценкой самих себя обычно склонны к умеренным депрессиям или страдают от заниженной самооценки или и то, и другое[420]. Несколько завышенное представление о себе, с другой стороны, — нормально и здорово[421].
Легко представить, как пятьдесят тысяч лет назад любой человек в здравом уме, предвидя лютую североевропейскую зиму, заполз бы куда-нибудь в ямку и сложил лапки. Женщины, у которых дети умирают на руках от жутких инфекций, мужчины, у которых на глазах умирают в родах женщины, человеческие племена, переживающие засухи, потопы, голод, — им было непросто продолжать отважно шагать вперед. Но природа снабдила нас средством для преодоления невозможного — мы создаем неправдоподобно радужное видение преодоления невозможного и с его помощью преодолеваем его.
Беспочвенный оптимизм может стать спасательным жилетом в большом мире. И современная жизнь, и наше далекое примитивное прошлое всегда были и до сих пор остаются исполнены препятствий. Физик Джо Полчински[422] писал, что, когда взялся за учебник по теории струн, он думал, что все доделает за год. А писал свой труд десять лет. Оцени я реально, сколько времени и сил потребует вот эта самая книга — или сколько нужно учиться на физика-теоретика, — я бы сразу сдался. Мотивированное мышление, мотивированное памятование и прочие трюки нашего восприятия самих себя и мира вокруг имеют свои теневые стороны, но перед лицом непосильных испытаний — потери работы, курса химиотерапии, написания книги, десятилетнего обучения медицине, стажировки и ординатуры, тысяч часов репетиций, необходимых для того, чтобы стать скрипачом-виртуозом или балериной, годами пахоты по 80 часов в неделю в новом бизнесе или началом жизни в новой стране без денег и нужных навыков — естественный оптимизм человеческого ума есть величайший дар.
До рождения нас с братом родители жили в маленькой квартирке в Норт-сайде в Чикаго. Отец работал, не разгибаясь, портным в мастерской, но его жалованья не хватало для оплаты квартиры. И вот как-то вечером отец пришел домой радостный и сказал матери, что им нужна новая швея и он выбил это место для нее. «Прямо с завтрашнего дня», — сказал он. Все вроде складывалось очень удачно — доходы теперь почти удвоятся, им не придется нищенствовать и времени они будут проводить вместе больше. Одна загвоздка: мама не умела шить. До захвата Гитлером Польши, до того как она потеряла всех и все, мама каталась как сыр в масле. Подростку в такой семье учиться шить было совершенно незачем.
Мои будущие родители обсудили ситуацию. Отец сказал, что научит маму шить. Они потренируются ночью, а утром поедут на работу вместе, и она там как-нибудь выкрутится. Отец работает быстро и будет ей помогать, пока она не освоится. Мама считала себя неловкой и, что еще хуже, слишком застенчивой, так жульничать она не могла. Но отец был уверен в маминой отваге и сноровке. Как и он сам, она же пережила войну! Вот так они и проговорили сколько-то, решая, какие мамины качества главнее.
Мы выбираем факты, в которые хотим верить. Мы выбираем друзей, возлюбленных, супругов не только по тому, как мы их воспринимаем, но и по тому, как они воспринимают нас. В отличие от физических явлений, в жизни события подпадают под ту или иную теорию, происходящее в реальности зависит от того, какой теории придерживаемся мы сами. Таков дар человеческого ума — открытость любым теориям о нас самих, если теории эти помогают нам выживать или даже обретать счастье. Мои родители той ночью не сомкнули глаз: папа учил маму шить.
Благодарности
Калтех — ведущий мировой центр нейробиологии, и мне повезло числить в друзьях светило Калтеха — Кристофа Коха. В 2006 году, всего через несколько лет после рождения науки соционейробиологии, я разговорился с Кристофом о возможности книги о бессознательном уме. Он пригласил меня погостить к себе в лабораторию, и я пять лет наблюдал, как Кристоф, его студенты, аспиранты и коллеги по факультету, особенно Ралф Адолфс, Антонио Рэнгл и Майк Тышка изучают человеческий ум. За эти годы я прочел и разобрал по косточкам более восьмисот научных академических трудов. Я посещал семинары по нейробиологии памяти, по «концептуальным ячейкам» зрительной системы и структурам коры, благодаря которым мы распознаем лица. Я участвовал в экспериментах: мой мозг снимали при помощи фМРТ, а я при этом глазел на фотографии фаст-фуда или внимал странным звукам. Я прослушал великолепные лекционные курсы «Мозги, умы и общество», «Нейробиология эмоции» и «Молекулярные основы поведения». Я посетил конференцию «Биологические источники человеческого группового поведения». И почти каждую неделю я присутствовал на лабораторных обедах у Коха — причащался к великолепным блюдам и обсуждениям последних достижений и слухов из области нейробиологии. Все это время Кристоф и его коллеги по Калтеховской нейробиологической программе щедро одаряли меня временем, заражали увлеченностью и терпеливо все растолковывали. Думаю, ни Кристоф, ни я сам не представляли, сколько ему придется вложить усилий в обучение физика нейробиологии. Этой книгой я обязан его наставничеству и великодушию.
Как всегда, я благодарю Сьюзен Гинзберг, моего агента, друга, защитника и несравненную команду поддержки, моего редактора Эдварда Кастенмайера — за уверенное руководство, терпение и ясность видения. Я благодарю также моих коллег — Дэна Фрэнка, Стейси Теста, Эмили Джильерано и Тима О’Коннелла — за советы, содействие и умение преодолевать трудности. Спасибо корректору Бонни Томпсон за ежовые рукавицы. Ну и спасибо всем, кто вычитал и прокомментировал отдельные части этой книги. Донне Скотт, моей жене и домашнему редактору: она читала все версии книги, всегда делилась честными и проницательными соображениями и ни разу не запустила в меня рукописью, сколько бы я их ей ни подсовывал; Бет Рэшбаум, чьи мудрые редакторские советы я очень высоко ценю; Ралфу Адолфсу, который за пивом не раз и не два вносил ценные замечания по научному содержанию текста; и всем моим друзьям и коллегам, кто читал всю рукопись или ее части и внес свою лепту советом или дополнением, — Кристофу, Рал фу, Антонио, Майку, Майклу Хиллу, Мили Милосавлевич, Дэну Саймонсу, Тому Лайону, Сету Робертсу, Каре Уитт, Хизер Бёрлин, Марку Хиллери, Синтии Хэррингтон, Роузмери Масидо, Фреду Роузу, Тодду Дёршу, Натали Роберж, Алексею Млодинову, Джерри Уэбмену, Трэйси Элдерсон, Мартину Смиту; Ричарду Чевертону, Кэтрин Киф и Патрише Макфолл. И, наконец, — моей семье за любовь и поддержку. И за то, что они не приступали к ужину по часу, а то и по два, дожидаясь, когда я доберусь домой.
Примечания
1
Из работы Карла Густава Юнга «Человек и его символы» (1964), рус. изд.: Серебряные нити, 2012. Здесь и далее перевод наш. — Прим. переводчика.
(обратно)2
Чарльз Сэндорс Пирс (1839–1914) — американский философ, логик, математик, основоположник прагматизма и семиотики. — Прим. перев.
(обратно)3
… :( Текст некоторых примечаний отсутствует. — Прим. верстальщика.
(обратно)4
Charles Sanders Peirce, «Guessing». Hound and Horn 2, (1929), p. 271.
(обратно)5
Эрнст Генрих Вебер (1795–1878) — немецкий психофизиолог и анатом. — Прим. перев.
(обратно)6
Ran R. Hassin el al., eds., The New Unconscious (Oxford: Oxford University Press, 2005), pp. 77–78.
(обратно)7
Йозеф Ястров (1963–1944) — американский психолог польского происхождения. — Прим. перев.
(обратно)8
T. Sebeok with J.U. Sebeok, «You know my method», in: Thomas A. Sebeok, The Play of Musement (Bloomington: Indiana University Press, 1981), pp. 17–52.
(обратно)9
Рус. изд.: Исаак Ньютон. Математические начала натуральной философии. Пер. с лат. и прим. А.Н. Крылова. М.: Наука, 1989. — Прим. перев.
(обратно)10
Thomas Naselaris et al., «Bayesian reconstruction of natural images from human brain activity», Neuron 63 (September 24, 2009), pp. 902–915.
(обратно)11
Kevin N. Ochsner and Matthew D. Lieberman, «The emergence of social cognitive neuroscience», American Psychologist 56, no. 9 (September, 2001). pp. 717–728.
(обратно)12
«Мысли» (1690), пер. Юлии Гинзбург. — Прим. перев.
(обратно)13
Американская сеть магазинов распродаж, основана в 1967 г. — Прим. перев.
(обратно)14
Теренс Стивен Маккуин (1930–1980) — американский актер; «Большой побег» (The Great Escape, 1963) — фильм американского режиссера Джона Стёрджеса о побеге союзнических военнопленных из немецкого лагеря во время Второй мировой войны. — Прим. перев.
(обратно)15
Yael Grosjean el aL, «А glial amino-acid transporter controls synapse Strength and homosexual courtship in Drosophila», Nature Neuroscience 1, (January 11, 2008), pp. 54–61.
(обратно)16
Там же.
(обратно)17
Caenorhabdilis elegans — свободноживущая нематода длиной около 1 мм. — Прим. перев.
(обратно)18
Boris Borisovich Shlonda and Leon Avery, «Dietary choice in Caenorhahditis elegans», The Journal of Experimental Biology 209 (2006), pp. 89-102.
(обратно)19
…
(обратно)20
…
(обратно)21
…
(обратно)22
Джон Барг (р. 1955) — американский социолог, доктор наук, основатель лаборатории автоматики познания, целеполагания и обобщения Йельского Университета. — Прим. перев.
(обратно)23
…
(обратно)24
…
(обратно)25
Ученые не нашли убедительных подтверждений существования Эдипова комплекса или зависти к пенису.
(обратно)26
Heather A. Berlin, «The neural basis of the dynamic unconscious», Neuropsychoanalysis 13, no.1(2011), pp. 5-31.
(обратно)27
Daniel T. Gilbert, «Thinking lightly about others: automatic components of the social inference process», in: Unintended Thought, James S. Uleman and John A. Bargh, eds. (New York: Guilford Press, 1989): p. 192; Ran R. Hassan et al., eds., The New Unconscious (New York: Oxford University Press, 2005), pp. 5–6.
(обратно)28
John F. Kihlstrom et al., «The psychological unconscious: Found, lost, and regained», American Psychologist 47, no. 6 (June 1992), p. 789.
(обратно)29
Сонет № 43 английской поэтессы Викторианской эпохи Элизабет Бэрретт Браунинг (1806–1861) из цикла «Сонеты с португальского» (1845–1846, опубл. 1850). — Прим. перев.
(обратно)30
John T. Jones et al., «How do I love thee? Let me count thejs: Implicit egotism and interpersonal attraction», Journal of Personality and Social Psychology 87, no. 5 (2004), pp. 665–683. Это исследование проводили в трех штатах — Джорджии, Теннесси и Алабаме, — потому что в этих штатах есть уникальные возможности поиска в базах данных по заключению браков.
(обратно)31
…
(обратно)32
…
(обратно)33
…
(обратно)34
Brian Wansink et al., «How descriptive food names bias sensory perceptions in restaurants», Food and Quality Preference 16, no. 5, (July 2005), pp. 393–400; Brian Wansink et al., «Descriptive menu labels’ effect on sales», Cornell Hotel and Restaurant Administrative Quarterly 42, no. 6 (December 2001), pp. 68–72.
(обратно)35
Norbert Schwarz et al., «When thinking is difficult: Metacognitive experiences as information» in: Michaela Wanke, ed., Social Psychology of Consumer Behavior (New York: Psychology Press, 2009), pp. 201–223.
(обратно)36
Benjamin Bushong et al., «Pavlovian processes in consumer choice: The physical presence of a good increases willingness-to-pay», American Economic Review 100, no. 4 (2010), pp. 1556–1571.
(обратно)37
Vance Packard, The Hidden Persuaders (New York: David McKay, 1957), p. 16.
(обратно)38
Adrian С. North et al., «In-store music affects product choice», Nature 90 (November 13, 1997), p. 132.
(обратно)39
Donald A. Laird. «How the consumer estimates quality by subconscious sensory impressions», Journal of Applied Psychology 16 (1932), pp. 241–246.
(обратно)40
Robin Goldstein et al., «Do more expensive wines laste better? Evidence from a large sample of blind tastings», Journal of Wine Economics 3, no. 1 (Spring 2008), pp. 1–9.
(обратно)41
Hilke Plassmann et al., «Marketing actions can modulate neural representations of experienced pleasantness», Proceedings of the National Academy of Sciences of the United Slates of America 105, no. 3 (January 22, 2008), pp. 1050–1054.
(обратно)42
См., к примеру: Morten L. Kringelbach, «The human orbitofrontal cortex: Linking reward to hedonic experience», Nature Reviews: Neuroscience 6 (September, 2005), pp. 691–702.
(обратно)43
M.P. Paulus and L.R. Frank, «Ventromedial prefronlal cortex activation is critical for preference judgments», Neuroreport 14 (2003), pp. 1,311-1,315; M. Deppe el al., «Nonlinear responses within the medial prefrontal cortex reveal when specific implicit information influences economic decision-making», Journal of Neuroimaging 15 (2005), pp. 171–182; M. Schaeffer el al., «Neural correlates of culturally familiar brands of car manufacturers», Neuroimage 31 (2006), pp. 861–865.
(обратно)44
Michael R. Cunningham, «Weather, mood, and helping behavior: Quasi experiments with sunshine Samaritan», Journal of Personality and Social Psychology 37, no. 11 (1979), pp. 1947–1956.
(обратно)45
…
(обратно)46
Edward M. Saunders, Jr., «Stock prices and Wall Street weather», American Economic Review 83 (1993), pp. 1337–1345. См. также Mitra Akhtari, «Reassessment of the weather effect: Stock prices and wall street weather», Undergraduate Economic Review 7, no. 1, article 19 (2011), Cм. .
(обратно)47
David Hirshleiter and Tyler Shumway, «Good Day Sunshine: Stock returns and the weather». The Journal of Finance 58, no. 3 (June 2003), pp. 1009–1032.
(обратно)48
Рут Бенедикт (1887–1948) — американский антрополог, представитель этнопсихологического направления в антропологии. — Прим. перев.
(обратно)49
Ran R. Hassin et al., eds., The New Unconscious (Oxford: The Oxford University Press, 2005), p. 3.
(обратно)50
…
(обратно)51
Donald Freedheim, Handbook of Psychology, vol. 1 (Hoboken: Wiley, 2003). p. 2.
(обратно)52
Вильгельм Максимилиан Вундт (1832–1920) — немецкий врач, физиолог и психолог, основатель экспериментальной психологии. — Прим. перев.
(обратно)53
Alan Kim, «Wilhelm Maximilian Wundt», Stanford Encyclopedia of Philosophy…
(обратно)54
Уильям Джеймс (1842–1910) — американский философ и психолог, один из основателей и ведущий представитель прагматизма и функционализма. — Прим. перев.
(обратно)55
Цит. по: E.R. Hilgard, Psychology in America: A Historical Survey (Orlando: Harcourt Brace Jovanovich, 1987), p. 37.
(обратно)56
Louis Menand, The Metaphysical Club, p. 259–260.
(обратно)57
Уильям Бойд Карпентер (1841–1918) — епископ англиканской церкви, президент Общества психических исследований (1912). — Прим. перев.
(обратно)58
William Carpenter, Principles of Mental Physiology (New York: D. Appleton, 1874), pp. 526, 539.
(обратно)59
Louis Menand, The Metaphysical Club, p. 159.
(обратно)60
M. Zimmerman, «The nervous system in die context of information theory» in: R.F. Schmidt and G. Thews, eds., Human Physiology (Berlin: Springer, 1989), pp. 166–173. Hum. no: Ran R. Hass in et al., eds., The New Unconscious, p. 82.
(обратно)61
Мф, 26:41. — Прим. перев.
(обратно)62
Cristof Koch, «Minds, brains, and society» (лекция в Калтехе, Пасадена, Калифорния, 21 января 2009 г.).
(обратно)63
…
(обратно)64
Alan J. Pegna et al., «Discriminating emotional faces without primary visual cortices involves the right amygdala», Nature Neuroscience 8, no. 1 (January 2005), p. 24–25.
(обратно)65
P. Ekman and W.P. Friesen, Pictures of Facial Affect (Palo Alto: Consulting Psychologists Press, 1975).
(обратно)66
Кристофер Марлоу, «Трагическая история доктора Фауста», акт V, сцена 1, иер. Н. Амосовой. — Прим. перев.
(обратно)67
-says-we-dont-have-barack-obama.html (30 марта 2009 г.). Адрес для связи: vurdlak@gmail.com.
(обратно)68
См. напр.: W.T. Thach, «On the specific role of the cerebellum in motor learning and cognition: Clues from PET activation and lesion studies in man», Behavioral and Brain Sciences, 19 (1996), pp. 411–431.
(обратно)69
Beatrice de Gelder et al., «Intact navigation skills after bilateral loss of striate cortex», Current Biology 18, no. 24 (2008), pp. 1128–1129.
(обратно)70
Benedict Carey, «Blind, yet seeing: The brain’s subconscious visual sense», NY Times, December 23. 2008.
(обратно)71
Christof Koch, The Quest for Consciousness (Englewood: Roberts, 2004), p. 220.
(обратно)72
Ian Glynn, An Anatomy of Thought (Oxford: Oxford University Press, 1999), p. 214.
(обратно)73
Ronald S. Fishman, «Gordon Holmes, the cortical retina, and the wounds of war», Documenta Opthalomgica 93 (1997), pp. 9-28.
(обратно)74
I. Wriskrantz et al., «Visual capacity in the hemianopic field following a restricted occipital ablation», Brain, 97 (1974), pp. 709–728; L. Weiskrantz, Blindsight: A Case Study and its Implications (Oxford: Clarendon Press, 1986).
(обратно)75
N. Tsuchiya and С. Koch, «Continuous flash suppression reduces negative afterimages», Nature Neuroscience, 8 (2005), pp. 1096–1101.
(обратно)76
Yi Jiang et al., «А gender- and sexual orientation-dependent spatial attentional effect of invisible images», Proceedings of the National Academy of Sciences of the United Stales of America, 103, no. 15 (November 7, 2006), pp. 17048-17052.
(обратно)77
I. Kohler, «Experiments with goggles», Scientific American 206 (1961), pp. 62–72.
(обратно)78
Губернаторы встретились со своими законодательными собраниями в соответствующих столицах штатов (англ.). — Прим. перев.
(обратно)79
…
(обратно)80
Richard M. Warren and Roselyn P. Warren, «Auditory illusions and confusions», Scientific American 223 (1970), pp. 30–36.
(обратно)81
Колесо (англ.). — Прим. перев.
(обратно)82
Обнаружилось, что *олесо было на оси (англ.). — Прим. перев.
(обратно)83
Каблук (англ.). — Прим. перев.
(обратно)84
Обнаружилось, что *аблук был на туфле (англ.). — Прим. перев.
(обратно)85
Кожура (англ.). — Прим. перев.
(обратно)86
Трапеза (англ.). — Прим. перев.
(обратно)87
Последние строки эпилога книги «Создатель» (1960). — Прим. перев.
(обратно)88
Jennifer Thompson-Cannino and Ronald Cotton with Erin Torneo, Picking Cotton (New York: St. Martin’s, 2009); см. также стенограмму эфира американского документального телесериала «Frontline»: «Что видела Дженнифер» (What Jennifer Saw, show #1508, February 25, 1997).
(обратно)89
Gary L. Wells and Elizabeth A. Olsen, «Eyewitness testimony». Annual Review of Psychology 51 (2003), pp. 277–291.
(обратно)90
G.L. Wells, «What do we know about eyewitness identification?», American Psychologist 48 (May, 1903), pp. 553–571.
(обратно)91
«Проект Невиновность» — негосударственная некоммерческая организация: отстаивает права осужденных невинно, добивается их освобождения. Основана в Нью-Йорке адвокатами Барри Шеком и Питером Нойфельдом. — Прим. перев.
(обратно)92
См. интернет сайт «Проекта Невиновность»: -Misidentification.php
(обратно)93
Erica Goode and John Schwartz, «Police lineups start to face fact: Eyes can lie», New York Times (August 28, 2011). См. также. Brandon Garrett, Convicting the Innocent: Where Criminal Prosecutors Go Wrong (Cambridge: Harvard University Press, 2011).
(обратно)94
Thomas Lundy, «Jury instruction comer», Champion Magazine (May-June, 2008), p. 62.
(обратно)95
Daniel Schacter, Starching for Memory: The Brain, the Mind, and the Past (New York, Basic Books, 1996), pp. 111–112; Ulric Neisser, «John Dean’s memory: A case study» in: Ulric Neisser. ed., Memory Observed: Remembering in Natural Contexts (San Francisco: Freeman, 1982). pp. 139–159.
(обратно)96
Elizabeth Loftus and Katherine Ketcham, Witness for the Defense.
(обратно)97
Гуго Мюнстерберг (1863–1916) — философ и психолог немецкого происхождения, первопроходец использования идей прикладной психологии в образовании, медицине и бизнесе. — Прим. перев.
(обратно)98
B.R. Hergenhahn, An Introduction to the History of Psychology, 6 e.d. (Belmont: Wadsworth, 2008), pp. 348–350; «H. Münsterberg» in: Allen Johnson and Dumas Malone, eds., Dictionary of American Biography, base set (New York: Charles Scribner’s Sons, 1928–1936).
(обратно)99
H. Münsterberg, On the Witness Stand: Essays on Psychology and Crime (New York: Doubleday, 1908).
(обратно)100
H. Münsterberg, On the Witness Stand: Essays on Psychology and Crime. Для ознакомления с тем, как работа Мюнстерберга повлияла на дальнейшее развитие темы, см. Siegfried Ludwig Sporer, «Lessons from the origins of eyewitness testimony research in Europe» Applied Cognitive Psychology 22 (2008). pp. 737–757.
(обратно)101
Краткий очерк жизни и трудов Мюнстерберга См.: D.P. Schultz and S.E. Schultz, A History of Modem Psychology (Belmont: Wadsworth, 2004), pp. 246–252.
(обратно)102
Michael T. Gilmore, The Quest for Legibility in American Culture (Oxford: Oxford University Press, 2003), p. 11.
(обратно)103
H. Münsterberg, Psychotherapy (New York: Moffat, Yard, 1905), p. 125.
(обратно)104
A.R. Luria, The Mind of a Mnemonist: A Little Book About a Vast Memory…
(обратно)105
Александр Романович Лурия (1902–1977) — советский психолог, основатель отечественной нейропсихологии, ученик Л.С. Выготского; Соломон Вениаминович Шеришевский (1886–1958) — российский и советский журналист и художественный критик. — Прим. перев.
(обратно)106
John. D. Bransford and Jeffery J. Franks, «The abstraction of linguistic ideas: A review», Cognition 1, no. 2–3 (1972), pp. 211–249.
(обратно)107
Arthur Graesser and George Mandlcr, «Recognition memory for the meaning and surface structure of sentences», Journal of Experimental Psychology: Human Learning and Memory 104, no. 3 (1975), pp. 238–248.
(обратно)108
Дэниэл Лоренс Шэктер (р. 1952) — американский психолог, профессор психологии Гарвардского университета. — Прим. перев.
(обратно)109
Daniel Schacter, Searching for Memory: the Brain, the Mind, and the Past (New York: Basic Books, 1996), p. 103; H.L. Roediger III and K.B. McDermott, «Creating false memories: Remembering words not presented in lists», Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition 21 (1995), pp. 803–814.
(обратно)110
Дэниэл Дж. Саймонс — экспериментальный психолог, когнитивист, профессор факультета психологии Бекмановского института Иллинойского университета. — Прим. перев.
(обратно)111
Частная беседа, 24 сентября 2011 г.; См. также: Christopher Chabris and Daniel Simons, The Invisible Gorilla (New York: Crown Publishing, 2009), pp. 66–70 [рус. изд.: Кристофер Шабри и Дэниэл Саймонс, Невидимая горилла, или История о том, как обманчива наша интуиция, М., Карьера Пресс, 2011. — Прим. перев.]
(обратно)112
Фредерик Чарлз Бартлетт (1886–1969) — британский психолог, первый профессор экспериментальной психологии Кембриджа, один из пионеров когнитивной психологии. — Прим. перев.
(обратно)113
См. подробный экскурс в жизнь и научные труды Бартлетта в: H.L. Roediger, «Sir Frederic Charles Bartlett: Experimental and applied psychologist» in: G.A. Kimble and M. Wertheimer, eds., Portraits of Pioneers in Psychology, vol. IV (Maltwah: Erlbauni, 2000), pp. 149–161; H.L. Roediger, E.T. Bergman and M.L. Meade, «Repeated reproduction from memory», in: A. Saito, ed., Bartlett, Culture and Cognition (London: Psychology Press, 2000), pp. 115–134.
(обратно)114
Sir Frederick Charles Bartlett, Remembering: A Study in Experimental and Social Psychology (Cambridge: Cambridge University Press, 1932), p. 68.
(обратно)115
…
(обратно)116
Sir Frederick Charles Bartlett, Remembering: A Study in Experimental and Social Psychology, p. 85.
(обратно)117
Ulric Neisser, The Remembering Self: Construction and Accuracy in the Self Narrative (Cambridge: Cambridge University Press, 1994), p. 6; см. также Elizabeth Loftus, The Myth of Repressed Memory: False Memories and Allegations of Sexual Аbuse (New York: St. Martin's Griffin, 1996), pp. 91–92.
(обратно)118
Афоризм Айви Бейкер Прист (1905–1975), казначея США (1953–1961) при президенте Эйзенхауэре. — Прим. перев.
(обратно)119
…
(обратно)120
In God We Trust (англ.) — «На Бога уповаем», официальный девиз США (с 1956 г.) и штата Флорида. На оборотной стороне банкнот и реверсов монет впервые использован в 1864 г., 1965 г. был утвержден Конгрессом. E Pluribus Unum (лат.) — «На многих — единое», девиз на гербе США и монетах (с 1876 г.) но национальным девизом не является; исходно высказывание Цицерона из трактата «Об обязанностях». — Прим. перев.
(обратно)121
Напр., Lionel Standing et al., «Perception and memory for pictures: Singletrial learning of 2500 visual stimuli», Psychonomic Science 19, no. 2 (1970), pp. 73–74; K. Pezdek, et al., «Picture memory: Recognizing added and deleted details», Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition 14, no. 3 (1988), p. 468; цит. no Daniel J. Simons and Daniel T. Levin, «Change blindness», Trends in the Cognitive Sciences I, no, 7 (October 1997), pp. 261–267.
(обратно)122
…
(обратно)123
Daniel T. Levin and Daniel J. Simons, «Failure to detect changes to attended objects in motion pictures», Psychonomic Bulletin & Review 4, no. 4 (1997), pp. 501–506.
(обратно)124
…
(обратно)125
David G. Payne et al., «Memory illusions: Recalling, recognizing, and recollecting events that never occurred», Journal of Memory and Language, 35 (1996), pp. 261–285.
(обратно)126
Филип Киндред Дик (1928–1982) — американский писатель-фантаст; рассказ «Мы вам все припомним по оптовым ценам» (We Can Remember it for you Wholesale, 1966) выходил на русском языке в различных сборниках автора, в частности — под названием «Из глубин памяти» в сб. «Свихнувшееся время» (изд-ва «Титул», «Культура», 1993). — Прим. перев.
(обратно)127
Kimberly A. Wade et al., «A picture is worth a thousand lies: Using false photographs to create false childhood memories», Psychonomic Bulletin & Review 9. no. 3 (2002), pp. 597–602.
(обратно)128
Elizabeth F. Loftus. «Planting misinformation in the human mind: A 30-year investigation of the malleability of memory», Learning & Memory 12 (2005), pp.361–366.
(обратно)129
Kathryn A. Braun et al., «Make my memory: How advertising can change our memories of the past». Psychology and Marketing 19, no. 1, (January 2002), pp. 1-23; Elizabeth Loftus, «Our changeable memories: Legal and practical implications», Nature Reviews Neuroscience 4 (March 2003), pp. 231–234.
(обратно)130
Loftus, «Our changeable memories: Legal and practical implications»; Shari R. Berkowitz et al., «Pluto behaving badly: False beliefs and their consequences», American Journal of Psychology 121, no. 4 (Winter 2008), pp. 643–660. [Плуто — мультипликационный персонаж Уолта Диснея, домашний пес Мики-Мауса. — Прим. перев.]
(обратно)131
S.J. Ceci et al., «Repeatedly thinking about non-events», Consciousness and Cognition 3 (1994), pp. 388–407; S.J. Ceci et al., «The possible role of source misattributions in the creation of false beliefs among preschoolers», International Journal of Clinical and Experimental Hypnosis 42 (1994), pp. 304–320.
(обратно)132
I.E. Hyman and E.J. Billings, «Individual differences and the creation of false childhood memories», Memory 6, no. 1 (1998), pp. 1-20.
(обратно)133
Ira E. Hyman et al., «False memories of childhood experiences», Applied Cognitive Psychology 9 (1995), pp. 181–197.
(обратно)134
Начало речи «Мое кредо», произнесенной Эйнштейном в Берлине осенью 1932 г. перед Немецкой лигой прав человека.
(обратно)135
J. Kiley Hamlin et al., «Social evaluation by preverbal infants», Nature 450 (November 22, 2007), pp. 557–559.
(обратно)136
James К. Rilling, «А neural basis for social cooperation», Neuron 35, no. 2 (July 2002), pp. 395–405.
(обратно)137
Патрик Хенри (1736–1799) — американский оратор и политик, борец за независимость США, один из Отцов-основателей американской нации. — Прим. перев.
(обратно)138
…
(обратно)139
Аддеролл — лекарственный препарат на основе амфетаминов, применяется при синдроме дефицита внимания и нарколептических симптомах, легально прописывается только на территории США и Канады; амбиен (золпидем, стилпокс) — лекарственный препарат, отпускается по рецептам для лечения бессонницы; ативан (лоразепам) — лекарственный препарат, применяемый для краткосрочного лечения бессонницы, тревожности, прописывается при острых приступах эпилепсии. — Прим. перев.
(обратно)140
Naomi I. Eisenberger et al., «Does rejection hurt? An fMRI study of social exclusion», Science 10, no. 5643 (Octobcr 2003), pp. 290–292.
(обратно)141
C. Nathan DeWall et al., «Tylenol reduces social pain: Behavioral and neural evidence», Psychological Science 21 (2010), pp. 931–937.
(обратно)142
Тайленол — жаропонижающий и болеутоляющий препарат. — Прим. перев.
(обратно)143
«Би-Джиз» (Bee Gees, с 1958) — англо-австрийская рок-поп-соул-группа; «Как склеить сердце?» (How Can You Mend A Broken Heart, 1971) — музыкальная композиция, позднее включенная в альбом «Трафальгар». — Прим. перев.
(обратно)144
James S. House et al., «Social relationships and health», Science 241 (July 29, 1988), pp. 540–545.
(обратно)145
…
(обратно)146
Richard G. Klein, «Archeology and the evolution of human behavior»; Christopher S. Henshilwood and Curds W. Marean, «The origin of modern human behavior: Critique of the models and their test implication».
(обратно)147
Далее — модель психического. — Прим. перев.
(обратно)148
F. Heider and М. Simmel, «Аn experimental study of apparent behavior», American Journal of Psychology 57 (1944), pp. 243–259.
(обратно)149
Josep Call and Michael Tomasello, «Does the chimpanzee have a theory of mind? 30 years later» Cell 12, no. 5 (2008), pp. 187–192.
(обратно)150
…
(обратно)151
Oliver Sacks, An Anthropologist on Mars (New York: Knopf, 1995), p. 272. [Рус. изд.: Оливер Сакс, Антрополог на Марсе, М.: ACT, 2009, пер. А. Николаева. — Прим. перев.]
(обратно)152
Robin I.M. Dunbar, «The social brain hypothesis», Evolutionary Anthropology: Issues, News, and Reviews 6 no. 5 (1998), pp. 178–190.
(обратно)153
Robin I.M. Dunbar, «The social brain hypothesis», Evolutionary Anthropology: Issues, News, and Reviews 6 no. 5 (1998), pp. 178–190.
(обратно)154
R.A. Hill and Robin I.M. Dunbar, «Social network size in humans», Human Nature 14, no. 1 (2003), pp. 53–72; Robin I.M. Dunbar, «The social brain hypothesis».
(обратно)155
…
(обратно)156
Стэнли Милгрэм (1933–1984) — американский социопсихолог, известный своим экспериментом подчинения авторитету и исследованием феномена «маленького мира». — Прим. перев.
(обратно)157
Stanley Milgram. «The small world problem», Psychology Today 1, no. 1 (May 1967), pp. 61–67; Jeffrey Travers and Stanley Milgram, «An experimental study of the small world problem», Sociometry 32, no. 4 (December 1969), pp. 425–443.
(обратно)158
Peter Sheridan Dodds et al., «An experimental study of search in global networks», Science 301 (8 August, 2003), pp. 827–829.
(обратно)159
James P. Curley and Eric В. Keverne, «Genes, brains and mammalian social bonds», Trends in Ecology and Evolution 20, no. 10 (October 2005).
(обратно)160
Patricia Smith Churchland, «The impact of neuroscience on philosophy», Neuron 60 (November 6, 2008), pp. 409–411; Ralph Adolphs, «Cognitive neuroscience of human social behavior», Nature Reviews A (March 2003), pp. 165–178.
(обратно)161
Джон Грэй, «Мужчины с Марса, женщины с Венеры». Первое рус. изд.: Киев: «София», 1992, пер. И. Старых. — Прим. перев.
(обратно)162
K.D. Broad et al., «Mother-infant bonding and the evolution of mammalian social relationships», Philosophical Transactions of the Royal Society В 361 (2006), pp. 2199–2214.
(обратно)163
Thomas R. Insel and Larry J. Young, «The neurobiology of attachment», Nature Reviews: Neuroscience 2 (February 2001), pp. 129–133.
(обратно)164
Larry J. Young et al., «Anatomy and neurochemistry of the pair bond», The Journal of Comparative Neurology 493 (2005), pp. 51–57.
(обратно)165
Patricia Smith Churchland, «The impact of neuroscience on philosophy».
(обратно)166
Zoe R. Donaldson and Larry J. Young, «Oxytocin, vasopressin, and the neurogenetics of sociality», Science 322 (November 7, 2008), pp. 900–904.
(обратно)167
Zoe R. Donaldson and Larry J. Young, «Oxytocin, vasopressin, and the neurogenetics of sociality», Science 322 (November 7, 2008), pp. 900–904.
(обратно)168
Larry J. Young, «Love: Neuroscience reveals all», Nature 457 (January 8, 2009), p. 148; Paul J. Zak, «The neurobiology of trust», Scientific American (June 2008), pp. 88–95; Kathleen C. Light et al., «More frequent partner hugs and higher oxytocin levels are linked to lower blood pressure and heart rate in premenopausal women», Biological Psychiatry b9, no. 1 (April 2005), pp. 5-21; Karten M. Grewen et al., «Effect of partner support on resting oxytocin, cortisol, norepinephrine and blood pressure before and after warm personal contact», Psychosomatic Medicine 67 (2005), pp. 531–538.
(обратно)169
Michael Kosfeld et al., «Oxytocin increases trust in humans», Nature 435 (June 2, 2005), pp. 673–676; Paul J. Zak et. al., «Oxytocin is associated with human trustworthiness», Hormones and Behavior 48 (2005), pp. 522–527; Angeliki Theodoridou, «Oxytocin and social perception: oxytocin increases perceived facial trustworthiness and attractiveness», Hormones and Behavior 56, no. 1 (June 2009), pp. 128–132; Gregor Domes et al., «Oxytocin improves "mind-reading" in humans», Biological Psychiatry 61 (2007), pp. 731–733.
(обратно)170
Zoe R. Donaldson and Lany J. Young. «Oxytocin, vasopressin, and the neurogenetics of sociality».
(обратно)171
Ran R. Hassin et al., eds., The New Unconscious, pp. 3–4.
(обратно)172
Ran R. Hassin et al., eds., The New Unconscious, pp. 3–4; Timothy D. Wilson, Strangers to Ourselves: Discovering the Adaptive Unconscious (Cambridge; Belknap Press, 2002), p. 4.
(обратно)173
Ellen Langer el al., «The mindlessness of ostensibly thoughtful action: The role of "placebic" information in interpersonal interaction», Journal of Personality and Social Psychology 36, no. 6 (1978), pp. 635–642; Robert P. Abelson, «Psychological status of the script concept», American Psychologist 36, no. 7 (July 1981), pp. 715–729.
(обратно)174
Анджело Моссо (1846–1910) — итальянский физиолог, изучал медицину в Турине, Флоренции, Лейпциге и Париже, с 1876 г. — профессор фармакологии, с 1880 г. — физиологии. — Прим. перев.
(обратно)175
William James, Principles of Psychology (New York: Henry Holt, 1890), pp. 97-99
(обратно)176
…
(обратно)177
«Толкование сновидений» (Die Traumdeutung, 1899 [1900]) — труд Зигмунда Фрейда, считающийся «библией психоанализа». При жизни Фрейда случилось восемь изданий книги (последнее в 1929 г.). Первые переводы опубликованы практически одновременно в Великобритании и в России (оба — в 1913), затем в Испании (1922), Франция (1926), Швеции (1927), Японии (1930), Венгрии (1934) и Чехословакии (1938). — Прим. перев.
(обратно)178
…
(обратно)179
Matthew D. Lieberman, «Social neuroscience: A review of core processes».
(обратно)180
Ralph Adolphs, «Cognitive neuroscience of human social behavior», Nature Reviews 4 (March 2003), pp. 165–178.
(обратно)181
Matthew D. Lieberman, «Social neuroscience: A review of core processes».
(обратно)182
Bryan Kolb and Ian Q. Whishaw, An Introduction to Brain and Behavior (New York: Worlh, 2004), pp. 410–411.
(обратно)183
R. Glenn Northcutt and Jon H. Kass, «The emergence and evolution of mammalian neocortex», Trends in Neuroscience 18, no. 9 (1995), pp. 373–379; Jon H. Kaas, «Evolution of the neocortex», Current Biology 21, no. 16 (2006), pp. R910-R914.
(обратно)184
Nikos К. Logothetis. «What we can do and what we cannot do with fMRI», Nature 453 (June 12, 2008), pp. 869–878. Под первым исследованием с использованием фМРТ Логотетис имеет в виду первое применение фМРТ без введения контраста, поскольку оно усложняет проведение эксперимента и привлечение добровольцев.
(обратно)185
Социальная когнитивная нейробиология (англ.). — Прим. перев.
(обратно)186
Matthew D. Lieberman, «Social neuroscience: a review of core processes».
(обратно)187
Джеймс Борг — американский практикующий психолог и бизнес-консультант. Приведенная цитата взята из его книги «Язык тела: 7 простых уроков по овладению безмолвным языком» (Body Language: 7 Easy Lessons to Master the Silent Language, 2008). — Прим. перев.
(обратно)188
«Год чудес» — 1905 г., когда ведущий немецкий научный журнал «Анналы физики» опубликовал три статьи Эйнштейна, положившие начало новой научной революции. — Прим. перев.
(обратно)189
См. Edward T. Heyn, «Berlin’s wonderful horse», New York Times, September 4, 1904; «"Clever Hans" again», New York Times, October 2, 1904; «А horse — and the wise men», New York Times, July 23, 1911; «Can horses think? Learned commission says, "Perhaps"», New York Times, August 31, 1913.
(обратно)190
Оскар Пфунгст (1874–1933) — немецкий сравнительный биолог и психолог. — Прим. перев.
(обратно)191
Brian Hare et al.. «The domestication of social cognition in dogs», Science 298 (November 22, 2002), pp. 1634–1636; Brian Hare and Michael Tomasello, «Human-like social skills in dogs?», Trends in Cognitive Sciences 9, no. 9 (2005), pp. 440–444; Á Miklósi et al., «Comparative social cognition: What can dogs leach us?», Animal Behavior 67 (2004), pp. 995-1004.
(обратно)192
Monique A.R. Udell et al., «Wolves outperform dogs in following human social cues», Animal Behavior 76 (2008), pp. 1767–1773.
(обратно)193
Фидо (1941–1958, от лат. преданный) — уличная собака; завоевала международную любовь своей абсолютной преданностью мертвому хозяину, обжигателю кирпича итальянцу Карло Сориани, погибшему в 1943 г. Пятнадцать лет после смерти спасшего его когда-то Сориани пес каждый день приходил на автобусную остановку ждать хозяина и умер на этой же остановке. — Прим. перев.
(обратно)194
Jonathan J. Cooper et al., «Clever hounds: Social cognition in the domestic dog (Canis familiaris)», Applied Animal Behavioral Science (2003), pp. 229–244; A. Whiten and R.W. Byrne, «Tactical deception in primates», Behavioral and Brain Sciences 11 (2004), pp. 233–273.
(обратно)195
Brian Hare, «The domestication of cognition in dogs»; E.B. Ginsburg and L. Hiestand, «Humanity’s best friend: the origins of our inevitable bond with dogs» in: H. Davis, D. Balfour, eds., The Inevitable Bond: Examining Scientists-Animal Interactions (Cambridge: Cambridge University Press, 1991), pp. 93-108.
(обратно)196
…
(обратно)197
L.H. Ingraham and G.M. Harrington, «Psychology of the scientist: XVI. Experience of E as a variable in reducing experimenter bias», Psychological Reports 19 (1966), pp. 455–461.
(обратно)198
Роберт Розентал (р. 1933) — американский психолог немецкого происхождения, заслуженный профессор психологии Университета Калифорнии; известен исследованиями самореализующихся пророчеств, и том числе так называемого «эффекта Пигмалиона» — исполнения ожиданий педагога по отношению к ученику. — Прим. перев.
(обратно)199
Robert Rosenthal and Kermit L. Fode, «Psychology of the scientist: V. Three experiments in experimenter bias», Psychological Reports 12 (April 1963), pp.491–511.
(обратно)200
Robert Rosenthal and Lenore Jacobson, Pygmalion in the Classroom: Teacher Expectation and Pupils’ Intellectual Development, p. 29.
(обратно)201
Robert Rosenthal and Lenore Jacobson, Pygmalion in the Classroom: Teacher Expectation and Pupils’ Intellectual Development, p. 29.
(обратно)202
…
(обратно)203
Simon E. Fischer and Gary F. Marcus, «The eloquent ape: Genes, brains and the evolution of language», Nature: Reviews Genetics 7 (January 2006), pp. 9-20.
(обратно)204
L.A. Pelitto and P.F. Marentette, «Babbling in the manual mode: Evidence for the ontology of language», Science 251 (1991), pp. 1493–1496; S. Goldin-Meadow and C. Mylander, «Spontaneous sign systems created by deaf children in two cultures», Nature 391 (1998), pp, 279–281.
(обратно)205
Charles Darwin, The Autobiography of Charles Darwin (1887, repr. New York: W.W. Norton, 1969), p. 141 [рус. изд.: Чарлз Дарвин. Воспоминания о развитии моего ума и характера, в: Ч. Дарвин. Сочинения, т.9, стр. 166–242, М.: Изд-во ЛН СССР, 1959. — Прим. перев.]; см. также Paul Ekman, «Introduction» in: Emotions Inside Out: 130 Years After Darwin's the Expression of the Emotions in Animals and Man (New York: Annals of the N.Y. Academy of Science, 2003), pp. 1–6.
(обратно)206
Последнее рус. изд.: СПб.: «Питер», 2001. — Прим. перев.
(обратно)207
…
(обратно)208
Peter О. Gray, Psychology (New York: Worth, 2007), pp. 74–75.
(обратно)209
Гийом Бенжамен Аман Дюшенн де Булонь (1806–1875) — французский невролог, внесший большой вклад в развитие электрофизиологии, клинической фотографии, биопсии глубоких тканей. — Прим. перев.
(обратно)210
Antonio Damasio, Descartes' Error (New York: Putnam, 1994), pp. 141–142.
(обратно)211
…
(обратно)212
…
(обратно)213
…
(обратно)214
James A. Russell, «Is there universal recognition of emotion from facial expression? A review of the cross-cultural studies», Psychological Bulletin 115, no. 1 (1994), pp. 102–141.
(обратно)215
Пол Экман (p. 1934) — выдающийся американский психолог, профессор Калифорнийского университета в Сан-Франциско, крупнейший специалист в области психологии эмоций, межличностного общения, психологии и распознавания лжи. Профессор Экман известен во всем мире и как вдохновитель и консультант популярного телесериала «Обмани меня» (Lie to Me, 2009–2011), и как прототип его главного героя доктора Лайтмена. В 2009 г. журнал «Тайм» включил Пола Экмана в список 100 наиболее влиятельных людей мира. — Прим. перев.
(обратно)216
См. послесловие Экмана к изданию книги Чарлза Дарвина The Expression of the Emotions in Man and Animals (Oxford: Oxford University Press, 1998), pp. 363–393.
(обратно)217
«Остров Гиллигана» (Gilligan’s Island,1964–1967) — американский комедийный телесериал, созданный продюсером Шервудом Шварцем. — Прим. перев.
(обратно)218
…
(обратно)219
…
(обратно)220
Edward Z. Tronick, «Emotions and emotional communication in infants», American Psychologist 44, no. 2 (February 1989), pp. 112–119.
(обратно)221
Dario Galati et al., «Voluntary facial expression of emotion: Comparing congenitally blind with normally sighted encoders», Journal of Personality and Social Psychology 73, no. 6 (1997), pp. 1363–1379.
(обратно)222
Gary Alan Fine et al., «Couple tie-signs and interpersonal threat: A field experiment», A Social Psychology Quarterly 47, no. 3 (1984), pp. 282–286.
(обратно)223
Gary Alan Fine et al., «Couple tie-signs and interpersonal threat: A field experiment», A Social Psychology Quarterly 47, no. 3 (1984), pp. 282–286.
(обратно)224
…
(обратно)225
Allan Mazur et al., «Physiological aspects of communication via mutual gaze», American Journal of Sociology 86, no. 1 (1980), pp. 50–74.
(обратно)226
John F. Dovidio and Steve L. Ellyson, «Decoding visual dominance: Attributions of power based on relative percentages of looking while speaking and looking while listening», Social Psychology Quarterly 45, no. 2 (1982), pp. 106–113.
(обратно)227
…
(обратно)228
…
(обратно)229
John F. Dovidio et al., «The relationship of social power to visual displays of dominance between men and women», Journal of Personality and Social Psychology 54, no. 2 (1988), pp. 233–242.
(обратно)230
S. Duncan and D.W. Fiske, Face-to-face Interaction: Research, Methods, and Theory (Hillsdale: Erlbaum, 1977); N. Capella, «Controlling the floor in conversation» in: A.W. Siegman and S. Feldstein, eds., Multichannel Integrations of Nonverbal Behavior (Hillsdale: Erlbaum, 1985), pp. 69-103.
(обратно)231
A. Atkinson et al, «Emotion perception from dynamic and static body expressions in point-light and full-light displays», Perception 33 (2004), pp. 717–746; «Perception of emotion from dynamic point-light displays represented in dance», Perception 25 (1996), pp. 727–738; James K. Cutting and Lynn T. Kozlowski, «Recognizing friends by their walk: Gait perception without familiarity cues», Bulletin of the Psychonomic Society 9, no. 5 (1977), pp. 353–356; James E. Cutting and Lynn T. Kozlowski, «Recognizing the sex of a walker from a dynamic point-light display», Perception and Psychophysics 21, no. 6 (1977), pp. 575–580.
(обратно)232
S.H Spence, «The relationship between social-cognitive skills and peer sociomeiric status», British Journal of Developmental Psychology, 5 (1987), pp. 347–356.
(обратно)233
…
(обратно)234
…
(обратно)235
A. Mehrabian and M. Williams, «Nonverbal concomitants of perceived and intended persuasiveness», Journal of Personality and Social Psychology 13, no. 1 (1969), pp. 37–58.
(обратно)236
…
(обратно)237
…
(обратно)238
Цитата из эссе «В защиту геральдики», сборник «Подзащитный» (1901). — Прим. перев.
(обратно)239
Трупиал — небольшая птица семейства воробьиных, распространена в Новом Свете. Для трупиаловых характерен гнездовой паразитизм — подбрасывание своих яиц в гнезда других птиц. — Прим. перев.
(обратно)240
Grace Freed-Brown and David J. White, «Acoustic mate copying: Female cowbirds attend to other females vocalizations to modify their song preferences», Proceedings of the Royal Society В 276 (2009), pp. 3319–3325.
(обратно)241
Grace Freed-Brown and David J. White, «Acoustic mate copying: Female cowbirds attend to other females vocalizations to modify their song preferences», Proceedings of the Royal Society В 276 (2009), pp. 3319–3325.
(обратно)242
Клиффорд Нэсс (р. 1958) — профессор Стэндфордского университета, специалист в области массовых коммуникаций, один из создателей теории медийного приравнивания — очеловечивания людьми виртуальных пространств и гаджетов. — Прим. перев.
(обратно)243
С. Nass et al., «Computers are social actors», Proceeding of the ACM CHI 94 Human Factors in Computing Systems Conference (Reading: Association for Computing Machinery Press, 1994), p. 72–77; C. Nass el al., «Are computers gender neutral?», Journal of Applied Social Psychology 27, no. 10 (1997), pp. 864–876; G. Nass and K.M. Lee, «Does computer-generated speech manifest personality? An experimental test of similarity-attraction», CHI Letters 2, no. 1 (April 2000), pp. 329–336.
(обратно)244
Разговаривая с кем-нибудь, мы, конечно же, реагируем на содержание того, что нам сообщают. Но мы также реагируем — и сознательно, и неосознанно — на невербальные особенности говорящего. Удалив персону говорящего из коммуникации, Нэсс и его коллеги сосредоточились на автоматических реакциях подопечных на один лишь человеческий голос. Но не исключено, что испытуемые реагировали не на голос, а на физический ящик, на машину. Логически определить, на что же они реагировали, невозможно: обе реакции неадекватны. Поэтому исследователи поставили другой эксперимент, где вообще все перемешали. Некоторым студентам поручили заполнить опросники на других машинах, но с тем же голосом, какой был у их «наставника». Другие заполняли оценочную форму на той же машине, но на этой стадии у нее изменили голос. Полученные результаты показали, что студенты действительно во всех случаях реагировали на голос, а не на физический компьютер.
(обратно)245
Byron Reeves and Clifford Nass, The Media Equation: How People Treat Computers, Television, and New Media Like Real People and Places (Cambridge: Cambridge University Press, 1996), p. 24.
(обратно)246
Sarah A. Collins, «Men’s voices and women’s choices», Animal Behavior 60 (2000), pp. 773–780.
(обратно)247
…
(обратно)248
…
(обратно)249
…
(обратно)250
Sarah A. Collins, «Men’s voices and women’s choices». Обычно в природе чем крупнее особь, тем более низкие звуки она издает, но на млекопитающих это правило не распространяется. Однако некоторые недавние исследовании указывают, что более надежный индикатор — тембр или даже высокочастотные гармоники, которые называются «форманта». См, Drew Rendall et al., «Lifting the curtain on the Wizard of Oz: Biased voice-based impressions of speaker size», Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance 33, no. 5 (2007), pp. 1208–1219.
(обратно)251
…
(обратно)252
Хадза — коренной народ на севере Танзании. Проживают в провинциях Аруша, Сингида и Шиньянга около озера Эяси. Разговаривают на изолированном языке. — Прим. перев.
(обратно)253
…
(обратно)254
Морган Фримен (р. 1937) — американский актер кино и озвучания с очень низким голосом. — Прим. перев.
(обратно)255
Klaus R. Scherer et al., «Minimal cues in the vocal communication of affect: Judging emotions from content-masked speech», Journal of Paralinguistic Research 1, no. 3 (1972), pp. 269–285.
(обратно)256
William Apple et al., «Effects of speech rate on personal attributions», Journal of Personality and Social Psychology 37, no. 5 (1979), pp. 715–727.
(обратно)257
…
(обратно)258
…
(обратно)259
N. Guéguen. «Courtship compliance: The effect of touch on women’s behavior», Social Influence 2, no. 2 (2007), pp. 81–97.
(обратно)260
…
(обратно)261
…
(обратно)262
Michael W. Krauss et al., «Tactile communication and performance: An ethological study of the NBA», Emotion 10, no. 5 (October 2010).
(обратно)263
India Morrison et al., «The skin as a social organ»…
(обратно)264
Беседа автора с Ральфом Адолфсом, 10 ноября 2011 г.
(обратно)265
India Morrison et al., «The skin as a social organ».
(обратно)266
R.I.M. Dunbar, «The social role of touch in humans and primates: Behavioral functions and neurobiological mechanisms», Neuroscience and Biobehavioral Reviews 34 (2008), pp. 260–268.
(обратно)267
Matthew J. Hertenstein et al, «The communicative functions of touch in humans, nonhuman primates, and rats: A review and synthesis of the empirical research», Genetic, Social, and General Psychology Monographs 132, no. 1 (2006), pp. 5-94.
(обратно)268
Сценарий дебатов цит. по Alan Schroeder, Presidential Debates: Fifty Years of High-Risk TV, 2 ed (New York: Columbia University Press, 2008)
(обратно)269
Кочис — вождь чоконенов, одной из групп чирикуа-апачей и лидер индейского восстания 1861 г. — Прим. перев.
(обратно)270
…
(обратно)271
James N. Druckman, «The Power of televised images: The first Kennedy-Nixon debate revisited», The Journal of Politics 65, no. 2, (May 2003), pp. 559–571.
(обратно)272
Shawn W. Rosenberg et al., «The image and the vote: The effect of candidate presentation on voter preference», American Journal of Political Science 30, no. 1 (February 1986), pp. 108–127; Shawn W. Rosenberg et al., «Creating a political image: Shaping appearance and manipulating the vote», Political Behavior 13, no. 4 (1991), pp. 345–366.
(обратно)273
Alexander Todorov et al., «Inferences of competence from faces predict election outcomes», Science 308 (June 10, 2005), pp. 1623–1626.
(обратно)274
Интересно, что, сравнивая фотографии Дарвина и его живописные портреты, видно, как портретисты на изображениях уменьшали ему нос.
(обратно)275
Цифровой архив переписки Дарвина:
(обратно)
276
Charles Darwin, The Autobiography of Charles Darwin (1887, repr. Rockville: Serenity, 2008), p. 40. [Рус. изд.: Ч. Дарвин. Автобиография, М.: Изд-во All СССР, 1957, пер. С. Соболь. — Прим. перев.]
(обратно)277
Гэри Э. Клейн (р. 1944) — американский психолог-исследователь, первопроходец в области изучения естественного принятия решений. Цитата из его книги «Источники власти: как люди принимают решения» (Sources of Power: How People Make Decisions. 1999) — Прим. перев.
(обратно)278
David J. Freedman et al., «Categorical representation of visual stimuli in the primate prefrontal cortex», Science 291 (January 2001), pp. 312–316.
(обратно)279
Henri Tajfel and A.L. Wilkes, «Classification and quantitative judgment», British Journal of Psychology 54 (1963), pp. 101–114; Oliver Corneille et al., «On the role of familiarity with units of measurement in categorical accentuation: Tajfel and Wilkes (1963) revisited and replicated», Psychological Science 13, no. 4 (July 2002), pp. 380–383.
(обратно)280
…
(обратно)281
…
(обратно)282
Linda Hamilton Krieger, «The content of our categories: A cognitive bias approach to discrimination and equal employment opportunity», Stanford Law Review 47, no. 6 (July 1995), pp. 1161–1248.
(обратно)283
Фирмен Дидо (1764–1836) — французский издатель, гравер, словолитчик, изобретатель печати со стереотипа. — Прим. перев.
(обратно)284
Рус. изд. У. Липпманн, Общественное мнение, М.: Институт фонда «Общественное мнение», 2004, пер. Т. Барчуновой, К. Левинсона, К. Петренко. — Прим. перев.
(обратно)285
Там же, пер. Т. Барчуновой. — Прим. перев.
(обратно)286
Там же, пер. Т. Барчуновой. — Прим. перев.
(обратно)287
Иллюстрация из книги: Giambattista della Porta, De Humana Physiognomonia Libri IIII, копия с веб-сайта Национальной медицинской библиотеки:
. Согласно ссылке
-della-porta-de-humana-physiognomonia-1586: «Я нашел эти изображения в онлайн-экспозиции «Историческая анатомия» — одного из разделов Американской национальной медицинской библиотеки, где представлено более 70 000 изображений». [Джамбаттиста делла Порта (1535–1615) — итальянский врач, философ, алхимик и драматург, считается одним из первых европейских ученых в современном понимании этого слова; в 1500 г., по указанию Папы Римского, в Неаполе была запрещена основанная делла Порта научная академия. — Прим. перев.]
(обратно)288
…
(обратно)289
Анри Тайфель (Херш Мордке, 1919–1982) — британский психолог польского происхождения, профессор социальной психологии Бристольского университета, член Центра прогрессивных исследований поведенческих наук, основатель и президент Европейской ассоциации экспериментальной социальной психологии (1969–1972). — Прим. перев.
(обратно)290
H.T. Himmelweit, «Obituary: Henri Tajfel, FBPsS», Bulletin of the British Psychological Society 35 (1982), pp. 288–289.
(обратно)291
William Peter Robinson, ed., Social Groups and Identities: Developing the legacy of Henri Tajfel (Oxford: Butterworth-Heinemann, 1996), p. 3.
(обратно)292
Там же.
(обратно)293
Henri Tajfel, Human Groups and Social Categories (Cambridge: Cambridge University Press, 1981).
(обратно)294
William Peter Robinson, ed., Social Groups and Identities: Developing the Legacy of Henri Tajfel, p. 5.
(обратно)295
Linda Hamilton Krieger, «The content of our categories: A cognitive bias approach to discrimination and equal employment opportunity».
(обратно)296
Anthony G. Greenwald et al., «Measuring individual differences in implicit cognition: The implicit association test», Journal of Personality and Social Psychology 74, no. 6 (1998), pp. 1464–1480; см. также Brian A. Noseket al., «The implicit association test at age 7: A methodological and conceptual review», in J.A. Bargh, ed., Automatic Processes in Social Thinking and Behavior (New York: Psychology Press, 2007), pp. 265–292.
(обратно)297
Elizabeth Milne and Jordan Grafman, «Ventromedial prefrontal cortex lesions in humans eliminate implicit gender stereotyping», The Journal of Neuroscience 21 (2001), pp. 1–6.
(обратно)298
Гордон Уиллард Оллпорт (1897–1967) — американский психолог, теоретик черт личности. — Прим. перев.
(обратно)299
Gordon W. Allport, The Nature of Prejudice (Cambridge: Addison-Wesley, 1954), pp. 20–23.
(обратно)300
Gordon W. Allport, The Nature of Prejudice, pp. 4–5.
(обратно)301
Кафр — термин, который с XVI века использовали португальцы в отношении чернокожих жителей Южной Африки; впоследствии стал употребляться как оскорбительный расистский термин. — Прим. перев.
(обратно)302
Joseph Lelyveld, Great Soul: Mahatma Gandhi and his Struggle with India (New York; Knopf, 2011).
(обратно)303
Ariel Dorfman, «Che Guevara: The guerrilla», Time (June 14, 1999).
(обратно)304
Marian L. Tupy, «Che Guevara and the West», Cato Institute: Commentary (November 10, 2009).
(обратно)305
Linda Hamilton Krieger, «The content of our categories: A cognitive bias approach to discrimination and equal employment opportunity», Stanford Law Review 47, no. 6 (July, 1995), p. 1184. Как ни странно, женщина, подавшая в суд на своего начальника, проиграла дело. Ее адвокаты подали апелляцию, но апелляционный суд подтвердил приговор, объявив процитированное заявление начальника «случайной фразой».
(обратно)306
Millicent H. Abel and Heather Watters, «Attributions of guilt and punishment as functions of physical attractiveness and smiling», The Journal of Social Psychology 145, no. 6 (2005), pp. 687–702; Michael G. Efran, «The effect of physical appearance on the judgment of guilt, interpersonal attraction, and severity of recommended punishment in a simulated jury task», Journal of Research in Personality 8, no. 1 (June 1974), pp. 45–54; Harold Sigall and Nancy Ostrove, «Beautiful but dangerous: Effects of offender attractiveness and nature of the crime on juridic judgment», Journal of Personality and Social Psychology 31, no. 3 (1975), pp. 410–414; Jochen Piehl, «Integration of information in the courts: Influence of physical attractiveness on amount of punishment for a traffic offender», Psychological Reports 41, no. 2 (October 1977), pp. 551–556; John E. Stewart II, «Defendant’s attractiveness as a factor in the outcome of criminal trials: An observational study», Journal of Applied Psychology 10, no. 4 (August 1980), pp. 348–361.
(обратно)307
…
(обратно)308
Цитата из книги Гордона Оллпорта The Nature of Prejudice (Cambridge: Addison-Wesley, 1954).
(обратно)309
Джесси Вулсон Джеймс (1847–1882) — легендарный американский преступник, убийца и грабитель. Robbers Cave (англ.) — схрон грабителей. — Прим. перев.
(обратно)310
Muzafer Sherif et al., Intergroup Conflict and Cooperation: The Robbers Cave Experiment (Norman: University of Oklahoma Press, 1901).
(обратно)311
L. Keeley, War Before Civilization (Oxford: Oxford University Press, 1996).
(обратно)312
N. Chagnon, Yanomamo (Fort Worth: Harcourt, 1992).
(обратно)313
Blake E. Ash forth and Fred Mael, «Social identity theory and the organization», Academy of Management Review 14, no. 1 (1989), pp. 20–39.
(обратно)314
…
(обратно)315
K.L. Dion, «Cohesiveness as a determinant of ingroup-outgroup bias», Journal of Personality and Social Psychology 28 (1973), pp. 163–171; Blake E. Ashforth and Fred Mael, «Social Identity Theory and the Organization».
(обратно)316
Charles K. Ferguson and Harold H. Kelley, «Significant factors in overevaluation of own-group’s product», Journal of Personality and Social Psychology 69, no. 2 (1964), pp. 223–228.
(обратно)317
Patricia Linville et al., «Perceived distributions of the characteristics of in-group and out-group members: Empirical evidence and a computer simulation», Journal of Personalty and Social Psychology 57, no. 2 (1989), pp. 165–188; Bernadette Park and Myron Rothbart, «Perception of out-group homogeneity and levels of social categorization: Memory for the subordinate attributes of in-group and out-group members», Journal of Personality and Social Psychology 42, no. 6 (1982), pp. 1051–1068.
(обратно)318
Bernadette Park and Myron Rothbart, «Perception of out-group homogeneity and levels of social categorization».
(обратно)319
Уильям Шекспир, «Юлий Цезарь», акт III, сцена 2, пер. И.Б. Мандельштама. — Прим. перев.
(обратно)320
(обратно)321
Noah J. Goldstein and Robert В. Cialdini, «Normative influences on consumption and conservation behaviors», in: Michaela Wänke, ed., Social Psychology and Consumer Behavior (New York: Psychology Press, 2009), pp. 273–296.
(обратно)322
Национальный парк «Окаменелый лес» расположен в штате Аризона и является одним из самых крупных мест нахождения окаменелых деревьев на планете. — Прим. перев.
(обратно)323
Robert В. Cialdini et al., «Managing social norms for persuasive impact», Social Influence 1, no. 1 (2006), pp. 3-15.
(обратно)324
Пауль Клее (1879–1940) — немецкий и швейцарский художник, график, теоретик искусства, одна из крупнейших фигур европейского авангарда, преподавал в Баухаусе, входил в группу экспрессионистов «Синий всадник». — Прим. перев.
(обратно)325
Василий Кандинский (1866–1944) — русский живописец, график и теоретик изобразительного искусства, один из основоположников абстракционизма, преподавал в Баухаусе, входил в группу экспрессионистов «Синий всадник». — Прим. перев.
(обратно)326
Marilyn R. Brewer and Madelyn Silver, «Ingroup bias as a function of task characteristics», European Journal of Social Psychology 8 (1978), pp. 393–400.
(обратно)327
Blake Е. Ashforth and Fred Маеl, «Social identity theory and the organization».
(обратно)328
Henri Tajfel, «Experiments in intergroup discrimination», Scientific American 223 (November 1970), pp. 96-102; H. Tajfel et al., «Social categorization and intergroup behavior», European Journal of Social Psychology 1, no. 2 (1971), pp. 149–178.
(обратно)329
Muzafer Sherif et al., Intergroup Conflict and Cooperation: The Robbers Cave Experiment, p. 209.
(обратно)330
Robert Kurzban et al., «Can race be erased? Coalitional computation and social categorization», Proceedings of the National Academy of Sciences 98, no. 26 (December 18, 2001), pp. 15387-15392.
(обратно)331
Из книги Оливера Сакса «Человек, который принял жену за шляпу, и другие истории из врачебной практики», М.: ACT, Астрель, Полиграфиздат, 2011, пер. Г. Хасина, Ю. Численно. Зд. пер. наш. — Прим. перев.
(обратно)332
Corbett H. Thigpen and Hervey Cleckley, «А case of multiple personalities», Journal of Abnormal and Social Psychology 49, no. 1 (1954), pp. 135-51.
(обратно)333
Charles E. Osgood and Zella Luria, «A blind analysis of a case of multiple personality using the semantic differential», Journal of Abnormal and Social Psychology 49, no. 1 (1954), pp. 579–591.
(обратно)334
Nadine Brozan, «The real Eve sues to film the rest of her story», New York Times (February 7, 1989).
(обратно)335
Piercarlo Valdesolo and David DeSteno, «Manipulations of emotional context shape moral judgment», Psychological Science 17, no. 6 (2006), pp. 476–477.
(обратно)336
Steven W. Gangestad et al., «Women’s preferences for male behavioral displays change across the menstrual cycle», Psychological Science 15, no. 3 (2004), pp. 203-207
(обратно)337
John K. Kihlstrom and Stanley В. Klein, «Self-knowledge and self-awareness», Annals of the New York Academy of Sciences 818 (December 17, 2006), pp. 5-17; Shelley E. Taylor and Jonathan D. Brown, «Illusion and wellbeing: A social psychological perspective on mental health», Psychological Bulletin 103, no. 2 (1988), pp. 193–210.
(обратно)338
H.C. Kelman, «Deception in social research», Transactions (1966), pp. 20–24; см. также Steven J. Sherman, «On the self-erasing nature of errors of prediction», Journal of Personality and Social Psychology 39, no. 2 (1980), pp. 211–221.
(обратно)339
E. Grey Dimond et al., «Comparison of internal mammary artery ligation and sham operation for angina pectoris», The American Journal of Cardiology 5, no. 4 (April 1960), pp. 483–486; см. также Walter A. Brown, «The placebo effect», Scientific American (January 1998), pp. 90–95.
(обратно)340
Жан Луи Родольф Агассис (1807–1873) — американский естествоиспытатель швейцарского происхождения, один из основоположников гляциологии. — Прим. перев.
(обратно)341
Шарль Бернар Ренувье (1815–1903) — французский философ, представитель французского неопозитивизма. — Прим. перев.
(обратно)342
William James, «What is an emotion?», Mind 9, no. 34 (April 1884), pp. 188–205.
(обратно)343
Tor D. Wager, «The neural bases of placebo effects in pain», Current Directions in Psychological Science 14, no. 4 (2005), pp. 175–179; Tor D. Wager et al., «Placebo-induced changes in fMRI in the anticipation and experience of pain», Science (February 2004), pp. 1162–1167.
(обратно)344
Летом 1878 г. Джеймс женился на Элис Гиббенз. — Прим. перев.
(обратно)345
James Н. Korn, «Historians’ and chairpersons’ judgments of eminence among psychologists», American Psychologist 46, no. 7 (July 1991), pp. 789–792.
(обратно)346
Письмо Уильяма Джеймса Карлу Штумпфу, 6 февраля 1887 г., цит по: …
(обратно)347
D.W. Bjork, The Compromised Scientist: William James in the Development of American Psychology (New York: Columbia University Press, 1983), p. 12.
(обратно)348
Henry James, ed., The Letters of William James (Boston: Little, Brown, 1926), pp. 393–394.
(обратно)349
Stanley Schachter and Jerome E. Singer, «Cognitive, social, and physiological determinants of emotional state», Psychological Review 69, no. 5 (September 1962), pp. 379–399.
(обратно)350
…
(обратно)351
См. / [Оригинальное название — «La motocyclette» (реж. Джек Кардифф, 1968, в главных ролях Ален Делон и Марианн Фейтфулл). — Прим. перев.]
(обратно)352
Donald G. Dutton and Arthur P. Aron, «Some evidence for heightened sexual attraction under conditions of high anxiety», Journal of Personality and Social Psychology 30, no. 4 (1974), pp. 510–517.
(обратно)353
Fritz Strack et al., «Inhibiting and Facilitating conditions of the human smile: A nonobtrusive test of the facial feedback hypothesis», Journal of Personality and Social Psychology 54, no. 5 (1988), pp. 768–777; Lawrence W. Barsalou et al., «Social embodiment», The Psychology of learning and Motivation 43 (2003), pp. 43–92.
(обратно)354
Peter Johansson et al., «Failure to detect mismatches between intention and outcome in a simple decision task», Science 310 (October 7, 2005), pp.116–119.
(обратно)355
Lars Hall et al., «Magic at the marketplace: Choice blindness for the taste of jam and the smell of tea», Cognition 117, no. 1 (October 2010), pp. 54–61.
(обратно)356
Wendy M. Rahm et al., «Rationalization and derivation processes in survey studies of political candidate evaluation», American Journal of Political Science 38, no. 3 (August 1994), pp. 582–600.
(обратно)357
Joseph LeDoux, The Emotional Brain: the Mysterious Underpinnings of Emotional Life (New York: Simon and Schuster, 1996), pp. 32–33; Michael Gazzaniga, «The Split Brain Revisited», Scientific American 279, no. 1 (July 1998), pp. 51–55.
(обратно)358
Oliver Sacks, The Man Who Mistook His Wife for a Hat (New York: Simon and Schuster, 1998), pp. 108–111.
(обратно)359
Конфабуляция (от лат. confabulari — болтать, рассказывать) — вид парамнезий, заключающийся в том, что больной сообщает о вымышленных событиях, никогда не имевших места в его жизни. Конфабуляции иногда образно называют «галлюциногенными воспоминаниями». — Прим. перев.
(обратно)360
J. Haidt, «The emotional dog and its rational tail: A social intuitionist approach to moral judgment», Psychological Review 108, no. 4 (2001), pp. 814–834.
(обратно)361
Richard E. Nisbett and Timothy DeCamp Wilson, «Telling more than we can know: Verbal reports on mental processes», Psychological Review 84, no. 3 (May 1977), pp. 231–259.
(обратно)362
Richard E. Nisbett and Timothy DeCamp Wilson, «Verbal reports about causal influences on social judgments: Private access versus public theories», Journal of Personality and Social Psychology 35, no. 9 (September 1977), pp. 613–624; см. также Richard E. Nisbett and Timothy DeCamp Wilson, «Telling more than we can know».
(обратно)363
K. Aronson et al., «The effect of a pratfall on increasing personal attractiveness», Psychonomic Science 4 (1966), pp. 227–228; M.J. Lerner, «Justice, guilt, and veridicial perception», Journal of Personality and Social Psychology 20 (1971), pp. 127–135.
(обратно)364
Цитата из романа «1984», пер. В. Голышева. — Прим. перев.
(обратно)365
Robert Block, «Brown portrays FEMA to panel as broken and resource-starved», Wall Street Journal, September 28, 2005.
(обратно)366
Dale Carnegie, How to Win Friends and Influence People (New York: Simon and Schuster, 1936). pp. 3–5. [Последнее рус. изд.: Дейл Карнеги. Как завоевать друзей и оказать влияние на людей, М.: Попурри, 2010, пер. Л. Кузьмина. — Прим. перев.]
(обратно)367
Голландец Шульц (Артур Флегенхаймер, 1902–1935) — американский гангстер, заработал состояние на бутлегерстве во времена Сухого закона. — Прим. перев.
(обратно)368
Аль Капоне (Альфонсо Габриэль Капоне, 1899–1947) — американский гангстер, действовавший в 1920-1930-х годах на территории Чикаго. Под прикрытием мебельного бизнеса занимался бутлегерством, игорным бизнесом и сутенерством. — Прим. перев.
(обратно)369
Фрэнсис Краули (1912–1932) — американский убийца-рецидивист. — Прим. перев.
(обратно)370
College Board, Student Descriptive Questionnaire (Princeton: Educational Testing Service, 1976–1977).
(обратно)371
…
(обратно)372
…
(обратно)373
David Dunning et al., «Flawed self-assessment: Implications for health, education, and the workplace», Psychological Science in the Public Interest 5, no. 3 (2004), pp. 69-106.
(обратно)374
B.M. Bass and F.J. Yamarino, «Congruence of self and others’ leadership ratings of naval officers for understanding successful performance», Applied Psychology 40 (1991), pp. 437–454.
(обратно)375
Scott R. Millis et al., «Assessing physicians’ interpersonal skills: Do patients and physicians see eye-to-eye?», American Journal of Physical Medicine & Rehabilitation 81, no. 12 (December 2002), pp. 946–951; Jocelyn Tracey et al., «The validity of general practitioners’ self assessment of knowledge: Cross sectional study», British Medical Journal 315 (November 29, 1997), pp. 1426–1428.
(обратно)376
David Dunning et al., «Flawed self-assessment».
(обратно)377
A.C. Cooper et al., «Entrepreneurs’ perceived chances for success», Journal of Business Venturing 3 (1988), pp. 97-108; L. Larwood and W. Whittaker, «Managerial myopia; Self-serving biases in organizational planning», Journal of Applied Psychology 62 (1977), pp. 194–198.
(обратно)378
David Dunning et al., «Flawed self-assessment»; David Dunning, Self Insight: Roadblocks and Detours on the Path to Knowing Thyself (New York: Psychology Press, 2005), pp. 6–9.
(обратно)379
M.L.A Hayward and D.C. Hambrick, «Explaining the premiums paid for large acquisitions: Evidence of CEO hubris», Administrative Science Quarterly 42 (1997), pp. 103–127; U. Malmendier and C. Tate, «Who makes acquisitions? A test of the overconfidence hypothesis», Stanford Research Paper 1798 (Palo Alto; Stanford University, 2003).
(обратно)380
T. Odean, «Volume, volatility, price, and profit when all traders are above average», Journal of Finance 8 (1998), pp. 1887–1934. Обзор Шиллера см. Robert J. Schiller, Irrational Exuberance (New York: Broadway Books. 2005), pp. 154–155.
(обратно)381
E. Pronin et al., «The bias blind spot: Perception of bias in self versus others», Personality and Social Psychology Bulletin 28 (2002), pp. 369–381; Emily Pronin, «Perception and misperception of bias in human judgment», Trends in Cognitive Science 11, no. 1 (2006), pp. 37–43; J. Friedrich, «On seeing oneself as less self-serving than others: The ultimate self-serving bias?», Teaching of Psychology 23 (1996), pp. 107–109.
(обратно)382
Милтон Рокич (1916–1988) — американский психолог польского происхождения, начинал психиатром, но большую часть жизни занимался исследованием личных и общественных ценностных установок. — Прим. перев.
(обратно)383
Vaughan Bell el al., «Beliefs about delusions», Psychologist 16, no. 8 (August 2003), pp. 418–423; Vaughan Bell, «Jesus, Jesus, Jesus», Slate (May 26, 2010).
(обратно)384
Dan P. McAdams, «Personal narratives and the life story», in: Oliver John et al., eds., Handbook of Personality: Theory and Research (New York: Guilford, 2008), pp. 242–262. [Социальный агент — индивид или группа лиц. которые могут сознательно воспроизводить или трансформировать окружающий их мир посредством своих действий. — Прим. перев.]
(обратно)385
F. Heider, The Psychology of Interpersonal Relations (New York: Wiley, 1958).
(обратно)386
Джонатан Хейдт (р. 1963) — американский психолог, профессор Университета Вирджинии, специалист по психологическим основам морали в разных культурах и в контексте разных политических идеологий.
(обратно)387
Robert E. Knox and James A. Inkster, «Postdecision dissonance at post time», Journal of Personality and Social Psychology 8, no. 4 (1968), pp. 319–323; Edward E. Lawler III et al., «Job choice and post decision dissonance», Organizational Behavior and Human Performance 1В (1975), pp. 133–145.
(обратно)388
Ziva Kunda, «The case for motivated reasoning», Psychological Bulletin 108, no. 3 (1990), pp. 480–498; см. также David Dunning, «Self-image motives and consumer behavior: How sacrosanct self-beliefs sway preferences in the marketplace», Journal of Consumer Psychology 17, no. 4 (2007), pp. 237–249.
(обратно)389
Emily Balcetis and David Dunning, «See what you want to see: Motivational influences on visual perception», Journal of Personality and Social Psychology 91, no. 4 (2006), pp. 612–625.
(обратно)390
Чтобы знать наверняка, что участники не видят обоих животных, ученые включили в эксперимент датчики слежения, которые могли определить по бессознательным микродвижениям глаз, как именно испытуемые толкуют картинку.
(обратно)391
Albert Н. Hastorf and Hadley Cantril, «They saw a game: A case study», Journal of Abnormal and Social Psychology 49 (1954), pp. 129–134.
(обратно)392
«Bell laboratories» (известна также как Bell labs, прежние названия — AT&T Bell Laboratories, Bell Telephone Laboratories) — бывшая американская корпорация, крупный исследовательский центр в области телекоммуникаций, электронных и компьютерных систем. Исследовательская лаборатория «Белл» на базе корпорации «AT&T» была основана в 1925 г. — Прим. перев.
(обратно)393
George Smoot and Keay Davidson, Wrinkles in Time: Witness to the Birth of the Universe (New York: Harper Perennial, 2007), pp. 79–86.
(обратно)394
Jonathan J. Koehler, «The influence of prior beliefs on scientific judgments of evidence quality», Organizational Behavior and Human Decision Processes 56 (1993), pp. 28–55.
(обратно)395
См. статью в предыдущей сноске: обсуждение подобного поведения с Байесовской точки зрения. [Томас Байес (1702–1761) — английский математик и священник, сформулировал и доказал одну из основных теорем элементарной теории вероятностей, которая позволяет определить вероятность того, что произошло какое-либо событие (гипотеза) при наличии лишь косвенных тому подтверждений (данных), которые могут быть неточны. — Прим. перев.]
(обратно)396
Холодный ядерный синтез — предполагаемая возможность осуществления ядерной реакции синтеза в химических (атомно-молекулярных) системах без значительного нагрева рабочего вещества. Известные ядерные реакции синтеза проходят при температурах в миллионы градусов. Множество сообщений и обширные базы данных об удачном осуществлении эксперимента впоследствии оказывались либо «газетными утками», либо результатом некорректно поставленных экспериментов. Ведущие лаборатории мира не смогли повторить ни один подобный эксперимент, а если и повторяли, то выяснялось, что авторы эксперимента, как узкие специалисты, неверно трактовали полученный результат или вообще неправильно ставили опыт, не проводили необходимых замеров и т. д. — Прим. перев.
(обратно)397
Paul Samuelson, The Collected Papers of Paul Samuelson (Boston: MIT Press, 1986), p. 53; он перефразировал Макса Планка, говорившего: «Старые теории не опровергаются — просто вымирают их поборники». См. Michael Szenberg and Lall Rainrattan, eds., New Frontiers in Economics (Cambridge: Cambridge University Press, 2004), pp. 3–4.
(обратно)398
Susan L. Coyle, «Physician-industry relations. Part 1: Individual physicians», Annals of Internal Medicine 135, no. 5 (2002), pp. 396–402.
(обратно)399
Susan L. Coyle, «Physician-industry relations. Part 1: Individual physicians», Annals of Internal Medicine 135, no. 5 (2002), pp. 396–402; Karl Hackenbrack and Mark W. Wilson, «Auditors’ incentives and their application of financial accounting standards», The Accounting Review, no. 1 (January 1996), pp. 43–59; Robert A. Olsen, «Desirability bias among professional investment managers: Some evidence from experts», Journal of Behavioral Decision Making 10 (1997), pp. 65–72; Vaughan Bell et al., «Beliefs about delusions», The Psychobgist 16, no. 8 (August 2003), pp. 418–423.
(обратно)400
Drew Westen et al., «Neural bases of motivated reasoning: An fMRI study of emotional constraints on partisan political judgment in the 2004 U.S. presidential election», Journal of Cognitive Neuroscience 18, no. 11 (2006), pp.1947–1958.
(обратно)401
Drew Westen et al., «Neural bases of motivated reasoning: An fMRI study of emotional constraints on partisan political judgment in the 2004 U.S. presidential election», pp. 1947–1958.
(обратно)402
Peter H. Ditto and David K. Lopes, «Motivated skepticism: Use of differential decision criteria for preferred and nonpreferred conclusions», Journal of Personality and Social Psychology 63, no. 4, pp. 568–584.
(обратно)403
Naomi Oreskes, «The scientific consensus on climate change», Science 306 (December 3, 2004), p. 1686; Naomi Oreskes and Erik M. Conway, Merchants of Doubt (New York: Bloomsbury, 2010), pp. 169–170.
(обратно)404
Charles G. Lord et al., «Biased assimilation and attitude polarization: The effects of prior theories on subsequently considered evidence», Journal of Personality and Social Psychology 37, no. 11 (1979), pp. 2098–2109.
(обратно)405
…
(обратно)406
Daniel L. Wann and Thomas J. Dolan, «Attributions of highly identified sports spectators», The Journal of Social Psychology 134, no. 6 (1994), pp. 783–793; Daniel L. Wann and Thomas J. Dolan, «Controllability and stability in the self-serving attributions of sports spectator», The Journal of Social Psychology 140, no. 2 (1998), pp. 160–168.
(обратно)407
…
(обратно)408
Ian R. Newby-Clark et al., «People focus on optimistic scenarios and disregard pessimistic scenarios while predicting task completion times», Journal of Experimental Psychology: Applied 6, no. 3 (2000), pp. 171–182.
(обратно)409
David Dunning, «Strangers to ourselves?», Psychologist 19, no. 10 (October 2006), pp. 600–604; см. также David Dunning et al., «Flawed self-assessment».
(обратно)410
R. Buehler et al., «Inside the planning fallacy: The causes and consequences of optimistic time predictions», in: T. Gilovitch et al., eds., Heuristics and Biases: The Psychology of Intuitive Judgment (Cambridge: Cambridge University Press, 2002), pp. 251–270.
(обратно)411
Eric Luis Uhlmann and Geoffrey L. Cohen, «Constructed criteria», Psychological Science 16, no. 6 (2005), pp. 474–480.
(обратно)412
Обо всех экспериментах этого исследования См. Linda Babcock and George Loewenstein, «Explaining bargaining impasse: The role of self-serving biases», Journal of Economic Perspectives 11, no. 1 (Winter 1997), pp. 109–126. Linda Babcock et al., «Biased judgments of fairness in bargaining», American Economic Review 85, no. 5 (1995). pp. 1337–1343; также См. другие работы, на которые ссылаются авторы.
(обратно)413
Shelley E. Taylor and Jonathan D. Brown, «Illusion and well-being: A social psychological perspective on mental health», Psychological Bulletin 103, no. 2 (1988), pp. 193–210.
(обратно)414
David Dunning et al., «Self-serving prototypes of social categories», Journal of Personality and Social Psychology 61, no. 6 (1991), pp. 957–968.
(обратно)415
Harry P. Bahrick et al., «Accuracy and distortion ion memory for high school grades», Psychological Science 7, no. 5, (September 1996), pp. 265–271.
(обратно)416
Национальная баскетбольная ассоциация — американская общенациональная ассоциация профессиональных баскетбольных команд, основана в 1946 г. — Прим. перев.
(обратно)417
Речь Стива Джобса на церемонии вручения дипломов в Стэнфордском университете, 2005.
(обратно)418
Stanley Meisler, «The surreal world of Salvador Dali», Smithsonian Magazine (April, 2005).
(обратно)419
Shelley E. Taylor and Jonathan D. Brown, «Illusion and well-being»; Alice M. Isen et at., «Positive affect facilitates creative problem solving», Journal of Personality and Social Psychology 52, no.6 (1987) 1122–1131; Peter J.D. Carnevale and Alice M. Isen, «The influence of positive affect and visual access on the discovery of integrative solutions in bilateral negotiations», Organizational Behavior and Human Decision Processes 37 (1986), pp. 1-13.
(обратно)420
Shelley E. Taylor and Jonathan D. Brown, «Illusion and well-being»; David Dunning, «Strangers to ourselves?».
(обратно)421
Там же.
(обратно)422
Джозеф Полчински (p. 1954) — американский физик, специалист по теории струн.
(обратно)
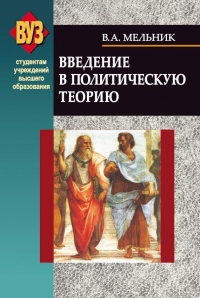





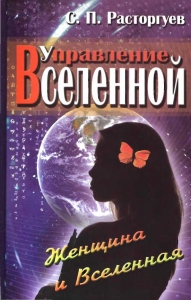


Комментарии к книге «(Нео)сознанное. Как бессознательный ум управляет нашим поведением», Леонард Млодинов
Всего 0 комментариев