Леонардо да Винчи. Воспоминание детства[1]
1
Когда психиатрическое исследование, пользующееся обычно больным человеческим материалом, приступает к одному из гигантов человеческого рода, оно руководствуется при этом совсем не теми мотивами, которые ему так часто приписывают профаны. Оно не стремится «очернить лучезарное и втоптать в грязь возвышенное»: ему не доставляет удовольствия умалить разницу между данным совершенством и убожеством своих обычных объектов исследования. Оно только находит ценным для науки все, что доступно пониманию в этих образцах, и думает, что никто не настолько велик, чтобы для него было унизительно подлежать законам, одинаково господствующим над нормальным и болезненным.
Леонардо да Винчи (1452–1519) был одним из величайших людей итальянского Ренессанса. Он вызывал удивление уже у современников, однако представлялся и им, как и нам, еще до сих пор, загадочным. Всесторонний гений, «которого очертания можно только предчувствовать, но никогда не познать»,[2] он оказал неизмеримое влияние как художник на свое время; но уже только нам выпало на долю постичь великого натуралиста, который соединялся в нем с художником. Несмотря на то что он оставил нам великие художественные произведения, тогда как его научные открытия остались неопубликованными и неиспользованными, все же в его развитии исследователь никогда не давал полной воли художнику, зачастую тяжело ему вредил и под конец, может быть, совсем подавил его. Вазари вкладывает в его уста в смертный час самообвинение, что он оскорбил Бога и людей, не выполнив своего долга перед искусством.[3] И если даже этот рассказ Вазари не имеет ни внешнего, ни тем более внутреннего правдоподобия, а относится только к легенде, которая начала складываться о таинственном мастере уже при его жизни, все же он бесспорно имеет ценность как показатель суждений тех людей и тех времен.
Что же это было, что мешало современникам понять личность Леонардо? Конечно, не многосторонность его дарований и сведений, которая дала ему возможность быть представленным при дворе герцога Миланского, Лодовика Сфор-ца, прозванного иль Моро, в качестве лютниста, играющего на им самим изобретенном инструменте, или позволила написать этому герцогу то замечательное письмо, в котором он гордился своими заслугами строителя и военного инженера. К такому соединению разносторонних знаний в одном человеке время Ренессанса, конечно, привыкло; во всяком случае Леонардо был только одним из блестящих примеров этого. Он не принадлежал также и к тому типу гениальных людей, с виду обделенных природой, которые и со своей стороны не придают цены внешним формам жизни и в болезненно-мрачном настроении избегают общения с людьми. Напротив, он был высок, строен, прекрасен лицом и необыкновенной физической силы, обворожителен в обращении с людьми, хороший оратор, веселый и приветливый. Он и в предметах, его окружающих, любил красоту, носил с удовольствием блестящие одежды и ценил утонченные удовольствия. В одном указывающем на его склонность к веселью и наслаждению месте своего «Трактата о живописи» он сравнивает художество с родственными ему искусствами и изображает тяжесть работы скульптора: «Вот он вымазал себе лицо и напудрил его мраморной пылью так, что выглядит булочником; он покрыт весь мелкими осколками мрамора, как будто снег нападал ему прямо на спину и жилище его наполнено осколками и пылью. Совсем другое у художника… художник сидит со всеми удобствами перед своим произведением – хорошо одетый и водит совсем легкой кисточкой с прелестными красками. Он разодет, как ему нравится. И жилище его наполнено веселыми рисунками и блестит чистотой. Зачастую у него собирается общество музыкантов или лекторов различных прекрасных произведений, и слушается это с большим наслаждением без стука молотка и другого какого шума».[4]
Конечно, очень вероятно, что образ сверкающе веселого, любящего удовольствия Леонардо верен только для первого, более продолжительного, периода жизни художника. С той поры, как падение власти Лодовика Моро заставило его покинуть Милан, обеспеченное положение и поле деятельности, чтобы до самого последнего своего пристанища во Франции вести скитальческую, бедную внешними успехами жизнь, с той поры могли померкнуть блеск его настроения и выступить яснее странные черты его характера. Усиливающееся с годами отклонение его интересов от искусства к науке также должно было способствовать увеличению пропасти между ним и его современниками. Все эти опыты, над которыми он, по их мнению, «проваландывал время», вместо того чтобы усердно рисовать заказы и обогащаться, как, например, его бывший соученик Перуджино, казались им причудливыми игрушками и даже навлекали на него подозрение, что он служит «черной магии». Мы, знающие по его запискам, что именно он изучал, понимаем его лучше. В то время когда авторитет церкви начал заменяться авторитетом античного мира и когда еще не знали беспристрастного исследования, он был предтеча и даже достойный сотрудник Бэкона и Коперника – поневоле одинокий. Когда он разбирал трупы лошадей и людей, строил летательные аппараты, изучал питание растений и их реагирование на яды, он, во всяком случае, далеко уходил от комментаторов Аристотеля и приближался к презираемым алхимикам, в лабораториях которых экспериментальное исследование находило, по крайней мере, приют в те неблагоприятные времена.
Для его художественной деятельности это имело то последствие, что он неохотно брался за кисть, писал все реже, бросал начатое и мало заботился о дальнейшей судьбе своих произведений. Это-то и ставили ему в упрек его современники, для которых его отношение к искусству оставалось загадкой.
Многие из позднейших почитателей Леонардо пытались сгладить упрек в непостоянстве его характера. Они доказывали, что то, что порицается в Леонардо, есть особенность больших мастеров вообще. И трудолюбивый, ушедший в работу Микеланджело оставил не оконченными многие из своих произведений, и в этом он так же мало виноват, как и Леонардо. Иная же картина не столько была неокончена, сколько считалась им за таковую. То, что профану уже кажется шедевром, для творца художественного произведения все еще неудовлетворительное воплощение его замысла; перед ним носится то совершенство, которое передать в изображении ему никак не удается. Всего же менее возможно делать художника ответственным за конечную судьбу его произведений.
Как бы ни были основательны многие из этих оправданий, все же они не объясняют всего в Леонардо. Мучительные порывы и ломка в произведении, оканчивающиеся бегством от него и равнодушием к его дальнейшей судьбе, могли повторяться и у других художников; но Леонардо, без сомнения, проявлял эту особенность в высшей степени. Сольми,[5] цитирует слова одного из его учеников: «Pavera, che ad ogni ora-tremasse, quando si poneva a dipendere, e pero non diede mai fine ad alcuna cosa cominciata, considerando la grandezza dell'arte, talche egliscorgeva errori in quelle cose, che ad'altri parevano mira-coli» («Казалось, что ему порой бывает страшно писать, и тогда он вовсе не кончал начатого, понимая величие искусства и неизбежность ошибок в нем, а другим это казалось чем-то необыкновенным или чудом». – Пер. В. В. Кошкина). Его последние картины: «Леда», «Мадонна Сант'Онофрио», «Бахус» и «Сан Джиованни Баттиста младший» остались будто бы неоконченными, «как бывало почти со всеми его делами и занятиями…». Ломаццо[6] который делал копию «Тайной вечери», ссылается в одном сонете на известную неспособность Леонардо закончить какое-нибудь произведение: «Похоже, что и кисть у него уже не поднималась на картину, у нашего божественного да Винчи. И вот многие вещи его не закончены». Медлительность, с которой Леонардо работал, вошла в пословицу. Над «Тайной вечерей» в монастыре Санта-Мария делле Грацие в Милане работал он, после основательной к этому подготовки, целых три года. Один его современник, новеллист Маттео Банделли, бывший в то время молодым монахом в монастыре, рассказывает, что часто Леонардо уже рано утром всходил на леса, чтобы до сумерек не выпускать из руки кисти, забывая есть и пить. Потом проходили дни без того, чтобы он прикоснулся к работе, временами оставался он часами перед картиной, удовлетворяясь переживанием ее внутренне. В другой раз приходил он в монастырь прямо со двора Миланского замка, где он делал модель статуи всадника для Франческо Сфорца, чтобы сделать несколько мазков на одной из фигур и потом немедленно уйти.[7] Портрет Моны Лизы, жены флорентийца Франческо Джокондо, писал он, по словам Вазари, четыре года, не будучи в состоянии его закончить, что подтверждается, может быть, еще и тем, что портрет не был отдан заказчику, а остался у Леонардо, который взял его с собой во Францию.[8] Приобретенный королем Франциском I, он составляет теперь одно из величайших сокровищ Лувра.
Если сопоставить эти рассказы о характере работы Леонардо со свидетельством многочисленных сохранившихся после него эскизов и этюдов, во множестве варьирующих каждый встречающийся в его картине мотив, то придется далеко отбросить мнение о мимолетности и непостоянстве отношения Леонардо к его искусству. Напротив, замечается необыкновенная углубленность, богатство возможностей, между которыми только медленно выкристаллизовывается решение, запросы, которых более чем достаточно, и задержка в выполнении, которая, собственно говоря, не может быть объяснена даже и несоответствием сил художника с его идеальным замыслом. Медлительность, издавна бросавшаяся в глаза в работе Леонардо, оказывается симптомом этой задержки как предвестник отдаления от художественного творчества, которое впоследствии и наступило.[9] Эта задержка определила и не совсем незаслуженную судьбу «Тайной вечери». Леонардо не мог сродниться с рисованием al fresco, которое требовало быстроты работы, пока еще не высох грунт; поэтому он избрал масляные краски, высыхание которых ему давало возможность затягивать окончание картины, считаясь с настроением и не торопясь. Но эти краски отделялись от грунта, на который накладывались и который отделял их от стены; недостатки этой стены и судьбы помещения присоединились сюда же, чтобы решить непредотвратимую, как кажется, гибель картины.[10]
Из-за неудачи подобного же технического опыта погибла, кажется, картина битвы всадников у Ангиари, которую он позднее начал рисовать в конкурсе с Микеланджело на стене зала del Consiglio во Флоренции и тоже оставил недоконченной. Похоже, как будто постороннее участие экспериментатора сначала поддерживало искусство, чтобы потом погубить художественное произведение.
Характер Леонардо проявлял еще и другие необыкновенные черты и кажущиеся противоречия. Некоторая бездеятельность и индифферентность были в нем очевидны. В том возрасте, когда каждый индивидуум старается захватить для себя как можно большее поле деятельности, что не может обойтись без развития энергичной агрессивной деятельности по отношению к другим, он выделялся спокойным дружелюбием, избегал всякой неприязни и ссор. Он был ласков и милостив со всеми, отвергал, как известно, мясную пищу, потому что считал несправедливым отнимать жизнь у животных, и находил особое удовольствие в том, чтобы давать свободу птицам, которых он покупал на базаре.[11] Он осуждал войну и кровопролитие и называл человека не столько царем животного царства, сколько самым злым из диких зверей.[12] Но эта женственная нежность чувствований не мешала ему сопровождать приговоренных преступников на их пути к месту казни, чтобы изучать их искаженные страхом лица и зарисовывать в своей карманной книжке, не мешала ему рисовать самые ужасные рукопашные сражения и поступить главным военным инженером на службу Цезаря Борджиа. Он кажется часто как будто индифферентным к добру и злу, – или надо мерить его особой меркой. В ответственной должности участвовал он в одной военной кампании Цезаря, которая сделала этого черствого и вероломнейшего из всех противников обладателем Романии. Ни одна черточка произведений Леонардо не обнаруживает критику или сочувствие событиям того времени. Напрашивается сравнение его с Гёте во время французского похода.
Если биограф в самом деле хочет проникнуть в понимание душевной жизни своего героя, он не должен, как это бывает в большинстве биографий, обходить молчанием из скромности или стыдливости его половую своеобразность. С этой стороны о Леонардо известно мало, но это малое очень значительно. В те времена, когда безграничная чувственность боролась с мрачным аскетизмом, Леонардо был примером строгого полового воздержания, какое трудно ожидать от художника и изобразителя женской красоты, Сольми,[13] цитирует следующую его фразу, характеризующую его целомудрие: «Акт соития и все, что стоит с ним в связи, так отвратительны, что люди скоро бы вымерли, если бы это не был освященный стариной обычай и если бы не оставалось еще красивых лиц и чувственного влечения». Оставленные им сочинения, которые ведь не исключительно трактуют высшие научные проблемы, но содержат и предметы безобидные, которые кажутся нам едва ли даже достойными такого великого духа (аллегорическая естественная история, басни о животных, шутки, предсказания)[14] в такой степени целомудренны, что это удивительно было бы даже в произведении нынешней изящной литературы. Они так решительно избегают всего сексуального, как будто бы только один Эрос, который охраняет все живущее, есть материя, недостойная любознательности исследователя.[15] Известно, как часто великие художники находят удовольствие в том, что дают перебеситься своей фантазии в эротических и даже непристойных изображениях; от Леонардо, напротив, мы имеем только некоторые анатомические чертежи внутренних женских половых органов, положения плода в утробе матери и тому подобное.
Сомнительно, чтобы Леонардо когда-нибудь держал женщину в любовных объятиях; даже о каком-нибудь духовном интимном отношении его с женщиной, какое было у Мике-ланджело с Викторией Колонной, ничего не известно. Когда он жил еще учеником в доме своего учителя Веррокьо, на него и других юношей поступил донос по поводу запрещенного гомосексуального сожития. Расследование окончилось оправданием. Кажется, он навлек на себя подозрение тем, что пользовался как моделью имевшим дурную славу мальчиком.[16] Когда он стал мастером, он окружил себя красивыми мальчиками и юношами, которых он брал в ученики. Последний из этих учеников, Франческо Мельци, последовал за ним во Францию, оставался с ним до его смерти и назначен был им его наследником. Не разделяя уверенности современных его биографов, которые, разумеется, отвергают с негодованием возможность половых отношений между ним и его учениками как ни на чем не основанное обесчещение великого человека, можно было бы с большей вероятностью предположить, что нежные отношения Леонардо к молодым людям, которые по тогдашнему положению учеников жили с ним одной жизнью, не выливались в половой акт. Впрочем, в нем нельзя и предполагать сильной половой активности.
Особенность его сердечной и сексуальной жизни в связи с его двойственной природой художника и исследователя возможно понять только одним путем. Из биографов, которые часто бывают очень далеки от психологической точки зрения, по-моему, один только Сольми приблизился к решению этой загадки; но поэт Дмитрий Сергеевич Мережковский, выбравший Леонардо героем большого исторического романа, создал этот образ именно на таком понимании необыкновенного человека, выразив очень ясно этот свой взгляд, хотя и не прямо, но, как поэт, в поэтическом изображении.[17] Сольми высказывает такое суждение о Леонардо: «Ненасытная жажда познать все окружающее и анализировать холодным рассудком глубочайшие тайны всего совершенного осудила произведения Леонардо оставаться постоянно неоконченными».[18] В одной статье Conferenze Florentine цитируется мнение Леонардо, которое дает ключ к пониманию его символа веры и его натуры: «Nessuna cosa si puo amare neodiare, se prima non si ha cognition di quella. – He имеешь права что-будь лю-бить или ненавидеть, если не приобрел основательного знания о сущности этого».[19] И то же самое повторяет Леонардо в одном месте «Трактата о живописи», где он, видимо, защищается против упрека в антирелигиозности: «Но такие обвинители могли бы молчать. Потому что это есть способ познать Творца этакого множества прекрасных вещей и именно это есть путь полюбить столь великого Мастера. Потому что воистину большая любовь исходит из большого познания любимого и если ты мало его знаешь, то сможешь только мало или совсем не сможешь любить его…».[20]
Значение этих слов Леонардо не в том, что они сообщают большую психологическую истину; утверждаемое им очевидно ложно, и Леонардо должен был это сознавать не хуже нас. Неверно, что люди ожидают со своей любовью или ненавистью, пока не изучат и не постигнут сущности того, что возбуждает эти чувства; они любят более импульсивно, по мотивам чувства, ничего не имеющего общего с познаванием и действие которого обсуждением и обдумыванием разве только ослабляется. Поэтому Леонардо мог желать только высказать, что то, как любят люди, не есть истинная, несомненная любовь; что должно любить так, чтобы сначала подавить страсть, подвергнуть ее работе мыслии только тогда позволить развиться чувству, когда оно выдержало испытание разума. И мы понимаем: при этом он хочет сказатьГчто у него это происходит таким образом; для всех же других было бы желательно, чтобы они относились к любви и ненависти, как он сам.
И у него это, кажется, было на самом деле так. Его аффекты были обузданы и подчинены стремлению исследовать; он не любил и не ненавидел, но только спрашивал себя, откуда то, что он должен любить или ненавидеть, и какое оно имеет значение. Таким образом, он должен был казаться индифферентным к добру и злу, к прекрасному и отвратительному. Во время этой работы исследования любовь и ненависть переставали быть руководителями и превращались равномерно в умственный интерес. На самом деле Леонардо не был бесстрастен; он не лишен был этой божественной искры, которая есть прямой или косвенный двигатель – il primo mo-tore – всех дел человеческих. Но он превратил свои страсти в одну страсть к исследованию; он предавался исследованию с той усидчивостью, постоянством, углубленностью, которые могут исходить только из страсти, и, на высоте духовного напряжения достигнув знания, дает он разразиться долго сдерживаемому аффекту и потом свободно излиться, как струе по отводящему рукаву, после того как она отработала. На высоте познания, когда он мог окинуть взглядом соотношение вещей в исследуемой области, его охватывал пафос, и он в экстазе восхваляет величие этой области творения, которую он изучал, или – облекаясь в религиозность – величие ее Творца. Сольми ясно схватил этот процесс превращения у Леонардо. Цитируя одно такое место, где Леонардо воспевает величие непреложности законов природы («О чудесная необходимость…»), он говорит: «Tale transfigurazione della scienza della natura in emozione, quasi direi, religiosa, ё une dei tratti caratteristici de'manoscritti vinciani, e uno dei tratti caratteristici de'manoscritti vinciani, si trova cento volte espressa…» («Это преобразование познания природы в эмоциях я назван бы религией, и в этом одна из характернейших черт рукописей да Винчи, черт, стократно в них повторенных…».[21]
Леонардо за его ненасытную и неутомимую страсть к исследованию назвали итальянским Фаустом. Но, отказываясь от всех соображений о возможности превращения стремления к исследованию в любовь к жизни, что мы должны принять как предпосылку трагедии Фауста, должно заметить, что развитие Леонардо приближается к спинозовскому миросозерцанию.
Превращение психической энергии в различного рода деятельность может быть так же невозможно без потери, как и превращение физических сил. Пример Леонардо учит, как много другого можно проследить на этом процессе. Из откладывания любить на то время, когда познаешь, выходит замещение. Любят и ненавидят уже не так сильно, когда дошли до познания; тогда остаются по ту сторону от любви и нена-висти. Исследовали – вместо того чтобы любить. И поэтому, может быть, жизнь Леонардо настолько беднее была любовью, чем жизнь других великих людей и других художников Его, казалось, не коснулись бурные страсти, сладостные и всепожирающие, бывшие у других лучшими переживаниями. И еще другие были последствия. Он исследовал, вместо того чтобы действовать и творить. Тот, кто начал ощущать величие мировой закономерности и ее непреложности, легко теряет сознание своего собственного маленького Я. Погруженный в созерцание, истинно примиренный, легко забывает он, что сам составляет частицу этих действующих сил природы и что надо, измеривши свою собственную силу, попробовать воздействовать на эту непреложность мира, мира, в котором и малое не менее чудесно и значительно, чем великое. Леонардо начал, вероятно, свои исследования, как думает Сольми, служа своему искусству, он работал над свойствами и законами света, красок, теней, перспективы, чтобы постичь искусство подражания природе и показать путь к этому другим. Вероятно, уже тогда преувеличивал он цену этих знаний для художника. Потом повлекло его, все еще с целью служить искусству, к исследованию объектов живописи, животных и растений, пропорций человеческого тела; от наружного их вида попал он на путь исследования их внутреннего строения и их жизненных отправлений, которые ведь тоже отражаются на, внешности и требуют поэтому быть изображенными искусством. И наконец ставшая могучею страсть повлекла его дальше, так что связь с искусством порвалась. Он открыл тогда общие законы механики, открыл процесс отложения и окаменений в Арнотале, и, наконец, он мог занести большими буквами в свою книгу признание: «И sole non si move (Солнце не движется)». Так распространил он свои исследования почти на все области знания, будучи в каждой из них создателем нового или, по меньшей мере, предтечей и пионером.[22] Однако же его исследования направлены были только на видимый мир, что-то отдаляло его от исследования духовной жизни людей; в «Academia Vinciana», для которой он рисовал очень талантливо замаскированные эмблемы, было уделено психологии мало места.
Когда он потом пробовал от исследования вернуться вновь к искусству, из которого исходил, то он чувствовал, что ему мешала новая установка интересов и изменившегося характера его психической деятельности. В картине его интересовала больше всего одна проблема, а за этой одной выныривали бесчисленные другие проблемы, как это он привык видеть в беспредельных и не имеющих возможности быть законченными исследованиях природы. Он был уже не в состоянии ограничить свои запросы, изолировать художественное произведение, вырвать его из громадного мирового соотношения, в котором он знал его место. После непосильных стараний выразить в нем все, что сочеталось в его мыслях, он бывал принужден бросить его на произвол судьбы или объявить его неоконченным.
Художник взял некогда исследователя работником к себе на службу, но слуга сделался сильнее его и подавил своего господина.
Когда в складе характера личности мы видим одно-единственное сильно выраженное влечение, как у Леонардо любознательность, то для объяснения этого мы ссылаемся на особую наклонность, об органической природе которой в большинстве случаев ничего более точно не известно. Но благодаря нашим психоаналитическим исследованиям на нервнобольных мы склоняемся к двум дальнейшим предположениям, подтверждение которых мы с удовольствием видим в каждом отдельном случае. Мы считаем вероятным, что эта слишком сильная склонность возникает уже в раннем детстве человека и что ее господство укрепляется впечатлениями детской жизни, и далее мы принимаем, что для своего усиления она сначала пользуется сексуальными влечениями, так что впоследствии она в состоянии бывает заменить собою часть сексуальной жизни. Такой человек, следовательно, будет, например, исследовать с тем страстным увлечением, с каким другой отдается своей любви, и он мог бы исследовать, вместо того чтобы любить. И не только в страсти к исследованию, но и во многих других случаях особой интенсивности какого-нибудь влечения дерзаем мы заключить о подкреплении его сексуальностью.
Наблюдение ежедневной жизни людей показывает нам, что многим удается перевести значительную часть их полового влечения на их профессиональную деятельность. Половое влечение особенно приспособлено для того, чтобы делать такие вклады, потому что оно одарено способностью сублимирования, то есть оно в состоянии заменить свою ближайшую цель другими, смотря по обстоятельствам, более высокими и не сексуальными целями. Мы считаем доказанным такое превращение, если в истории детства, то есть в истории развития души человека, мы находим, что какое-нибудь сильно выраженное влечение служило сексуальным интересам. Мы далее видим подтверждение этому, если в зрелом возрасте наблюдается бросающийся в глаза недостаток сексуальной деятельности, как будто часть ее заменилась здесь деятельностью этого могучего влечения.
Применение этого объяснения по отношению к случаю слишком сильного влечения к исследованию кажется особенно затруднительным, потому что как раз детям неохотно сообщают и об этом серьезном стремлении, и о половых интересах. Между тем эти затруднения легко устранимы. О любознательности маленьких детей свидетельствует их неустанное спрашивание, которое взрослому кажется загадочным, пока он не догадается, что все эти вопросы только околичности и что они нескончаемы, потому что дитя хочет заменить ими только один-единственный вопрос, который оно, однако же, не ставит. Когда ребенок становится старше и предусмотрительнее, то часто это обнаружение любознательности вдруг прекращается. Но полное разъяснение дает нам психоаналитическое исследование, показывающее, что многие, может быть даже большинство, и, во всяком случае, наиболее одаренные дети приблизительно с третьего года жизни переживают период, который можно назвать периодом инфантильного сексуального исследования. Любознательность просыпается у детей этого возраста, насколько мы знаем, не сама собой, но пробуждается впечатлением важного переживания, как, например, рождением сестрицы, – нежелательным, так как ребенок видит в ней угрозу его эгоистическим интересам. Исследование направляется на вопрос, откуда появляются дети, как раз так, как будто бы ребенок искал способов и путей предупредить такое нежелательное явление. Таким образом, мы с изумлением узнали, что ребенок отказывается верить данным ему объяснениям, например, энергично отвергает полную мифологического смысла сказку об аисте, что начиная с этого акта недоверия он отмечает свою умственную самостоятельность; он чувствует себя часто в несогласии со старшими и им, собственно говоря, никогда больше не прощает, что в поисках правды он был обманут. Он исследует собственными путями, угадывает нахождение ребенка во чреве матери и, исходя из собственных половых ощущений, строит свои суждения о происхождении ребенка от еды, о его рождении через кишечник, о труднопостижимой роли отца, и он уже тогда предчувствует существование полового акта, который представляется ему как нечто злонамеренное и насильственное. Но так как его собственная половая конституция не созрела еще для цели деторождения, то и исследование его, откуда дети, поблуждав в потемках, должно быть оставлено не доведенным до конца. Впечатление от этой неудачи при первой пробе умственной самостоятельности, видимо, бывает длительным и глубоко подавляющим.[23]
Когда период детского сексуального исследования разом обрывается энергичным вытеснением, остаются для дальнейшей судьбы любознательности, вследствие ее ранней связи с сексуальными интересами, три различные возможности. Или исследование разделяет судьбу сексуальности; любознательность остается с того времени парализованной, и свобода умственной деятельности может быть ограниченной на всю жизнь, особенно еще и потому, что вскоре посредством религиозного воспитания присоединяется новая умственная задержка. Ясно, что таким образом приобретенная слабость мысли дает сильный толчок к образованию невротического заболевания.
Во втором типе интеллектуальное развитие достаточно сильно, чтобы противостоять мешающему ему сексуальному вытеснению. Некоторое время спустя после прекращения инфантильного сексуального исследования, когда интеллект окреп, он, помня старую связь, помогает обойти сексуальное вытеснение, и тогда подавленное сексуальное исследование возвращается из бессознательного в виде склонности к навязчивому анализированию, во всяком случае изуродованное и несвободное, но достаточно сильное, чтобы сделать само мышление сексуальным и окрасить умственные операции наслаждением и страхом, присущими сексуальным процессам.
Третий тип, самый редкий и самый совершенный, в силу особого предрасположения избегает как умственной задержки, так и невротического навязчивого влечения к мышлению, – Сексуальное вытеснение и здесь тоже наступает, но ему не удается подавить часть сексуального наслаждения в бессознательное, напротив, либидо избегает вытеснения, сублимируясь с самого начала в любознательность и усиливая стремление к исследованию. И в этом случае исследование тоже превращается в известной степени в страсть и заменяет собой половую деятельность, но вследствие полного различия лежащих в основе психических процессов (сублимирование вместо прерывания из бессознательного) не получается характера невроза, выпадает связь с первоначальным детским сексуальным исследованием, и страсть может свободно служить интеллектуальным интересам.
Вытесненной сексуальности, сделавшей его таким сильным посредством присоединения сублимированного либидо, он отдает дань только тем, что избегает заниматься сексуальными темами.
Если мы обратим внимание на соединение у Леонардо сильного влечения к исследованию с бедностью его половой жизни, которая ограничивается, так сказать, идеальной гомосексуальностью, мы склонны будем рассматривать его как образец нашего третьего типа. То, что после напряжения детской любознательности в направлении сексуальных интересов ему удалось большую долю своего либидо сублимировать в страсть к исследованию, это и есть ядро и тайна его существа. Но конечно, нелегко привести доказательства этого взгляда. Для этого необходимо заглянуть в развитие его души в первые детские годы, но кажется безумным рассчитывать на это, так как сведения о его жизни слишком скудны и неточны и, кроме того, дело идет здесь о сведениях и отношениях, которые даже и у лиц нашего поколения ускользают от внимания наблюдателей.
Мы знаем очень мало о юности Леонардо. Он родился в 1452 году в маленьком городке Винчи, между Флоренцией и Эмполи; он был незаконный ребенок, что в то время, конечно, не считалось большим пороком; отцом его был синьор Пьеро да Винчи, нотариус и потомок фамилии нотариусов и земледельцев, которые назывались по месту жительства Винчи. Мать его, Катарина, вероятно деревенская девушка, вышедшая замуж за другого жителя Винчи. Эта мать не появляется больше в биографии Леонардо, только поэт Мережковский предполагает следы ее влияния. Единственное достоверное сведение о детстве Леонардо дает официальный документ от 1457 года, Флорентийский налоговый кадастр, где в числе членов фамилии Винчи приведен Леонардо как пятилетний незаконный ребенок синьора Пьеро.[24] Брак синьора Пьеро с некой донной Альбиерой остался бездетным, поэтому маленький Леонардо мог воспитываться в доме отца. Этот отчий дом он покинул только тогда, когда (неизвестно, в каком возрасте) поступил учеником в мастерскую Андреа дель Верроккьо. В 1472 году имя Леонардо встречается уже в списке членов «Compagnia dei Pittore». Это все.
2
Один-единственный раз, насколько мне известно, Леонардо привел в одной из своих ученых записей сведение из своего детства. В одном месте, где говорится о полете коршуна, он вдруг отрывается, чтобы предаться вынырнувшему воспоминанию из очень ранних детских лет: «Кажется, что уже заранее мне было предназначено так основательно заниматься коршуном, потому что мне приходит в голову как будто очень раннее воспоминание, что, когда я лежал еще в колыбели, прилетел ко мне коршун, открыл мне своим хвостом рот и много раз толкнулся хвостом в мои губы».
Итак, детское воспоминание в высшей степени странного характера. Странное по своему содержанию и по возрасту, к которому оно относится. Что человек сохранил воспоминание о времени, когда он был грудным ребенком, в этом, может быть, нет ничего невероятного, хотя такое воспоминание не может ни в каком случае считаться надежным. Однако' то, как утверждает Леонардо, что коршун открыл своим хвостом рот ребенку, звучит так невероятно, так сказочно, что навертывается другое предположение, более доступное пониманию, которое разом разрешает затруднения. Эта сцена с коршуном не есть воспоминание Леонардо, а фантазия, которую он позже создал и перенес в свое детство. Детские воспоминания людей часто имеют именно такое происхождение; они вообще не фиксируются при переживании и не повторяются потом, как воспоминания зрелого возраста, но только впоследствии, когда детство уже окончилось, они воскресают, причем изменяются, искажаются, приспосабливаются к позднейшим тенденциям, так что их трудно бывает строго отделить от фантазий. Может быть, самый лучший способ составить себе понятие об их природе, это вспомнить, каким образом у древних народов начала составляться история. Пока народ был мал и слаб, он не думал о том, чтобы писать свою историю: обрабатывали землю страны, защищали свое существование от соседей, старались отнять у них земли и обогатиться. Это было героическое и доисторическое время. Потом началось другое время, когда стали жить сознательной жизнью, почувствовали себя богатыми и сильными, и теперь явилась потребность узнать, откуда произошли и каким образом стали тем, что есть. История, начавшая отмечать последовательно события настоящего времени, бросила взгляд и назад в прошлое, собрала традиции и саги, объяснила пережитки старого времени по нравам и обычаям и создала таким образом историю древних времен. Эта история древности по необходимости была, скорее, выражением мнений и желаний настоящего, чем изображением прошлого, потому что многое исчезло из памяти народа, другое было искажено, иные следы прошлого истолкованы превратно в духе времени, и кроме всего этого писали ведь историю не по мотивам объективной любознательности, но потому, что хотели влиять на своих современников, их поднять и воодушевить или показать им их отражение. Сознательные воспоминания человека о пережитом в зрелом возрасте можно вполне сравнить с этим процессом создания истории, а его воспоминания детства по способу своего образования и по своей беспочвенности – поздно и тенденциозно составленной первобытной историей народа.
Если, следовательно, рассказ Леонардо о коршуне, посетившем его в колыбели, только позже родившаяся фантазия, то должно бы думать, что едва ли стоит дольше на ней и останавливаться. Для ее объяснения можно было бы удовольствоваться открыто выр*аженной тенденцией придать санкцию предопределения судьбы своему занятию проблемой птичьего полета. Однако это пренебрежение было бы такой же несправедливостью, как если бы легкомысленно отбросить материал о сагах, традициях и толкованиях в древней истории народа. Несмотря на все искажения и превратные толкования, ими все-таки представлено реальное прошлое; они то, что народ создал себе из переживаний своего давно прошедшего, под влиянием когда-то могучих и теперь еще действующих мотивов, и если бы только можно было знанием всех действующих сил вновь исправить эти искажения, то за этим легендарным материалом мы могли бы открыть историческую правду. То же самое относится и к воспоминаниям детства или фантазиям единичных личностей. Небезразлично, что человек считает оставшимся в памяти из его детства. Обыкновенно за обрывками воспоминаний, ему самому непонятными, скрыты бесценные свидетельства самых важных черт его духовного развития. Но так как в психоаналитической технике мы имеем превосходные средства, чтобы осветить сокровенное, то можно попытаться пополнить посредством анализа пробел в истории детства Леонардо. Если мы не достигнем при этом достаточной степени достоверности, то мы можем себя утешить тем, что стольким другим исследованиям о великом и загадочном человеке суж-дена была не лучшая участь.
Но когда мы посмотрим глазами психоаналитика на фантазию Леонардо о коршуне, то она недолго будет представляться нам странной. Мы вспоминаем, что часто, например в сновидениях, видели подобное, так что мы уверены, что нам удастся эту фантазию сего странного языка перевести на язык общепонятный. Перевод указывает тогда на эротическое. Хвост («coda») – один из известнейших символов и способов изображения мужского полового органа, в итальянском не менее, чем в других языках; представление, заключающееся в фантазии, что коршун открыл рот ребенку и хвостом там усиленно работал, соответствует представлению о fellatio, половом акте, при котором член вводится в рот другого лица. Довольно странно, что эта фантазия носит такой сплошь пассивный характер; она напоминает также некоторые сны женщин или пассивных гомосексуалистов (играющих при сексуальных отношениях женскую роль).
Пусть, однако, читатель повременит и в пламенном негодовании не откажется следить за психоанализом из-за того, что уже при первом применении он приводит к непростительному посрамлению памяти великого и чистого человека. Очевидно ведь, что негодование это никогда нам не сможет сказать, что означает фантазия детства Леонардо; с другой стороны, Леонардо недвусмысленно признался в этой фантазии, и мы не откажемся от мысли – от предубеждения, если угодно, – что такая фантазия, как и каждое создание психики, как-то: сон, видение, бред, должно иметь какое-нибудь значение. Поэтому лучше уделим немного внимания аналитической работе, которая ведь не сказала еще своего последнего слова. Влечение брать в рот мужской орган и его сосать, которое причисляется в гражданском обществе к отвратительнейшим извращениям, встречается все же часто у женщин нашего времени и, как доказывают старинные картины, также у женщин старого времени, и, видимо, в состоянии влюбленности притупляется его отталкивающий характер. Врач встречает фантазии, основанные на этой склонности также и у женщин, которые не познакомились с возможностью такого полового удовлетворения, читая сексуальную психопатологию Крафт-Эбинга, или посредством других источников. Видимо, женщинам доступно создавать непроизвольно такие желания-фантазии. Потому что, проверяя, мы видим также, что эти так тяжко преследуемые обычаями действия допускают самое безобидное объяснение. Они не что иное, как переработка другой ситуации, в которой мы все когда-то чувствовали себя отлично, когда в грудном возрасте брали в рот сосок матери или кормилицы, чтобы его сосать. Органическое впечатление этого нашего первого жизненного наслаждения, конечно, осталось прочно запечатлевшимся; когда дитя знакомится позже с выменем коровы, которое по своей функции сходно с грудным соском, а по форме и положению на брюхе с пенисом, оно уже достигло первой ступени для позднейшего образования этой отвратительной сексуальной фантазии.
Мы понимаем теперь, почему Леонардо воспоминание о мнимом переживании с коршуном относит к грудному возрасту. Под этой фантазией скрывается не что иное, как реминисценция о сосании груди матери, человечески прекрасную сцену чего он, как многие другие художники, брался изображать кистью на Божьей Матери и ее Младенце. Во всяком случае, запомним, хотя мы еще и не понимаем, что эта одинаково важная для обоих полов реминисценция была обработана мужчиной Леонардо в пассивную гомосексуальную фантазию. Мы оставим пока в стороне вопрос, какая связь могла бы быть между гомосексуальностью и сосанием материнской груди, и только вспомним, что молва в самом деле считала Леонардо гомосексуально чувствующим. При этом нам безразлично, подтвердилось или нет обвинение против юноши Леонардо: не реальное действие, а образ чувствований решает для нас вопрос, можем ли мы в ком-нибудь обнаружить гомосексуальность.
Другая непонятная черта детской фантазии Леонардо прежде всего возбуждает наш интерес. Мы объясняем фантазию сосанием матери и находим мать замененною коршуном. Откуда произошел этот коршун и как он попал сюда?
Одна догадка навертывается, но такая отдаленная, что хочется от нее отказаться. В священных иероглифах древних египтян мать в самом деле пишется посредством изображения коршуна.[25] Эти египтяне почитали также божество материнства, которое изображалось с головой коршуна или со многими головами, из которых, по крайней мере, одна была головой коршуна.[26] Имя этой богини было Мут; случайное ли это созвучие со словом «Mutter» (мать)? Итак, коршун действительно имеет отношение к матери, но в чем может это нам помочь? Можем ли мы предполагать у Леонардо это сведение, когда чтение иероглифов удалось только Франсуа Шампольону (1790–1832)?[27]
Интересно знать, каким путем древние египтяне пришли к тому, чтобы выбрать коршуна символом материнства. Религия и культура египтян была уже для греков и римлян предметом научного интереса, и задолго до того, как мы получили возможность читать египетские письмена, в нашем распоряжении были единичные о них сведения в сохранившихся сочинениях классической древности, сочинениях, которые частью принадлежат известным авторам, как Страбон, Плутарх, Аммиан Морцеллин, частью носят неизвестные имена и сомнительны по своему происхождению и времени появления, как иероглифы Гораполло Гилус и дошедшая до нас под божественным именем Гермес Трисмегит – книга восточной жреческой мудрости. Из этих источников мы узнали, что коршун считался символом материнства, потому что думали, что существуют только женского рода коршуны и что у этой породы птиц нет мужского пола.[28]
Как же совершалось оплодотворение коршунов, если они все были только самки? Этому хорошее объяснение дает одно место у Гораполло. В известное время эти птицы останавливаются в своем полете, открывают свои влагалища и зачинают от ветра.
Мы теперь неожиданно пришли к необходимости признать очень вероятным то, что еще недавно должны были отвергнуть как абсурд. Леонардо мог очень хорошо знать о научной сказке, которой коршун обязан тем, что египтяне его изображением писали понятие «мать». Это был человек, массу читавший, который интересовался всеми областями литературы и знания. Мы имеем в «Codex Atlanticus» указатель всех имевшихся у него в определенное время книг [М u n t z E. Leonardo da Vinci. P. 282 (Мюнц Е. Леонардо да Винчи).
] и еще многочисленные заметки о других книгах, которые он заимствовал у друзей; по списку книг, который Рихтер составил по его запискам, мы едва ли можем переоценить размеры им прочитанного. Не было у него недостатка и в старых и в современных произведениях естественно-исторического содержания. Все эти книги были в то время уже напечатаны, и как раз Милан был в Италии центром молодого книгопечатания.
Если мы пойдем дальше, то натолкнемся на сведение, которое возможность того, что Леонардо читал сказку о коршуне, превращает в уверенность. Ученый издатель и комментатор Гораполло делает примечание к уже цитированному тексту: «Впрочем, церковные отцы считали в порядке вещей ту басню о коршунах, об их непорочном зачатии, которое происходит, следовательно, особым способом».
Итак, басня об однополости и зачатии коршунов ни в коем случае не осталась безразличным анекдотом, как аналогичная о скарабеях; служители церкви опирались на нее, чтобы иметь естественно-исторический аргумент против сомневающихся в священной истории. Если по самым лучшим источникам древности коршунам было суждено оплодотворяться от ветра, почему бы нечто подобное не могло однажды произойти с женщиной? Вследствие этого отцы церкви «почти все» старались рассказывать басню о коршуне, и едва ли можно сомневаться, что благодаря такому могущественному покровительству она стала известна и Леонардо.
Создание фантазии о коршуне Леонардо мы можем представить себе следующим образом: когда он прочел однажды у Отцов церкви или в естественно-исторической книге о том, что коршуны все самки и умеют размножаться без помощи самцов, тогда вынырнуло в нем воспоминание, превратившееся в эту фантазию. Она говорила, что он ведь тоже был таким детенышем коршуна, имевшим мать, но не имевшим отца, и, что часто бывает в столь давних воспоминаниях, к этому присоединился отзвук наслаждения, полученного им у материнской груди. Намеки авторов на дорогой для каждого художника образ Святой Девы с Младенцем должны были способствовать тому, что эта фантазия показалась ему драгоценной и значительной. Ведь таким образом он приходил к отождествлению себя с младенцем Христом, утешителем и спасителем.
Когда мы анализируем какую-нибудь детскую фантазию, мы стремимся отделить ее реальное содержание от позднейших воздействий, которые ее изменяют и искажают. В случае Леонардо мы думаем, что знаем теперь реальное содержание его фантазии: замена матери коршуном указывает на то, что ребенок чувствовал отсутствие отца и жил только с матерью. Факт незаконного рождения Леонардо соответствует его фантазии о коршуне, только поэтому мог он сравнить себя с детенышем коршуна. Но мы знаем другой достоверный факт его юности, что пятилетним ребенком он жил в доме своего отца; когда это случилось, несколько ли месяцев спустя после его рождения или несколько недель до составления того кадастра, нам совершенно неизвестно. Но тут выступает толкование фантазии о коршуне и показывает нам, что Леонардо критические первые годы своей жизни провел не у отца и мачехи, а у бедной, покинутой, настоящей своей матери, так что он имел время заметить отсутствие отца. Это кажется слабым и притом слишком смелым выводом психоаналитической работы, но при дальнейшем углублении его значение усилится. Достоверность этого увеличивается еще сопоставлением фактических условий детства Леонардо. Известно, что его отец синьор Пьеро да Винчи женился еще в год рождения Леонардо на знатной донне Альбиере; бездетности этого супружества был обязан мальчик документально доказанным пребыванием на пятом году жизни в доме отца или, скорее, в доме деда. Но не в обычае, чтобы молодой женщине, которая еще рассчитывает на благословение детьми, с самого начала давали на воспитание незаконного отпрыска. Должны были без сомнения сначала пройти годы разочарования, прежде чем решились принять, вероятно, прекрасно развившееся, незаконное дитя для возмещения тщетно ожидаемых законных детей. Наиболее соответствовало бы нашему толкованию фантазий о коршуне, если бы прошли три или даже пять лет жизни Леонардо, прежде чем он променял свою одинокую мать на супружескую чету. Но тогда было уже слишком поздно. В первые три-четыре года жизни фиксируются впечатления и вырабатываются способы реагирования на внешний мир, которые никаким позднейшим переживанием не могут быть лишены их значительности.
Если справедливо, что неясные воспоминания детства и на них построенные фантазии всегда заключают самое существенное в духовном развитии человека, то факт, подтверждаемый фантазией о коршуне, что Леонардо свои первые годы жизни провел с одной матерью, должен был иметь выдающееся влияние на склад его внутренней жизни. Под влиянием этого было неизбежно, что ребенок, которому в его детстве представилось одной проблемой больше, чем другим детям, с особой горячностью стал ломать голову над этой загадкой и таким образом рано сделался исследователем, потому что великие вопросы мучили его, откуда являются дети и какое отношение имеет отец к их появлению. Ощущение этой связи между его исследованием и историей его детства вызвало в нем позже восклицание, что ему, наверно, было заранее предназначено углубиться в проблему птичьего полета, потому что его еще в колыбели посетил коршун. Вывести любознательность, направленную на птичий полет, из детского сексуального исследования будет нашей следующей нетрудно исполнимой задачей.
3
В детской фантазии Леонардо реальное содержание воспоминания представляет элемент коршуна; связь, в которую поставил сам Леонардо свою фантазию, ярко осветила значение этого содержания для его последующей жизни. При дальнейшем толковании мы наталкиваемся на странную проблему: почему содержание этого воспоминания было переработано в гомосексуальную ситуацию? Мать, кормящая грудью ребенка – или, лучше, которую сосет ребенок, – превращена в птицу коршуна, который всовывает свой хвост в рот ребенку. Мы утверждаем, что «coda» коршуна по общеупотребительному в языке замещению может означать не что иное, как мужской половой орган. Но мы не понимаем, как фантазия может прийти к тому, чтобы как раз материнскую птицу наделить знаком мужественности, и ввиду такой абсурдности мы усомнимся, возможно ли найти в этой фантазии разумный смысл.
Между тем мы не должны унывать. Сколько снов, кажущихся абсурдными, мы уже заставили раскрыть их смысл! Почему это должно быть труднее с детской фантазией, чем со сном?
Помня, что нехорошо, если какая-нибудь странность встречается одна, мы поспешим сопоставить ее с другой, еще большей странностью.
Изображаемая с головой коршуна богиня Мут египтян – фигура с совершенно безличным характером, как определяет Дрекслер в словаре Рошера, – сливалась часто с другими божествами материнства с более явственно выраженной индивидуальностью, как Изида Гатор, но сохраняла при этом свое самостоятельное существование и почитание. Это была особая отличительная черта египетского пантеона, что отдельные боги не тонули в синкретизме. Рядом с составными божествами образ отдельного оожества сохранялся самостоятельным. Это материнское с головой коршуна божество делалось египтянами в большинстве изображений с фаллосом; его по грудям, как видим, женское тело имеет также мужской член в состоянии эрекции.
Итак, у богини Мут то же соединение материнских и мужских черт характера, как и в фантазии Леонардо! Должны ли мы это совпадение объяснить предположением, что Леонардо знал из изучаемых книг также и двуполую натуру материнского коршуна? Такая возможность более чем сомнительна; кажется, бывшие у него источники не содержали ничего об этом достопримечательном свойстве. Скорее, можно объяснить это совпадение общим там и здесь, но еще неизвестным мотивом.
Мифология может рассказать нам, что двуполость, соединение мужских и женских половых черт, встречалась не только у Мут, но и у других божеств, как, например, Изида Гатор, но у этих может быть лишь постольку, поскольку они имели тоже материнскую природу и сливались с Мут. Мифология учит нас далее, что другие божества египтян, как Нейт из Саиса, из которой впоследствии образовалась греческая Афина, первоначально представлялись двуполыми, гермафродитическими; то же относилось и ко многим другим греческим богам, особенно из группы Диониса, и также к превращенной позже в женскую богиню любви Афродите. Поэтому можно было бы попробовать объяснить, что приставленный к женскому телу фаллос должен был обозначать творческую силу природы и что все эти гермафродитические божества выражают идею, что только соединение мужского и женского может дать действительное представление божественного совершенства. Но ни одно из этих соображений не выясняет нам психологической загадки, почему фантазия людей образ, который должен олицетворить сущность матери, снабжает противоположным признаком мужской силы.
Разгадкой служат инфантильные сексуальные теории. Было, без сомнения, время, когда мужской член связывался в представлении с матерью. Когда мальчик вначале направляет свою любознательность на половую жизнь, его интерес сосредоточивается на собственном половом органе. Он считает эту часть своего тела слишком ценной и важной, чтобы подумать, что у других людей, с которыми он так одинаково чувствует, его могло не быть. Так как он не может догадаться, что есть еще другой равноценный тип полового устройства, он должен предположить, что все люди, а также и женщины, имеют такой же член, как и у него. Этот предрассудок так прочно укореняется в молодом исследователе, что он не разрушается даже наблюдением половых органов маленьких девочек. Очевидность говорит ему, во всяком случае, что здесь что-то другое, чем у него, но он не в состоянии примириться со смыслом этого открытия, что у девочек нет члена. Представление, что член может отсутствовать, для него страшно и невыносимо, он принимает поэтому примиряющее решение: член есть и у девочек, но он еще очень маленький, потом он еще вырастет. Если при дальнейшем наблюдении он видит, что это ожидание не исполняется, то ему представляется еще другая возможность: член был и у маленьких девочек, но он был отрезан, на его месте осталась рана. Этот шаг в теории использует уже собственный опыт мучительного характера; он слыхал за это время угрозу, что ему отрежут драгоценный орган, если он будет слишком много им интересоваться. Под влиянием этой угрозы кастрации он перетолковывает свое понимание женских половых органов; с этого времени он дрожит за свой мужской пол и презирает при этом несчастных созданий, над которыми, по его понятиям, уже произведено ужасное наказание.
Раньше чем ребенок подпал под власть кастрационного комплекса, когда он женщину считал еще равноценной с собой, в нем начало выступать интенсивное влечение к подсматриванию, как эротическая страсть. Ему хотелось видеть половые органы других людей, вначале, вероятно, чтобы их сравнить со своими собственными. Эротическая привлекательность, которая исходила из личности матери, сосредоточилась вскоре на неудержимом стремлении к ее принимаемому за пенис половому органу. С приобретением позже знания, что у женщины нет пениса, это стремление превращается часто в свою противоположность, уступая место отвращению, которое ко времени половой зрелости может стать причиной психической импотенции, женоненавистничества, продолжительной гомосексуальности. Но фиксирование бывшего когда-то предметом желания пениса женщины оставляет неизгладимые следы в душевной жизни ребенка, проделавшего с особым старанием эту часть инфантильного сексуального исследования. При фетишеобразном обожании женской ноги и башмака нога, вероятно, принимается только за заменяющий символ когда-то обожаемого и после оказавшегося несуществующим пениса женщины; отрезатели кос играют, не зная этого, роль людей, которые на женских половых органах производят кастрацию. Нет должного отношения к деятельности детской сексуальности, и, вероятно, эти сообщения сочтут ложными, пока вообще не оставят точку зрения нашего культурного пренебрежения к половым органам и половой функции. Для понимания детской психологии надо обратиться к аналогии с первобытными людьми. Для нас половые органы из рода в род считаются предметом стыда, а при дальнейшем распространении сексуального вытеснения даже отвращения. С отвращением покоряется большинство ныне живущих велениям закона размножения, чувствуя себя при этом оскорбленными в их человеческом достоинстве и падшими. Иное отношение к половой жизни осталось только в серых, низших классах народа, у высших же оно прячется, осужденное культурой, и осмеливается действовать только под горькими упреками нечистой совести. Иначе было у человечества в начале веков? Из старательно собранных исследователями культуры коллекций древности можно видеть, что половые органы вначале были гордостью и надеждой живущих, пользовались божеским почитанием и божественность их функций переносилась на все вновь возникавшие отрасли деятельности. Бесчисленные образы богов рождались посредством сублимирования половой сущности, и ко времени, когда связь официальной религии с половой деятельностью исчезла из общего сознания, тайные культы старались сохранить ее в кругу известного числа посвященных. Наконец в ходе развития культуры произошло так, что из сексуальности извлечено было так много божественного и священного, что истощенный остаток подпал презрению. Но при неискоренимости всех психических черт характера не следует удивляться, что даже самые примитивные формы поклонения детородным органам наблюдаются до самого последнего времени и что словоупотребление, обычаи и суеверия нынешнего человечества содержат пережитки всех фаз этого хода развития.
Мы подготовлены вескими биологическими аналогиями к тому, что духовное развитие индивидуума вкратце повторяет ход развития человечества, и поэтому не найдем невероятным то, что психоаналитическое исследование детской души открывает в инфантильной оценке половых органов. Детское предположение существования пениса у матери и есть тот общий источник, из которого исходит двуполое изображение материнских божеств, как египетской Мут и «coda» коршуна в детской фантазии Леонардо. Мы только по недоразумению называем эти изображения богов гермафродитическими в медицинском смысле слова. Ни одно из них не соединяет в действительности половые органы обоих полов, как они соединены в некоторых случаях уродства, возбуждающих отвращение каждого; они только присоединяют к грудным железам – знаку материнства – мужской орган, как это бывает в первом детском представлении ребенка. Мифология приняла это достойное уважения, еще в древности сфантазированное устройство тела матери за верование. Хвост коршуна в фантазии Леонардо мы можем истолковать таким образом: в то время, когда мое младенческое любопытство обратилось на мать, я ей еще приписывал половой орган, как у меня. Это есть дальнейшее доказательство раннего сексуального исследования Леонардо, которое, по нашему мнению, стало решающим для всей его последующей жизни.
Краткое размышление понуждает нас теперь не удовлетвориться объяснением хвоста коршуна в детской фантазии Леонардо. Кажется, в ней содержится еще кое-что, чего мы еще не понимаем. Ее самая удивительная черта все-таки та, что она сосание материнской груди превратила в нечто пассивное, то есть в ситуацию несомненно гомосексуального характера. Мысль об исторической вероятности, что Леонардо вел себя в жизни как гомосексуально чувствующий, ставит перед нами вопрос, не указывает ли эта фантазия на давнишнюю связь между детским отношением Леонардо к его матери и его позднейшей явной, хотя и идеальной гомосексуальностью? Мы бы не решились заключить о ней по искаженной реминисценции Леонардо, если бы мы не знали из психоаналитических исследований гомосексуальных пациентов, что такая связь существует и даже что она очень тесная и необходимая.
Гомосексуальные мужчины, которые в наше время предприняли энергичную деятельность против законодательного ограничения их половой деятельности, любят представлять себя через своих теоретиков как с самого начала обособленную половую группу, половую промежуточную ступень, как «третий пол». Они мужчины, которые органически с самого зародыша лишены влечения к женщине, и потому их привлекает мужчина. Насколько охотно из гуманных соображений можно подписаться под их требованиями, настолько же осторожно надо относиться к их теориям, которые выдвигаются, не принимая во внимание психического генезиса гомосексуальности. Психоанализ дает возможность заполнить этот пробел и подвергнуть проверке утверждения гомосексуалистов. Он пока мог выполнить эту задачу только у ограниченного числа лиц, но все до сих пор предпринятые исследования дали один и тот же удивительный результат.[29] У всех наших гомосексуальных мужчин существовало в раннем, впоследствии индивидуумом позабытом детстве очень интенсивное эротическое влечение к лицу женского пола, обыкновенно к матери, вызванное или находившее себе поощрение в слишком сильной нежности самой матери и далее подкрепленное отступлением на задний план отца в жизни ребенка. Саджер указывает, что матери его гомосексуальных пациентов часто были мужеподобными женщинами, женщинами с энергичными чертами характера, которые могли оттеснить отца от подобающего ему положения; мне случалось на блюдать то же самое, но более сильное впечатление произвели на меня те случаи, где отец отсутствовал с самого начала или рано исчез, так что мальчик был предоставлен главным образом влиянию матери. Это выглядит почти так, как будто присутствие сильного отца гарантирует сыну правильное решение для выбора объекта в противоположном поле.
После этой предварительной стадии наступает превращение, механизм которого нам известен, но которого побудительные причины мы еще не постигли. Любовь к матери не может развиваться вместе с сознанием, она подпадает вытеснению. Мальчик вытесняет любовь к матери, ставя самого себя на ее место, отождествляет себя с матерью и свою собственную личность берет за образец, выбирая схожих с ним объектов любви. Таким образом, он стал гомосексуальным; в сущности, он возвратился к аутоэротизму, потому что мальчики, которых теперь любит взрослый, все же только заместители и возобновители его собственной детской личности, и он любит их так, как мать любила его ребенком. Мы говорим, он находит свои предметы любви путем нарциссизма, потому что греческая сага называет Нарциссом юношу, которому ничто так не нравилось, как собственное изображение, и который был обращен в прекрасный цветок, носящий это имя.
Более глубокие психологические соображения оправдывают утверждение, что ставший таким путем гомосексуальным в подсознании остается фиксированным к образу воспоминания своей матери. Вытеснением любви к матери он сохраняет эту любовь в своем подсознании и остается с тех пор ей верен. Если кажется, что он, как влюбленный, бегает за мальчиками, то на самом деле он бежит от других женщин, которые могли бы сделать его неверным. Мы могли бы также доказать прямыми единичными наблюдениями, что кажущийся чувствительным только к мужскому раздражению на самом деле подлежит притягательной силе, исходящей от женщины, как и нормальный; но он спешит всякий раз полученное от женщины раздражение перенести на мужской объект и повторяет, таким образом, опять и опять механизм, посредством которого он приобрел свою гомосексуальность.
Мы далеки от того, чтобы преувеличивать значение этих выяснений психического генезиса гомосексуальности. Ясно, что они грубо противоречат официальным теориям гомосексуалистов, но мы знаем, что они недостаточно всеобъемлющи, чтобы сделать возможным окончательное решение проблемы. То, что на практике называют гомосексуальностью, может быть, исходит из разнообразных психосексуальных задерживающих процессов, и нами указанный путь, может быть, только один из многих, и верен он только для одного типа гомосексуальности. Мы должны также прибавить, что при этом типе гомосексуальности число случаев, в которых выполнены все требуемые нами условия, далеко превосходится числом случаев, в которых тот же эффект наступает так, что даже мы не можем отрицать содействия неведомых конституциональных факторов, которым другие приписывают происхождение всей гомосексуальности. Мы вообще не имели бы никакого повода входить в психический генезис изучаемой нами формы гомосексуальности, если бы веское предположение не говорило за то, что как раз Леонардо, фантазия о коршуне которого послужила нам исходной точкой, принадлежит к этому типу гомосексуальных.
Как ни мало известно в половом отношении о великом художнике и исследователе, приходится все-таки верить, что свидетельства современников не так уж грубо заблуждались. В свете этих преданий он представляется нам человеком, половая потребность и активность которого были очень понижены, как будто более ^высокое стремление подняло его над общей животной потребностью людей. Оставим в стороне вопрос, искал ли он когда-нибудь и каким способом прямого полового удовлетворения, или он мог совсем обойтись без него. Но мы и у него вправе искать те стремления, которые других властно толкают к сексуальному действию, потому что мы не можем себе представить душевной жизни человека, в построении которой не принимали бы участия сексуальные стремления в широком смысле слова, либидо, хотя бы оно далеко отклонялось от своей первоначальной цели или удерживалось бы от выполнения.
Ожидать от Леонардо чего-нибудь большего, кроме следов непревращенного сексуального влечения, мы не вправе. Эти же следы по своему направлению и позволяют причислить его к гомосексуальным. Уже раньше указывалось, что он брал к себе в ученики только очень красивых мальчиков и юношей. Он был к ним добр и снисходителен, заботился о них, сам ухаживал за ними, когда они были больны, как мать ухаживает за своими детьми и как его собственная мать могла бы ухаживать за ним. Так как он выбирал их по красоте, а не по талантливости, то ни один из них (Cesare da Sesto, G. Boltrafio, Andrea Salaino, Francesco Melzi и другие) не сделался значительным художником. Большей части из них не удалось достигнуть самостоятельного от их учителя значения, они исчезли после его смерти, не оставив определенного следа в истории искусства. Других, которые по своему творчеству должны бы были с полным правом называться его учениками, как Luini и Bazzi, прозванный Sodoma, он, вероятно, лично не знал.
Мы ожидаем встретить возражение, что отношения Леонардо к его ученикам не имеют вообще ничего общего с половыми мотивами и не дают возможности делать какие-нибудь заключения о его половых особенностях. Против этого мы хотим со всей осторожностью возразить, что наше понимание объясняет некоторые странные черты в поведении художника, которые иначе должны были бы оставаться загадочными. Леонардо вел дневник; он делал в своей мелкой, написанной справа налево записи пометки, предназначавшиеся только для себя. В этом дневнике он странно обращается к самому себе на «ты»: «Изучи у маэстро Лука умножение корней». «Пусть маэстро д'Абакко покажет тебе квадратуру круга». Или по поводу одного путешествия: «Я еду по моему делу садоводства в Маиланд… Вели сделать две дорожных сумки. Вели показать тебе токарный станок Больтрафио и обработать на нем камень. Оставь книгу для маэстро Андреа Тодеско».[30] Или намерение совсем иного рода: «Ты должен показать в твоем сочинении, что земля есть звезда, как луна или вроде того, и таким образом доказать благородство нашего мира».
В этом дневнике, который, впрочем, как и дневники других смертных, самые значительные события дня он часто очерчивает только немногими словами или совсем замалчивает, есть некоторые места, которые из-за их странности цитируются всеми биографами Леонардо. Это заметки о мелких расходах художника, педантически точные, как будто принадлежащие строгому филистеру и бережливому хозяину, при этом указания о расходовании больших сумм отсутствуют, и ничто вообще не указывает, чтобы художник вникал в хозяйство. Одна из таких заметок касается нового плаща, купленного ученику Андреа Салаино:
Серебряная парча………………………15 лир 4 солл.
Красный бархат для отделки…………..9»—»
Шнуры…………………………………..9»—»
Пуговки………………………………….12»—»
Другая очень подробная запись заключает все расходы, которые причинил ему другой ученик.[31] своими скверными чертами и склонностью к воровству: «21 апреля 1490 года начал я эту тетрадь и начал опять лошадь[32] Джакомбо поступил ко мне в день св. Магдалины тысяча 490 года, 10 лет (отметка на полях: вороват, лжив, упрям, прожорлив). На другой день я велел для него отрезать на 2 рубахи, пару штанов и камзол, и, когда я отложил деньги, чтобы заплатить за эти вещи, он украл у меня деньги из кошелька, и никак невозможно было заставить его сознаться, хотя я был в этом совершенно уверен (заметка на полях: 4 лиры)…» В этом же духе продолжается перечисление злодеяний малыша и заканчивается счетом: «В первом году плащ, 2 лиры; 6 рубах, 4 лиры; 3 камзола, 6 лир; 4 пары чулок, 7 лир» и т. д.
Биографы Леонардо, которым и в голову не приходило разгадать загадку душевной жизни их героя с помощью его мелких недостатков и странностей, пытаются использовать эти странные счета, чтобы характеризовать доброту и заботливость маэстро к его ученикам. Они забывают при этом, что не поведение Леонардо, но тот факт, что он оставил нам эти свидетельства, требует разъяснения. Так как невозможно предположить в нем желание дать нам в руки доказательства своей доброты, то мы должны думать, что другой аффективный мотив побуждал его делать эти записки. Нелегко отгадать, какой именно, и мы не были бы в состоянии что-нибудь предположить, если бы эти странные мелкие счета о платьях учеников не разъяснялись бы другим найденным в бумагах Леонардо счетом:[33]
Расходы после смерти на похороны
Катерины……………………………27 флор.
2 фунта воска………………………18»
катафалк……………………………12»
За вынос тела и постановку креста…4»
4 священникам и 4 клеркам………..20»
колокольный звон…………………..2»
могильщикам……………………….16»
за разрешение, властям…………….1»
Сумма………………………………..100 флор.
Прежние расходы:
доктору………………………………4 флор.
сахар и 12 свечей…………………..12» 16»
Итого……………………………….116 флор. -
Только поэт Мережковский разъясняет, кто была эта Катерина. По двум другим коротким заметкам он заключает, что мать Леонардо, бедная крестьянка из Винчи, приехала в 1493 году в Милан, чтобы навестить своего 41-летнего сына, что она там заболела, была отвезена Леонардо в госпиталь и, когда умерла, была им похоронена с такой почетной пышностью.[34]
Это толкование психолога-романиста не есть, конечно, доказательство, но оно представляет так много внутренней правды, так хорошо согласуется со всем, что мы уже знаем о проявлении чувств у Леонардо, что я не могу отказаться признать его правильным. Он достиг того, что заставил свои чувства подчиниться власти исследования и воздерживается от их свободного проявления; но были и у него моменты, когда подавленное стремилось проявиться, и одним из таких случаев была смерть когда-то так горячо любимой матери. В этом счете о похоронных издержках мы имеем до неузнаваемости искаженное выражение горя по матери. Мы удивляемся, как могло получиться такое искажение, и не можем понять его с точки зрения нормальной психики. Но в ненормальных условиях, при неврозах и особенно при так называемых навязчивых состояниях, мы часто встречаем подобное. Там мы видим интенсивные, но посредством вытеснения ставшие бессознательными чувства, выражающиеся в мелочных и даже нелепых действиях. Сопротивляющимся силам удается так ослабить выражение этих вытесненных чувств, что интенсивность их кажется очень незначительной, но в принудительной навязчивости, с которой выполняются эти мелочные действия, обнаруживается настоящая, коренящаяся в бессознательном, сила чувств, желавших бы укрыться от сознания. Только подобный отзвук случившегося при навязчивом состоянии может объяснить это вычисление расходов Леонардо на погребение матери. В подсознании он остался, как и во времена детства, привязан к ней чувством, имевшим эротическую окраску; сопротивление позднее наступившего вытеснения этой детской любви не допускало, чтобы в дневнике ее память была почтена более достойно, но то, что получилось в виде компромисса от этого невротического конфликта, должно было проявиться, и таким образом был написан этот счет и оставлен как загадка для потомков.
Мне кажется, не будет дерзостью эту же точку зрения, с какой мы рассматривали счет о погребении, применить и к счетам расходов на учеников. Тогда и их можно было бы объяснить так, что у Леонардо скудные остатки чувственного влечения навязчивым образом стремились выразиться в искаженной форме. Мать и ученики, подобие его собственной ребяческой красоты, были его сексуальными объектами, поскольку это допускалось господствовавшим в нем сексуальным вытеснением, и навязчивая потребность записывать с педантичной точностью расходы на них и было странной маскировкой этого рудиментарного конфликта. Отсюда следует, что сексуальная жизнь Леонардо действительно принадлежит к гомосексуальному типу, психологическое развитие которого нам удалось найти, и гомосексуальная ситуация в его фантазии о коршуне становится нам понятна, так как она показывает только то, что мы уже раньше знали об этом типе. Она говорит: «Из-за этого эротического отношения к матери я стал гомосексуальным».[35]
4
Мы все еще не можем покончить с фантазией Леонардо о коршуне. В словах, которые слишком ясно выражают описание сексуального акта («и много раз толкнулся хвостом в мои губы»), Леонардо подчеркивает интенсивность эротического отношения между матерью и ребенком. По этой связи активности матери (коршуна) с указанием на ротовую область нетрудно отгадать еще другое воспоминание, содержащееся в этой фантазии. Мы можем перевести это так: мать запечатлела на моих губах бесчисленное количество страстных поцелуев. Фантазия состоит из воспоминания о сосании и поцелуях матери.
Благодетельная природа одарила художника способностью выражать свои самые таинственные, от него самого скрытые душевные движения в своих творениях, которые других посторонних сильно захватывают, и они сами не понимают почему. Неужели на жизнедеятельности Леонардо не должно было отразиться то, что его воспоминание сохранило как самое сильное впечатление детства? Этого надо было бы ожидать. Если же взвесить, какие глубокие превращения должно претерпеть впечатление художника раньше, чем он сделает вклад в искусство, то надо именно у Леонардо требование точности доказательств свести к самым скромным размерам.
Кто представляет себе картины Леонардо, тот вспомнит об удивительной, обольстительной и загадочной улыбке, которой он заворожил уста своих женских образов. Остановившаяся улыбка на растянутых, выведенных губах; она сделалась для него характерной и называется преимущественно ле-онардовскою. На странно-прекрасном лице флорентийки Моны Лизы Джоконды эта улыбка больше всего привлекала и приводила в замешательство зрителей. Она требовала объяснения и объяснялась разно и всегда малоудовлетворительно. «Что приковывало зрителя, это именно демонические чары этой улыбки. Сотни поэтов и писателей писали об этой женщине, которая кажется то обольстительно улыбающейся, то холодно и бездушно смотрящей в пространство, и никто не разгадал ее улыбки, никто не прочел ее мыслей. Все, даже ландшафт, загадочно, как сон, как будто все дрожит в знойной чувственности» (Gruyer).
Мысль, что в улыбке Моны Лизы соединены два различных элемента, являлась у многих критиков. Они поэтому видят в мимике прекрасной флорентийки совершеннейшее изображение противоречий, господствующих в любви женщины, сдержанность и обольстительность, полную преданности нежность и черствую, требовательную, захватывающую мужчину, как нечто чуждое, чувственность. Так, Мюнц говорит: «Известно, какое загадочное очарование вот уже четыре века Мона Лиза Джоконда производит на толпящихся перед ней поклонников. Никогда художнику (привожу слова тонкого критика, скрывающегося под псевдонимом Пьер Корле) „не удавалось передать так самую сущность женственности: нежность и кокетство, стыдливость и глухую страсть, всю тайну скрытного сердца, мыслящего мозга и прячущейся индивидуальности, которой виден один только отблеск…“
Итальянец Анджело Конти,[36] видя эту картину в Лувре, оживленную солнечным лучом, говорит: «Женщина спокойно улыбалась, выражая в этой улыбке свои инстинкты хищницы и наследственную жестокость своего пола, стремление соблазнять, красоту порока и доброту жестокой натуры, все то, что попеременно то появляется, то исчезает в ее смеющемся лице, сплавляясь в поэму этой улыбки… Добра и порочна, жестока и сострадательна, грациозна и уродлива, она смеется…»
Леонардо писал эту картину четыре года, вероятно с 1503 до 1507 года, во время своего второго пребывания во Флоренции, когда ему самому было больше пятидесяти лет. Он применял, по словам Вазари, самые изысканные способы, чтобы развлекать эту даму во время сеанса и удерживать улыбку на ее лице. Из всех тонкостей, которые его кисть тогда передавала на полотне, на картине в ее настоящем виде сохранилось только немногое; в то время, когда она писалась, она считалась самым высоким, что могло создать искусство; но ясно, что самого Леонардо она не удовлетворяла, почему он объявил ее неоконченной, не отдал заказчику, а взял с собой во Францию, где его покровитель Франциск I приобрел ее для Лувра.
Оставим неразрешенной загадку лица Моны Лизы и обратим внимание на несомненный факт, что улыбка ее приковывала художника не меньше, чем и всех зрителей, в продолжение четырехсот лет. Эта обольстительная улыбка повторяется с тех пор на всех его картинах и на картинах его учеников. Так как Мона Лиза Леонардо представляет портрет, то мы не можем предположить, чтобы он от себя придал ее лицу эту так трудно выразимую черту и что ее у нее не было. По всей вероятности, он нашел у своей модели эту улыбку и так сильно подпал под ее чары, что с той поры изображал ее и в своих свободных творениях. Подобный же взгляд высказывает, например, А. Константинова:
«В продолжение долгого времени, когда художник был занят портретом Моны Лизы Джоконды, он так проникся им и сжился со всеми деталями лица этого женского образа, что его черты и особенно таинственную улыбку и странный взгляд он перенес на все лица, которые он потом писал, мимическая особенность Джоконды заметна даже в картине Иоанна Крестителя в Лувре; особенно же ясно видны эти черты в лице Марии на картине со св. Анной».
Хотя могло быть и иначе. Не у одного его биографа являлась потребность более глубокого обоснования этой притягательной силы, с которой улыбка Джоконды завладела художником, чтобы его больше не оставлять. В. Патер, видящий в картине Моны Лизы «воплощение всего любовного переживания культурного человечества» и очень тонко высказавший, что эта непостижимая улыбка у Леонардо постоянно как будто связана с чем-то нечестивым, направляет нас на другой путь, когда говорит: «В конце концов картина эта есть портрет. Мы можем проследить, как он с детства примешивается в содержание его грез, так что если бы против не говорили веские свидетельства, то можно было бы подумать, что это был найденный им наконец, воплотившийся идеал женщины…»
То же самое, конечно, имеет в виду и Герцфельд, когда высказывает, что в Моне Лизе Леонардо встретил самого себя, почему он смог так много внести своего в образ, черты которого в загадочной симпатии издавна жили в его душе.
Попробуем развить и разъяснить эти мнения. Итак, могло быть, что Леонардо прикован был улыбкой Моны Лизы, потому что она будила что-то, уже издавна дремавшее в его душе, вероятно, старое воспоминание. Воспоминание это было достаточно глубоко, чтобы, раз проснувшись, больше его не покидать; его влекло постоянно снова его изображать. Уверение Патера, что можно проследить, как лицо, подобное лицу Моны Лизы, вплетается с детства в ткань его грез, кажется правдоподобным и заслуживает быть понятым буквально.
Вазари упоминает как его первые художественные попытки «teste di femine che ridono» (головки смеющихся женщин). Это место, не допускающее сомнений, потому что оно ничего не хочет доказать, гласит дословно так: «Когда он в юности сделал из глины несколько смеющихся женских головок, которые были во множестве вылиты из гипса, и несколько детских головок так хорошо, что можно подумать, они созданы были рукой великого мастера…»
Итак, мы узнаем, что его художественные упражнения начались с изображения двух родов объектов, которые должны нам напомнить два сексуальных объекта, найденных нами при анализе фантазии о коршуне. Если прелестные детские головки были повторением его собственной детской личности, то улыбающиеся женщины были не чем иным, как повторением Катарины, его матери, и мы в таком случае начинаем предвидеть возможность, что его мать обладала загадочной улыбкой, которую он утерял и которая так его приковала, когда он нашел ее опять во флорентийской даме.[37]
По времени написания стоит ближе всех к Моне Лизе картина, называемая «Святая Анна втроем», то есть св. Анна с Марией и младенцем Христом. Здесь видна леонардовская улыбка, прекрасно выраженная на обоих женских лицах. Нет возможности определить, насколько раньше или позже, чем портрет Моны Лизы, ее начал писать Леонардо. Так как обе работы тянулись годы, надо, без сомнения, предположить, что художник занимался ими одновременно. Наиболее согласовалось бы с нашей идеей, если бы именно углубление в черты лица Моны Лизы побудило Леонардо создать композицию св. Анны. Потому что если улыбка Джоконды пробуждала в нем воспоминание о матери, то тогда нам понятно, что она прежде всего толкнула его создать прославление материнства и улыбку, найденную им у знатной дамы, возвратить матери. Поэтому мы принуждены перенести наш интерес с портрета Моны Лизы на эту другую, едва ли менее прекрасную картину, находящуюся теперь тоже в Лувре.
Св. Анна с дочерью и внуком – сюжет, редко встречающийся в итальянской живописи. Изображение Леонардо, во всяком случае, очень отличается от всех до сих пор известных. Мутер говорит: «Некоторые художники, как Ганс Фрис, Гольбейн старший и Джироламо де Либри, изображали Анну, сидящую рядом с Марией, а между ними стоящего ребенка. Другие, как Якоб Корнелиус в своей берлинской картине, изображали в буквальном смысле слова „Святую Анну втроем“, то есть они представляли ее держащей в руках маленькую фигурку Марии с еще меньшей фигуркой Христа на руках». У Леонардо Мария сидит на коленях своей матери, наклонившись вперед и протянув обе руки к мальчику, играющему с ягненком, которого, конечно, немного обижает. Бабушка, подбоченившись одной рукой, с блаженной улыбкой смотрит вниз на обоих. Группировка, конечно, не совсем непринужденная. Улыбка, играющая на губах обеих женщин, хотя, без сомнения, та же, что на портрете Моны Лизы, но утратила свой неприветливый и загадочный характер и выражает задушевность и тихое блаженство.[38]
При известном углублении в эту картину зритель начинает понимать, что только Леонардо мог написать ее так же, как только он мог создать фантазию о коршуне. В этой картине заключается синтез истории его детства; детали этой картины могут быть объяснены личными жизненными переживаниями Леонардо. В доме своего отца он нашел не только добрую мачеху донну Альбиеру, но также и бабушку, мать его отца, Мону Лючию, которая, надо думать, была с ним не менее нежна, чем вообще бывают бабушки. Это обстоятельство могло бы направить его мысль на представление о детстве, охраняемом матерью и бабушкой. Другая удивительная черта картины приобретает еще большее значение. Св. Анна, мать Марии и бабушка мальчика, которая должна была быть в солидном возрасте, изображена здесь, может быть, немного старше и серьезнее, чем св. Мария, но еще молодой женщиной с неувядшей красотой. Леонардо дал на самом деле мальчику двух матерей: одну, которая простирает к нему руки, и другую, находящуюся на заднем плане, и обеих он изобразил с блаженной улыбкой материнского счастья. Эта особенность картины не преминула возбудить удивление писателей; Мутер, например, полагает, что Леонардо не мог решиться изобразить старость, складки и морщины и потому сделал и Анну женщиной, блещущей красотой. Можно ли удовлетвориться этим объяснением? Другие нашли возможным отрицать вообще одинаковость возраста матери и дочери (Зейд-лиц). Но попытка объяснения Мутера вполне достаточна для доказательства, что впечатление о молодости св. Анны действительно получается от картины, а не внушено тенденцией.
Детство Леонардо было так же удивительно, как эта картина. У него было две матери, первая его настоящая мать, Катарина, от которой он отнят был между тремя и пятью годами, и молодая, нежная мачеха, жена его отца, донна Аль-биера. Из сопоставления этого факта его детства с предыдущим и соединения их воедино у него сложилась композиция «Святой Анны втроем». Материнская фигура более удалена от мальчика, изображающая бабушку – соответствует по своему виду и месту, занимаемому на картине по отношению к мальчику, настоящей прежней матери, Катарине. Блаженной улыбкой св. Анны прикрыл художник зависть, которую чувствовала несчастная, когда она должна была уступить сына, как раньше уступила мужа своей более знатной сопернице.
Таким образом, и другое произведение Леонардо подтверждает предположение, что улыбка Моны Лизы Джоконды разбудила в Леонардо воспоминание о матери его первых детских лет. Мадонны и знатные дамы у итальянских художников с тех пор имели смиренно склоненную голову и странно-блаженную улыбку бедной крестьянской девушки Катарины, которая родила миру чудесного, предопределенного для художества, исследования и терпения сына.
Если Леонардо удалось передать в лице Моны Лизы двойной смысл, который имела ее улыбка, обещание безграничной нежности и зловещую угрозу (по словам Патера), то он и в этом остался верен содержанию своего раннего воспоминания. Нежность матери стала для него роковой, определила его судьбу и лишения, которые его ожидали. Страстность ласк, на которую указывает его фантазия о коршуне, была более чем естественна: бедная покинутая мать принуждена была все воспоминание о былой нежности и свою страсть излить в материнской любви; она должна была поступать так, чтобы вознаградить себя за то, что лишена была мужа, а также вознаградить ребенка, не имевшего отца, который бы его приласкал. Таким образом, она, как это бывает с неудовлетворенными матерями, заменила своего мужа маленьким сыном и слишком ранним развитием его эротики похитила у него часть его мужественности. Любовь матери к грудному ребенку, которого она кормит и за которым ухаживает, нечто гораздо более глубоко захватывающее, чем ее позднейшее чувство к подрастающему ребенку. Она по натуре своей есть любовная связь, вполне удовлетворяющая не только все духовные желания, но и все физические потребности, и если она представляет одну из форм достижимого человеком счастья, то это нисколько не вытекает из возможности без упрека удовлетворять давно вытесненные желания, называемые извращениями. В самом счастливом молодом браке отец чувствует, что ребенок, в особенности маленький сын, стал его соперником, и отсюда берет начало глубоко коренящаяся неприязнь к предпочтенному.
Когда Леонардо, уже будучи взрослым, вновь встретил эту блаженно-восторженную улыбку, которая некогда играла на губах ласкавшей его матери, он давно был под властью задержки, не позволявшей ему желать еще когда-нибудь таких нежностей от женских уст. Но теперь он был художник и потому постарался кистью вновь создать эту улыбку; он придавал ее всем своим картинам, рисовал ли он их сам или под своим руководством заставлял рисовать учеников, – «Леде», «Иоанну» и «Бахусу». Две последних – вариация одного и того же типа. Мутер говорит: «Из библейского питавшегося акридами мужа Леонардо сделал Бахуса или Аполлона, который с загадочной улыбкой, положивши одно на другое слишком полные бедра, смотрит на нас обворожительно-чувственным взглядом». Картины эти дышат мистикой, в тайну которой не осмеливаешься проникнуть; можно, самое большее, попытаться восстановить связь ее с прежними творениями Леонардо. В фигурах снова смесь мужского и женского, но уже не в смысле фантазии о коршуне, это прекрасные юноши, женственно нежные, с женственными формами; они не опускают взоров, а смотрят со скрытым торжеством, как будто бы знают о большом счастье, о котором надо молчать; знакомая обольстительная улыбка заставляет чувствовать, что это любовная тайна. Очень может быть, что Леонардо в этих образах отрекается и искусственно подавляет свое ненормально развившееся чувство, изображая в столь блаженном слиянии мужской и женской сущности исполнение желания завороженного матерью мальчика.
5
Между записками дневника Леонардо находится одна, приковывающая внимание читателя из-за многозначительности ее содержания и крошечной формальной ошибки.
Он пишет в июле 1504 года: «9 июля 1504 г. в среду в 7 часов утра умер синьор Пьеро да Винчи, нотариус во дворце Подеста; мой отец в 7 часов. Ему было 80 лет; оставил 10 детей мужского пола и 2 женского».
Итак, в заметке говорится о смерти отца Леонардо. Небольшая ошибка в ее форме заключается в том, что определение времени «a ore 7» повторено 2 раза, как будто бы Леонардо в конце фразы позабыл, что он это только что написал вначале. Это только мелочь, над которой другой, не психоаналитик, и не задумался бы. Он бы ее не заметил вовсе или, если бы ему на нее указали, сказал бы: это может случиться по рассеянности или в аффекте со всяким и не имеет никакого значения. Психоаналитик думает иначе; для него все имеет значение как проявление скрытых душевных процессов; он давно убедился, что такое забывание или повторение полно значения и что благодаря «рассеянности» возможно разгадать скрытые побуждения.
Мы можем сказать, что и эта заметка, как счет о погребении Катарины и счета расходов на учеников, представляет случай, где Леонардо не удалось подавить свой аффект и долго скрываемое выразилось в искаженном виде. Даже и форма похожа: та же педантичная точность, то же выдвижение на первый план цифр.[39]
Мы называем такое повторение перверсацией. Это отличное вспомогательное средство, чтобы распознать аффективную окраску. Вспомним, например, негодующую речь св. Петра против своего недостойного заместителя на земле из дантовского рая:
Тот, кто, как вор, воссел на мой престол, На мой престол, на мой престол, который Пуст перед сыном божиим, возвел На кладбище моем сплошные горы Кровавой грязи; сверженный с высот, Любуясь этим, утешает взоры. Данте. Божественная комедия. (Пер. М. Лозинского)Если бы не было подавления аффекта у Леонардо, то место это в дневнике могло бы гласить приблизительно так: «Сегодня в 7 часов умер мой отец, синьор Пьеро да Винчи, мой бедный отец!» Но сдвинутое перверсией на равнодушное оповещение о смерти, на определение часа смерти, оно отнимает у этой заметки весь пафос и позволяет нам угадать, что здесь было кое-что, что надо было скрыть и подавить. Синьор Пьеро да Винчи, нотариус и потомок нотариусов, был человек с большой энергией, благодаря которой он завоевал себе уважение и приобрел благосостояние. Он был женат четыре раза; две его первые жены умерли бездетными, только третья подарила ему в 1476 году первого законного сына, когда Леонардо было уже двадцать четыре года и он давно променял отчий дом на мастерскую своего учителя Верроккьо; от четвертой, последней жены, на которой он женился пятидесяти лет, он имел еще девять сыновей и двух дочерей.[40]
Отец этот, конечно, также имел значение для психосексуального развития Леонардо, и не только в отрицательном смысле вследствие своего отсутствия в первые годы жизни мальчика, но также непосредственно, своим присутствием в его позднейшие детские годы.
Тот, кто ребенком чувствует влечение к матери, не может не желать быть на месте отца; он отождествляет себя с ним в фантазии и позже ставит себе целью его превзойти. Когда Леонардо, не имея и пяти лет, был взят в дом деда, молодая мачеха Альбиера, вероятно, заместила в его чувствах его мать, и он, естественно, оказался в положении соперника к отцу. Склонность к гомосексуальности наступает, как известно, только с приближением к годам полового созревания. Когда это время наступило для Леонардо, отождествление себя с отцом потеряло всякий смысл для его сексуальной жизни, но осталось в других областях неэротического характера. Мы узнаем, что он любил блеск и красивые одежды, держал слуг и лошадей, несмотря на то что он, по словам Вазари, «почти ничего не имел и мало работал». Причину этого пристрастия мы видим не только в его любви к красоте, но также в навязчивом стремлении копировать отца и его превзойти. Отец был по отношению к бедной крестьянской девушке знатным барином, поэтому осталось в сыне побуждение играть знатного барина, стремление «to out Herod» (превзойти Ирода), показать отцу, какова истинная знатность.
Кто творит как художник, тот чувствует себя в отношении своих творений отцом. Для художественного творчества Леонардо его отождествление себя с отцом имело роковое последствие. Он создавал свои творения и больше о них не заботился, как его отец не заботился о нем. Позднейшие попечения о нем отца не могли ничего изменить в этом навязчивом стремлении, потому что оно исходило из впечатлений первых детских лет, а вытесненное и оставшееся в бессознательном непоправимо позднейшими переживаниями.
Во времена Возрождения, как и много позже еще, каждый художник нуждался в высокопоставленном господине и покровителе, в патроне, который давал ему заказы, в руках которого находилась его судьба. Леонардо нашел своего патрона в честолюбивом, любящем роскошь, тонком политике, но непостоянном и легкомысленном Лодовике Сфорце по прозванию Моро. При его дворе в Милане он провел самый блестящий период своей жизни; здесь развил он сильнее всего свое творчество, доказательством чему служат «Тайная вечеря» и конная статуя Франческо Сфорца. Он покинул Милан раньше, чем разразилась катастрофа над Лодовиком Моро, который умер заключенным в одной французской тюрьме.
Когда это известие о его покровителе дошло до Леонардо, он написал в своем дневнике: «Герцог потерял свою землю, свое имущество, свою свободу, и ни одно дело, им предпринятое, не было доведено до конца». Удивительно и, конечно, не лишено значения, что он здесь делает своему патрону тот самый упрек, который потомство должно было сделать ему самому, как будто он хотел сделать ответственным кого-нибудь из разряда отцов за то, что он сам оставил недоконченными свои произведения. На самом деле он не был несправедлив к герцогу.
Но если подражание отцу повредило ему как художнику, то антагонизм к отцу был инфантильным условием его столь же, может быть, великого творчества в области исследования. По прекрасному сравнению Мережковского, он походил на человека, проснувшегося слишком рано, когда было еще темно и когда все другие еще спали. Он отважился высказать смелое положение, которое защищает всякое свободное исследование: «Кто в борьбе мнений опирается на авторитет, тот работает своею памятью, вместо того чтобы работать умом». Так он сделался первым из новых исследователей природы; первый со времен греков он подошел к тайнам природы, опираясь только на наблюдение и собственный опыт, и множество познаний и предвидений были наградою его мужества. Но если он учил пренебрегать авторитетом и отбросить подражание «старикам» и все указывал на изучение природы как на источник всякой истины, то он только повторял в высшем доступном для человека сублимировании убеждение, которое когда-то уже сложилось у удивленно смотрящего на мир мальчика. Если с научной абстракции перевести это обратно на конкретное личное переживание, то старики и авторитет соответствуют отцу, а природа – это нежная, добрая, вскормившая его мать. Тогда как у большинства людей – и сейчас еще, как и в древности, – потребность держаться за какой-нибудь авторитет так сильна, что мир им кажется пошатнувшимся, если что-нибудь угрожает этому авторитету, один только Леонардо мог обходиться без этой опоры; он не был бы на это способен, если бы в первые годы жизни не научился обходиться без отца. Смелость и независимость его позднейших научных исследований предполагает не задержанное отцом инфантильное сексуальное исследование, а отказ от сексуальности дает этому дальнейшее развитие.
Если бы кто-нибудь, как Леонардо, избежал в своем детстве запугиваний отца и в своем исследовании сбросил цепи авторитета, то было бы невероятно ожидать от этого человека, чтобы он остался верующим и не мог отказаться от догматической религии. Психоанализ научил нас видеть интимную связь между отцовским комплексом и верой в Бога; он показал нам, что личный бог психологически – не что иное, как идеализированный отец, и мы наблюдаем ежедневно, что молодые люди теряют религиозную веру, как только рушится для них авторитет отца. Таким образом, в комплексе родителей мы открываем корни религиозной потребности; всемогущий праведный Бог и благодетельная природа представляются нам величественным сублимированием отца и матери, более того, обновлением и восстановлением ранних детских представлений об обоих. Биологически религиозность объясняется долго держащейся беспомощностью и потребностью в покровительстве человеческого детеныша. Когда впоследствии он узнает свою истинную беспомощность и бессилие против могущественных факторов жизни, он реагирует на них, как в детстве, и старается скрыть их безотрадность возобновлением инфантильных защитных сил.
Кажется, пример Леонардо не опровергает это воззрение на религиозное верование. Обвинения его в неверии или, что по тому времени было то же, в отпадении от христианской веры возбуждались против него уже при его жизни и были определенно отмечены первой его биографией, написанной Вазари. Во втором издании его «Жизнеописания…», вышедшем в 1568 году, Вазари выпустил эти примечания. Нам вполне понятно, что Леонардо, зная чрезвычайную чувствительность своей эпохи к религиозным вопросам, воздерживался в своих записках прямо выражать свое отношение к христианству. Как исследователь, он нисколько не поддавался внушениям Священного писания о сотворении мира, он оспаривал, например, возможность всемирного потопа и считал так же уверенно, как и современные ученые в геологии, тысячелетиями.
Между его «пророчествами» есть много таких, которые должны бы оскорблять тонко чувствующего христианина, как, например, о поклонении святым иконам: «Говорить будут с людьми, которые ничему не внемлют, у которых глаза открыты, но ничего не видят; они будут обращаться к ним и не получать ответа; они будут молить о милостях того, кто имеет уши и не слышит; они будут возжигать свечи тому, кто слеп».
Или о плаче в Страстную пятницу: «Во всей Европе многочисленными народами оплакивается смерть одного человека, умершего на Востоке».
Об искусстве Леонардо говорили, что в его фигурах святых исчез последний остаток церковного догматизма, что он приблизил их к человеческому, чтобы воплотить в них великие и прекрасные человеческие чувства. Мутер восхваляет его за то, что он победил декаданс и вернул человечеству право иметь страсти и радостно пользоваться жизнью. В записках, где Леонардо углубляется в разрешение великих загадок природы, не отсутствует выражение восхищения перед Творцом как последней причиной всех этих чудесных тайн, но ничто не указывает на желание закрепить свою личную связь с этим могущественным божеством. Афоризмы, в которые он вложил глубокую мудрость последних лет своей жизни, дышат смирением человека, который подчиняется необходимым законам природы и не ждет никакого облегчения от благости или милости Бога. Едва ли можно сомневаться, что Леонардо победил как догматическую, так и личную религию и своей работой исследователя очень отдалился от миросозерцания верующего христианина.
Согласно ранее высказанным взглядам на развитие души ребенка мы можем предположить, что первое исследование Леонардо в детстве имело предметом проблемы сексуальности. Но он сам обнаруживает это достаточно ясно, связывая свое стремление к исследованию с фантазией о коршуне. Он выставляет свой труд над проблемой птичьего полета как выпавший ему на долю особым предопределением судьбы. Одно очень неясное, звучащее как предсказание место в его записках, трактующее о птичьем полете, лучше всего доказывает, с каким аффективным интересом его влекло желание самому научиться искусству летать: «Она предпримет, эта большая птица, свой первый полет с хребта Большого Лебедя, наполнит мир удивлением и все писания похвалами, и вечная слава будет воздаваться гнезду, где она родилась».[41] Вероятно, Леонардо надеялся, что сам когда-нибудь сможет полететь; а мы знаем из снов, заключающих это желание, какое счастье ожидается от исполнения этой надежды. Почему же снится многим людям, что они умеют летать? Психоанализ отвечает на это, что летание или превращение в птицу только маскировка другого желания, к разгадке которого ведет не один и словесный и вещественный мост. Если любопытным детям рассказывают, что большая птица, как аист, приносит маленьких детей, если древние изображали фаллос крылатым, если в немецком языке Vogeln – самое употребительное обозначение мужской половой деятельности, у итальянцев мужской орган называется прямо l'uccello (птица), то это только маленькие звенья большой цепи, которые показывают нам, что умение летать во сне означает не что иное, как желание быть способным к половой деятельности. Это есть раннее инфантильное желание. Если взрослый вспоминает свое детство, оно представляется ему счастливым временем, когда радуются настоящему и, ничего не желая, идут навстречу будущему, поэтому взрослый завидует детям. Но сами дети, если бы они могли дать об этом сведения, сообщили бы, вероятно, другое. Вероятно, детство не есть та блаженная идиллия, какой она нам кажется позже, если желание стать взрослым и делать то, что делают взрослые, заставляет детей стремиться поскорее пережить годы детства. Это желание руководит всеми их играми. Если дети в период, когда любознательность направлена на сексуальное исследование, чувствуют, что взрослый знает нечто грандиозное в этой загадочной и такой важной области, в которой знать и действовать им запрещено, то в них пробуждается непреодолимое желание достигнуть этого самого, и это желание они выражают во сне в виде летания или подготавливают эту скрытую форму желания для будущих подобных снов. Таким образом, и авиатика, достигшая наконец в наше время своей цели, коренится также в инфантильном эротизме.
Признаваясь в том, что с детства чувствовал особое личное влечение к проблеме летания, Леонардо доказывает нам, что его детская любознательность была направлена на сексуальное; это мы должны предположить на основании наших исследований современных детей. Одна эта проблема избежала того вытеснения, которое позже сделало Леонардо чуждым сексуальности; с детских лет и до полной Интеллектуальной зрелости сохранил он интерес к этой проблеме, только немного меняя ее смысл; и очень вероятно, что желанное искусство в примитивном сексуальном смысле удалось ему так же мало, как и искусство в механике, и что оба они остались для него недостижимыми желаниями.
Великий Леонардо вообще в некоторых вещах всю жизнь оставался ребенком; говорят, что все великие люди сохраняют в себе нечто детское. Будучи взрослым, он продолжал играть, вследствие чего казался иногда своим современникам странным и неприятным. Когда мы видим, что он изготовлял искусные механические игрушки для дворцовых празднеств и торжественных приемов, то мы бываем недовольны, что художник тратит свои силы на такие пустяки. Сам он, видимо, не без удовольствия занимался этим, потому что Вазари сообщает, что он делал это и тогда, когда ему никто этого не поручал: «Там (в Риме) он изготовил тесто из воска и, когда оно было еще жидко, слепил очень тонко из него животных, наполненных воздухом; когда он их надувал, то они летали, когда воздух выходил, падали на землю. Редкостной ящерице, найденной садовником Бельведера, он приделал крылья из кожи, снятой с другой ящерицы, и наполнил их ртутью, так что они двигались и дрожали, когда она бегала; потом он ей сделал глаза, бороду и рога, приручил ее, посадил в ящик и приводил ею в ужас своих друзей».[42] Часто эти игрушки служили ему для выражения глубоких идей: «Он давал вычистить бараньи кишки так чисто, что они помещались в горсти; он приносил их в большую комнату, в соседней комнате помещал пару мехов, прикреплял к ним кишки и раздувал их так, что они заполняли всю комнату и всем приходилось убегать в угол; показывая, как они постепенно становились прозрачны и воздушны, как вначале они занимали только маленькое местечко, а потом все дальше распространялись в пространстве, Леонардо сравнивал их с гением». То же удовольствие забавляться невинным скрыванием и искусным замаскирова-нием выражают его басни и загадки; последние, написанные в форме «предсказаний», почти все содержательны по смыслу, но в высшей степени лишены остроумия. Игры и шутки, которыми Леонардо позволял заниматься своей фантазии, вводили иногда в большое заблуждение его биографов, не понявших его характер. В миланских манускриптах Леонардо находятся, например, наброски писем к «Диодарию сирийскому, наместнику священного султаната Вавилонии», в которых Леонардо выставляет себя инженером, посланным в эти страны Востока для выполнения известных работ, защищается против упреков в медлительности, дает географическое описание городов и гор, рассказывает о стихийном явлении, случившемся там во время его пребывания (см. Мюнц и Герцфельд).
Рихтер в 1881 году хотел доказать по этим отрывкам, что Леонардо в самом деле состоял на службе у египетского султана, составил там эти путевые заметки и даже принял на Востоке магометанскую религию. Пребывать там он должен был до 1483 года, до его переселения в Милан ко двору герцога. Но критике других авторов было нетрудно угадать-в описаниях мнимого путешествия Леонардо на Восток то, чем они и были в действительности – фантазиями юного художника, которые он создавал сам с собой, в которых он, может быть, выражал свои желания повидать свет и испытать приключения.
Таким же созданием фантазии является, вероятно, и «Аса-demia Vinciana», предположение о существовании которой основывается на пяти или шести очень искусно замаскированных эмблемах с надписями академии. Вазари говорит об этих рисунках, но не упоминает об академии.[43] Мюнц, поместивший подобный орнамент на обложке своего большого труда о Леонардо, принадлежит к немногим, верящим в реальность «Academia Vinciana».
Очень может быть, что это стремление играть исчезло у Леонардо в более зрелом возрасте, что и оно тоже перешло в деятельность исследователя, которая была последним и высшим проявлением его личности. Но то, что оно так долго сохранялось, показывает нам, как медленно отрывается от своего детства тот, кто испытывал в детском возрасте высшее и позже уже недостижимое эротическое блаженство.
6
Нельзя сомневаться в том, что современные читатели находят безвкусными все биографии, написанные с точки зрения патологии. Они говорят, что, разбирая великого человека с точки зрения патологии, никогда нельзя прийти к пониманию его значения и его деятельности; поэтому это только напрасная затея – изучать именно на нем то, что с таким же успехом можно найти у всякого другого человека. Но подобная критика так очевидно несправедлива, что ее можно понять только как отговорку или лицемерие. Патография вообще не задается целью сделать понятной деятельность великого человека, и нельзя ведь никому ставить в упрек, что он не исполнил того, чего он никогда не обещал. Истинные мотивы этого противодействия совсем другие. Их можно разгадать, если принять во внимание, что биографы привязаны к своему герою совсем особым способом. Они часто выбирают кого-нибудь объектом своего изучения, потому что по причинам их личных чувств относятся к нему с особой эффективностью. Потом они работают над его идеализацией, имеющей целью внести великого человека в разряд их инфантильных образцов, как, например, вновь воскресить детское представление об отце. Преследуя это желание, они стирают в его облике индивидуальные черты, сглаживают следы жизненной борьбы с внутренними и внешними препятствиями, не признают в нем никаких человеческих слабостей и несовершенств и дают нам тогда холодный, чуждый, идеальный образ вместо человека, которого мы могли бы чувствовать хотя и далеким, но родным. Жаль, что они так поступают, потому что таким образом они жертвуют правдой для иллюзии, и в угоду их инфантильной фантазии они пренебрегают случаем проникнуть в чудесные тайны человеческой природы.[44]
Сам Леонардо со своей любовью к истине и стремлением к знанию не отказался бы от опыта разгадать по маленьким странностям и загадкам его натуры условия его душевного и интеллектуального развития. Поучаясь на нем, мы этим воздаем ему почести. Мы не умаляем его величия тем, что изучаем жертву, которой потребовало его развитие из ребенка, и сопоставляем моменты, наложившие трагическую черту неудачи на его личность.
Мы решительно заявляем, что никогда не причисляли Леонардо к невротикам или, по неудачному выражению, к «нервнобольным». Кто недоволен, что мы вообще отваживаемся применять к нему взгляды, почерпнутые из патологии, тот еще крепко держится за предрассудки, от которых мы уже успели отказаться. Мы уже не думаем, что можно провести резкую границу между здоровьем и болезнью, между нормальным и нервным и что невротические черты должны считаться доказательством общего несовершенства. Мы знаем теперь, что невротические симптомы служат заместителями известных вытесненных действий, которые мы должны были выполнить в период нашего развития из ребенка в культурного человека, что мы все продуцируем подобные замещения и что только их число, интенсивность и распределение дают на практике понятие о болезни и позволяют заключать о конституциональном несовершенстве. По мелким признакам в личности Леонардо мы должны приблизить его к тому невротическому типу, который мы называем типом навязчивости, его исследование приравнять к навязчивым мечтаниям невротиков, его задержки их так называемым абулиям.
Целью нашей работы было объяснить задержки в сексуальной жизни Леонардо и его художественной деятельности. Да будет нам позволено сделать общий обзор всего, что мы могли открыть в ходе развития его психики. Нам нет возможности проникнуть в его наследственность, но зато мы узнаем, что случайные обстоятельства его детства оказали на него глубоко вредное влияние. Его незаконное рождение устраняет его почти до пятого года от влияния отца и предоставляет нежному попечению матери, которой он составляет единственное утешение. Заласканный ею и благодаря этому преждевременно сексуально развившийся, он неизбежно должен был вступить в фазу инфантильной половой деятельности, из которой достоверно одно-единственное проявление – это интенсивность его инфантильного сексуального исследования. Влечение смотреть и знать наиболее возбуждалось его ранними детскими впечатлениями; эрогенная ротовая зона приобретает значение, которое сохраняется навсегда. Из позднейшего противоположного поведения, как, например, чрезмерной жалости к животным, мы можем заключить, что в этом периоде детства не было недостатка в сильных чертах садизма.
Энергичное усилие вытеснения обрывает это детское увлечение и устанавливает предрасположения, которые должны проявиться в периоде полового созревания. Отвращение ко всему грубочувственному – наиболее бросающийся в глаза результат превращения; Леонардо может жить абстинентом и производить впечатление бесполого. Когда волны полового возбуждения проснулись в юноше, они не сделали его больным, толкая его к дорогим и вредным суррогатам; большая доля сексуального влечения благодаря раннему появлению сексуальной любознательности смогла быть сублимирована в стремление к познанию вообще и таким образом избежала вытеснения. Много меньшая часть либидо осталась для сексуальных целей и представляет собой у взрослого Леонардо атрофированную сексуальную жизнь. Вследствие вытеснения либидо к матери эта маленькая часть превращается в гомосексуальность и выражается в идеальной любви к мальчикам. В бессознательном остается фиксированность к матери и к блаженным воспоминаниям их отношений; но это застывает в пассивном состоянии. Таким образом, распределяется между вытеснением, фиксированием и сублимированием сумма полового влечения в душе Леонардо.
Из неведомого детства Леонардо предстал перед нами художником и скульптором. Это специфическое дарование могло усилиться благодаря раннему пробуждению в первые детские годы влечения смотреть. Нам хотелось бы показать, каким образом художественная деятельность исходит из основных душевных влечений, если бы как раз здесь не изменяли нам наши средства. Поэтому мы довольствуемся выяснением едва ли еще спорного факта, что творчество художника дает исход также и его сексуальному влечению, и указываем на сведение о Леонардо, сообщенное Вазари, что головы улыбающихся женщин и красивых мальчиков, то есть изображения его сексуальных объектов, были его первыми художественными опытами. Вначале, в юношеском возрасте, Леонардо работает, кажется, свободно, без задержки. Так как в своей внешней жизни он берет за образец отца, в Милане, где судьба послала ему заместителя отца в лице герцога Ло-довика Моро, он переживает время мужской творческой силы и художественной продуктивности. Но вскоре на нем оправдывается наблюдение, что почти полное подавление реальной половой жизни не представляет наиболее благоприятных условий для деятельности сублимированного сексуального стремления. На этой деятельности отражается реальная сексуальная жизнь, поэтому активность и способность к быстрому решению начинают ослабевать, склонность к колебанию и затягиванию, видимо, вредит уже в «Тайной вечере» и решает под влиянием недостатков техники судьбу этого великого произведения. Так медленно совершается в нем процесс, который можно приравнять к регрессированию у невротиков.
Развившийся при половом созревании художник пересиливается определившимся в детстве исследователем; второе сублимирование его эротических стремлений отступает перед образовавшимся раньше, при первом вытеснении. Он становится исследователем, вначале служа этим своему искусству, потом независимо от него и покинув его.
С потерей покровителя, замещающего ему отца, и омрачением его жизни все больше растет это регрессивное замещение. Он становится «impacientissimo al penello» (одержимым кистью), как пишет корреспондент маркграфини Изабеллы д'Эсте, которая непременно желала иметь еще одну картину его кисти. Его далекое детство получило над ним власть. Но исследование, заменившее ему теперь художественное творчество, носит на себе, по-видимому, некоторые черты, составляющие отличительные признаки деятельности бессознательных влечений, – ненасытность, непоколебимое упорство, отсутствие способности применяться к обстоятельствам.
На высоте зрелого возраста, после пятидесяти лет, в том периоде жизни, когда у женщины половая жизнь только что замерла, а у мужчины либидо делает нередко еще один энергичный прыжок, в Леонардо происходит новая перемена. Еще более глубоко лежащие слои его души вновь становятся активны, и эта новая регрессия благоприятна для его готового угаснуть искусства. Он встречает женщину, которая будит в нем воспоминание о счастливой, блаженно-восторженной улыбке его матери, и под влиянием этого в нем вновь просыпается желание, которое привело его к началу его художественных опытов, к вылепливанию улыбающихся женщин. Он рисует «Мону Лизу», «Святую Анну втроем» и ряд полных таинственности, отличающихся загадочной улыбкой картин. Так, благодаря самым ранним эротическим душевным переживаниям празднует он триумф, еще раз преодолевая задержку в своем искусстве. Это последнее его развитие расплывается для нас во мраке приближающейся старости.
Его интеллект поднялся еще ранее до высших ступеней деятельности, и его мировоззрение оставило далеко позади себя свое время.
Выше я приводил основания, дающие мне право именно так понимать ход развития Леонардо, расчленить подобным образом его жизнь, объяснить его колебания между. искусством и наукой.
Если по поводу этого изложения мне придется даже от друзей и знатоков психоанализа услышать приговор, что я просто написал психологический роман, то отвечу, что я, конечно, не переоцениваю достоверности моих выводов. Я вместе с другими поддался обаянию, исходящему от этого великого и загадочного человека, в натуре которого чувствуются могучие страсти, проявлявшиеся, однако, только так странно заглушенно.
Но какова бы ни была правда о жизни Леонардо, мы не можем отказаться от попытки ее обосновать психоаналитически раньше, чем не разрешим другой задачи. Мы должны определить в общих чертах границы, которые даны деятельности психоанализа в биографии, для того чтобы нам не представлялось неудачей каждое отсутствие объяснения. Материалом для психоаналитического исследования служат даты в истории жизни и, с одной стороны, случайности, события и влияния среды, с другой – сведения о реагировании на это индивидуума.
Опираясь на свое знание психического механизма, психоанализ пытается понять сущность индивидуума динамически по его реагированию, открыть его первоначальные душевные побудительные причины и их позднейшие превращения и развитие. Если это удается, то из взаимодействия натуры и судьбы, внутренних сил и внешних факторов выясняется жизненное поведение личности. Когда же такая попытка, как, может быть, в случае Леонардо, не приводит к правильным выводам, то вина здесь не в ошибочности или несовершенстве метода психоанализа, но в неточности и скудности материала, сведений, имеющихся об этой личности. В неудаче, следовательно, виноват только автор биографии, заставивший психоанализ работать с таким неудовлетворительным материалом.
Но, даже имея в своем распоряжении самый широкий исторический материал и при хорошем знакомстве с психическим механизмом, психоаналитическое исследование в двух важных пунктах не сможет доказать необходимости того, что индивидуум мог стать только таким, а не иным.
У Леонардо мы должны были принять, что случайность его незаконного рождения и страстная любовь к нему матери имели самое решительное влияние на образование его характера и его позднейшую судьбу тем, что наступившее после этой детской фазы жизни сексуальное вытеснение толкнуло его к сублимированию его либидо в страсть к познанию и установило на всю его жизнь сексуальную пассивность. Но это вытеснение после первого эротического детского удовлетворения не должно было необходимо наступить; у другого оно, может быть, не наступило бы совсем или выразилось бы в гораздо меньшей степени. Мы должны признать здесь известную долю свободы, которая не может быть предсказана психоанализом. Так же мало можно предсказать результат этого вытеснения как единственно возможный. Другому, может быть, не посчастливилось бы удержать главную часть либидо от вытеснения, сублимируя его в любознательность; при аналогичных обстоятельствах, как у Леонардо, он вынес бы продолжительную остановку в мыслительной работе или неодолимое предрасположение к неврозу навязчивости. Две особенности Леонардо остаются необъяснимыми психоаналитической работой: это его исключительная склонность к вытеснениям и его выдающаяся способность к сублимированию примитивных влечений.
Влечения и их превращения – это самое большее, что доступно психоанализу. Но дальше он уступает место биологическому исследованию. Склонность к вытеснению, так же как способность сублимировать, мы принуждены отнести к органическим основам характера, и уже на них воздвигается психическая надстройка. Так как художественное дарование и работоспособность тесно связаны с сублимированием, то мы должны прибавить, что и сущность художественной деятельности также недоступна для психоанализа. Современная биология склоняется к тому, чтобы объяснить главные черты органической конституции человека соединением мужского и женского начал в материи; красивая наружность, так же как и то, что он был левшой, дают для этого некоторые точки опоры. Но не будем покидать почву чисто психологического исследования. Целью нашей остается по-прежнему отыскивание связи между внешними переживаниями и реагированием на них личности с ее влечениями. Если психоанализ и не объясняет нам причины художественности Леонардо, то он все же делает для нас понятным проявления и изъяны его таланта. Думается все-таки, что только человек, переживший детство Леонардо, мог написать «Мону Лизу» и «Святую Анну», обречь свои произведения на столь печальную участь и так неудержимо прогрессировать в области знания, как будто ключ ко всем его созданиям и неудачам скрывается в детской фантазии о коршуне.
Но разве можно положиться на результаты исследования, которое приписывает такое выдающееся значение в судьбе человека случайностям положения родителей, судьбу Леонардо, например, ставить в зависимость от его незаконного рождения и бесплодия его первой мачехи донны Альбиеры? Я думаю, что этот упрек несправедлив; если считают случай недостойным решать нашу судьбу, то это просто возврат к миросозерцанию, победу над которым подготавливал Леонардо, когда писал, что солнце недвижимо. Мы, конечно, оскорблены тем, что праведный Бог и благое провидение не охраняют нас лучше от подобных влияний в самый беззащитный период нашей жизни. Мы при этом охотно забываем, что, в сущности, все в нашей жизни случайно, начиная от нашего зарождения вследствие встречи сперматозоида с яйцом, случайность, которая поэтому и участвует в закономерности и необходимости природы и не зависит от наших желаний и иллюзий. Разделение детерминизма нашей жизни между «не-обходимостями» нашей конституции и «случайностями» нашего детства в частностях еще нельзя определить; но в целом не может быть сомнения в важном значении именно наших первых детских лет. Мы все еще недостаточно преклоняемся" перед природой, которая, по неясным словам Леонардо, напоминающим речи Гамлета, «полна неисчислимых причин, которые никогда не подвергались опыту». Каждый из нас, человеческих существ, соответствует одному из бесчисленных экспериментов, в которых эти области природы должны быть подвергнуты опыту.
Примечения
1
Печатается по изданию: Фрейд 3. Леонардо да Винчи. Воспоминание детства. М.; Пг., б. г.
(обратно)2
По словам Якоба Буркхардта, приведенным Александрой Константиновой в «Эволюции типа мадонны у Леонардо да Винчи» (Страсбург, 1907).
(обратно)3
Он поднялся и попытался сесть в постели, преодолевая свое нездоровье. Но все же было видно, как ему скверно, ибо не сделал он в искусстве все, что было ему предназначено (V a s a r i D. Vite… LXXXIII, 1550–1584 – Вазари Дж. Жизнеописания…)
(обратно)4
«Traktat von der Malerei», переизданный Марией Герцфельд с ее введением (Jena, 1909).
(обратно)5
S о 1 m i E. La resurrezione dell'opera di Leonardo, no: Leonardo da Vinci. Conference Florentine. Milano, 1910 (Сольми Е. Восстановление произведений Леонардо, по ст. «Леонардо да Винчи» в Конференца Фиорентине, Милан, 1910).
(обратно)6
Scognamiglio Y. Ricerche e Document! sulla giovinezza di Leonardo da Vinci. Napoli, 1900 (Сконамильо Я. Исследования и документы о Леонардо да Винчи на пороге юности. Неаполь, 1910).
(обратно)7
Von Seidlitz W. Leonardo da Vinci, der Wendepunkt der Renaissance, 1909. Bd. I. S. 203. (Фон Зейдлиц В. Леонардо да Винчи – кульминация Ренессанса, 1909. Bd. I. S. 203.)
(обратно)8
Ibid. Bd. II. S. 48.
(обратно)9
Р a t e r W. Die Renaissance. Aufl 2. 1906. «Все-таки несомненно, что он в известный период своей жизни почти перестал быть художником».
(обратно)10
Ср. у V о n S e i d I i t z W. Bd. I. Die Geschichte der Restaurations und Rettungsversuche (Фон Зейдлиц В. Bd. I: История реставрации и спасения утраченного).
(обратно)11
М u n t z. E. Leonardo da Vinci. Paris, 1899. S. 18 (Письмо одного современника из Индии к одному из Медичи намекает на эту странность Леонардо. По Рихтеру: The Literary Works of Leonardo da Vinci – Литературные труды Леонардо да Винчи).
(обратно)12
В о t a z z i F. Leonardo biologo e anatomico. Conferenze Florentine, 1910. P. 186 (Ботаччи Ф. Леонардо – биолог и анатом, по: Конференца Фиорен-тине, 1910. С. 186).
(обратно)13
Sо1mi E. Leonardo da Vinci.
(обратно)14
Herzfeld Marie. Leonardo da Vinci der Denker, Forscher und Poet. Aufl., Jena, 1906 (Герцфельд Мария. Леонардо да Винчи – мыслитель, исследователь и поэт. Введение).
(обратно)15
Может быть, в этом отношении незначительное исключение составляют собранные им шутки, которые еще не переведены.
(обратно)16
Этим инцидентом объясняется, по мнению Сконамильо, темное и различно понимаемое место в «Codex Atlanticus»: «Когда я обратился к богу и сказал ему угодное, вы бросили меня в тюрьму; я желал творить великое, а вы причинили мне зло».
(обратно)17
МережковскийД. С. Христос и антихрист. Ч. II: Воскресшие боги.
(обратно)18
S о 1 m i В. Leonardo da Vinci. Berlin, 1908.
(обратно)19
1 В о t a z z i F. Leonardo biologo e anatomico. P. 193 (Ботаччи Ф. Леонардо биолог и анатом. С. 193).
(обратно)20
HerzfeldM. Leonardo da Vinci. Traktat von der Malerei. S. 54 (Герц-фельд М. Трактат о живописи. С. 54.).
(обратно)21
Solmi E. La resurrezione… P. 11.
(обратно)22
См. перечень его научных трудов в прекрасном биографическом введении Marie Herzfeld (Йена, 1906), в отдельных очерках Conferenze Florentine (1910) и др.
(обратно)23
Для подкрепления этого кажущегося невероятным вывода см. «Анализ фобии пятилетнего мальчика» и сходное наблюдение в статье «Теория детской сексуальности»: «Эти копание и сомнения становятся образцом для позднейшей умственной работы над проблемами, и первая неудача продолжает действовать парализующе на все времена».
(обратно)24
'Scognamiglio. Op. cit. P. 15.
(обратно)25
Н о г а р о 1 1 о. Hieroglyphica.
(обратно)26
R о s с h e r. Lexikon der griechisches und romischen Mythologie. Artikel «Mut»: Bd. II, 1894–1897; L a n z о n e. Dizionario di mitologia egizia. Torino, 1882 (Рошер. Словарь греческой и романской мифологии. Ст. «Мут»: Bd. И; Ланцони. Словарь египетской мифологии. Турин, 1882).
(обратно)27
Н а г t I e b e n H. Champollion. Sein Leben und sein Werke, 1906 (Xapтлебен X. Шампольон. Его жизнь и его труд, 1906).
(обратно)28
По свидетельству Плутарха.
(обратно)29
Это главным образом исследования И. Саджера (Sadger), которые я могу подтвердить собственным опытом. Кроме того, мне известно, что В. Штекель (Stekel) в Вене и Ференци (Ferenczi) в Будапеште пришли к тем же результатам.
(обратно)30
Леонардо ведет себя при этом как человек, привыкший ежедневно исповедоваться перед другими и который теперь заменяет этого другого дневником. Предположение, кто бы это мог быть, смотри у Мережковского.
(обратно)31
Или натурщик (см. у Мережковского).
(обратно)32
О статуе всадника Франческо Сфорца.
(обратно)33
См.: Мережковский (с. 372). Как на печальное доказательство ненадежности и без того скудных сведений об интимной жизни Леонардо я указываю, что тот же счет у Сольми передается со значительными изменениями. Наиболее странным кажется то, что флорины там заменены на сольди. Надо предположить, что флорины в этом счете означают не старые «гульдены», но позже употреблявшуюся монету, которая равнялась 12/3 лиры или ЗЗ'/з сольди. Сольми считает Катарину за прислугу, которая вела одно время хозяйство Леонардо. До источника, откуда почерпнуты оба счета, я не мог добраться.
(обратно)34
«Катарина прибыла 16 июля 1493 года» – «Джиованина – сказочное лицо, спроси о ней у Катарины в больнице».
(обратно)35
Форма, в которой принуждена была выражаться вытесненная чувственность у Леонардо, обстоятельность и денежный интерес принадлежит к чертам характера, проистекающим из анальной эротики (см. «Характер и анальная эротика».
(обратно)36
С о n t i A. Leonardo pittore, по: Conferenze Florentine. P. 93.
(обратно)37
Это же самое предлагает Мережковский, который сочинил, однако, детство Леонардо, отклоняющееся в существенных чертах от нашего, созданного из фантазии о коршуне. Но если бы сам Леонардо имел такую улыбку, то едва ли предание упустило бы познакомить нас с этим совпадением.
(обратно)38
А. Константинова: «Мария смотрит с глубоким чувством на своего любимца с улыбкой, напоминающей загадочное выражение Джоконды», и в другом месте о Марии: «В ее чертах играет улыбка Джоконды».
(обратно)39
О более крупной ошибке, которую Леонардо сделал в этой заметке, давши 77-летнему отцу 80 лет, я говорить не буду.
(обратно)40
Видимо, Леонардо в этом месте дневника ошибся также в счете своих братьев и сестер, что стоит в странном противоречии с точностью заметки.
(обратно)41
По Герцфельд, «Большой Лебедь» – это вершина Монте Цереро, около Флоренции.
(обратно)42
См.: Вазари Дж. (перевод Шорна, 1843).
(обратно)43
«Кроме того, он терял много времени, рисуя плетение из шнурка, где можно было проследить нить от одного конца до другого, как она описывала полный кольцеобразный узор; очень трудный и красивый рисунок этого рода выбит на меди со словами в середине: „Leonardus Vinici Academia“ (p. 8).
(обратно)44
Это критическое замечание надо относить не специально только к биографии Леонардо.
(обратно)
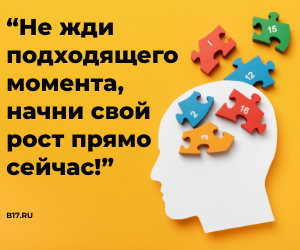

Комментарии к книге «Леонардо да Винчи. Воспоминание детства», Зигмунд Фрейд
Всего 0 комментариев