Открытый научный семинар: «ФЕНОМЕН ЧЕЛОВЕКА В ЕГО ЭВОЛЮЦИИ И ДИНАМИКЕ» ЗАСЕДАНИЕ № 18. 14 февраля 2007 г
Введение
Докладчик: Ф.Е. Василюк Тема доклада: Культурно-антропологические условия возможности психотерапевтического опыта
Хоружий С.С.: В сегодняшнем заседании доклад будет делать Федор Ефимович Василюк, специалист по целому ряду исследовательских направлений психологии и психотерапии. Кроме того, он инициатор и собственного направления, которое специально обращено в сторону синергийной антропологии. Я бы мог сказать, что Федор Ефимович является членом ученого совета нашего института даже не с его основания, а еще и до основания. Когда мы обсуждали проект института, Федор Ефимович был непременным и ценнейшим участником, в привычной для него роли консультанта, но на сей раз не психотерапевтического. Род его консультаций можно было бы, вероятно, назвать институциональным. Видимо, и сегодняшняя его тема будет отчасти затрагивать тематику институционализации, и для нас это важно и актуально. Как вновь работающий институт, мы постоянно сталкиваемся с этим самым словом «институционализация». Происходит новое структурирование академической жизни, исследовательских областей, смещаются все границы. Казалось бы, в этих процессах решающая инстанция — это сам предмет и наша в нем предметная деятельность, ее развитие. Но сегодня Россия — чиновничье государство, и достаточно распространен противоположный взгляд: главное — нечто учредить, декретировать, институционализировать, а уж предметная почва к чиновничьим решениям будет смиренно подстраиваться. Чтобы такой взгляд укоренялся в государстве столоначальников — это крайне естественно. Но в науке, в нашей исследовательской деятельности мы все-таки не торопимся переходить на такие позиции.
Занимаясь нашей предметной деятельностью, мы видим, что она по-новому распределяет исследовательские территории; и вследствие этого, в качестве дальнейшего этапа, возникают и проблемы институционализации. Возможно, сходные ситуации и проблемы возникают и в деятельности Федора Ефимовича. Имеет место его обширная психотерапевтическая проблематика, в которой он практикует новые методики, и весьма возможно, это выводит и к некоторым институциональным размышлениям, вопросам, находкам… В своем анонсе Федор Ефимович выделил две главные темы своего сообщения. А я хотел бы сказать, что с позиции нашего института и нашего семинара, мы будем иметь в виду еще и третью тему: а именно, каким образом институционализация психотерапии взаимодействует с институционализацией антропологии, с нашей сферой. Мы сотрудничаем с новосибирскими антропологами, с Сергеем Алевтиновичем Смирновым, который ведет сайт и выпускает альманах, где в последнее время на первом плане именно институционализация антропологии. Очень хороший повод для нашей встречи дают эти процессы институционализации, которые надо сопоставить и продумать. Прошу Вас, Федор Ефимович.
Доклад
Василюк Ф.Е.: Спасибо. Добрый вечер, дорогие коллеги. Для тех, кто не получил рассылку, я обозначу тему доклада: «Культурно-антропологические условия возможности психотерапевтического опыта». И я бы хотел начать с некоторого факта, который известен всем, но его нужно назвать. Сейчас психотерапия, особенно в западной Европе, в Соединенных Штатах, да уже и у нас, в больших городах в каком-то смысле «пронизала» собой всю культуру. Трудно найти какую-нибудь область искусства, политики, спорта, повседневности, в которые так или иначе не встроилась бы психотерапия, причем, в разных 2 своих изводах — и как консультирование, и как коучинг. Сейчас каждый уважающий себя бизнесмен, руководитель корпорации обязательно консультируется со своим коучером. Словом, психотерапия пронизала, вошла в каждую пору культуры. И это мы видим, например, на экранах. Если без обнаженной натуры современный американский фильм еще как-то обойдется, то без психоаналитиков, пусть пародийно изображенных, это уже выглядит непристойно. Вот это — факт. Конечно, в разных странах и регионах степень психологизации культуры разная, но то, что это очень мощный и интенсивный процесс, который не останавливается, это, мне кажется, факт. Один эпизод, который произошел на нашей с вами памяти. В 96-ом году был издан первый указ новоизбранного президента Бориса Николаевича Ельцина (он в философской общественности не остался без внимания) — указ странный и беспрецедентный, я бы сказал, в истории — указ о возрождении и развитии философского, клинического и какого-то еще психоанализа. По-моему «Свобода» откликнулась на это так: «Руки прочь от советской науки». Но, тем не менее, многие наши психологи, академики, философы подумали и решили в глубине души (а может, даже и глубже, где-то в бессознательном), что психоанализ не такая уж и плохая штука, почему бы его не возродить и не развить? Но финансирования не последовало, и все остыло. Это, конечно, курьез, но который показывает, что даже на такие существенные политические решения психологи могут оказывать влияние. История с этим указом, правда, объяснялась тем, что питерские коллеги-психологи участвовали в предвыборной компании, и включили в Указ специальный пункт. Этот последний пункт Указа звучал так: «Предоставить на Литейном проспекте Восточно-Европейскому институту психоанализа здание такое-то». Так что психологи и философы зря беспокоились, смысл указа был вполне практический. Но важно другое. Если психологи влияют даже на такие существенные вещи, как выборы президента, и на самые интимные вещи частной жизни человека, то это не может не беспокоить, не может не тревожить. И, собственно говоря, главный внутренний смысл беседы, которая, я хотел бы, чтобы у нас сегодня состоялась — это тревога.
Если подумать о моей позиции как докладчика, то я, разумеется, кое-что приготовил, у меня есть какие-то соображения. Но по сути дела, я нахожусь в позиции пациента, который пришел со своей тревогой, с проблемой, от которой зависят не только мои размышления, но моя профессиональная жизнь, мои выборы, мои реальные человеческие решения. Они зависят от того, как будет обдуман этот вопрос, какое будет выработано к нему отношение. И как обычный пациент, я не просто приношу вам, моим глубокоуважаемым терапевтам, свою тревогу. Я приношу уже какие-то свои мысли по этому поводу, но они не завершены по двум причинам. Во-первых, этот факт требует культурологической, антропологической, философской рефлексии, и просто недостаток образования, средств, опытности в этом мышлении, разумеется, ставит меня в положение некоей беспомощности по осмыслению ситуации, и этой помощи, собственно, я и прошу не только для себя персонально (хотя и для себя тоже, буквально). А во-вторых, дело тут не только в неком дефиците моих средств, образованности, но и принципиально я, как психолог, не могу обойтись без Другого. Потому, что я внутри этой позиции психотерапевта, и для меня ее решение значимо не как решение интеллектуальной задачи, а как решение жизненной задачи, поэтому я и не могу обойтись без Другого и без людей, обладающих опытом философского мышления, антропологического, культурологического. То есть я пришел к вам на сеанс философской, антропологической, культурологической психотерапии. Даже термин такой существует — философская психотерапия.
Главный мой запрос, как у всякого пациента, такой: помочь мне осмыслить, каково место психотерапии в культуре, какова ее функция, миссия, может быть, каков вред здесь может иметь место, какие есть опасности. Вот целый ряд вопросов, уточнить которые до конца можно, только их обговорив. И как на первом психотерапевтическом сеансе, позвольте, я вас немножко утомлю своими долгими и сбивчивыми размышлениями, как это 3 бывает у пациента, — размышлениями о том, что я сам уже придумал, какие у меня есть вопросы и мысли, чтобы потом начинать этот разговор.
Итак, первый вопрос, который я перед собой ставлю в этом контексте. Для того, чтобы нам вместе разобраться с вопросом о психотерапии в культуре, нужно оглядеться, так сказать, окрест и посмотреть, где же еще, в каких областях, в географическом, в историческом смысле — в какие периоды, в каких культурах — психотерапия имела место вообще. Была ли она или это специфический феномен современной европейской культуры? Была ли психотерапия в Древней Греции, в Риме, у индейцев племени куна, о которых пишет Леви-Стросс, в Средневековом Китае, на Афоне? Там есть психотерапия или нет? Я понимаю, что так вопрос ставить не совсем корректно, его нужно еще уточнить. Но начну с не очень корректной постановки вопроса и приведу один пример, который может рассматриваться как кандидат на выяснение, психотерапия это или не психотерапия.
Плутарх пишет утешительное письмо своей жене по поводу смерти их двухлетней дочери. Вот фрагменты из этого письма: «Дорогая жена, щади себя и меня в нашем несчастье, ведь я сам знаю и чувствую, каково оно. Но если увижу, что ты превосходишь меру должного в своей скорби, то мне это будет тяжелее даже того, что нас постигло. Попытайся мысленно перенестись в то время, когда у нас еще не родилась эта дочка. У нас не было никаких ведь причин жаловаться на судьбу. А затем свяжи нынешнее наше положение с тогдашним, как вполне ему подобное (тогда не было дочки, и сейчас нет дочки — Ф.В.). Ведь окажется, дорогая жена, что мы считаем несчастьем рождение дочери, если признаем, что время до ее рождения было для нас более благополучным. И промежуточное двухлетие надо не исключать из памяти, но принять как минувшую радость и не считать малое благо большим злом. Если судьба не дала нам того, на что мы надеялись, то это не должно отменять нашу благодарность за то, что нам было дано. Наше благополучие зависит от правильных суждений, приводящих к душевной стойкости, а превратности судьбы не несут в себе сокрушительного удара для жизни. Сама эта боль дает нам почувствовать, сколько отрадного содержит в себе оставшееся у нас». (У них еще дети остались — Ф.В.) Странное впечатление оставляет это чтение, и не раз Сергей Сергеевич Аверинцев, а раньше Герцен писали о том, что логическая, доктринерская попытка утешения не утешает. Хотя Сергей Сергеевич Аверницев все-таки считал, что тогда риторика была утешительной и утешала. Но сейчас современный муж, конечно, не стал бы так писать жене по такому поводу. Это чрезмерное почитание рассудка, меры выражения своих чувств, эстетически и этически невыносимо для современного сознания.
Но если мы посмотрим на это как на фрагмент по психотерапии, то мы здесь узнаем совершенно однозначно некоторые профессиональные ходы. В частности, в когнитивной терапии Арона Бека или в одной из версий Эллиса собственно так производят то, что называется коррекцией дисфункционального мышления. То есть надо исправить мышление, и тогда депрессии негде будет разместиться, потому что она — следствие неправильной мысли, а не реальных бытийных трагических обстоятельств. Ассоциация когнитивной психотерапии, я думаю, с удовольствием приняла бы Плутарха в свои почетные члены. Остается, как говорится, только уговорить Плутарха. И таких примеров в культуре мы можем найти множество. Например, когда шаман поет песню — здесь я напоминаю вам известный пример из структурной антропологии Леви-Стросса, — то эта песня, в которой символически изображаются физиологические процессы в родовых путях, помогает роженице разрешиться от бремени. Тут уж, наверное, ассоциация эриксонианской психотерапии или эриксонианского гипноза вполне могла бы вручить премию за изящное исполнение психотерапии. Короче говоря, в истории существует множество примеров, которые явно напоминают современную психотерапию. Но далее нужно уточнить вопрос, который был не совсем корректно сформулирован.
Для того чтобы начать сопоставлять психотерапию с чем-то подобным, нужно ввести некоторое определение и опосредующие понятия, причем какие-то «эластичные», которые 4 позволят нам не говорить о том, что здесь психотерапия, а там ее нет, но которые наоборот позволят провести некие опосредованные сопоставления. Ролло Мэй, известный американский психолог, консультант, психотерапевт, в контексте нашей задачки, формулирует вопрос следующим образом. Он говорит, что психотерапия или нечто ей подобное существовало всегда, в качестве специфической сферы психотерапия возникла на определенной стадии развития культуры. Когда в культуре наступает кризис или резкие перемены, то тут и проявляются некоторые фигуры, которые начинают специально выполнять психотерапевтическую функцию. В данном случае он говорил о греческой культуре, имея в виду стоиков, эпикурейцев, киников как людей, остававшихся, разумеется, в рамках своей философской позиции, но реализующих в культуре психотерапевтическую функцию.
Есть и другие подходы к ответу на вопрос о психотерапии. Я назову еще один, принадлежащий Андрею Феликсовичу Копьеву, нашему современнику, довольно известному психологу и психотерапевту, который ищет, как он это называет, аналоги и гомологи психотерапии в культуре. Хотя психотерапию он трактует, по-моему, слишком расширительно, говоря о целительном опыте вообще. В частности, в качестве примера целебного психотерапевтического опыта он приводит хрестоматийный эпизод изменения душевного состояния князя Андрея Болконского при виде дуба. Мне кажется, стоит чуть ограничить те определения психотерапии, которые невольно встроены в позицию — в данном случае — Ролло Мэя и Андрея Феликсовича Копьева, и попытаться дать такое скорректированное определение.
Я бы предложил ограничить круг сопоставляемых с психотерапией феноменов такими феноменами, где явно есть некая диалогическая ситуация, в которой один человек намеренно (именно намеренно, это важно) утешает, поддерживает, вдохновляет, то есть, если говорить обобщенно, проявляет душевную заботу о другом. Душевную заботу — в противопоставлении практической заботе. Помощь доброго самаритянина израненному человеку я бы не стал относить к психотерапии, хотя, наверное, душевное влияние тоже имело там значение, но он не оказывал специально душевную заботу, он помогал израненному человеку. Подобным же образом, заботу о душе стоит отличать от забот о теле, об имуществе, о социальном положении, которые сами по себе могут приносить какие-то психологические эффекты, но я не стал бы относить их к психотерапевтическим. Поход в баню, разумеется, имеет положительные психологические эффекты, но к психотерапии относить их не хочется, не хочется трактовать психотерапию слишком расширительно.
Пользуясь этим, достаточно туманным, определением, можно ввести еще несколько опосредующих понятий. Говоря о туманности, я имею в виду, что в нем есть много поводов для уточнения. В частности, само понятие заботы. Ясно, что оно предполагает какое-то представление о благе, о какой-то антропологической норме. Понятно, что в разных культурных и субкультурных контекстах эти представления могут радикально отличаться. В частности, в молодежной субкультуре или в гусарской субкультуре кураж будет, безусловно, признан благим состоянием, а, например, состояние смиренномудрия не будет признано таковым. Поэтому и Плутарх, о котором мы говорили, исходил, разумеется, из некоторого определенного представления о норме. Благородная сдержанность чувств при выражении скорби — это некая безусловная ценность, и он не жалеет своего недюжинного красноречия для того, чтобы предостеречь жену от привлечения плакальщиц, которые подливают масла в огонь, распаляя чувства.
Итак, вот ряд опосредующих понятий, которые помогут думать более структурировано при сопоставлении психотерапии и культуры. Во-первых, это психотехническая функция культуры. Сюда можно отнести все те формы практики культурной активности, когда один человек оказывает целенаправленное влияние на душевное состояние другого, независимо от намерений и целей. И в этом смысле, если родители утешают обиженного ребенка, и если 5 торговец пытается сбыть негодный товар какими-нибудь манипуляциями, то все это будет подпадать под эту категорию.
Второе понятие — чуть более узкое, поставленное немножко в другое измерение. Я бы назвал его косвенной психотерапевтической функцией культуры. Любые формы культуры могут оказывать и оказывают некое позитивное влияние на душевное состояние: успокаивающее, ободряющее, умиротворяющее, вдохновляющее. Слово «позитивное» можно опять проблематизировать, но пока примем такую формулировку. Эта функция косвенная, потому что прямая задача культурного действия может быть совсем другая. Футбольная команда играет не для того, чтобы вызвать восторг у болельщиков. Играют, чтобы победить, а восторг есть один из косвенных результатов. Итак, это косвенная, а не прямая психотерапевтическая функция. Понятно, что в культуре есть коммуникативные действия, прямая цель которых в том, чтобы выразить соболезнование, сочувствие, утешить, поддержать. Обычно, мы встречаем это в семейных, дружеских контекстах, в бытовых отношениях, то есть, в контексте достаточно близких человеческих отношений.
В качестве еще одного опосредующего понятия я бы ввел кристаллизацию психотерапевтической функции. Если представить себе «разлитую» в разных культурных формах функцию, то кое-где происходит ее кристаллизация. Либо в отдельных жанрах, как например, консоляции, утешительные сочинения, о которых уже шла речь, либо в каких-то фигурах. Например, фигура плакальщиц, нами упомянутая, до сих пор существует в русской культуре, на Кавказе, в мусульманских странах. Несмотря на религиозные запреты, традиция привлечения плакальщиц сохраняется. В их действиях есть элемент профессионализации. Здесь происходит закрепление одной из функций в рамках обрядового действа, то есть психотерапевтическая функция закрепляется за какими-то культурными ролями.
Далее, стоит ввести еще такое понятие как культурный сдвиг психотерапевтической функции. Некоторые культурные практики, институты начинают осмыслять свою миссию как целительную, психотерапевтическую, и тем самым квалифицируют себя как род психотерапии. Такое бывает в искусстве, когда поэзия осмысляется, например, как нечто целительное — «болящий дух врачует песнопение». А например, греческий митрополит Иерофей Влахос написал книгу, которую перевели на русский язык два года назад, она называется «Православная психотерапия». Читатель, думающий, что там можно найти что-то специально психотерапевтическое, будет разочарован. Это достаточно традиционная книжка из православной литературы, но там акцентируется такой момент, что христианство — не столько учение, сколько лечение. В книге есть подзаголовок: «Святоотеческий курс врачевания души». Все дело христианства здесь осмысляется через терапию, через врачевание.
И, наконец, еще одно понятие — психотерапия как метод. В медицине психотерапия всегда развивалась и до сих пор развивается именно как метод. Тут есть свои задачи, свои ценности. Психотерапия используется наряду с физиотерапией, хирургией и прочими методами. Психотерапия как один из методов.
В ХХ веке, большей частью во второй его половине, происходит возникновение психотерапии как отдельной самостоятельной профессии с более или менее устоявшимися цеховыми формами и нормами жизни. Появляются самостоятельные учебные заведения, исследовательские институты, периодические издания, этические кодексы, и так далее. И наконец, дело идет к тому положению (можно сказать, что это процесс незавершившийся, но далеко зашедший), когда психотерапия уже не просто профессия, но становится институтом культуры. Можно за критерий институционализации взять триаду, которую предлагает Олег Игоревич Генисаретский. Он говорит: чтобы сформировался некий культурный узел, нужны три элемента — институт, традиция и практика. И психотерапия, похоже, если и не до конца, но почти уже сформировала этот узел. Есть институт, в данном случае, как элемент социальной структуры общества; формируется традиция мышления, традиция трансляции 6 опыта через образование, сертификацию, нормы. А практика, как мы уже говорили, широко внедрена во все слои культуры. Все основные признаки налицо, и это характеризует психотерапию как культурный институт.
И когда промежуточные понятия введены, теперь следует основной вопрос, который я хотел, чтобы вы обдумали. Этот вопрос звучит так, его емко сформулировал известный специалист по исследованию агрессии Карл Менингер. В разговоре с Ролло Мэем он сказал так: «Люди разговаривали друг с другом тысячи лет. Весь вопрос в том, как случилось, что эти разговоры стали стоить шестьдесят долларов в час. Как это случилось?». В этом и есть соль вопроса. Наукообразно его можно сформулировать так: какими характеристиками должна обладать культура, в которой возможно развитие психотерапии, или развитие разных психотерапевтических функций, свободно плавающих и меняющихся — как особого института. И, соответственно, вторая часть этого вопроса: каков должен быть человек, для которого профессиональная психотерапия это культурный, адекватный способ разрешения жизненных коллизий. Это вопрос о культурных и антропологических условиях возможности институционализации психотерапии.
Если говорить о первом вопросе, то естественный ход, мне кажется, состоит в том, чтобы попытаться сопоставить ту культуру, в которой психотерапия есть и активно институционализируется, с теми, в которых этого не происходит и, по всей видимости, происходить не может. Из этого сопоставления можно будет что-то извлечь — какие-то характеристики, специфические для этой культуры. Можно предложить, по крайней мере, три (если не больше) оппозиции.
Во-первых, оппозиция города и деревни. Понятно, что в большом городе психотерапия есть, а в деревне ее нет, и, по-видимому, как таковой быть не может. Во-вторых, оппозиция «Запад-Восток». На Западе психотерапия есть, если иметь в виду европейский Запад и североамериканский, а на Востоке, даже в таких развитых странах как Япония, ее нет. Разумеется, там есть какие-то особые психологические институты, но серьезного развития психотерапия там не получила. И наконец, оппозиция «модерн и классика», имея в виду под модерном период с последней четверти XIX в., а под классикой — предыдущий период. Рассмотрим эти оппозиции.
Начнем с оппозиции «город — деревня». Интуитивно факт отсутствия психотерапии в деревне, вроде, очевиден, но его нужно как-то обосновать, извлечь выводы. Во-первых, мне кажется, что разный способ циркуляции информации о членах сообщества в городе и деревне делает невозможным психотерапию в деревне. Житель деревни не просто информирован о подробностях и обстоятельствах жизни всех членов маленького сообщества, но у него есть свое аффективное, эмоциональное отношение к этим фактам, это не безличная, не нейтральная форма знания. Поэтому, если бы мы все-таки в какой-то избе открыли психотерапевтическую консультацию, вывесили бы вывеску, и кто-нибудь туда все- таки пришел, то он был бы лишен одного важного права — права первого рассказа о своей жизни. В городе, когда к нам приходит пациент, мы знаем его мир, его семью, его обстоятельства, проблемы только через его уста, через его способ видения. А в деревне до его рассказа мы уже знали бы о нем больше, чем он сам о себе знает. Его рассказ было бы невозможно воспринимать нейтральным образом, что требуется в терапии. Для терапевтического мышления и действия не так важна фактологическая достоверность (ибо, кто может ее удостоверить эту фактологию?), сколько личные усилия по называнию, определению, квалификации фактов реальности моей, пациента, жизни. Но и это не главное.
В деревне невозможно на практике обеспечить конфиденциальность. Конфиденциальность в психотерапии является не просто этическим требованием, это само собой разумеется. Конфиденциальность входит в интимную, структурную суть дела. Если не обеспечивается условие конфиденциальности, то терапевтические отношения — об этом много в специальной литературе пишется — просто не могут состояться полноценным 7 образом, процесс не пойдет. В деревне же, если даже терапевт будет выполнять все правила и ни слова никому не скажет, но сам факт прихода в эту избушку нашего воображаемого Ивана Петровича приведет к тому, что все соседки, увидевшие, что он пошел к психотерапевту, начнут это обсуждать. Соответственно, пойдут сплетни и пересуды. Отношение к этому факту будет такое, что не успеет Иван Петрович выйти из этой избушки, как все его бессознательное станет достоянием общественности. Он выйдет в уже изменившееся сообщество, где будет иное к нему отношение, потому что люди будут опираться на пересуды и мнения. Они знают, зачем он туда пошел или догадываются, что в данном случае не важно, — реальность будет иная. Поэтому конфиденциальность в деревне обеспечить невозможно.
Еще одно расхождение. В психотерапии существует запрет, взятый не из ума, а из опыта, на двойные отношения, поэтому терапия близких родственников, руководителей или подчиненного — дело противоестественное. Такое на практике иногда бывает, иногда удается как-то выдержать напряжение двойных отношений и не поскользнуться. Но все-таки большинство кодексов это запрещает, и делает это с основанием. В небольшом деревенском сообществе все неизбежно связаны отношениями родства, кумовства и какими-то практическими связями. Поэтому психотерапевт почти всегда будет лично заинтересован в том или ином разрешении ситуации пациента. А если не он сам, то его родственники, и так далее. Все эти тесные социальные связи препятствуют установлению простых и не заинтересованных нейтральных отношений. Получается, что именно город, своей отстраненностью, отчужденностью, анонимностью городской жизни, создает условия, где возможны и конфиденциальность, и отсутствие практической заинтересованности, выгоды в отношениях. Поэтому оказывается, что именно в городе возможны терапевтические отношения и терапевтическая практика.
Кроме того, можно обсуждать вопрос о стрессогенности жизни в городе и деревне. Хотя современные антропологические изыскания уже не придерживаются прежней наивной идиллической картины жизни традиционных сельских общин, в которых младенцы не плачут, маленькие мальчики не дерутся, девушки ведут себя чинно, старики учат молодых достоинству и т. д., но все-таки большинство современных исследователей признают, что стрессогенность в городе выше. Возможно, это не стоило специально проблематизировать, но стоит отметить, что в деревне выше ежедневная востребованность человека жизнью, самим укладом — корову подоить, собачка требует, чтоб ее покормили, и так далее. Там невозможно, как в Москве, если сосед месяцами в запое и еще не поджигает дом, то все в порядке, его никто не будет беспокоить. Тем более, что закон о психиатрической помощи сейчас довольно строго выполняется, и принудительно никто никого госпитализировать не будет. А в деревне человек все время востребован, и это отчасти тоже профилактика от депрессивных состояний.
И последнее из соображений в сопоставлении города и деревни. Город, особенно мегаполис, где психотерапия развита все время, динамично развивается, изменяется, а потому требует постоянных изменений от горожанина. Изменений в одежде, культивируемых эмоциональных состояниях, способах отдыха, и т. д. — во всех сферах жизни город достаточно агрессивно требует изменений. В этом смысле городской императив таков: изменяйся, становись другим, будь личностью, что опять-таки значит — становись другим. Для психотерапии мила эта идея, психотерапия живет идеей личностных изменений, потому что исходит из предположения, что не обстоятельства надо менять (это чаще всего и недоступно), а отношение к ним. Измениться должна сама личность, должны произойти личностные метаморфозы, и тогда человек справится со своей проблемной ситуацией. Психотерапия верит в личностные изменения, в то, что они возможны, а город, если и не верит, то требует их. А деревня живет в этом смысле более реалистично. Она знает человека в контексте его родственных связей, знает его род, знает, понимает, что люди меняются 8 редко и требовать от них изменений нельзя. Похоже, что в деревне преимущественно живут «характеры», неизменные структуры, а в городе — личности.
Теперь про оппозицию «Запад и Восток». В этой области неизбежны чрезмерные обобщения, неточности даже у людей, более образованных в этой области, чем я, и все же позволю высказать ряд соображений. В чем тут дело, почему именно на Востоке не развивается, а на Западе развивается психотерапия? Во-первых, конечно, нужно обратить внимание на большую социокультурную регламентацию и ритуализацию жизненного пути и жизни человека на Востоке по сравнению с Западом. В частности, можно взять профессиональную деятельность как значимую область жизни и сравнить успешную американскую и успешную японскую карьеры. В Америке сейчас появились специальные яппи-журналы. Они пишутся для преуспевающих молодых людей (их называют яппи), которые до тридцати лет уже стали или должны стать миллионерами, и пишутся ими же самими. Там публикуется много писем, заметок. Так вот эти яппи-журналы полны жалоб на невротические проблемы — нарушение сна, сексуальные дисфункции чуть ли не в восьмидесяти процентах случаев, повышение уровня тревоги, отсутствие удовлетворенности жизнью, в общем, самые несчастные люди — это молодые, живущие здоровым образом, американские миллионеры тридцати-тридцати трех лет. По крайней мере, так представляется дело в этих яппи-журналах, причем представляется ими же самими. Казалось бы, им-то и обращаться к психотерапевтам, но психотерапевты от них отказываются. Гонорары высокие, но психоаналитическую работу вести с ними невозможно. Такая работа требует регулярности посещения, а он завтра летит в Австралию, послезавтра в Южную Африку, у них перепутались день и ночь, — в таких условиях работать с ними невозможно. И они оказываются выброшенными, ну, просто изгоями, бедненькие! То ли дело японский служащий. На годы вперед известен алгоритм, по которому он будет продвигаться по иерархической лестнице. В этом смысле, конечно, нагрузки, риски, которые действуют в ситуации авантюрной свободы в западном образе профессиональной карьеры, просто несопоставимы с теми, которые есть на востоке. Разумеется, японские служащие не живут в санаторных условиях, где всегда тишь да гладь, но существенное отличие здесь все же есть.
Второе важное отличие Востока и Запада связано с отношением к страданию и смерти. Если с неизбежными огрублениями обобщать, то на Востоке преобладает тенденция к рассмотрению страдания как сущностного атрибута существования. На Западе же относятся к страданию как к некоему модусу существования, хотя и не случайному, но в известном смысле «вторичному». Есть некая благая норма, то есть бытие должно быть хорошим, благим, а всякое нарушение этой нормы и рассматривается как страдание. И более того, оно не принимается в целом как таковое, а ищется смысл, чтобы его оправдать или преодолеть.
Разумеется, в отношении к смерти радикально отличаются и сотериологические установки культур Востока и Запада. Они создают фон для разлчиного восприятия негативных событий. Доминирующая на христианском Западе (общая при всех конфессиональных особенностях) установка спасения, победы над смертью и воскресения, вечной жизни, радикально отличается от восточных установок на растворение в безличном бытии. Может быть, это трюизм, но это создает психологически разный фон, определяя психологические фильтры при восприятии негативных событий. Похоже, что «болевые» пороги западного сознания снижаются, и возникает большая готовность воспринимать события как невыносимые, превосходящие пределы терпения. Психотерапия тоже вносит серьезный вклад в снижение этих порогов, отчасти из-за некоторой выгоды. Конечно, дело обстоит не так прямолинейно, но основания для этого есть. Например, в современных психиатрических классификациях существует понятие посттравматического стрессового расстройства, которое на практике трактуется подчас очень широко. Тенденция к его широкой трактовке создает ситуацию, когда человек может пожаловаться и получить бесплатную страховку на психотерапевтическую помощь. При этом он вспомнил, как тридцать лет назад в школе на него косо, с какими-нибудь сексуальными целями посмотрел 9 учитель, и это до сих пор его волнует, тревожит, у него возникает тревога, бессонница, невротические жалобы. Я немного утрирую, но тенденция к такому расширительному толкованию есть. То есть существует некая социально-экономическая выгода в снижении «болевых» порогов. Чем больше страдание воспринимается как невыносимое, тем больше стимулов обращаться за помощью.
В антропологии обсуждается еще различие в понимании западной и восточной самости (Self). Разумеется, на Западе Self ориентирована эгоцентрически, а на Востоке — коллективистски. Пресловутые западный индивидуализм и восточный коллективизм тоже имеют отношение к этой теме. Есть разные традиции в трактовке самости. Антропологи говорят, что крайний случай социоцентрических моделей Self — в культуре Индии. Там еще сохранились касты, и попадая с самого рождения в ту или иную касту, группу, человек подтверждает свое достоинство вот таким «натуральным» образом — по факту рождения. В то же время западный человек подтверждает свое Я в противостояниях, победах, выигрышах, соревнованиях. В этой оппозиции «японское Я» рассматривается как некое промежуточное, исследователи отмечают ситуативность этого Я — меняется контекст, меняются и модели презентации Self.
Из этого следует, что западное Я, которое концептуально описывается как целостная, интегрированная трансцендентная личность, это не просто «концепция Я», а некоторый императив. По сути дела, западный человек приговорен культурой, чтобы быть личностью именно в таком смысле — контролировать все свои проявления, интегрировать свои многочисленные социальные отношения, быть центром сознания, воли и прочих функций. И эти требования — быть личностью и интегрировать свои проявления, — похоже, в принципе не решаются в психологической (горизонтальной) плоскости, а предполагают духовно- аскетическую (вертикальную) работу. Но в условиях секуляризации, потери навыков и опыта духовной работы культурный императив быть личностью создает постоянно воспроизводящийся конфликт между требуемым и возможным. Таким образом, этот конфликт оказывается заложенным в саму культуру. В этом смысле японская культура выглядит, в силу ситуативности «японского Я», менее стрессогенно. В разных культурных контекстах могут проявляться разные презентации Я, разные этические нормы, а жесткого требования по их интеграции в японской культуре нет.
Кроме стрессогенности, культуры могут различаться еще по одному параметру, а именно: по распространенности в культуре способов психологической самопомощи и помощи другим. Если даже не говорить о медитации и прочих духовно-психологических практиках, которые все-таки в восточной культуре транслируются больше чем на Западе, то и сам способ общения между людьми тоже принципиально отличается по параметру психотерапевтичности/не психотерапевтичности. Вот забавное наблюдение одного японского исследователя, который приехал во Францию изучать разницу между японской и европейской культур. Оказавшись в Марселе, в каком-то ресторанчике, он услышал, как все кричат, благодушно благодаря за что-то официанта. Он воспринимает это как неприличное поведение и делает вывод, что европейцы в диалоге, в споре, в крике, голосом утверждают свое Я, в отличие от японцев. «У них, — пишет о европейцах японский исследователь, — не существует диалога в японском стиле, когда собеседники пытаются взаимно проникнуть душою и понять друг друга посредством чувств. Диалог в японском стиле — это, в конце концов, не что иное как средство ублажения настроения и смягчения атмосферы двух, обращенных друг к другу лицом, людей. Диалог европейцев для каждого из горожан, которые как никогда живут по принципу «полагайся на собственные силы и средства», это почти единственная возможность для самоутверждения и самозащиты». Похоже, что европейским психотерапевтам приходится учиться лет пятнадцать-двадцать для того, чтобы научиться практиковать во время терапевтических сеансов диалог в японском стиле. Этот диалог в японском стиле — то, как он описан, — очень похож на способ ведения беседы у 10 Карла Роджерса. Возможно, в Японии терапевтический потенциал культуры, предписывающей определенную форму коммуникации, более высок, чем на Западе.
Все эти гипотезы мне и самому кажутся неточными, рыхлыми. Но это какие-то первые соображения, и я буду рад, если вы что-то отвергнете или сможете развить какие-то соображения на эту тему.
Последнее противопоставление — классика и модерн. Я уже упоминал о гипотезе Ролло Мэя о том, что психотерапия расцветает тогда, когда культура загнивает или когда происходят какие-то резкие перемены. Мне трудно оценить, насколько можно распространить эту идею, но по крайней мере в европейской истории это похоже на правду. В этом смысле переход к модерну и одновременно рождение профессиональной психотерапии, последующее ее бурное развитие связаны с серьезными кризисами европейской культуры. Попробуем вдуматься в то, что такое модерн, в плане выявления в нем специфического содержания, которое может способствовать или не способствовать развитию психотерапии. Во-первых, вспомним такую характеристику модерна, как антитрадиционализм, элиминация в философском дискурсе трансцендентного Божественного разума как основания разума человеческого, отказ от представления о единой онтологии, предпочтение многих онтологий. На философском уровне выявляемые характеристики имеют прямое отношение не только к искусству, но и к психотерапии. В искусстве — сдвиг к частному интересу, к личному, ситуативному, к настроению, состоянию, впечатлению, аффекту. Когда в центр культурного интереса попадает такое частное психологическое, это способствует тому, чтобы возникла возможность и у самого представителя культуры, и у психотерапевта вкладывать массу страсти и профессиональных хлопот, чтобы это частное опекать, утешать, исцелять и так далее. Человек модерна уже выходит из состояния, когда имелось объемлющее целое, по отношению к которому он подтверждал свое существование. Теперь, без этого большого контекста, он может утверждать существование самого себя как такового.
Если подумать здесь о каких-то персонажах, то Иван Карамазов почел бы, верно, за оскорбление, если бы ему предложили поутешать его, посочувствовать, потому что ему надо было «мысль разрешить». Да и все мальчики Достоевского ни за что ни к каким психотерапевтам не пошли бы. А вот Гуров из чеховской «Дамы с собачкой» уже потенциальный кандидат. У него есть тяга к тому, чтобы поговорить о своем, о личном, по душам, а не разрешать всякие проклятые вопросы, которые важны для всех. У него эта потребность уже сформирована. Она не может утолиться ни в покаянном контексте, ни в клубном, потому что товарищеская беседа в клубе не предполагает такой открытости (осетрина-то с душком!). И вот это неутоленное ожидание разговора еще острее подчеркивает потребность в нем. Хотя, конечно, неизвестно, пошел бы наш герой к профессионалу, которому нужно платить деньги, шестьдесят долларов в час, но тем не менее потребность эта уже созревает.
Получается, что самодостаточный человек, который полагался на себя, на свой разум, на свою волю, на собственные силы, ставил задачи и перед самим собой, и перед социумом, — этот человек, как формулирует наш глубокоуважаемый председатель [С.Хоружий], отверг конститутивную границу Бытия с Инобытием в надежде обрести этом отходе от границы безграничную свободу. И, отринув границу с Инобытием, он обнаружил границу в самом себе, границу между Сознанием и Бессознательным. Она-то и стала фундаментальным отношением, доминирующей антропологической топикой человека модерна. Теперь межа проходит внутри его собственной души. Можно сказать, что Человек, борясь за свою независимость от Высшего, обрел свободу и стал принадлежать самому себе. Тем самым он, вроде, сберег для себя свою душу, но, по евангельской логике, тут же ее потерял в приобретенном раздвоении. И психология стала с удовольствием выковывать ему новую душу — психику, подчиняющуюся естественнонаучным законам. Этот новый, как говорит Мишель Фуко, «психологический человек» поверил, что в глубинах его души, а точнее 11 природной психики, находится как источник основных жизненных сил, творческих импульсов, так и равно темных чудовищных порывов. Он оказался в ситуации отчужденности от собственной психики, от самого себя, и ему понадобился посредник. Человеку модерна нужен посредник для встречи с самим собою, сам он потерял вход, потерял способность самостоятельно встретиться со своей жизнью. Такой посредник, по определению, должен быть посвящен в тайну Бессознательного и способен выразить ее рационально. Это и есть психоаналитик, он оказался тем посвященным, тем новым служителем нового закона, который, как мы знаем, приходит при перемене Закона. При перемене Закона происходит перемена Священства. Вот эта причудливая смесь рационализма, рациональной веры в рациональный разум, рационалистической веры в то, что человек иррационален, — это есть одна из фундаментальных характеристик и человека модерна, и психотерапии, потому что психотерапия, особенно психоанализ, живет и питается бессознательным. Если бы бессознательного не было, его обязательно надо было бы выдумать, потому что это профессиональная делянка психотерапевта, область нашего пространства, где мы — эксперты, а вы, глубокоуважаемые пациенты, ничего в этом не смыслите и нуждаетесь в нашем посредничестве.
Получается, что в данной культурной матрице есть некое место, матрица «готовит» эту ячейку, чтобы она была заполнена психоаналитиком, психотерапевтом. А в матрице других культур, которые мы рассматривали, такого места нет. Даже если терапевт там и появляется, ему там нет места. Вот коротенький пример деревенской психотерапии.
Мы были с женой в гостях у знакомых в Тверской губернии, довольно далеко от Москвы, в нормальной такой деревне. И вдруг у соседки происходит драматическое событие сын попал под трактор; остался жив, но поранился. Событие обычное для деревенской жизни, потому что и трактористы пьют, и сыновья пьют. У этой соседки гипертонический криз, она лежит. Вокруг собрались кумушки, соседки, пытаются ее как-то утешать, а она не хочет жить, собирается помирать. Тогда хозяйка, у которой мы гостили, обращается ко мне с просьбой, чтобы я как-то помог. Я говорю, что я же не врач, помилуйте, что я могу сделать? Но хозяйка очень меня просит. «Ну, хорошо, — говорю я ей, — а как вы скажете, кто я такой?». — «Я объясню, что вы как Хазер», — отвечает она мне. Я не смотрел, а они в деревне смотрели по телевизору какой-то мексиканский сериал, где была такая фигура психоаналитика по имени Хазер. И вот, значит, иду я в качестве Хазера в соседний дом, а соседки из дома уже вышли и сбились кучкой, стоят. Даже собачка, — это как-то врезалось мне в память, — прижалась к ногам, поджала хвостик, — Хазер идет! Я зашел в дом и единственное, что я мог сделать, это провести релаксационный сеанс с гипнотическими инструкциями, с тем, чтобы она заснула, поспала и успокоилась. И она, слава Богу, заснула, номер прошел. На следующий день мы с женой уехали рано, но самое интересное произошло потом. На другой день после нашего отъезда в деревню приехала автолавка, и наша хозяйка пошла за покупками. У автолавки к ней подходит соседка с другого конца деревни и говорит: «Петровна, что-то у меня защемило поясницу, твой «электросенс» еще не уехал?». Электросенс! Вот это совершенно точная формула. Во-первых, это очевидно, производная от экстрасенса — нечто, вроде магической фигуры из того, что есть в деревенской матрице, — знахарь, волшебник, полу-колдун. А «электро» — это, несомненно, дань техническому прогрессу. То есть это не какой-то архаичный, а современный колдун, словом, Хазер.
Так что, даже если и открыть в деревне психологическую консультацию, то сама деревенская культурная матрица быстро бы загнала нас в заготовленную ячейку. И тут уж развернуть какой-нибудь лакановский анализ было бы, прямо скажем, затруднительно. На Востоке это, похоже, тоже не формируется, и в эпоху классики невозможно было бы сформировать «ячейку» для психотерапии.
Позвольте занять еще несколько минут вашего внимания для постановки еще одного вопроса. Это были, так сказать, культурные аспекты, можно было бы еще предложить оппозицию «демократизм — тоталитаризм». Понятно, что в тоталитарных обществах 12 развитие психотерапии менее вероятно, чем в демократических, но оставим это в стороне. Вопрос же следующий: каков тип человека, для которого психотерапия является культурно адекватным способом решения жизненных проблем?
Сказав слово «проблема», стоит остановиться. С проблемой, с этим понятием в нашей области происходит странная история. Казалось бы, понятие проблемы для психотерапии значимо, и должно занимать такое же структурное место, как и понятие болезни в медицине. А уж понятие болезни, что это такое, форма течения и т. д. — все очень тонко развернуто в клиническом мышлении. Что же касается понятия «проблемы», то в психотерапевтической литературе оно практически не обсуждается, хотя им все, разумеется, пользуются на каждом шагу, но концептуально это понятие не разработано. Это первый странный факт.
Второй странный факт. Еще совсем недавно, 130–150 лет назад, у людей никаких проблем не было. Я просмотрел с помощью компьютера основные романы Достоевского и Толстого, искал там слово «проблема» в любом контексте, но ни разу ни у Достоевского, ни у Толстого этого слово не встретилось. Этот факт, мне кажется, говорит об очень многом.
Еще вопрос: все ли наши современники могут это слово употреблять адекватно? Например, если двух-трехлетний малыш скажет: «У меня проблема», — то мы это воспримем с удивлением, мол, от горшка два вершка, а у него, видите ли, проблема! Мы ему верим, что он чувствует дискомфорт, страдает или, может, злится, но что у него проблема, — это ему не по чину. Но тогда, кому это «по чину»? Каков человек, который может с экзистенциальной серьезностью и адекватно употребить это слово «проблема» по отношению к каким-то коллизиям в своей жизни, если это не могут сделать герои Достоевского или маленький ребенок? Можно указать несколько характеристик такого человека и пояснить, почему он говорит именно о проблемах.
Первое, это восприятие частной жизни как самоценности. Такой «психологический человек», если пользоваться термином Фуко, должен обладать базовым ощущением безусловной значимости проживаемой им жизни. Причем, значимость его жизни должна быть общественно самоочевидной, не нуждаться ни в доказательствах, ни в какой-либо защите. Мое частное существование изначально самоценно. Оно не требует подтверждения, оправдания какими-то высшими инстанциями, каким-то служением, и так далее. Это данность, а не плод заслуги.
Теперь второе: личность как владелец жизни. Человек ощущает себя как хозяин жизни, ее потребитель, он чувствует, что имеет право владения, распоряжения, пользования своей жизнью. Вот это моя жизнь, с ударением на слове «моя». Иван Карамазов считал, что он имеет право «сдать билет», но он считал себя обязанным это право доказывать. А «психологический человек» так не считает. Он считает, что его жизнь принадлежит ему, и он может ею распоряжаться, как ему заблагорассудится, без всяких доказательств.
Третье: благополучие как норма жизни. «Психологический человек» обладает базовым убеждением, что его жизнь должна быть в порядке. Порядок можно трактовать по-разному — как успех, счастье, благополучие, — но всякое нарушение любого порядка, закона благополучия, всякая порча экзистенциального имущества подлежит обнаружению, объявлению его проблемой, и потом принятию надлежащих мер. В таком типе существовании сам трагизм бытия, окружающий этот островок маленького личного благополучия, к которому время от времени прибивает остатки каких-то кораблекрушений, воспринимается как некая случайность, а вовсе не как базовое устройство мира. Девиз Бунина — «Не теряйте отчаяния» — такому человеку будет, конечно, не понятен.
Еще одна характеристика — консюмеризм как доминирующая деятельность и доминирующая экзистенциальная стратегия. Из всех видов деятельности и отношения к жизни, потребление мыслится как главное, смыслообразующее, и тут даже есть некоторые факты. Несколько лет назад количество супермаркетов в США превысило количество школ, 13 а до тех пор было наоборот. Средний американец проводит шесть часов в неделю в супермаркете, а с детьми — в среднем один час в неделю. Тут примеров много, но вот один, характерный. Наверное, вы видели, где-то год назад стал выходить современный глянцевый журнал «Psychology», и там в проспекте, в презентационном буклете, призывающем читателя подписываться на журнал, главный редактор написал буквально вот что: «Жить лучше люди хотели всегда», — пишет он. Причем это хороший журнал по сравнению с тем, что есть вообще в популярной психологии, там достойные авторы, и все более или менее пристойно. Но этот журнал — орган «психологического человека», он для «психологического человека» и про него. И в соответствии со всем этим, главный редактор пишет: «Жить лучше люди хотели всегда, только сегодня это наше законное желание все явственнее приобретает новый психологический смысл. Многих из нас в первую очередь интересует уже не количество неких общепризнанных благ, а качество своей, именно тебе принадлежащей, и только тобой управляемой жизни». Здесь даже не нужно ничего додумывать, все сформулировано.
Только тобой управляемая жизнь — еще одна очень важная установка, я бы ее назвал менеджеризмом, если позволено такое слово употребить, — менеджеризм как жизненная позиция. В этом менеджеризме воплотились две черты: с одной стороны, это своеволие — только мной управляемая жизнь, в противоположность возможной позиции доверия, установки на послушание, или на достижение компромисса, консенсуса, когда есть некий Другой, с которым соразмеряется моя жизнь. Но еще это и управляемая жизнь, то есть жизнь мыслится как нечто, чем можно управлять, активно, директивно или нет, но лепить из жизни то, что мне нужно. Конечно, в этой установке только сам субъект есть менеджер жизни, он и выносит некий вердикт, что называть проблемой, а что не называть, какие меры предпринимать. В этом, конечно, есть некий активизм. Он выделяет какие-то жизненные коллизии как проблемы, или воспринимает что-то как проблему, что, безусловно, добавляет активности. Потому что, если представить себе, что у человека произошел какой-то глубинный кризис, крах жизни, но у человека хватило воли, ума, выдержки, менеджерской решимости выделить это как проблему и дать ей название, то это как-то мобилизует, ставит под контроль. Это — заплата на прорехе бытия, но она вдруг кажется вполне управляемой и контролируемой.
И последнее. Такой человек должен обладать рационализмом как базовым мировоззрением. В этом контексте можно использовать введенные Сергеем Сергеевичем Аверинцевым три парадигмы: научная рационалистическая парадигма, парадигма судьбы и теологическая парадигма, различаемые по способам познания и способам влияния на жизнь или на обстоятельства. Позволю себе коротенькую выписку из Сергея Сергеевича Аверинцева прочитать. Он пишет: «…от понятия судьбы следует отличать два других понимания детерминации, оставляющей место свободе: научную, то есть каузальную детерминацию, и теологическую, то есть смысловую. Каузальное понимание допускает возможность выйти за пределы необходимости, проникнуть в ее механизмы и овладеть ею. При теологическом понимании человеку предлагается увидеть бытие как бесконечную глубину смысла, как истину, что опять-таки связано с идеей свободы. Познайте истину, и истина сделает вас свободными. У судьбы, в глазах верящего в нее, есть реальность, но нет никакой истинности, поэтому ее можно практически угадывать методами гадания, ведовства, мантики, но немыслимо познать, ибо в ней принципиально нечего познавать».
Из этих трех установок рационалистическая наиболее адекватна для восприятия своей жизни и сложных ее обстоятельств как проблем. Здесь сразу возникает ощущение от своей жизни, от своего бытия, как от механизма или организма, который можно залатать, и всегда есть эксперт на каждую проблему, эксперт, который может то или это отремонтировать, есть вот такая специализация.
Итак, вот пять установок:
— частная жизнь как самоценность;
— личность — как владелец жизни;
— благополучие как норма жизни;
— консюмеризм как доминирующая стратегия;
— менеджеризм и рационализм как основа мировоззрения,
— которые можно извлечь, вдумываясь в понятие проблемы. Я не думаю, что у каждого и вообще у всех людей это доминирует. Ясно, что в реальном сознании переплетены разные слои — исторические, культурные. У меня нет намерения клеймить этих людей или понятие «проблемы». Митрополит Антоний Сурожский очень тонко определяет это понятие и им пользуется, но сейчас не будем вдаваться в детали. Однако есть комплекс идей, ощущений, который включается, когда человек осмысляет что-то как проблему. И ровно тот же комплекс нужен, чтобы психотерапия могла состояться. Выходов из психотерапии может быть много разных, и духовных, и медицинских, и так далее, а вход только через проблему. Если проблемы нет, то не будет никакой психотерапии. Вот некоторые соображения, извините, что я так долго вел свой рассказ пациента, теперь я с удовольствием выслушаю ваши соображения.
Обсуждение
Хоружий С.С.: Спасибо, Федор Ефимович. Я думаю, что заключительная часть доклада носит достаточно программный характер. Нам был нарисован портрет одного очень существенного антропологического типа, который и господствует вокруг. До этого в антропологическом плане нам был довольно систематично обрисован комплекс культурных предпосылок, изложены две концепции. И я думаю, что по их поводу замечаний и вопросов у присутствующих должно быть порядочно. Безусловно, они и у меня самого есть, но я не буду злоупотреблять своим положением ведущего. Слушаем вопросы аудитории.
Балобанов А.Е.: У меня два вопроса. Один, возвращаясь к началу разговора и к тому, как докладчик представил себя как пациента…
Василюк Ф.Е.: Да, и я бы хотел остаться в этой позиции.
Балобанов А.Е.: … и тогда я бы попросил Вас, если можно, помочь нам понять, в чем Ваша проблема, с которой Вы обращаетесь к нам?
Василюк Ф.Е.: Да, спасибо, в чем моя проблема, и чем я бы хотел поделиться? Говоря слово «проблема», я, разумеется, туда же и попадаю, о чем сейчас говорил, — я не вне этого способа чувствования, думанья. Проблема вот в чем. Если окажется, в конечном итоге, что психотерапия это не просто симптом, а скажем, сама болезнь культуры, то для меня возникнет вопрос: «А могу ли я себе позволить продолжать в этом участвовать?». Как мне к этому отнестись, если я приду к выводам, что это вредно? Я не могу изменить мир, изменить то, что происходит, но лично я могу принимать какие-то решения: участвовать или не участвовать в этом? а если участвовать, то как? Может, что-то мне нужно изменить в этом. Если окажется, что это плохо, а я продолжаю участвовать в плохом, развивать какие-то технологии, которые усугубляют это плохое, прикрывают, припорашивают, то много трагических выводов придется сделать. Но на то и психотерапия, чтобы делать иногда неприятные для себя выводы. По крайней мере, я хотел бы быть к этому открытым, хотя это и трудно.
Бахрамов А.В.: А вот мне кажется, что Ваша эта последняя постановка темы о психотерапии имеет такую особенность. В Ваших рассуждениях есть некий неявный момент, который создает проблему. А если его эксплицировать, то проблемы не будет. Вы психотерапии, ее практике дали некое определение. Возникла четкая семантика. И потом Вы смотрели, что на Западе это есть, на Востоке этого нет, в провинции этого нет, в городе это есть — но все это в рамках вашей дефиниции психотерапии. А давайте расширим понимание психотерапии, не будем привязываться к тем формам, которые существуют сейчас, 15 расширим эту семантику. Как мы ее расширим? Посмотрите, есть ли в деревне психотерапия? Да, она, конечно, есть. Например, священник или его аналог. В любой культуре есть шаман или кто-то еще. Есть психотерапия и на Востоке, в той же Японии, это культура общения. Она частично заменяет психотерапию. То есть если мы под психотерапией будем понимать ее функциональные составляющие, а не привязываться к европейской, западной форме, то мы усмотрим ее везде. Это сквозная линия, она проникает всюду. Возьмите жречество, возьмите что угодно, и тогда не будет никакого противопоставления ни во времени, ни по оппозиции провинция — город, ни по оппозиции Восток — Запад. Не будет и Ваших проблем, поскольку психотерапия была нужна, остается нужной, а в некотором смысле, ее позиции усиливаются, потому что сейчас человек сам становится своим психотерапевтом и ему нужны эти инструменты. Вот Вы сделали акцент на психологическом человеке. Для меня это просто откровение, что об этом в явном виде было сказано. Да, эта мощнейшая тенденция есть. И Вы замечательно сказали о том, что человек сам становится менеджером, это потрясающая вещь. Психотерапия, которая существовала всегда, теперь переходит внутрь, но человеку нужны инструменты, ему нужно познание, а это дает психотерапия. Фрейд много дал — не важно, насколько это адекватно, главное — это работает. Теперь допустим, что мы уходим назад во времени, и там мы не усматриваем такой развитой психотерапевтической практики. Возникает вопрос, а нужна она была в такой степени, как сейчас? Психотерапевтическая практика, в каком-то историческом периоде, в каком-то регионе была адекватна потребностям человека того времени. Был там какой-нибудь старейшина, или были там какие-то мудрецы, были там священники, раввины, я не знаю, кто еще, но такие персонажи были.
Хоружий С.С.: Простите, Вашу идею в основном Вы уже донесли. Но у Вас, что называется, альтернативная концептуализация примерно того же?
Бахрамов А.В.: Нет, я расширил понятие семантики психотерапии.
Хоружий С.С.: Поскольку она существенно отличается от представленной докладчиком, то в этом смысле она и альтернативна. Докладчик представлял нам попытку осмысления уже принятых семантических нагрузок, а Вы что-то свое представляете.
Василюк Ф.Е.: Доктор, большое спасибо, Вы меня утешили. Могу ли я идти, сеанс закончен? То есть Вы меня благословляете в таком смысле: «Не беспокойтесь, это на нервной почве у Вас такие сомнения возникли, продолжайте заниматься, потому что все равно всегда все этим занимались, ничего стыдного в этом нет, ничего плохого Вы не сделаете, продолжайте, оснащайте и нас вот этими культурными средствами». Если так, то позвольте, пожму Вашу руку, гонорар обсудим потом.
Бахрамов А.В.: Есть еще вопрос. Он связан с психотерапией, хотя и не связан с тем, что Вы говорили. Есть проблематика амнезии, потери памяти. Работает здесь психотерапия? Мне интересно Ваше мнение, с чем это связано, что происходит?
Василюк Ф.Е.: Это какой-то специальный вопрос. Количество форм амнезии огромное, существует амнезия, связанная с нейропсихологическими нарушениями, здесь психотерапия не может помочь, нужна помощь врачей-нейрохирургов и так далее, есть формы амнезии психиатрического толка. Но есть, конечно, амнезии, связанные с психологическими проблемами. Знаменитое фрейдовское вытеснение, если его понимать как нарушение функций памяти, то это тоже своего рода амнезия.
Бахрамов А.В.: А участившиеся случаи бытовой амнезии?
Василюк Ф.Е.: Это с возрастом связано, у меня, по крайней мере, точно. Это просто возрастное, связано с атеросклерозом сосудов головного мозга.
Лобач О.М.: Спасибо большое, уважаемый пациент, что Вы поставили проблему, которая неоднократно обсуждалась, и она Вами весьма сильно продвинута. В конце Вы 16 подошли к выводу, с которым спорили мои коллеги, о том, что функция психотерапии ситуационна. Психотерапия помогает адаптировать личность в очень специфических, узких условиях, урбанистических, прозападных и т. п. Для меня есть несколько недостач в Вашей подаче материала, требующих расширения. Первое, здесь пропадает роль психологии как науки. Психотерапия описывается как система, оторванная от корпуса знаний. При этом, она получает слишком большую свободу и нагружается моральными и личными выборами профессионалов, что делает очень тяжелой реализацию ее как профессии. Потому что Вы либо защищаетесь от моральных выборов профессии корпусом профессиональных требований, либо эти выборы на Вас лежат, и тогда это становится очень сильной Вашей проблемой. Это первое. Второе, это состояние современной психологии, которое на самом деле провоцирует терапевтические кризисы. И отсюда вопрос: до какой степени психология должна мигрировать и необходимо мигрирует к антропологии? Нужна ли общая рамка, и будет ли происходить то, о чем писал Выготский по поводу создания реальной общей психологии? Насколько возможно то, что она станет транспортом для психотерапии-профессии? И тогда возникает возможность социализации. Еще вопрос такой. Когда Вы давали первую классификацию, где и как рассматривается психотерапия, то там было описано несколько действительностей. Но в постоянном переходе от действительности к действительности нельзя выбрать одну, из которой можно рассматривать проблему; а значит, нельзя и получить решения. Ни перевести в задачу, ни получить ответ. Например, душевная помощь — это действительность психологических состояний, персональная действительность. При описании периода кризиса появляется социальная действительность. А то, что относится к институционализации, — это уже действительность административно-хозяйственная. При этом, ее причудливые формы таковы, что ее нельзя считать устоявшейся, поскольку роль психотерапевта и психолога во всех административных действительностях нагружена мифами. И коучинг, который возник с большой помпой на нашей территории лет шесть назад, на самом деле тихо погибает, переводя всю свою деятельность в разряд общего консультационного сопровождения. И то, что Вы описывали — по материалу — очень интересно. Но смешение действительностей при рассмотрении этого материала не позволяет выйти на решения, не позволяет сформировать задачу. В этом смысле позиция психотерапевта должна либо сформировать свою действительность, как действительность профессии, либо сказать: «Я — личность, я реализуюсь в такой форме, где для меня главная ценность в помощи, для меня существенно душевное состояние Другого», — либо наконец найти еще какую-нибудь действительность, из которой можно рассматривать свой опыт. В противном случае большой материал, отлично разработанный, не позволяет сделать следующего шага развития, не позволяет перейти в рефлексивную позицию.
Василюк Ф.Е.: То есть, доктор, если я все противоречия устраню, то у меня есть шанс?
Лобач О.М.: Абсолютно точно.
Василюк Ф.Е.:. Отлично. Один из советов для размышления, который Вы мне даете, я услышал таким образом. Вы говорите: «Ваша такая болезненная невротическая рефлексия связана с тем, что Вы берете на себя решение проблем, которые не нужно брать на себя. Есть некоторое алиби, связанное с апелляцией профессии к психологии как науке». — Я чуть-чуть утрирую, но это для заострения позиции. Иными словами, мне нужно рассматривать это как моральную проблему, потому что я отрываю психотерапию от психологии, а если бы я ее не отрывал и рассматривал психологию как научную основу психотерапевтической деятельности, тогда можно было бы обвинять психологию. Я, в принципе, хотел бы это сделать, но кое-что мне мешает. Что? Во-первых, история. Если мы рассмотрим три основных общих подхода, традиционно признаваемых в психотерапии — психоаналитический, гуманистически-экзистенциальный и бихевиориально- 17 когнитивный, то окажется, что из этих трех на науке основан только один, и то только бихевиоральный, когнитивный же подход придумал сам себя. Но бихевиоральная психология мне не кажется самой продуктивной, интересной и глубокой, а поэтому из психологий не на что опереться. История знает какие-то мелкие прецеденты, но крупных прецедентов, когда психотерапия вырастает как прикладная психология, их нет. Скорее наоборот, сама психотерапия порождает некоторые психологические способы мышления. Это во-первых. Во-вторых, даже если бы и удалось найти и сослаться на некую психолого- психотерапевтическую науку, то я — как деятель внутри культуры, — чьим авторитетом должен оправдываться? Получается, авторитетом науки. Вот психоанализ говорит, что нужно осознавать все свои неосознаваемые содержания. Психодрама говорит, что нужно спонтанно проявлять себя и так далее. Последний ли это авторитет для меня? Честно говоря, нет, я не могу на это ссылаться, видя реальный практический случай. Я еще мог бы сослаться на Фрейда — как на персону, мог бы сказать: «Знаете, я делаю так, потому что так делал Фрейд», если бы я верил ему как человеку. Это гениальный ученый, безусловно, но человек мне не близкий так, чтоб я мог на него опереться. На такого человека, как Карл Роджерс, я могу опереться, я могу сказать: «Я делаю так, как Карл Роджерс», не обосновывая дальше ничем, для меня главное обоснование — этот человек. Мы видим, что история психотерапии развивается именно так, что в основании идеи всегда лежит не концепт, а какая-то фигура со своим характером, установками. Фриц Перлз, основатель гештальт-терапии, был тоже очень интересным человеком, но психопатизированным, судя по истории жизни. И когда мы смотрим на нынешних московских представителей гештальт-терапии, то кроме идеи, концепта, методов, которые заимствованы из Фрица Перлза, с удивлением обнаруживаем (а на видеопленке это видно), что они повторяют и просто пластику Перлза, какие-то голосовые интонации, и так далее. То есть повторяют рисунок его индивидуальности, и даже его психопатические выходки. Но для него это было естественно, он был в этом смысле продуктивным психопатом, а для других это не подходит. Получается, что на психологию опереться невозможно, обвинить во всем тех, кого я считаю для себя авторитетом, — это уже теплее, но до конца как-то не успокаивает. И в этом смысле, мне кажется, идея построения антропологии и того, что Сергей Сергеевич [Хоружий] называет примыкающими стратегиями, когда бы в психологии появились отчетливые аксиологические, антропологические, философские ориентиры, — эта идея более перспективна. У Ясперса есть такая замечательная формула, простая и внятная: «Цель любой психотерапии определяется религией, — а дальше замечательное добавление, — или ее отсутствием». Он все-таки возводил психотерапию к последнему истоку, теологическому.
Лобач О.М.: Вы приняли ответственность на себя, а я имела в виду совсем другое. Вопрос не в том, что Вы должны были опереться на науку, психологию. Вы не можете на нее опереться. Вопрос в другом. Психотерапия несет некий миф в себе о том, что она имеет генетическое отношение к психологии. Вы очень точно показали и этот миф, и разрыв с ним. Сохраняя миф, либо Вы говорите: «Да, я опираюсь на науку, но у меня есть и практика авторитетных людей за последние 150 лет». Это на самом деле профессией не является, и Вы говорите: «Это только узкая социальная сфера». Либо Вы будете выстраивать то, что называется личные практики жизнепроживания. Но тогда Вы должны создать уже свою школу. Я говорю так, потому что проблема была, как Вам дальше профессионализироваться. Либо Вы остаетесь в узкой сфере профессии, либо уходите …
Василюк Ф.Е.: Мне больше нравится первый доктор. [Бахрамов А.В.] Там — нет проблемы, а тут, оказывается, надо выстраивать антропологию, школу, это очень трудно. Хотя я думаю, что если бы хватило у сообщества решимости так делать, то это был бы путь. Но легче, конечно, согласиться, что нет проблем.
Иванова Е.Л.: Хочу как пациенту посочувствовать Вашей проблеме, но высказать надежду, что психотерапия может нести и некую культурную миссию. Мы привыкли к тому, что когда есть какие-то категориальные, понятийные оппозиции, то полюса в них в некотором смысле равноценны, равноправны, есть некая симметрия. Ваши противопоставления не категориальные, это культурные оппозиции, они отражают столкновение разных миров и разных культур. Мы живем в психотерапевтической — считая ее современной, мейн стримом — культуре, на одном полюсе, но что происходит с другим полюсом и как он влияет на нас? Какова судьба этих — других — полюсов? Ведь они — как особые социальные реальности — исчезают под давлением современной культуры (то есть «психотерапевтической»). Исчезают деревня под влиянием процессов урбанизации, исчезает классическая культура. Спрашивается, представляют ли они для нас ценность? Но мы не знаем, как вступить с ними в контакт. Ведь даже если бросить профессию психотерапевта, мы не сможем выпрыгнуть из западной психотерапевтической культуры, если иные полюса исчезнут. Но есть упование, что психотерапевтическая культура не только задает определенный «нехороший» тип личности («психологического человека»), но и развивает его универсальные способности понимания человека во всех иных мирах и культурах. С помощью этих способностей мы сможем выстраивать новые интерфейсы взаимодействия с другими культурными мирами.
Василюк Ф.Е.: Из этого сочувствия не уверен, что все понял, но как пациент извлекаю, естественно, то, что задевает. В самом деле, одно из оправданий — если искать оправдание в Ваших словах, — то оно в том, что психотерапия это гуманитарная, гуманистическая практика. И я осмысляю это таким образом, что это одна из почти единственных известных мне ситуаций, в которой человек попадает в положение, когда интересуются им и только им. Интересуются со всем возможным напряжением человеческого внимания, просто рассудочного внимания, эмоционального, жизненного. Дают возможность ему выговорить свою частную жизнь, независимо от ее каких-то достоинств, достижений и так далее. То есть, психотерапия в лучших своих образцах умеет увидеть этого человека и дать ему возможность почувствовать, что он, независимо от своих каких-то достижений, настоящий представитель своего рода человеческого. Он не отчужден, не выброшен. Психотерапия позволяет ему увидеть в себе человека, а потом уже делать какие-то следующие шаги. Она дальше не идет, разумеется, но иногда она делает немало. Вот это одна из тех вещей, которые и позволяют оставаться здесь.
Рупова Р.М.: У меня сложилось впечатление, что Вы хотели выступить в роли пациента и больного, но в Вашей речи есть все, что нужно, чтобы выйти из этой проблемы.
Василюк Ф.Е.: Отличный ход. Идем дальше.
Рупова Р.М.: Вы сами сказали, что психотерапия — порождение больной культуры, и оставаться в ней, в плоскости этой же культуры, значит никуда не идти и ничего не менять. И опять же, Вы сами сказали, что тут вопрос в норме. Что есть норма? Для того, чтобы сделать следующий шаг, надо эту норму увидеть не в плоскости больной культуры, а в плоскости новой антропологии, о которой Вы сказали. Новая антропология, конечно, лежит уже в другой плоскости, более высокой, в духовной сфере, в сфере православной антропологии. И если, опираясь на эти нормы, осуществлять в качестве психотерапевта корректирующую деятельность, то будет, мне кажется, реальная помощь обществу. Получается такая позиция духовного учительства.
Василюк Ф.Е.: Я сначала думал утешиться Вашими словами, но боюсь, у меня это не получится. Логически и теоретически все было бы хорошо. Ну да, действительно есть православие, есть Церковь, есть учение Отцов, есть и богословие, развиваемое в антропологии. Чего же более? Бери и пользуйся. Вот падшая несчастная культура, вот несчастные падшие пациенты. Так неси разумное, доброе, вечное туда. Вмонтируй, вставляй, проповедуй, учительствуй, и все будет на своих местах. Но что-то не дает занять эту 19 позицию. И, может быть, вот почему. Вы наверняка знаете один из таких эмпирических, опытно открытых законов эффективности психотерапии, это закон конгруэнтности, то есть соответствия терапевта самому себе. Если я, прошу прощения, был бы святым, то Ваш совет с удовольствием принял. Почему? Потому что я мог бы всегда соответствовать в терапевтическом акте самому себе, проповедовать, учительствовать. Мои слова не расходились бы с моим душевным состоянием, с моим делом, с моей жизнью. Но тот, каков я есть, — я боюсь впасть в состояние неконгруэнтности, в профанацию. Тут есть и всякие духовные опасности, разумеется. Но попросту, есть опасность фальши. Поэтому получается, что мы лишены, к сожалению, такой возможности. Можно взять готовый духовный опыт и его в этом готовом виде привносить в терапию. Если нам повезет, Бог даст, то иногда, в каком-то конкретном акте взаимодействия, этот опыт может быть заново порожден. Вот если заново, тогда неважно кто он, пациент, и кто я сейчас, если мы совершим какие-то душевные усилия по взаимопониманию, работе с собой и так далее, и здесь родится то, что теоретически осмысляется как православная антропология, — тогда вот такое маленькое чудо произойдет. Но это не гарантировано, и этого нельзя принять как некую профессиональную позицию и установку.
Овчинникова Т.Н.: Не кажется ли Вам, что у русской культуры, которая существует уже много столетий, есть определенный духовный опыт, который составляет ее костяк. Человек, будучи свободным, постоянно возвращается к самому себе, к Богу, к царю, к чему- то устоявшемуся. Соотношение планомерности и целенаправленности не является ли характеристикой духовной культуры России?
Василюк Ф.Е.: Если можно, несколько секунд, я пытаюсь понять. До конца не могу понять, как бы это можно было применить в реальной работе и в реальном образовании. Целенаправленность сама по себе, планомерность сама по себе, независимо от цели и планов — вещи достойные, хотя и вызывают эстетическую аллергию после того, как определенное количество десятилетий удалось прожить в планомерных пятилетках. Но, тем не менее, психотерапия — такая странная реальность, в которой целенаправленность и планомерность губит психотерапевта. Если вдруг я иду на сеанс и у меня есть стратегия, то почти всегда эти сеансы оказываются провальными. А иногда я не готов, не понимаю, что делать, забыл, что было на прошлом сеансе, в общем, никуда не гожусь. У меня нет никакого плана, никакой цели, и вдруг само что-то происходит, и это подлинно. Поэтому целенаправленность и планомерность не могут быть основными стержнями психотерапии. Тут странная такая диалектика. Конечно, мы не можем делать вид, что все свершается как-то само собой, а мы не ставим себе никаких задач и целей. Есть попытка структурирования терапевтической ситуации, но это должна быть некая целенаправленность без самой целенаправленности, планомерность без планомерности. В общем, сама по себе проблема сложная, но важная.
Алена: Маленький вопрос. Говорилось о человеке эпохи модерна, она как бы первична, психотерапия возникла именно в этот период. Далее идут характеристики психологического человека. Но тут уже человек эпохи модерна претерпел существенные изменения и дожил до характеристик «психологического человека» Фуко. Но у нас уже назревает следующий шаг, и не кажется ли Вам, уважаемый коллега по несчастью, что грядет новая череда изменений — изменений характеристик уже самого психологического человека? Тогда встает вопрос: а какова будет роль того посредника, в котором так нуждался психологический человек? И вообще, будет ли он нужен, этот посредник? Возникает также вопрос о необходимости институционализации, и вообще, как все это будет выглядеть? Прошу прощения за мое любопытство.
Василюк Ф.Е.: Что касается институционализации, то она развивается не планомерно, а в известном смысле по социальным стихиям, и даже сама собой, так что задачи ее специально развивать нет. Хотя, с другой стороны, эта задачка начинает возникать. В частности, сейчас количество психологов, которые занимаются психотерапией и не имеют ни сертификата, ни какой-либо специальной подготовки, в России огромно, поэтому 20 возникает задача создавать ассоциации, проводить сертификации, аттестации и так далее, то есть регламентировать эту деятельность. Теперь что касается исторического хода. Конечно, мы понимаем, что постмодернистская культура в той версии антропологической истории, которую Сергей Сергеевич Хоружий предлагает, уже как бы обрисовала, обозначила свой следующий этап, где главная антропологическая граница проходит по линии виртуалистики. Внутри психотерапии это тоже заметно. В частности, сейчас бурно развиваются всякие формы Интернет-консультирований, но не только это. Сама коммуникация приобретает как бы пониженный личностный статус, пониженный статус реальности. В Интернете есть много всяких разных полу-психотерапевтических, полу-бытовых групп, где можно под маской, под ником, псевдонимом, обсуждать свои собственные или вымышленные проблемы, надевать на себя разные роли и так далее. Проявляется некое буйство фантазии, в психотерапию играют уже как в игру, иногда в Интернете, иногла в реальности.
Алена: Я не технологии имела в виду.
Василюк Ф.Е.: Это не технологии. Точнее, это такие технологии, которые по закону Выготского становятся внутренней структурой деятельности, и способом управления самим собой, способом обращения с самим собой. Вот мечта коллеги [Бахрамова А.В.] о том, что психотерапия будет порождать инструменты для внутренней психической деятельности, уже сбылась. Например, нейролингвистическое программирование вполне может использоваться как простенький инструмент для психотерапевтического самообслуживания. А если вы зайдете в службу психологической помощи населению, которая в метро рекламируется, то что там обычно показывают приходящим комиссиям? Знаете, я работал одно время в психиатрической больнице в деревне. Там приезжающим комиссиям показывали — вот это у нас ординаторская, вот здесь туалет, а следующая дверь — открывают — это у нас психолог. Тогда это был еще раритет. А что показывают сейчас? Ну, там у нас кабинеты психологов, а вот тут — релаксационное кресло. Можно полежать? — Конечно, можно. Это итальянское, конечно. Человек ложится в итальянское кресло, нажимает кнопочки, и тут какая-то цветомузыка, настраивается индивидуальная программа. Все это, естественно, полная чушь, но человек сразу попадает в мифологию некоего виртуального мира, он отрывается от реальности. И тебе уже не нужно ни к терапевту идти, ни думать над самим собой, тебе достаточно включить кнопку и просто потреблять некоторые миры. И это погружение в виртуальную реальность складывается не только в таких специальных формах, но и в обычной коммуникации, подростковой, например. В общем, психотерапия уже вошла в своих популярных формах в культуру и практикуется, давно и интенсивно. Многие пациенты уже сами являются матерыми психотерапевтами. Студенты первого курса, еще, конечно же, не проводят сами тренинги, но на них ходят. А уж после второго они сами начинают проводить тренинги, поскольку уже всё знают и всё умеют. Это такая стихия. Извините, отвлекся от вопроса. Джинн вырвался из бутылки.
Вопрос: У меня вопрос в дополнение к предыдущему. Мне представляется важным тезис о том, что психологический человек оказался в центре нашей сегодняшней культурно- антропологической ситуации. Вопрос мой о будущем. Будучи психиатром, я с беспокойством смотрю на то, что называется «психопатологизацией общественного сознания», когда стирается грань между нормой и патологией. Но дело даже не в этом, а в том, что психопатологические феномены начинают считаться, утверждаться как норма человеческой психики. В этом смысле замечательные (я говорю это без иронии), очень выразительные работы по этому поводу у Вадима Петровича Руднева. А вопрос мой такой: можно ли сказать, что следующим после психологического человека будет психопатологический человек, когда расстройства станут ценностью? Пока они не ценность, но когда сотрется эта грань, которая сейчас еще существует, сказать трудно.
Василюк Ф.Е.: Не знаю насчет каких-то прогнозов, но, конечно, мы с вами являемся наблюдателями сильной динамики, и это отчасти уже произошло. Когда студенты у нас на факультете после третьего курса выбирают для специализации одну из кафедр — кафедру клинической психологии и психотерапии, кафедру детской психологии и психотерапии, кафедру индивидуальной и групповой психотерапии — то у меня есть такая уже немного засаленная шутка. Я, стараясь их отвлечь от кафедры индивидуальной и групповой терапии в пользу клинической и детской, говорю: «Вы, наверное, хотите идти специализироваться по индивидуальной/групповой терапии, потому что верите, что есть пациенты взрослые и здоровые». Но реально это, действительно, не так. Таких нет. И это не только по распространенности. Речь идет про отношение к психопатологии. Особенно это заметно в молодежных субкультурах. Некоторые типичные там состояния психиатр или человек здравомыслящий, что почти одно и то же, признал бы как ненормальные. А они культивируются как ценность, специально разрабатываются. Далеко за примерами ходить не надо. Мой собственный внук, когда ему было четыре года, гуляя год назад вокруг Патриарших прудов и видя как подростки распивают там пиво, громко кричат и ругаются, с таким вожделением говорит мне: «Когда я вырасту, я тоже буду тусоваться». Я его спрашиваю: «Васенька, а что такое тусоваться?» А он отвечает: «Ну, понимаешь, тусоваться — это значит выпить пива, а потом собраться вместе и говорить белибердовыми словами». И он мечтает о том, что наступит это блаженное время, когда можно будет законным образом, уже не спрашивая разрешения у мамы, говорить белибердовыми словами, пить пиво и так тусоваться. Это состояние, хотя и нельзя назвать психопатологическим, но оно очень близко к тому; и оно уже является ценностью, неким вожделением. Я не знаю, является ли наша культура такой уж патологической по сравнению с другими, думаю, что подобным могли бы похвалиться все культуры. И хочется верить, что не является.
Вопрос: Все приводимые примеры, фамилии, школы психотерапии, — практически все без исключения не из российской, русской, как угодно, культуры. Они все западные. Насколько это случайно или неслучайно? И насколько адекватен этот перенос из той культуры сюда? И есть ли какие-то работы по выращиванию своих психотерапевтов. Если же пользоваться предложенной Вами парадигмой врач-пациент, то в ней мой вопрос звучал бы так: «Может быть, Ваша проблема в том, что Вы думаете про то, как там у них, а не о своих заботах у Вас болит голова?».
Василюк Ф.Е.: Да, это, конечно, важный аспект проблемы. Было там, у них — оказалось здесь, у нас. Все западные психотерапевтические школы сейчас с очень большим удовольствием экспортируют нам психотерапию. У нас есть программы по всем основным западным школам — программы сертифицированные, долговременные, дорогостоящие. Публика туда стремится, то есть те, которые хотят продвинуться в этой профессии, получить кроме базового психологического или медицинского образования, еще и сертификат той или иной западной школы. Есть, конечно, и некоторые отечественные разработки, но на фоне всего, что существует даже в России, они относительно незаметны по количеству публикаций, по прописанности, продуманности, разработанности идей. Реплика: Просто нет еще сертификатов.
Василюк Ф.Е.: Есть какие-то. Есть программы, которые сертифицируются, но в основном мы повторяем опыт Запада, такова фактология. А задача собственных разработок есть, возвращаясь к заданному вопросу. Все-таки психологическая традиция у нас начинает все больше выявляться. Интересна, например, линия Выготского, которая становится все более популярной на Западе. Как сказал один рижанин, не очень любящий Россию: «Выготский сейчас в топе». Поэтому они вынуждены в латышском университете его преподавать, поскольку Запад его признает. Так что одна из задач состоит в том, чтобы развивать такие формы психологической практики, которые продолжают отечественную интеллектуальную традицию — достаточно мощную, сильную традицию. Такая задача есть, но я не уверен, что если мы это сделаем, то проблемы, о которых шла речь в докладе, 22 снимутся. Правда, пока мы это сделаем, может, не нужно будет вообще никаких проблем решать.
Аршинов В.И.: Очень маленький вопрос, который относится к контексту разграничения психологии и психотерапии. Как Вы относитесь к психологическому направлению, которое называется нарративная психология? Не является ли это направление в психологии тем ресурсом, который каким-то образом окажет Вам помощь как пациенту. Это психология нарратива, рассказа.
Василюк Ф.Е.: Нарративная психотерапия тоже не психология, а психотерапия. Сейчас она тоже энергично развивается, но пока что, мне кажется, она воспроизводит новыми словами те концепты и идеи, которые уже давным-давно существовали. Давным-давно, начиная еще с Пьера Жане, с конца XIX века, в традиции Выготского также. Просто это слово «нарратив» не использовалось. Но принципиально новых идей я пока там не вижу, и поэтому их спасительность не так велика.
Хоружий С.С.: Хорошо. Ну что же, друзья. Мы благополучно продвигаемся к завершению, степень согласия и сочувствия была довольно высокая. Сегодня Ваша презентация вызвала повышенную меру приятия, я бы сказал, в нашей аудитории.
Василюк Ф.Е.: Пациента ведь нужно как-то пожалеть.
Хоружий С.С.: Это согласие, переходящее в сочувствие. То, что я имел бы сказать, из этой линии совершенно не уклоняется. У меня нет принципиальных методологических расхождений. Я очень рад был услышать отчетливую концептуализацию всего широкого поля психотерапии: разнесение на два рода, вычленение территории, которую занимает психотерапия как дискурс, характеризацию этого поля двумя четкими системами условий. Я не специалист здесь, но в том, что известно мне, такой отчетливой концептуализации определенно мне не попадалось. Представленное нам изложение мне кажется и перспективным, и оригинальным. Засим — всего два конкретных небольших замечания, одно по антропологической части, одно по культурно-исторической. Что касается культурно- исторической, то Вы предпочли не использовать одного слова, которое явно напрашивалось, но, видимо, Вам казалось слишком затертым во всех контекстах. Тем не менее, оно емкое и здесь не лишнее: это, конечно же, секуляризация. Это — еще одна характеристика той границы (свое любимое слово употреблю), что разделяет области, где психотерапия уже есть и где ее еще нет. Речь идет о том, что до секуляризации в некоем социуме задачи, разрешаемые психотерапией, аналоги психотерапии, безусловно, были, но мы не относим их к психотерапии, не называем этим термином. Отчего? Прежде всего, оттого, что эта область задач была интегрирована в некоторую объемлющую область, очень тесно интегрирована, не формально, и за счет этой интеграции она получала дополнительные измерения, дополнительные аспекты, коих в современной психотерапии отнюдь нет. Всем понятно, что я имею в виду. Когда ведущей антропологической парадигмой была парадигма отношений с Инобытием, и реализовывалась эта парадигма в духовной практике, как мы здесь привыкли говорить, то аналогом психотерапевтической деятельности была борьба со страстями. И эта борьба со страстями была очень существенно, теснейше встроена во всю лестничную, ступенчатую структуру пути человека, духовно-антропологического процесса, это была критически важная его часть. Поэтому, несмотря на то, что термин «православная психотерапия», сегодня с легкой руки митрополита Иерофея стал очень распространен, и в его лице сами представители традиции, православной классической аскетики, не возражают, для меня все-таки, с позиций необходимой в нашей теме методологической рефлексии, адекватность данного термина сомнительна. Борьба со страстями существенно встроена в духовный процесс, она тесно взаимодействует с его высшими ступенями, специфически религиозными и мистическими, от них зависит и очень много от них получает. Автономно она не мыслима, ее нельзя извлечь, вынуть из процесса — и соответственно, она не самодостаточна, у нее нет собственной автономной области. 23 Поэтому, если двигаться в логике доклада, в логике пациента Василюка, то мы не должны говорить, что здесь есть психотерапия, что мы уже в ее поле. И грань перехода достаточно точно обозначается именно термином секуляризация. За этой гранью автономизация психотерапии уже возможна, и постепенно начинает происходить. Прежде же этой грани, аналогичные ситуации человека, аналогичные его потребности вполне даже есть — однако те средства, которые при этом употребляются, не позволяют говорить, что в соответствующих практиках конституируется и институционализируется психотерапия. Второе замечание еще меньше, совсем уж частное. К набору Ваших антропологических условий. Тут как раз самое незначащее привлекло мое внимание — консюмеризм. Внутри западного общества (американского, в первую очередь, как дальше всего продвинувшегося), как мы отлично знаем, вполне распространена, особенно в просвещенной прослойке, и противоположная установка, антиконсюмеризма. Описывая слой яппи, Вы даже ее по касательной затронули. Она встраивается сюда же, она — внутри психологического человека, а не вне. И как антропологи, мы здесь должны сказать, что существует некая общая социально-антропологическая ситуация, которая в своих реализациях порождает не одно что-то, а порождает раздвоенность, бинарную оппозицию. Эта ситуация порождает консюмериста, но она же с неизбежностью порождает и реакцию на него — порождает антиконсюмериста, как его зеркальное отражение, хотя они и реализуются по преимуществу в разных слоях социума. В реальности общества потребления существует не один доминирующий тип, консюмерист, но зеркальная двоица, консюмерист со своим зеркальным двойником-антиконсюмеристом. У двойника — свой набор психотерапевтических проблем — скажем, проблемы яппи — проблемы анорексии, и было бы интересно сравнить эти наборы расстройств, консюмеристский и антиконсюмеристский. Поэтому, как с антропологической, так и с психотерапевтической точки зрения, желательно такое малое обобщение Вашей схемы. И это, пожалуй, все.
Василюк Ф.Е.: Спасибо, Сергей Сергеевич.
Хоружий С.С.: И тогда мы можем закрывать наше заседание, поблагодарив нашего пациента и докладчика.

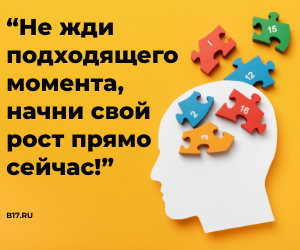

Комментарии к книге «Культурно-антропологические условия возможности психотерапевтического опыта », Федор Ефимович Василюк
Всего 0 комментариев