I. Наша программа
Ошибки заманчивы
От Аристотеля к Фрейду
Реальное
Три идеала
Темой семинара в этом году будет, как и было заявлено, Этика психоанализа. Сам по себе такой выбор никого, по-моему, удивить не должен, хотя для некоторых, возможно, неясно осталось, какое содержание я в эту формулировку вкладываю.
Взяться за нее я решился, должен признаться, не без некоторого колебания, и даже опаски. Решился потому, что предмет этот является прямым продолжением нашего прошлогоднего семинара — работы, которую можно, надеюсь, считать окончательно завершенной. А двигаться вперед нам, так или иначе, необходимо. Именно круг тем, объединяемых понятием этики психоанализа, позволит нам наилучшим образом выверить те категории, которые благодаря занятиям нашим станут для вас, я надеюсь, орудием, которое позволит рельефно обрисовать то новое, что учение Фрейда и вытекающая из него психоаналитическая практика с собой принесли.
Чего же оно касается, это новое? Чего-то очень общего, и в то же время совершенно особого. Общего, поскольку психоаналитический опыт является в высшей степени знаковым для того исторического момента, который мы, люди, сейчас переживаем, не отдавая себе порою, а то и большею частью, даже смутного отчета в значении того дела, того общего дела, в котором все мы волей-неволей принимаем участие. Но в то же время и совершенно особого, как совершенно особой является повседневная наша с вами работа — тот способ, иными словами, которым должны мы в психоаналитической практике отвечать на то, что вы научились уже у меня определять как требование, то требование пациента, которому сообщает точное его значение наш ответ — ответ, подходить к которому следует нам чрезвычайно строго, чтобы не позволить смыслу этого требования, по большей своей части вполне бессознательному, претерпеть искажения.
Слово этика я выбрал, говоря о психоанализе, отнюдь, как мне
8
представляется, не случайно. Я мог бы, например, говорить о морали. Но я предпочел говорить об этике, и вы в дальнейшем увидите, почему — поверьте, что не просто из удовольствия щегольнуть ученым и редким словом.
1
Хочется для начала обратить ваше внимание на обстоятельство, благодаря которому предмет этот не только близок нам, психоаналитикам, как никому другому, но и чрезвычайно для нас притягателен — насколько я знаю, не было еще на свете психоаналитика, который не испытывал бы искушение по поводу его высказаться, да и сам термин этика психоанализа выдуман отнюдь не мною. Нельзя же, в самом деле, игнорировать ту бесспорную истину, что в проблемы морали мы, в буквальном смысле, погружены с головой.
Психоаналитический опыт позволил нам проникнуть в мир проступка как никогда глубоко. Именно этот термин — проступок — использует, снабжая его, вдобавок, характерным определением, мой коллега Энар, говоря о Болезненном мире проступка. Именно под этим углом зрения — под углом зрения его болезненности — получаем мы привилегированный подход к нему.
Угол зрения этот неотделим, на самом деле, от явления проступка в целом: связь проступка с болезненностью наложила свою печать на все современные размышления на моральные темы. Интересно бывает иногда наблюдать — о чем вскользь я уже упоминал вам — своего рода головокружение, которое испытывают в религиозных кругах те, кто пытается осмыслить то новое, что принес им наш опыт, с точки зрения морали. Поразительно, как быстро поддаются они порою искушению чрезмерного, до смешного доходящего оптимизма, проникаясь уверенностью, будто устранение болезненности приведет к тому, что улетучится, вместе с нею, и преступление.
На самом деле, мы имеем дело с совершенно другим явлением — с привлекательностью проступка, ни больше, ни меньше.
Но что он, собственно, такое, этот проступок? Речь не идет, разумеется, о проступке больного, который тот совершает специально, чтобы его наказали. Говоря о потребности наказания, мы действительно обычно имеем в виду проступок — проступок, лежащий на пути этой потребности и совершаемый для того, чтобы его, это наказание, заслужить. Но все это отсылает нас, тем не менее, вся-
Этика психоанализа: глава I9
кий раз дальше, к какому то иному, смутно осознаваемому проступку, который это наказание за собой и влечет.
Может быть, это тот проступок, из которого учение Фрейда исходит первоначально — убийство отца, тот миф, который лежит, согласно Фрейду, у истоков развития культуры? А может, речь идет о другом, более смутном и более изначальном проступке — том, на след которого вышел Фрейд на последнем этапе своего учения, о том инстинкте смерти, в чьей устрашающей диалектике человек внутри себя прочно укоренен?
Размышления Фрейда неуклонно ведут его от первого из этих предположений ко второму — именно этот путь, на последовательных этапах его, нам предстоит рассмотреть. Но соображения, заставляющие нас особо выделить ту роль, которую играет в нашем опыте и фрейдовском учении в целом этическое измерение, на самом деле к теме этой, ни в практической, ни в теоретической области, отнюдь не сводятся. Уже давно было справедливо замечено, что вся этика целиком чувством обязанности далеко не исчерпывается.
Соотнося человека с его собственными поступками, нравственный опыт как таковой — а именно опыт, опирающийся на санкцию, позволение — выступает не просто в качестве закона, а в качестве направления, тенденции, в качестве блага, наконец, которое он стремится стяжать — что и порождает, в итоге, определенный идеал поведения. Все это тоже входит, собственно говоря, в этическое измерение, хотя и лежит, разумеется, по ту сторону заповеди как таковой, то есть всего того, что может повлечь за собой чувство того или иного рода обязанностей. Я говорю это оттого, что считаю нужным вписать область нашего опыта в поле размышлений людей, попытавшихся, уже в наше время, придать моралистическому мышлению новый импульс — я имею в виду, в первую очередь, Фредерика Рауха, позицию которого, как одного из ведущих представителей этого направления, нам предстоит в дальнейшем учитывать.
Но мы не принадлежим к тем, кто охотно отодвинул бы чувство обязанности на второй план. Если что и удалось анализу убедительно продемонстрировать, так это огромное значение, вездесущность, так сказать, того, что скрывается по ту сторону чувства обязанности как такового — а именно, чувства вины. В этической мысли существуют определенные внутренние тенденции к тому, чтобы этот темный, прямо скажем, лик морального опыта проигнорировать. И если сами мы не принадлежим к тем, кто пытается его
10
смазать, затушевать, затенить, то лишь потому, что в самом ежедневном опыте нашем слишком непосредственно с ним сталкиваемся и работаем.
При этом, однако, именно психоанализ остается деятельностью, как нельзя высоко ставящей плодотворную функцию желания — желания как такового. Настолько высоко, что можно, обобщая, сказать, что в теоретических построениях Фрейда происхождение морального измерения как раз из желания и выводится. Именно энергия желания дает начало инстанции, которая в дальнейшем, на последнем этапе своей разработки, предстает как цензура.
Итак, в круговом рассуждении, обязательном для нас, выведенном из характерных особенностей нашего опыта, какие-то концы сходятся.
Существовало в философии направление — к тому, что наиболее близко подошло к мысли Фрейда и было завещано нам девятнадцатым веком, оно, кстати сказать, непосредственно предшествовало, — существовала, повторяю, в девятнадцатом веке определенная философия, ставившая себе целью то, что можно было бы охарактеризовать как натуралистическое раскрепощение желания. Это направление мысли, вполне практического свойства, можно описать как мировоззрение человека удовольствия. Но натуралистическое раскрепощение желания закончилось крахом. С одной стороны, теория, деятельность социальной критики и матрица опыта, направленная на сведение обязанности к ряду точно заданных в социальном порядке функций, внушали надежду на то, что императивный, принудительный и, надо прямо сказать, конфликтный характер нравственного опыта можно смягчить. С другой стороны, в той же мере явились мы свидетелями того, как из опыта этого вырастают на деле явления, носящие характер откровенно патологический. В истории натуралистическое раскрепощение желания потерпело, повторяю, крах. Современный человек несет бремя закона и долга ничуть не менее тяжкое, чем прежде, до появления на исторической сцене так называемого критического свободомыслия.
Обратившись, хотя бы в ретроспективе, к опыту человека удовольствия, мы, используя вклад анализа в знание перверсивного опыта и места, которое он занимает, без труда убедимся, что буквально все в этой моральной теории делало ее крах неизбежным.
И в самом деле — несмотря на то, что опыт человека удоволь-
11
ствия ставит себе идеалом натуралистическое раскрепощение, достаточно почитать наиболее серьезных из представляющих эту точку зрения авторов — а под таковыми я разумею тех, что зашли в своем самовыражении на путях свободомыслия и эротизма наиболее далеко, — чтобы заметить, что в раскрепощении этом явственно звучит нота ордалии, вызова, брошенного тому, что составляет для этой мысли, пусть в редуцированном виде, ее неизменный, безусловно, предел — а именно, предел божественный.
Именно Бог, будучи автором природы, призван ответить за все те крайности, на нашей нужде в которых Сад, Мирабо, Дидро и им подобные так настаивают. Этот вызов, эти требования, ордалия эта не давали возможности иного выхода, кроме того, что и оказался, собственно, в ходе истории осуществлен. Того, кто этой ордалии, суду этому, себя подвергает, обнаруживает в конце концов и его главную предпосылку — того Другого, перед которым ордалия эта разыгрывается и кому принадлежит, в конечном счете, роль Судии. Именно это и сообщает особенный тон этой литературе — литературе, в которой измерение эротического присутствует в формах, подобных которым мы не найдем нигде. И в ходе нашего исследования нам не обойтись, конечно, без рассмотрения того, что анализ с этим опытом, лежащим у корней его, связывает и роднит.
Мы касаемся здесь направления, которое не было пока психоанализом достаточно глубоко исследовано. Похоже, что с тех пор, как опыты Фрейда пролили на парадоксы происхождения желания и на многообразие извращенных форм, которые принимает оно у детей, неожиданно яркий свет, психоаналитики предпочли вновь свернуть на дорогу более торную и сгладить эти парадоксы, свести их к некоему гармоническому единству. Именно эта тенденция является для аналитической мысли в целом наиболее характерной, так что самое время задаться вопросом — а не ведет ли нас теоретический прогресс в итоге вновь к морализму, и при том более глобальному, нежели любой из прежних? Единственной целью анализа становится, похоже, усмирение чувства вины, хотя нам на собственном опыте знакомы трудности, препятствия и нежелательные реакции, которые на этом пути до сих пор нас встречали. Речь идет в этом случае о приручении извращенного наслаждения — приручение, которое опиралось бы на демонстрацию его универсального характера, с одной стороны, и выполняемой им функции, с другой.
Термин частичное, применяемый по отношению к извращен-
12
ному влечению, становится в этом случае вполне осмысленным. Именно вокруг выражения частичное влечение строился в прошлом году целый пласт наших размышлений, посвященных тому, как углубил анализ понимание функции желания и каково глубинное предназначение замечательного разнообразия, придающего ценность тому каталогу человеческих склонностей, что позволяет нам психоанализ составить.
Острота вопроса будет, возможно, особенно заметна при сравнении с той позицией, к которой наше видение понятия желание нас привело, — с точкой зрения, сформулированной, к примеру, Аристотелем в рассуждениях его об этике. Рассуждениям этим мы уделим в ходе нашего исследования большое внимание — в особенности же тому труду этого философа, где этическая система его предстает в наиболее разработанной форме — в Никамаховой этике. Есть в мысли Аристотеля два момента, из которых явствует, что регистр желания оказывается им из области нравственного в буквальном смысле целиком исключен.
И в самом деле, для Аристотеля, когда речь идет о желаниях определенного рода, этической проблемы просто не возникает. Зато в нашем опыте именно эти желания выступают на первый план. Значительная часть тех сексуальных желаний, с совокупностью которых имеем мы дело, наивно зачисляется Аристотелем по разряду чудовищных аномалий — он просто-напросто называет их скотскими. То, что на этом уровне происходит, никакой моральной оценке просто не подлежит. Этические проблемы, поставленные Аристотелем — проблемы, суть и смысл которых я разъясню вам позже — располагаются целиком в другой сфере. Это момент немаловажный.
Принимая во внимание, с другой стороны, что в целом моральная система Аристотеля в теоретической морали своей актуальности не потеряла, можно с точностью оценить, насколько подрывную роль играет в этом отношении наш опыт, в свете которого формулировки философа предстают поразительно парадоксальными, примитивными и, честно говоря, непонятными.
Но все это покуда лишь замечания, сделанные по ходу дела. Задача моя нынче утром — это изложить вам нашу программу.
Задачей нашей будет попытаться узнать, что позволяет сформулировать анализ в отношении происхождения морали.
13
Сводится ли его вклад в эту проблему к выработке очередной мифологии — более правдоподобной, более светской, нежели та, что претендует на происхождение свыше, из откровения — той реконструированной в книге Тотем и табу мифологии, отправной точкой которой является опыт первоначального убийства отца со всеми его причинами и последствиями? С этой точки зрения, происхождение подавления объясняется преобразованиями энергии желания, так что провинность не является в этом случае чем-то таким, что навязано нам в чисто формальных своих чертах, но предстает, напротив, как felixculpa, повод для похвалы, ибо именно в ней берет свое начало та высшая сложность, которой обязано своим развитием измерение жизни, именуемое цивилизацией.
Ограничивается ли все, одним словом, зарождением сверх-Я — инстанции, контуры которой с течением времени обретали в работах Фрейда все более разработанные, ясные, глубокие и сложные очертания? Мы убедимся в дальнейшем, что зарождение это ни к психогенезу, ни к социогенезу отнюдь не сводится. На самом деле нельзя сформулировать его, оставаясь в пределах регистра коллективных потребностей. Мы неизбежно встречаемся здесь с некой инстанцией, которую с социальной необходимостью как таковой спутать нельзя — с тем измерением, иными словами, которое пытаюсь я здесь для вас выделить, говоря о регистре означающего и законе дискурса. И если мы хотим даже не то чтобы строго, но хотя бы просто корректно обозначить то место, которое опыт наш занимает, автономность этого полюса должна в наших рассуждениях сохраняться.
Различие между культурой и обществом привносит здесь, безусловно, нечто такое, в чем можно усмотреть новизну, отклонение от того, как рассматриваются подобные вещи в определенного рода психоаналитическом обучении. Я далеко не единственный, кто на факт этого различия обратил внимание и поставил на нем нужный акцент. В дальнейшем мне удастся, надеюсь, осязательно продемонстрировать то, как замечает и осмысляет это различие в своих работах сам Фрейд.
Чтобы вы знали, на какую работу, нам, говоря об этой проблеме, предстоит опираться, я вам сразу же назову ее — это Недовольство культурой, работа, написанная Фрейдом в 1922 году, уже после разработки им второй своей топики, то есть после того, как он выдвинул на первый план такое проблематичное понятие, как инстинкт смерти. Вы встретите в этой работе блестяще сформули-
14
рованную мысль о том, что последствия прогресса цивилизации явления, то недовольство, масштабы которого надлежит оценить, располагаются, в конечном счете, по отношению к человеку — человеку в тот поворотный момент истории, где он, по мысли Фрейда, в данный момент находится — на уровне куда более высоком. К значению этой формулировки мы еще вернемся — я покажу вам, что из нее в этом тексте следует. Я думаю, однако, что указать на нее уместно уже сейчас, поскольку она весьма знаменательна и вполне понятна, если принять во внимание ту оригинальность совершенного Фрейдом переворота во взглядах на отношения человека к логосу, которую я стараюсь на наших занятиях показать.
Недовольство культурой — работа, с которой я всех присутствующих прошу ознакомиться, или перечесть ее — вовсе не носит у Фрейда характера заметок Она не принадлежит к разряду тех книжек, которые ученому или практикующему психоаналитику не без снисходительности, в качестве экскурса в область философской рефлексии, позволяют прочесть — не обременяя его при этом громоздким техническим аппаратом, характерным для всякого, кто выдает себя за мыслителя по философской части. От этой распространенной среди психоаналитиков точки зрения на данную работу надо решительно отказаться. Недовольство культурой — это работа важнейшая для понимания фрейдовской мысли, в качестве обобщения его опыта — первоочередная. И подходить к ней следует очень серьезно. Именно она освещает, подчеркивает и рассеивает двусмысленности, касающиеся ряда отчетливых и различных моментов аналитического опыта и той позиции, которую обязаны мы занять по отношению к человеку, поскольку именно с человеком и со всегдашним требованием его имеем мы в нашем повседневном опыте дело. Как я сказал уже вам, нравственная жизнь не ограничивается приносимыми жертвами — облик, в котором она каждому по личному опыту хорошо знакома. Она не связана исключительно с постепенным признанием функции, которую вычленил и подверг анатомическому исследованию Фрейд, рассмотрев ее парадоксы, под именем сверх-Я, — к той непристойной и свирепой фигуре, о которой я вам говорил, в виде которой предстает нам моральная инстанция, когда мы отправляемся на поиски ее корней.
Нравственный опыт, с которым имеет дело анализ — это еще и тот опыт, выражением которого служит своеобразный императив, который предлагает нам, если позволено будет так в данном слу-
15
чае выразиться, фрейдовская аскеза — тот Wo es war, soll Ich werden, к которому приходит Фрейд во второй части своих Vorlesungen о психоанализе. Корень этой формулы лежит в опыте, который заслуженно может считаться опытом нравственным и лежит в самой основе вступления пациента в психоанализ.
Это я, которое должно явиться там, где (нечто) было, и которое анализ учит нас измерять, является не чем иным, как тем самым, чьи корни уже даны нам в том Я, что задается вопросом о том, чего оно хочет. Его не просто расспрашивают — нет, с течением времени, набираясь опыта, оно задается этим вопросом само, и ставит оно его именно там, откуда исходят те зачастую чуждые, безжалостные, парадоксальные императивы, которые предлагаются ему болезненными переживаниями.
Подчинится или не подчинится он тому долгу, который ощущает в себе самом как чужой, потусторонний, вторичный? Должен или не должен он повиноваться императиву сверх-Я — парадоксальному, болезненному, полубессознательному и открывающемуся, настаивающему на себе все больше по мере того, как продвигается аналитическая работа и пациент видит, что назад ему пути нет?
Не состоит ли подлинный его долг в том, чтобы идти, если можно так выразиться, против этого императива? Говоря это, я имею в виду нечто такое, что составляет часть данных нашего опыта — больше того, что вытекает из опыта, анализу предшествовавшего. Достаточно увидеть, как с самого начала выстраивается опыт страдающего неврозом навязчивости, чтобы ясно стало, что загадка термина долг сформулирована для него как таковая с самого начала — еще до требования им той помощи, которой он в анализе ищет.
На самом деле, тот ответ, который мы в данном случае предлагаем, не теряет всеобщего своего значения оттого только, что в качестве очевидной иллюстрации его мы выбрали конфликт, типичный для невроза навязчивости — именно поэтому и существуют различные этические системы, этическая рефлексия как таковая. Оправданием долга, происхождению которого мы давали различные объяснения, занимается не только философская мысль. Оправдание того, что сопровождается для нас при своем появлении непосредственным чувством обязательности, оправдание долга как такового — не просто отдельных заповедей его, а именно долга как чего-то на нас возложенного — находится в центре вопрошания, которое само носит характер всеобщий.
16
Не являемся ли тогда мы, аналитики, всего-навсего чем-то таким, к чему вопрошающие могут прибегнуть, что дает им убежище? Не являемся ли мы — что уже немало — чем-то таким, что призвано ответить на требование не страдать — во всяком случае, не понимая, почему страдаешь, — требование, выдвигаемое субъектом в надежде, что, поняв, мы избавим его не только от неведения причины страдания, но и от страдания как такового?
Не очевидно ли, в самом деле, что идеалы аналитиков как правило в этой плоскости и лежат? В идеалах этих недостатка нет. Они всегда налицо в изобилии. Измерять, соотносить, организовывать и координировать те — как это в определенном регистре морального мышления принято говорить — ценности, которые мы нашим пациентам предлагаем и вокруг которых нашу оценку их успехов выстраиваем — превращая их путь в торную дорогу, — в таком случае это предстает частью нашей работы. Их этих идеалов я вам назову пока три.
Первый из них — это идеал человеческой любви.
Должен ли я особо говорить о роли, которую приписываем мы идее совершенной любви? Термин этот знаком вам, наверное, уже давно, и не только по нашим лекциям, так как нет аналитика, который бы им активно не пользовался. Вы знаете к тому же, насколько часто приблизительный, смутный и нечистоплотный характер своего рода оптимистического морализма, которым отмечены были первоначальные попытки артикулировать форму желания, именуемую генитализацней, служил мне мишенью. Речь идет об идеале генитальной любви — любви, которая сама по себе формирует, якобы, удовлетворительное объектное отношение, — любви-лекаре, сказал бы я, представив эту идеологию в комическом ключе, или гигиены любви, как можно выразиться, озвучив то, что является для психоанализа, похоже, пределом его стремлений.
Но на этом вопросе мы бесконечно задерживаться не будем, так как мысль эту я не перестаю внушать вам с тех пор, как этот семинар существует. Однако для вящего обоснования ее замечу, что создается впечатление, будто аналитическая рефлексия тушуется перед тем фактом, что опыт наш сходится к одному пункту. Факт это, конечно, бесспорный, но похоже, что пункт этот стал для современного аналитика порогом, преодолеть который он чувствует себя не в силах. Сказать, между тем, что моральные проблемы,
17
касающиеся моногамного брака, вполне решены, было бы неточно, неверно и неосторожно.
Почему анализ, который, поместив любовь в центр клинического опыта, представил ее тем самым в новой, иной перспективе, который привнес в рассмотрение любви оригинальный оттенок, никак не связанный с тем местом, которое моралисты и философы ей до сих пор в домостроительстве человеческих отношений как правило уделяли, — почему не продвинулся анализ в исследовании того, что следовало бы, собственно, назвать эротикой, несколько дальше?
Женская сексуальность, кстати сказать, — то, что я на повестку дня нашего будущего конгресса поставил — является в эволюции анализа одним из наиболее явных признаков того изъяна, который мне в недостатке такого исследования видится. Вряд ли стоит напоминать вам о том, что Джонс услышал однажды из уст человека, который, даже не будучи в наших глазах в этом вопросе специалистом, донес до нас — насколько мы, с необходимыми оговорками, можем судить — в своих словах то, что слышал он от самого Фрейда. По словам Джонса, человек этот поведал ему однажды, что слышал от Фрейда примерно следующее: — "После тридцати лет занятий и размышлений остается вопрос, на который я так и не могу дать себе ответа, и вопрос этот — Was will das Weib?" Чего хочет женщина? Точнее — чего желает женщина, так как немецкий глагол will может получить в данной ситуации именно этот смысл.
Намного ли мы в этом отношении ушли вперед? Мне стоило бы вам показать при случае, каким образом обходят аналитические исследования вопрос, который, кстати, отнюдь не анализом поставлен был на повестку дня. Анализ, а мысль Фрейда в особенности, связан генетически с той эпохой, которая поставила этот вопрос с особенной остротой. Ибсеновский контекст конца девятнадцатого века — времени, когда вызрели главные идеи Фрейда — нельзя не принимать во внимание. И странным представляется, что аналитический опыт скорее приглушил, смягчил проблему сексуальности, обходя молчанием те зоны, которые в перспективе требования женщины в ней открываются.
Второй идеал, к которому аналитический опыт тоже обнаруживает поразительное тяготение — это, скажем так, идеал подлинности, аутентичности.
Аутентичность преподносится нам не просто как путь, уровень, ступень на пути прогресса, а как норма, определяющая готовность
18
19
продукта, как нечто желательное — иными словами, как ценность. Это идеал, но идеал, который мы вынуждены подчинить весьма тонким клиническим нормам. Я поясню сказанное на примере проницательных наблюдений Элен Дейч в отношении определенного типа личности и характера — того типа, о котором нельзя сказать, что он плохо адаптирован или не выполняет каких-то принятых в обществе моральных норм, но который в поведении и поступках своих представляется — кому? — другому, окружающим его — отмеченным той особой чертой, которую называют по-английски^ if, a по-немецки — Als ob. Мы соприкасаемся здесь с особым регистром, неясным и отнюдь не простым, который иначе, как в моральной перспективе, рассматривать нельзя, — регистром, без чьего присутствия в качестве путеводной нити нам в нашем опыте просто не обойтись, так что нам постоянно следует задаваться вопросом о том, в какой мере мы ему соответствуем.
Это гармоническое начало, эта полнота присутствия, недостаток которого мы как клиницисты столь тонко способны оценить — не останавливается ли наша техника — та, которую окрестил я срыванием масок — на полпути к достижению их? Разве не интересно было бы задаться вопросом о том, что само отсутствие у нас интереса к так называемой науке о добродетелях, практическому разуму, или смыслу здравого смысла, может значить? Оно ведь правда, что в область, где речь идет о добродетелях, мы никогда не вмешиваемся. Другое дело, что мы расчищаем дороги и прокладываем пути, на которых то, что именуется добродетелями, когда-нибудь, мы надеемся, расцветет.
Создали мы, какое-то время назад, и третий идеал, за принадлежность которого к первоначальному измерению психоаналитического опыта я бы не поручился — идеал не-зависимости, или, точнее, своего рода профилактики зависимости.
Нет ли здесь некоего предела, некоей тонкой границы, отделяющей то, что мы считаем в этом регистре для взрослого субъекта желательным, с одной стороны, и способами вмешательства, которые мы себе позволяем, чтобы помочь ему это желанное получить, с другой?
Для ответа достаточно напомнить о том, с какой принципиальной недоверчивостью подходит фрейдовская мысль ко всему тому, что имеет отношение к образованию. Конечно же, мы, а в особенности те из нас, кто занимается психоанализом детским, постоян-
но вынуждены в эту область вступать — ведь работаем мы в измерении, которое я в другом месте назвал, имея в виду этимологию, ортопедическим. Тем более удивительно, что как в используемых нами средствах, так и в главных теоретических основаниях наших, этика анализа — а она, эта этика, существует — постоянно стремится сгладить, увести в тень, отодвинуть на задний план, а то и устранить вовсе то измерение, которое мне достаточно назвать, чтобы сразу стало понятно, что отделяет нас от любых этических построений более ранних — я говорю о привычке, привычке хорошей или дурной.
Упоминаем мы о привычке тем более редко, что аналитические построения вписываются обыкновенно в совершенно иные термины — в термины травмы и ее устойчивости. Конечно же, мы научились ее, эту травму, отпечаток этот, этот след раскладывать на простейшие элементы, но суть бессознательного вписывается, тем не менее, в иной регистр, нежели тот, на который обращает внимание в своей "Этике" Аристотель, прибегая для этого к игре слов ΐθος/ήθος.
Существуют нюансы очень тонкие, рассмотреть которые можно в терминах характера. Этика у Аристотеля — это наука о характере. Формирование характера, динамика привычек — и, далее, поступки под действием этих привычек, воспитание, дисциплина. Работу эту, столь показательную, стоит пролистать хотя бы лишь для того, чтобы оценить, насколько отличается наш подход к этике от одной из наиболее авторитетных форм этической мысли прошлого.
Заостряя внимание на следствиях из наших сегодняшних предпосылок, я сразу предупрежу, что как ни обилен весь тот материал, который в очерченной мной перспективе лежит, я попытаюсь в следующий раз исходить из позиции радикальной. Чтобы отдать себе отчет в том, насколько позиция Фрейда в отношении к этике оригинальна, необходимо обратить внимание на сдвиг, на изменение отношения к вопросу морали как таковому.
У Аристотеля, этическая проблема — это проблема блага, Верховного Блага. Нам еще предстоит в дальнейшем понять, почему он стремится поставить акцент на проблему удовольствия, проблему той функции, которую с незапамятных времен выполняло удовольствие в ментальной икономии этики. Это вопрос, от которого нам не уйти, так как именно к нему отсылает нас фрейдовская теория, говоря о системах φ ιι φ, двух психических инстанциях, имену-
20
21
емых ей, соответственно, первичным и вторичным процессами.
Идет ли в обоих случаях речь об одной и той же функции удовольствия? Невозможно заметить разницу, не поинтересовавшись тем, что происходило в разделявшем эти два построения историческом промежутке. Так что нам поневоле придется — хотя это в мои функции не входит, и положение, которое я здесь занимаю меня нимало к этому не обязывает — позволять себе некоторые исторические экскурсы.
Именно здесь столкнемся мы с теми терминами, которыми пользуюсь я как главными своими ориентирами — Символическое, Воображаемое, Реальное.
Уже не раз, когда случалось мне рассуждать о Символическом, Воображаемом и их взаимодействии, многие из вас задавались вопросом о том, что же, собственно, представляет собою Реальное. Для мысли поверхностной, привыкшей к тому, что этика должна исследовать вещи, принадлежащие области идеальной, и даже ирреальной, это может показаться странным, но мы будем двигаться в прямо обратном направлении, и постараемся, напротив, углубить понятие Реального. Теперь, когда мысль Фрейда сдвинула нас с мертвой точки, вопрос этики ставится как вопрос об ориентации человека по отношению к Реальному. Чтобы понять это, придется обратиться к тому, что происходило в историческом промежутке между Аристотелем и Фрейдом.
Так, в начале девятнадцатого века имел место, скажем, утилитаристский переворот. Момент этот, исторически вполне обусловленный, характеризуется радикальным упадком той функции, которая была для этической мысли Аристотеля руководящей и обеспечила этой последней ее долговечность — функции господина. Обесценение позиции господина мы встречаем уже у Гегеля, у которого господин, этот славный рогоносец исторической эволюции, остается в дураках, поскольку прогресс минует его, шествуя путем побежденного им раба и его труда. Первоначально, в полноте своей, господин — когда он еще существовал, во времена Аристотеля — ничуть не похож на гегелевское измышление, являющееся, скорее, оборотной его стороной, его негативом, знаком его исчезновения. Но еще раньше, незадолго до этой финальной точки, возникает, в русле определенных затрагивающих отношения между людьми социальных катаклизмов, направление мысли, именуемое утилитаризмом — направление далеко не столь плоское,
каким его обыкновенно себе представляют.
Речь не идет, просто-напросто, о решении проблемы имеющих хождение на мировом рынке благ и о наилучшем их, этих благ, распределении. Речь идет о целом направлении мысли, истоки которого, его скрытые пружины, стали ясны для меня благодаря присутствующему здесь Якобсону, указавшему для меня на то ценное, что можно найти в одной из работ Иеремии Бентама, которой в очерках его творчества внимания обыкновенно не уделяется.
Личность эта вовсе не заслуживает того недоверчивого, а то и насмешливого отношения, которое проявляет порою определенного рода философская критика в отношении его роли в развитии этической мысли. Мы увидим с вами, что мыслить он пытается в русле философской и даже, собственно, лингвистической критики. Не обратив на это внимания, трудно было бы оценить акцент, который в ходе совершаемого им переворота делает он на термине Реальное — термине, противостоящем у него другому английскому термину, fictitious.
Fictitiousне означает у него иллюзорный или обманчивый. Но нельзя передать его и словом фиктивный, как сделал это Этьен Дюмон — человек, которому Бентам обязан своей известностью на континенте и который учение его несколько вульгаризировал. Fictitiousесли и означает фиктивный, то лишь в том смысле, в котором употребляю это слово я сам, когда говорю вам, что всякая истина имеет структуру фикции.
Усилия Бентама лежат в русле диалектики отношений языка с Реальным и направлены на то, чтобы определить место блага, в данном случае удовольствия — удовольствия, которое, как мы в дальнейшем увидим, связано у него, в отличие от Аристотеля, со стороной Реального. Вот здесь-то, внутри противоположности между фикцией и реальностью, и происходит переворот, который удается фрейдовскому опыту совершить.
Как только разделение фиктивного и реального произошло, положение вещей оказывается совсем не таким, каким можно было бы ожидать. У Фрейда характеристика удовольствия, как измерения того, что человека сковывает, лежит целиком на стороне фиктивного. Фиктивное оказывается, по сути дела, не тем, что мы именуем обманчивым, а тем, что мы зовем, собственно говоря, Символическим.
Что бессознательное структурировано как функция Символи-
22
ческого; что принцип удовольствия толкает человека на поиски не чего иного, как возвращения знака; что за рассеянностью в том, что поведением человека без его ведома руководит, стоит то, что приносит ему, по принципу благозвучия, удовольствие; что человек ищет и находит не тропу, а собственные следы — вот факты, значение которых для мысли Фрейда мы должны оценить, чтобы ясно представить себе, какая роль отводится при этом реальности. Фрейд, как и Аристотель, не думает, разумеется, будто конечной целью человека является счастье. Как ни странно это, но счастье связано почти во всех языках с понятием встречи, τύχη. Кроме английского, хотя даже здесь этот элемент есть. Здесь не обходится без некоего благосклонного божества. Счастье для нас — это еще и благое предзнаменование, augurum, удачная встреча. Glьck — это geliick. Happiness, по-английски — это все-таки тоже встреча, хотя англичане и не почувствовали в данном случае необходимости добавлять элемент, отмечающий собственно положительный ее, этой встречи, характер.
Слова эти вовсе не обязательно, кстати сказать, означают в разных языках одно и то же — стоит ли напоминать анекдот о человеке, эмигрировавшем в Америку из Германии, который на вопрос:
— "Are you happy?" — отвечает: — "Oh yes, I am very happy. Iamreallyvery, very, happy, aber nicht glьcklich.1"?
От внимания Фрейда не укрывается, что именно счастье является для нас тем, на что все поиски наши, в том числе и этические, направлены. Но главное для него заключается в том, чему многие
— под тем предлогом, что, мол, выслушивать человека, когда он выходит за пределы своей технической компетенции, не обязательно — значения не придают и что в Недовольстве культурой, кажется мне, ясно прочитывается: в том, что ни в макро-, ни в микрокосме для счастья этого ни малейших залогов нет.
Мысль эта очень нова. Рассуждения Аристотеля об удовольствии предполагают, что удовольствие есть нечто само собой разумеющееся и представляет собой полюс притяжения всех человеческих начинаний, поскольку если есть в человеке что-то божественное, так это принадлежность его природе.
Необходимо отдавать себе отчет в том, насколько это понятие о природе отлично от нашего — ведь оно исключает все "скотские" желания, сохраняя лишь то, что относится к области свершений собственно человеческих. Перспектива, как видим, со временем оказалась обратной. Для Фрейда все, что направлено к реальности, требует своего рода темперации, понижения тона — умерения того, что является, строго говоря, энергией удовольствия.
Это имеет огромное значение, хотя и может показаться вам, людям своего времени, несколько банальным. Я знаю уже — ползет слух, будто Лакан только-то и говорит, что король, мол, голый. Может быть, кстати говоря, имеется в виду я сам, но будем все же держаться предположения, что речь идет о моих семинарах. В них, правда, больше юмора, чем кажется моим критикам — но что именно они хотели сказать, мне знать не дано. Говоря, что король голый, я поступаю не как ребенок, рассеивающий, якобы, всеобщее заблуждение, а скорее как Альфонс Аллэ, который собирал толпы похожих на улице зычным криком: — "Какой срам.'Глядите на эту женщину! Она же под одеждой вся голая!" На самом деле, я не говорю даже этого.
Если король действительно голый, то как раз потому, что прикрыт одеждами — фиктивными разумеется, но для наготы его совершенно необходимыми. И по отношению к одеждам короля нагота его, как другая история Альфонса Аллэ показывает, так и останется, возможно, не вполне нагой. В конце концов, с короля можно, как с танцовщицы, содрать кожу.
На самом деле, перспектива этого абсолютно закрытого характера отсылает нас к тому, как фикции желания организованы. Именно там берут свое начало те формулы фантазма, которые вывел я здесь в прошлом году, и наполняется содержанием понятие желания как желания Другого.
Я закончу сегодня на одном примечании из "Traumdeutung", заимствованном из "Введения в психоанализ". Второй руководящий нами фактор, пишет Фрейд, гораздо более важный и неспециалистами обычно игнорируемый, состоит в следующем. Удовлетворение пожелания должно, конечно, приносить удовольствие, но дело в том — я не думаю, что притягиваю вещи за уши, обнаруживая здесь лакановский акцент в способе постановки вопроса — дело в том, что отношения сновидца со своим пожеланием не являются, как известно, простыми и однозначными. Пожелание это он осуждает, отрекается от него, не желает, чтобы оно сбылось. Мы вновь сталкиваемся здесь с существенным для желания измерением — оно всегда представляет собой желание во второй степени, желание желания.
Мы вправе ожидать, на самом деле, что фрейдовский психоанализ привнесет хоть какую-то ясность в то, к чему в последние годы исследовательская мысль, наконец, приблизилась — в знаменитую, слишком знаменитую, теорию ценностей. В ту самую теории ценностей, которая позволила одному из адептов своих во всеуслышание заявить, будто ценность вещи есть ее желанность. Заметьте хорошенько — речь идет о том, чтобы определить, достойна ли вещь быть желанной, желательно ли, чтобы ее желали. Мы оказываемся здесь перед своего рода каталогом, который можно сравнить во многих случаях со складом подержанного платья — перед местом, одним словом, где копятся различные формы суждений, хаотическое многообразие которых многие века, вплоть до дня сегодняшнего, над человеческими стремлениями господствовало.
Структура, заданная воображаемыми отношениями как таковыми, тем фактом, что нарциссический человек вступает в диалектику фикции раздвоенным — структура эта будет нами к концу этого, посвященного этике психоанализа года, рассмотрена. И вы увидите тогда, как встанет перед нами в конечном счете вопрос, связанный с фундаментальной ролью мазохизма в формировании инстинктов.
Многое останется, конечно, неясным в отношении того места, которое занимаем в эволюции эротики мы сами, и в отношении той помощи, которую можем мы оказать не тому или иному пациенту в отдельности, а пораженной недовольством культуре в целом. Не исключено, что с идеей действительных новшеств в области этики нам надлежит проститься — можно сказать даже, что до какой-то степени признаком этого может служить тот факт, что мы неспособны оказались, несмотря на все наши теоретические успехи, дать начало хотя бы одному новому извращению. Однако если нам удалось бы углубить представление об икономическои роли мазохизма, это стало бы, по меньшей мере, знаком того, что в отношении существующих извращений мы приблизились к самой сути проблемы.
Не желая ставить перед собой задачи невыполнимые, будем считать, что это и есть тот пункт, к которому мы к концу года можем рассчитывать подойти.
18 ноября 1959 года.
Введение в реальность
II Удовольствие и реальность
Моральная инстанция предъявляет Реальное. Инерция и исправление. Реальность хрупка. Противостояние и взаимопересечение принципов.
Мед, я пытаюсь принести вам мед — мед размышлений моих о том, чем я, Бог свидетель, занимаюсь долгие годы — годы, которые, хотя и теряю я постепенно им счет, складываются со временем в отрезок жизни, соизмеримый с тем, что провели со мною вы сами.
И если форма такого вот непосредственного общения между нами доставляет порою трудности, вспомните еще раз о меде. Мед — он бывает или очень твердый, или, наоборот, совсем жидкий. Если он затвердел, резать его трудно, потому что естественных разломов в нем нет. Ну, а если он жидкий — вам случалось, я думаю, есть мед в постели за завтраком, — то незаметно очень скоро оказывается повсюду.
Отсюда проблема горшочка. Горшочек с медом напоминает горшочек с горчицей, которому уже случалось мне некогда воздать должное. И тот и другой — с тех пор, во всяком случае, как мы не думаем больше, будто маленькие шестиугольники, из которых мы наш урожай почерпаем, связаны естественным образом со структурой мира — имеют одинаковый смысл, так что вопрос, которым мы задаемся остается, в конечном счете, все тем же: что же, собственно, достигается речью?
В этом году нам предстоит, в частности, уяснить, что этическая сторона нашей практики тесно примыкает к тому, в чем мы с вами смогли уже с некоторых пор убедиться — к тому, собственно говоря, что глубокая неудовлетворенность любой психологией, в том числе той, основы которой мы с помощью психоанализа заложили, связана, возможно, с тем, что психология эта всего лишь маскирует, иногда создавая при этом своего рода алиби, попытку разгадать загадку наших собственных действий — попытку, которая и составляет в этической мысли ее суть и основу. Другими словами, нам предстоит понять, удалось ли нам сделать хоть малый шаг за пределы этики, или же мы, как и другие психологи, движемся в ее пределах в поисках руководства, пути, в поисках ответа на вопрос, который можно было бы, в конечном счете, сформулировать так — что должны мы делать, чтобы поступать, в границах нашей человеческой участи, верно, праведно?
Актуальность этого вопроса трудно оспаривать в условиях, когда сама наша повседневная деятельность наводит на мысль, что мы недалеко от такой его постановки ушли. Для нас, разумеется, вещи выглядят несколько иначе. Способ, которым мы эту деятельность ведем, оправдываем и представляем, совсем иной. Исходным моментом ее служит требование, призыв, нужда, и сама служебная роль ее диктует более приземленный подход к осмыслению этической постановки вопроса. Но это не мешает нам то и дело сталкиваться с этической проблематикой в ее цельной форме — той самой, что осмыслялась и излагалась всеми, кто когда-либо размышлял над вопросами морали и пытался увязать друг с другом различные этические позиции.
1
В последний раз я обрисовал программу того, что предстоит нам в этом году пройти, начиная от признания того, что моральный императив пронизывает психоаналитический опыт и присутствует в нем буквально повсюду, и кончая тем, что располагается на другом полюсе, на том удовольствии, которое, как ни парадоксально это, мы получаем вторичным образом, о моральном мазохизме.
По ходу дела я уже обратил ваше внимание на то, что с точки зрения, на которую я, опираясь на используемые мною в психоаналитическом опыте в качестве ориентиров фундаментальные категории Символического, Воображаемого и Реального, попытаюсь встать, предстанет для вас оригинальным и неожиданным. Как я уже сказал вам, тезис мой, на самом деле, — не удивляйтесь, пожалуйста, если поначалу он покажется темным, так как значение его вполне выяснится только из дальнейшего — тезис мой, повторяю, состоит в том, что моральный закон, моральная заповедь, присутствие моральной инстанции являются тем самым фактором, посредством которого заявляет о себе в нашей деятельности — поскольку деятельность эта структурирована Символическим — присутствие Реального.
Положение это может показаться тривиальным и парадоксальным одновременно. Оно действительно предполагает, что моральный закон утверждает себя вопреки удовольствию — более того, мы прекрасно отдаем себе отчет в том, что, говоря в связи с моральным законом о Реальном, мы вроде как подвергаем сомнению ценность того, что преподносится, как правило, под знаком Идеала. Но я не буду сейчас заострять эту мысль, так как возможные преимущества такого взгляда на вещи связаны как раз с тем, какой смысл мы придадим — в тех категориях, в которых я учу вас психоаналитическую практику описывать — термину Реальное.
Непосредственного доступа к нему нет, хотя некоторые из вас, недоумевая о том, какое значение я собираюсь ему в конце концов приписать, должны были бы заметить, во всяком случае, что смысл этого понятия не может не быть связан с пронизывающей все творчество Фрейда тенденцией, следуя которой, он отказывается от первоначального противопоставления принципа реальности принципу удовольствия, чтобы после ряда колебаний, сомнений и незаметных смещений ориентиров постулировать, в окончательном варианте своего учения, существование по ту сторону принципа удовольствия чего-то такого, относительно чего далеко не ясно, как оно с первоначальным противопоставлением соотносится. По ту сторону принципа удовольствия является нашему взору тот темный лик — настолько темный, что мог предстать в глазах некоторых несовместимым не только с биологической, но и с научной мыслью вообще — имя которому инстинкт смерти.
Что такое инстинкт смерти? Что это за лежащий по ту сторону любого закона закон, который нельзя представит себе иначе, как закон некоей последней структуры, точки схождения, к которой устремляется реальность как к собственному пределу? В сцеплении между принципом реальности и принципом удовольствия принцип реальности вполне может предстать продолжением, применением принципа удовольствия. Но возникает впечатление, что это подчиненное и редуцированное его состояние вызывает на противоположном полюсе к жизни нечто такое, что определяет собой, в самом широком смысле, все наше отношение к миру. О раскрытии, об обнаружении этого и идет речь в работе По ту сторону принципа удовольствия. Причем в развитии этой мысли обращает на себя внимание проблематичный характер того, что у Фрейда под именем реальности выступает.
Идет ли речь о реальности повседневной, непосредственной, социальной? О подчинении установленным категориям и общим местам? О реальности, открытой наукой, или, наоборот, о той, что открыть еще надлежит? Или, может быть, о реальности психической?
Именно ее, реальность эту, мы сами, как психоаналитики, пытаемся разыскать, и увлекают нас эти поиски далеко от того, что какой-либо общей категорией можно выразить — в то поле, четко очерченное, психической реальности, что носит на себе проблематичные черты некоего порядка, подобного которому никогда еще не было.
Поэтому для начала я попробую исследовать ту функцию, которую выполнял термин "реальность" в мысли создателя психоанализа, а заодно и в нашей собственной — в мысли тех, кто последовал по его стопам. Наряду с этим — чтобы вы не забыли или не подумали, будто, развивая мысль в этом направлении, я опираюсь на опыт только в те моменты, когда избежать этого просто нельзя — я сразу обращаю ваше внимание на то, что проблемы, которые ставит перед нами моральный поступок связаны с тем, что анализ, может быть, и готовит к нему, но оставляет нас, в конечном счете, лишь на пороге.
Моральный поступок, на самом деле, прочно привит к Реальному. Он вводит в Реальное нечто новое, пролагая в нем след, где присутствие наше обретает свою законную санкцию. В каком смысле анализ нас к такому поступку готовит — если это, конечно, так? В каком смысле подводит нас анализ к совершению такого поступка? И почему именно подводит? Почему останавливается на пороге? Вот он, другой осевой момент того, что я надеюсь здесь сформулировать — момент, уточняющий то, что охарактеризовал я вам в прошлый раз как предел, до которого мы в наших построениях можем дойти, как то самое, что позволяет нам заявить о способности своей выстроить некую этику. Скажу сразу — пределы психоаналитической этики совпадают с границами психоаналитической практики. А практика эта служит не более чем прелюдией к моральному поступку как таковому, ибо посредством него, поступка этого, мы выходим в Реальное.
Среди всех тех, кто занимался до нас анализом этики, Аристотель заслуженно занимает одно из самых почетных мест. Это действительно захватывающее чтение, поупражняться в котором я вам настоятельно рекомендую — ручаюсь, что вы не соскучитесь.
Возьмитесь за "Никомахову этику", которую специалисты числят среди наиболее достоверно принадлежащих ему работ и которая, безусловно, наиболее читаема. В содержании текста, в некоторых отступлениях, в самом ходе мысли встретятся, конечно, какие-то трудности. Пропустите отрывки, которые покажутся вам слишком трудными, или раздобудьте издание с хорошими примечаниями, откуда вы сможете почерпнуть все, что понадобится вам, для понимания обсуждаемых им проблем, из аристотелевой логики. А главное, не старайтесь сразу понять до конца каждый параграф, а прежде прочтите книгу от начала до конца, и вы точно об этом не пожалеете.
В любом случае, вам сразу бросится в глаза то, что роднит его с другими этическими системами — он стремится опереться на определенный порядок. Порядок этот предстает поначалу как наука, επιστήμη, наука о том, что должно быть сделано, неоспоримый порядок, которым определяется для характера его норма, εθος. Проблема, которая возникает, состоит в том, каким образом может быть этот порядок субъекту вменен. Каким образом привести субъект в соответствующее состояние — состояние, которое подвигнет его в этот порядок встроиться, ему подчиниться?
Живое существо от существа неодушевленного, инертного, отличается, по Аристотелю, тем, что им усвоен некоторый ήθος. Сколько бы вы ни бросали камень, говорит Аристотель, привычка к определенной траектории у него не выработается, а человек постепенно такую привычку усваивает — она-то и есть ήθος. Задача состоит в том, чтобы выработать такой ήθος, который соответствовал бы тому, что он называет ΐθος, то есть некоему порядку, который встраивался бы, в предлагаемой Аристотелем логической перспективе, в некое Высшее Благо, — ту точку схождения, соединения, конвергенции, где частный порядок встраивается в знание более общее, где этика выливается в политику и далее, за пределами последней, в подобие космического порядка. Макро-и микрокосм лежат в основе всей аристотелевой системы.
Речь идет, таким образом, о сообразовании субъекта с чем-то таким, что, в Реальном, неоспоримо, так как предполагает путь, этим порядком диктуемый. К какой проблеме аристотелевская этика постоянно принуждена возвращаться? Начнем с того, кто пресловутым знанием обладает. Предполагается, конечно, что тот, к кому Аристотель обращается, слушатель, ученик, причастен к научному дискурсу уже постольку, поскольку он учителя слушает. Дискурс, о котором идет речь, ορθός λόγος, дискурс прямой, правильный, имеет, таким образом, место в силу самого факта, что этическая проблема поставлена. Тем самым мы вновь возвращаемся к формулировке, которую с оптимизмом, не преминувшим поразить его ближайших последователей, дал этому вопросу Сократ — если правило действия сформулировано в ορθας λόγος, если любой хороший поступок должен быть с ним непременно сообразован, почему продолжает существовать то, что Аристотель именует распущенностью? Почем склонности субъекта влекут его в другом направлении? Как это объяснить?
Эта нужда в объяснении, сколь бы надуманной она нам — полагающим, будто мы знаем на этот счет куда больше — сейчас ни казалась, занимает тем не менее среди тем аристотелевой "Этики" очень важное место. Я еще вернусь к этому немного позже, когда речь пойдет о соображениях, высказанных в этом отношении Фрейдом.
Начальными условиями задачи является для Аристотеля определенный человеческий идеал, который я по ходу дела уже охарактеризовал вам как идеал господина. Ему предстоит выяснить, как соотносится ακολασία, распущенность, с явным изъяном в том, что является главной добродетелью того, к кому Аристотель, собственно, обращается — добродетелью господина.
Господин в античном смысле этого слова — я кажется в прошлый раз обращал на это ваше внимание — это вовсе не та героическая бестия, которую рисует гегелевская диалектика и которая служит этой диалектике осью и поворотным пунктом. Я не буду сегодня распространяться о типических его чертах — достаточно сказать, что именно эта фигура позволяет по достоинству оценить то, что дает нам аристотелевская этика. Делая это замечание, я, конечно же, ограничиваю значимость этой этики, признаю ее исторически обусловленной, но это не единственный вывод, который можно из него сделать. В аристотелевской перспективе античный господин представляет собой фигуру, человеческую судьбу, которая связана с судьбой раба гораздо менее тесно и критично, нежели в перспективе гегелевской. На самом деле, проблема, поставленная Аристотелем, остается в гегелевской перспективе неразрешенной — это проблема общества господ.
Есть и другие соображения, которые, в свою очередь, ограничивают значение этики Аристотеля еще более. Обратите, например, внимание на то, что идеал господина, этот божок в центре аристотелевского, управляемого умом, νους, мира, состоит, похоже, в том, чтобы устраниться от труда как можно более полно — чтобы, доверив руководство рабами управляющему, устремиться к идеалу созерцания: идеалу, без которого этика лишается необходимой для нее перспективы. Вот то, что касается идеализации, которую аристотелевская этика предполагает.
Этика эта сужается, таким образом, до этики определенного социального типа, привилегией которого является — о чем говорит сам термин σχολαστικός — праздность. Тем более поразительно, с другой стороны, констатировать, насколько этика эта, сформулированная для очень специфической социальной группы, остается для нас плодотворной и поучительной. Предлагаемые ей схемы не потеряли для нас своей ценности. Именно они обнаруживаются, хоть и в виде не всегда узнаваемом, на том уровне, на котором изучаем мы с вами фрейдовский опыт. И мы можем транспонировать их, скомпоновать их по-новому таким образом, что новый мед наш не будет больше храниться в ветхих мехах.
Можно с самого начала сказать, что поиск пути, истины, психоанализу отнюдь не чужд. Ибо что мы вообще в анализе ищем, как не истину — истину, которая сделала бы нас свободными?
Однако, внимание! — не будем доверяться словам и ярлыкам. Истина, которую мы ищем в конкретном опыте — это не истина некоего верховного закона. Если истина, которую мы ищем, должна нас сделать свободными, то искать ее следует там, где скрывается наш субъект. Другими словами, это истина частная.
Но если способ артикуляции этой истины, который мы находим у каждого в отдельности, оказывается — будучи каждый раз обновляемым — тем же самым и у других, то дело в том, что предстает он для каждого чем-то интимным, особенным, нося характер властного желания, Wunsch. Нет ничего, способного себя ему противопоставить — ничего, что позволило бы судить о нем с внешней ему позиции. Лучше всего в нем то, что оно как раз и представляет собой то подлинное желание, которое лежало в основе отклоняющегося от нормы, атипичного поведения.
Узнается это Wunsch по своему особому, непримиримому характеру, не подчиняющемуся иным нормам, кроме переживания удовольствия или боли — переживания, где берет оно свое начало и, сформированная им, сохраняется в глубинах субъекта в непримиримой форме. Wunsch не носит характера всеобщего закона — напротив, выступает как закон совершенно особенный, хотя то, что особенность эта встречается у каждого человека, представляет собой нечто всеобщее. Встречаемся мы с этой особенностью в той форме, которую называем регрессивной, инфантильной или ирреалистической фазой, и носит она черты мысли, отданной в распоряжение желания — желания, принятого за действительность.
Все это составляет самый текст нашего опыта. Неужели, однако, все наше открытие, вся наша мораль сводятся к этому — к смягчению, к обнаружению, к обнажению этой сопряженной с желанием мысли, той истины, что в этой мысли содержится? Неужто надеемся мы, что одного воссияния этой истины достаточно для того, чтобы дать место мысли иной, отличной? С одной стороны, да, это так — проще, казалось бы, некуда. С другой стороны, однако, стоит нам в таких выражениях на эту тему заговорить, как истина оказывается для нас за семью печатями.
Если бы преимущество, новизна психоаналитической мысли ограничивались только этим, она не пошла бы дальше той известной задолго до психоанализа истины, что ребенок является отцом взрослого. Мысль эта, цитированная с уважением самим Фрейдом, принадлежит Вордсворту, английскому поэту романтической школы.
Не случайно возникла эта мысль именно тогда, вместе с тем новым, гнетущим и разрушительным, что принес с собой промышленный переворот в Англии — стране, где результаты его сказались всего заметнее. Для английского романтизма действительно характерно то, что детству, миру ребенка, его желаниям и идеалам он придавал особую ценность. Поэтам этой эпохи они представлялись истоком, из которого брало начало не только их вдохновение, но и главные темы их поэзии — в чем, кстати сказать, заключается радикальное отличие их от своих предшественников и, в первую очередь, от той великолепной поэтической школы семнадцатого — начала восемнадцатого века, которую принято почему-то называть "метафизической".
Взгляд, обращенный к детству, к ребенку, который живет во взрослом, мысль о том, что во взрослом, который не может позволить себе оставаться ребенком, нужды ребенка постоянно дают тем не менее о себе знать — все это относится к разряду психологических явлений, историческая обусловленность которых не оставляет сомнений.
Живший в первой половине девятнадцатого века, представитель ранней викторианской эпохи, историк Маколей отмечает, что в его время не обязательно было уличать своего противника в бесчестности или глупости — достаточно было обвинить его в незрелости, в детском характере мышления. Подобный аргумент, настолько характерный для того времени, что в эпоху более раннюю ни одного похожего примера вы не найдете, указывает на наличие здесь скачка, перебоя в исторической эволюции. Во времена Паскаля если о детстве и говорили, то для того лишь, чтобы указать на разницу между ребенком и взрослым. Рассуждая о мышлении взрослого, его современники никогда, ни при каких обстоятельствах, не пытались найти в нем характерные для ребенка черты.
Для нас вопрос в этих терминах просто не стоит. Тот факт, что мы его постоянно, тем не менее, подобным образом ставим, хотя и оправдан содержанием и текстом наших отношений с невротиком, соотнесенностью нашего опыта с индивидуальным генезисом, скрывает, однако, то, что за этим кроется. Ибо сколь бы верным сказанное, в конечном счете, ни представлялось, существует и другое поле напряжения — между мыслью, с которой мы имеем дело в бессознательном, с одной стороны, и той, что мы, Бог знает отчего, именуем взрослой, с другой. Для нас осязаемо очевиден тот факт, что эта последняя проигрывает в скорости той пресловутой мысли ребенка, которой мы пользуемся, чтобы о нашем взрослом судить. Причем используем мы ее не для выделения по контрасту, а в качестве ориентира, той точки, в которой все наши промахи и падения сходятся, сливаются воедино. В том, как мы этим ориентиром пользуемся, заключено постоянное противоречие.
Прежде чем прийти сюда, я как раз читал причитания Джонса по поводу давления со стороны общества, без которого современники наши, наши собратья по человечеству, оставались бы эгоистичными, тще'славными, скаредными, стерильными и т. д. А какие же они еще? — невольно хочется написать на полях. Когда мы говорим о взрослом, на что мы при этом ориентируемся? Где взять для взрослого образец?
Эти соображения заставляют нас вновь обратиться к тому, что составляет стержень фрейдовской мысли, ее костяк. Анализу удалось, конечно, организовать весь добытый им в опыте материал в терминах идеального развития. Но первоначально, в истоках своих, термины его располагались в совершенно иной системе ориентиров — в системе, где понятия генезиса, развития — я уже дал вам это предварительно это понять, хотя и вынужден говорить об этом лишь бегло, по ходу дела — не служат постоянным подспорьем. Главным же ориентиром является поле напряжения, противостояние — будем называть вещи своими именами — между первичным процессом и процессом вторичным, между принципом удовольствия и принципом реальности.
2
В ходе своего пресловутого самоанализа Фрейд, в коротком письме, Na 73, пишет — Meine Analyse geht weiter, мой анализ продолжается, он составляет предмет главного моего интереса, mein Hauptinteresse, все остальное покуда неясно, но появляется уже чувство удобства — как если бы, пишет он, в доме у тебя была кладовая, откуда можно в любой момент достать все, что тебе понадобится. Что неприятно, отмечает он, так это — die Stimmungen, в самом общем смысле, которое слово это, в немецком языке имеющее свои особенные оттенки, может принять, означая настроения, чувства, которые по природе своей скрывают за собой — что? — die Wirklichkeit, реальность.
Именно в терминах реальности, Wirklichkeit, исследует Фрейд то, что предстает перед ним как Stimmung. Stimmung и оказывается как раз тем самым, что открывает для него в самоанализе предмет поиска, в чем он ищет на свои вопросы ответы, что создает у него ощущение, будто у него уже есть где-то отложенное, словно в темной кладовке, Vorratskammer, про запас, все то, что может ему понадобиться. Но сами Stimmungen его к искомому отнюдь не ведут. Именно так надо понимать фразу, где он говорит, что самое неприятное, das Unangenehmste, для него — это Stimmungen. Опыт Фрейда вырастает из исследования скрытой где-то в недрах его самого реальности — в этом оригинальность его исходной позиции. И в совершенно том же духе он добавляет далее, что даже половое возбуждение нисколько не помогает такому, как он, на этом пути продвинуться. Даже здесь не может он, по его словам, поручиться, что имеет дело с какой-то последней реальностью. Прибавляя, впрочем, тут же, что это его отнюдь не расстраивает. Чтобы добиться результата, нужно уметь потерпеть немного.
Упомяну, по ходу нашего разговора, о вышедшей недавно небольшой работе Эриха Фромма, читать которую я вряд ли решился бы вам посоветовать, поскольку написана она непоследовательно и с коварным, едва ли не клеветническим умыслом. Книга эта, озаглавленная "Sigmund Freud'sMission", ставит в отношении личности Фрейда не слишком деликатные, хотя и не лишенные интереса вопросы, выставляющие его, разумеется, в невыгодном свете. Исследуя, например, вырванные из контекста высказывания Фрейда о сексуальном возбуждении, он приходит к выводу, что уже к сорока годам Фрейд был импотентом.
Сейчас нам пришла пора обратиться к рукописи Фрейда датированной 1895 годом, которая попала по воле судеб к нам в руки — рукописи, имеющей отношение к фундаментальным воззрениям Фрейда на структуру психики. Предполагаемым названием ее было "Психология для неврологов". Поскольку опубликована она не была, черновик ее оказался в пакете с письмами к Флиссу, и теперь, когда переписка эта стала достоянием публики, доступной оказалась и эта рукопись.
Поэтому в поисках ответа на вопрос о том, какую роль в размышлениях Фрейда играла тематика противопоставления принципа реальности принципу удовольствия, мы не только вправе, но даже обязаны начинать именно отсюда. Можно ли обнаружить какое-то отличие между тем, что он говорит здесь, и магистральным ходом его мысли, да и направлением всего нашего опыта, в дальнейшем? Именно здесь, представляется мне, сможем мы найти тот скрытый костяк, без которого, я думаю, нам в данном случае не обойтись.
Противопоставление принципа удовольствия принципу реальности Фрейд переформулирует на протяжении своего творчества много раз: 1895, "Entwurf" — 1900, седьмая глава Traumdeutung, первая опубликованная им работа, где проводится различие между так называемым первичным процессом, управляемым принципом удовольствия, и процессом вторичным, управляемым принципом реальности — 1914, публикация в переработанном виде статьи, из которой взято было мною сновидение, о котором так много говорил я вам в прошлом году, сновидение о мертвом отце, который не знал — статья Formulierungen ьber die zwei Prinzipien des psychischen Geschehens, которую можно было бы озаглавить "О структуре психики" — 1930, статья Недовольство культурой, к которой мы, как я обещал, подойдем в заключение курса.
Об удовольствии как ведущей для этики функции говорили задолго до Фрейда. Аристотель не просто обсуждает ее, но вынужден поставить ее в самый центр развиваемого им этического учения. Что такое счастье, если не распускается на нем цветок удовольствия? Довольно большая часть Никомаховой этики как раз и посвящена тому, чтобы найти функции удовольствия подобающее ей место — причем функция эта, что интересно, предстает у него отнюдь не пассивной. Удовольствие у Аристотеля — это деятельность, которая сравнивается с цветком, распускающимся на побеге юности, своего рода световой ореол. Более того, это еще и признак того осуществления действия, которое, строго говоря, и подразумевает слово ivipyzia- термин, означающий подлинную практику, то есть практику, заключающую в себе самой свою цель.
В течение веков удовольствие, конечно, принимало разные формы — было оно и знаком, и стигматом, и преимуществом, и субстанцией психического переживания. Посмотрим, однако, что оно представляет собой у нашего нынешнего совопросника — Фрейда.
Уже с самого начала нас поражает то, что принцип удовольствия у него — это принцип инерции. Задача его состоит в регуляции, в каком-то смысле автоматической, всего, что сводится воедино процессом, который Фрейд, судя уже по первой предложенной им недвусмысленной формулировке, склонен представлять себе как итог работы заранее сформированного механизма, тесно связанного с механизмом нейронов. Этот последний регулирует траектории, сохраненные им после того, как они в нем были проложены. Речь идет, по сути дела, о результатах последствий врожденного стремления к разрядке, делающего неизбежными количественные потери. Вот та перспектива, в которой функционирование принципа удовольствия было первоначально вписано.
Эта гипотетическая формулировка является в одном отношении в творчестве Фрейда уникальной — дело в том, что она ему откровенно не нравилась и он не хотел ее публиковать. Если он все-таки зафиксировал ее на бумаге, то для того лишь, чтобы связать концы с концами для самого себя. Причем надо сказать, что в статье нет никаких ссылок, по крайней мере сколь-нибудь очевидных, на клинические факты — на то, что является для него в запросах, с которыми к нему обращаются, самым весомым. Здесь он беседует с самим собой, или с Флиссом, что в данном случае почти одно и то же. Эта связная и правдоподобная рабочая гипотеза нужна ему для того, чтобы ответить на вопросы, конкретный и экспериментальный характер которых остается здесь скрытым, завуалированным.
Речь, по его словам, идет о том, чтобы объяснить нормальное функционирование разума. Чтобы сделать это, он исходит из аппарата, данные которого как нельзя более далеки от того, чтобы прийти к равновесию и адекватности. Он исходит из системы, которая, будучи предоставлена самой себе, ведет к заблуждению и ошибкам. Организм, о котором он говорит, создан, похоже, для того, чтобы удовлетворить потребность не в действительности, а галлюцинаторно. Следует, поэтому, противопоставить этому механизму другой, который приводился бы в действие для того, чтобы представлять инстанцию реальности, и выступал бы как принцип коррекции, приведения к норме. Я не расставляю тут никаких акцентов — Фрейд сам прекрасно понимает, что между двумя этими механизмами должно существовать различие, хотя и признает, что никакой анатомической основы для такого различия он не видит.
Принцип реальности, то есть то, чему функционирование нейронного механизма обязано в конечном итоге своей результативностью, предстает как механизм, функции которого не сводятся к простому контролю — речь идет, скорее, о некотором исправлении. Способы, которым он действует — это отклонение, сдерживание, предосторожность, поправка. Корректируя и компенсируя тот путь, которым психический аппарат в целом следует, он ему, по сути дела, противостоит.
Конфликт заложен здесь в основу, становится принципом построения организма, который, прямо скажем, предназначен, как-никак, жить. Никто, никакая система моделирования человеческой деятельности не заходила так далеко в подчеркивании принципиально конфликтного ее характера. Никто, пытаясь объяснить функционирование организма, не настаивал так последовательно на радикальной неадекватности его, поскольку наличие двух систем на то и направлено, чтобы неадекватность, присущую одной из них, как-то уравновешивать.
Это последовательно проведенное противопоставление двух систем, фиф, противоречит, казалось бы, здравому смыслу. Ибо что служит ему оправданием? Разве что та неустранимая количественная составляющая, с которой Фрейд в своей работе с неврозами встречался на опыте.
Оправдание тому, что на первом плане оказывается у Фрейда количество как таковое, нужно искать — мы живо чувствуем это — вовсе не в желании Фрейда сообразовать свои данные с механистическими идеями Гельмгольца или Брюкке. Опорой ему служит самый непосредственный психоаналитический опыт, столкновение с той инертностью, которую противопоставляют на уровне симптомов его усилиям вещи, имеющие, как он чувствует, характер необратимый. Именно здесь впервые вступает он во тьму, окутывающую ту действительность, Wirklichkeit, на которую нацелены его вопросы, именно здесь выпукло выступают основы его конструкции. Попробуйте сами прочитать этот текст, не задаваясь вместе с комментаторами, редакторами и составителями примечаний, которые его опубликовали, вопросом о соответствии его современной психологии и физиологии, или идеям Гельмгольца и Герберта, и иже с ними, и вы сами увидите, что за этой сухой, холодной, абстрактной, схоластической, сложной формой стоит опыт, и что опыт этот имеет, по сути дела, моральную природу.
Немало историй сочиняют на этот счет — как если бы так уж важно было объяснить творчество такого человека, как Фрейд, чужими влияниями, обнаружив омонимию тех или иных его формул с другими, использованными кем-то прежде в ином контексте. Однако если этому упражнению предаются другие, почему бы и мне — по-своему — не попробовать им заняться? Возьмем функционирование обеспечивающего принцип реальности механизма — разве не похоже это на то, что формулирует Аристотель?
Задача Фрейда состоит в том, чтобы объяснить нам, каким образом осуществляются операции возврата и сдерживания, то есть каким образом механизм, обеспечивающий вторичные процессы, позволяет избежать катастрофических срывов, к которым привело бы высвобождение механизма удовольствия хотя бы одним тактом позже или раньше, чем следует. Если этот последний запущен слишком рано, посредством единственно Wunschgedanke, то результат будет болезненный, приведет к неудовольствию. Если, напротив, вторичный аппарат вмешается слишком поздно, если он не предоставит вовремя небольшой разрядки в виде попытки, полагающей начало адекватному решению проблемы с помощью действия, разрядка окажется регрессивной, то есть галлюцинаторной, что также явится источником неудовольствия.
Так вот, построение это очень напоминает те мысли, которые развивает Аристотель, задаваясь вопросом о том, каким образом тот, кто знает, может оказаться распущенным. Решений он предлагает несколько. О первых из них я умалчиваю, потому что построены они на элементах силлогистики и диалектики, которые в данном случае для нас интереса не представляют, и остановлюсь лишь на том, что носит характер уже не диалектический, а физический, хотя и предложено у него в форме своего рода силлогизма — силлогизма, где речь идет о желанном.
Вообще пятую главу седьмой, посвященной удовольствию, книги "Этики" стоит, я думаю, прочесть целиком. Наряду с большой посылкой — все, что приятно, следует испытать — силлогизм включает и посылку частную, конкретную — это приятно, И вот в ошибке, которую это частное суждение может повлечь, и кроется начало ошибочного поступка. Почему? Да потому что желание, которое общая посылка за собой подразумевает, порождает ошибочное суждение в отношении актуальности пресловутого приятного, на которое активность направлена.
Невольно приходит в голову, что Фрейд, прослушавший в 1887 году курс Брентано об Аристотеле, переносит в перспективу своей гипотетической механики проблему, сформулированную у Аристотеля в собственно этических терминах — переносит чисто формально, и совершенно по иному расставляя акценты.
По сути дела, психологии тут не больше, чем в любой из систем, состряпанных его современниками. Не будем тешить себя иллюзиями — ничего более толкового, чем фрейдовский "Entwurf в психологии так до сих пор и не появилось. Все, что успели насочинять психологи в отношении психологического функционирования исходя из предположения, будто нервные механизмы могут объяснить то, чем конкретно для нас является поле психологического действия, по-прежнему выглядит безумной гипотезой.
Заимствуя логические и силлогистические формулировки, которыми этические мыслители пользовались в своей области испокон века, Фрейд их совершенно по иному переосмысливает. Об этом необходимо помнить, чтобы правильно уяснить то подлинное содержание суждений Фрейда, которое я стараюсь до вас донести и которое состоит в следующем: ορθός λόγος для нас с вами — это как раз не всеобщие суждения, этот тот способ, которым учу я вас артикулировать происходящее в бессознательном, это дискурс, который имеет место на уровне принципа удовольствия.
И вот по отношения к нему, к этому ορθός, взятому в кавычки иронии, и должен принцип реальности направить субъект таким образом, чтобы позволить ему в итоге совершить поступок.
В перспективе фрейдовской мысли принцип реальности выглядит в работе своей крайне ненадежным.
Никакая философия не заходила еще в этом направлении так далеко. Не то чтобы реальность подвергалась Фрейдом сомнению — она нимало не подвергается сомнению в том смысле, в котором происходит это у философов-идеалистов. Последние вообще выглядят рядом с Фрейдом малыми детьми, ибо пресловутую реальность эту они в конечном счете всерьез не оспаривают, они ее приручают. Идеализм состоит, собственно, в утверждении, что меру реальности задаем мы, что по ту сторону ее искать нечего. Это удобная позиция. Фрейд, как и всякий здравомыслящий человек, рассуждает иначе.
Реальность ненадежная штука. И как раз потому, что надежного подхода к ней нет, заповеди, которые прокладывают ей путь, столь тираничны. В качестве проводников к Реальному чувства обманчивы. Интуиция, которой все поиски Фрейда в области самоанализа одушевляются, ведет себя на подступах к Реальному точно так же. Сами поиски не могут поначалу продвигаться иначе, как путем первичной защиты. Глубокая двусмысленность того подхода к Реальному, который от человека требуется, заявляет о себе поначалу в терминах защиты. Защиты, существующей еще до того, как сформулированы окажутся условия вытеснения как такового.
Чтобы лучше высветить то, что я называю здесь парадоксом соотношения с Реальным у Фрейда, мне хотелось бы нарисовать вам на доске следующее: смотрите — принцип удовольствия с одной стороны, принцип реальности — с другой. С тех пор, как вас этими терминами убаюкали, вам кажется, что все идет как по маслу. Грубо говоря, с одной стороны — бессознательное, с другой — сознание. Я попрошу обратить на это ваше внимание, чтобы не упустить моменты, которые я попытаюсь вам разъяснить.
К чему приводит нас артикуляция механизма восприятия? К реальности, разумеется. На что, однако, распространяется, согласно гипотезе Фрейда, власть принципа удовольствия? Опять же на восприятие — это как раз то новое, чем обязаны мы именно ему. Первичный процесс, утверждает он в седьмой части Толкования сновидений, стремится развиваться в направлении идентичности восприятия. К идентичности этой восприятие стремится всегда — для него неважно, носит она реальный или же галлюцинаторный характер. Если совпадение с Реальным не получается, она оказывается галлюцинаторной. В этом и состоит опасность в том случае, если первичный процесс берет верх.
К чему, с другой стороны, стремится вторичный процесс? Обратитесь к той же седьмой главе, хотя то же самое сформулировано уже в "Entwurf, — он стремится к идентичности мышления. Что это значит? Это значит, что внутреннее функционирование аппарата психики — к вопросу о том, как это можно лучше схематизировать, мы в следующий раз вернемся — происходит как бы на ощупь, путем опытной коррекции, в ходе которой субъект, руководимый разрядками, использующими уже проложенные Bahnungen, делает ряд пробных шагов и попыток, что ведет его постепенно к анастомозу, к преодолению того этапа, на котором система окружающих его и наличных в его опыте объектов подвергается испытанию. Канву же его опыта составляет, если можно так выразиться, эрегированная система желания, Wunsch, или ожидания, Erwartung, удовольствия. Удовольствие это можно определить как ожидаемое, почему и стремится оно к осуществлению в своей автономной области, не ожидая от внешнего мира в принципе ничего. Идет оно прямо к цели, и то, что оно стремится осуществить, прямо противоположно тому, что стремится произойти.
На первый взгляд, мысль, таким образом, располагается на уровне принципа реальности, в той же колонке на моей схеме, что и он сам. Но ничего подобного, ибо процесс этот, судя по описанию его у Фрейда, сам является по природе своей бессознательным. Другими словами, в отличие от происходящего с субъектом в плане восприятия, где он имеет дело с внешним миром, все, что имеет отношение к попыткам проложить в психике путем приближения те пути, которые сообщают действиям субъекта адекватность, как и сами пути эти, восприятию недоступно. Всякая мысль движется, в силу природы своей, бессознательными путями. И хотя движет ею не принцип удовольствия, возникает она в области, которая, будучи областью бессознательного, должна, пожалуй, рассматриваться как нечто ему подвластное.
Из всего, что происходит на уровне внутренних процессов — а именно к ним принадлежит мысль, — сознания субъекта достигают, по словам Фрейда, лишь знаки: знаки боли и удовольствия. Как и в случае с другими бессознательными процессами, ничто, кроме этих знаков, в сознание не проникает.
Каким же образом получаем мы все-таки о мысленных процессах какое-то представление? На это Фрейд тоже дает нам четкий ответ — в той мере, в которой возникают слова. Что истолковывают обычно — с той легкостью в объяснении, к которой всякая мысль, в силу свойственной ей склонности проводить параллели, обязательно тяготеет — в том духе, будто Фрейд, мол, здесь имеет в виду, что слова — это то, что характеризует переход в предсозна-тельное. Но что, собственно, туда переходит?
Что, как не некие движения, ходы — и именно постольку, поскольку они суть ходы бессознательного? О мысленных процессах — говорит Фрейд — мы знаем лишь благодаря словам, и то, что мы о бессознательном знаем, становится нам известно посредством слов. "Entwurf артикулирует эту мысль ясно и выразительно. Возьмем, скажем, крик, который мы издаем, сталкиваясь с неприятным для нас объектом. Без крика этого наше представление о таком объекте оставалось бы самым что ни на есть смутным, решительно неспособным отделить его от контекста, в котором он затерялся бы в качестве невидимой точки, из которой все зло исходит, так что неудовольствие наше оказалось бы связанным со случайным контекстом в целом. Объект — говорит Фрейд — заявляет о себе на уровне сознания как враждебный постольку, поскольку боль заставляет субъекта испустить крик. Само существование враждебного объекта, feindlicher Objekt, как такового — это не что иное, как крик субъекта. В работе "Entwurf сказано об этом черным по белому. Крик выполняет здесь функцию разрядки и играет роль мостика, на уровне которого что-то из происходящего может оказаться сознанием субъекта уловлено и опознано. Это что-то так и осталось бы бессознательным, окутанным мраком, если бы крик не являлся тем знаком, который сообщает ему в глазах сознания ощутимое присутствие и структуру, представление о которых развивается в дальнейшем в силу того обстоятельства, что главные объекты, с которыми человеческий субъект сталкивается, представляют собой объекты говорящие — объекты, благодаря которым раскроются ему в речах других те процессы, которые на самом деле его бессознательное населяют.
Мы не улавливаем бессознательное иначе, как в его объяснении — мы знаем о нем лишь то, что оказывается артикулировано в словах. Это как раз и позволяет нам по праву заметить, что само бессознательное это не имеет в конечном счете — как дальнейшие судьбы фрейдовского открытия и демонстрируют — иной структуры, кроме структуры языковой.
Здесь-то и обнаруживают атомистические теории свою настоящую цену. Дело в том, что эти последние совершенно неадекватны тому, на описание чего они претендуют — я имею в виду атомы нервного механизма, якобы индивидуализированные элементы нервной системы. А вот теории смежности и непрерывности — те, напротив, отлично иллюстрируют означающую структуру как таковую, поскольку именно эта структура в любой операции языка задействована.
О чем говорит нам это двойное скрещивание между собой эффектов принципа реальности, с одной стороны, и принципа удовольствия, с другой?
Принцип реальности управляет происходящим на уровне мысли, но лишь постольку, поскольку нечто от этой мысли оказывается, в опыте человеческого общения, артикулировано в словах, он как принцип мысли может достичь сознания субъекта и быть им осознан.
Что касается бессознательного, то место его, напротив, надо искать на уровне элементов, логических составляющих, принадлежащих к разряду логоса и артикулированных как ορθός λόγος — ορθός λόγος, скрытый в средоточии места, где происходят для субъекта те мотивированные привлекательностью или необходимостью, инерцией удовольствия, переходы и переносы, в силу которых один знак произвольно приобретает для него большую значимость, нежели другой — либо потому, что заменяет его, либо потому, что на него переносится связанный с первоначальным опытом аффективный заряд.
Таким образом, мы видим на схеме три уровня, соответствующие следующим трем разрядам.
Первой идет, так сказать, субстанция, субъект психического опыта, соответствующий оппозиции принцип реальности/принцип удовольствия.
Ниже располагается процесс опыта, соответствующий противоположности между мыслью и восприятием. Что мы видим здесь? Процесс разделяется надвое: на восприятие, связанное с галлюцинаторной активностью, с принципом удовольствия, с одной стороны, и на мысль — с другой. Это то, что Фрейд называет психической реальностью. С одной стороны, это процесс образования некоей фикции. С другой, это процессы мысли, посредством которой эффективно осуществляется целеустремленная деятельность, повинующаяся тому или иному позыву — процессы поиска, узнавания и, как Фрейд объясняет позже, обретения объекта. Это другая сторона психической реальности, бессознательный процесс в ней, процесс, связанный с позывом (procиs d'appйtit).
И, наконец, на уровне объективации, или уровне объекта, противостоят друг другу известное и неизвестное. И поскольку известное может стать известным лишь посредством слов, то неизвестное представляется имеющим языковое строение. Что позволяет нам вновь вернуться к вопросу о том, что происходит на первом уровне, уровне субъекта.
Итак, противоположности фикция/позыв и познаваемое/непознаваемое вносят в происходящее на уровнях процесса и объекта определенное разделение. Происходит ли нечто подобное и на уровне субъекта? Логично будет спросить, не проходит ли, и если да — то как именно, здесь между двумя принципами некий водораздел?
Так вот, я предлагаю следующий ответ. То, что на уровне принципа удовольствия предстает субъекту в качестве субстанции — это его благо. Постольку, поскольку субъективная деятельность направляется удовольствием, в основе ее лежит благо, идея блага. Вот та причина, по которой этические мыслители испокон веку пытались два столь принципиально антиномичных друг другу понятия, как удовольствие и благо, отождествить.
Каким же образом описать нам другой субстрат субъективной
операции — субстрат реальности? Его черты остаются для нас загадкой. Фрейду и в голову не приходило отождествлять адекватность реальности с каким-либо благом. ^Недовольстве культурой он недвусмысленно утверждает, что цивилизация (civilisation), или культура, требует от субъекта слишком многого. Если и существует что-то, что именуется его благом, или его счастьем, то ни от микрокосма, то есть от себя самого, ни от макрокосма ждать ему в этом отношении нечего.
На этом знаке вопроса я сегодня и остановлюсь.
III Перечитывая entwurf
Этика, а не психология. Как созидается реальность. Топология субъективности.
Мне пришлось коснуться по ходу дела нескольких пунктов учения Фрейда. Вы помните, что в последний раз мне пришлось особое внимание уделить такой работе, как "Entwurf — работе, занимающей в его творчестве очень интересное место.
Вы знаете, что к переписке с Флиссом надо подходить осторожно. Это не научная работа, текст, находящийся в нашем распоряжении неполон, но тем не менее письма эти — и связанные с ними работы в особенности: работы, среди которых "Entwurf занимает выдающееся место — представляют собой очень ценный источник.
"Entwurf проливает свет на своего рода фундамент фрейдовского учения. Очевидная близость этой работы к формулам, в которые Фрейд был вынужден облечь свой опыт в дальнейшем, делает его поистине бесценным.
Рассказанное мной в прошлый раз об этой работе достаточно ясно дает понять, с какой стороны примыкает она к теме, которой мы в этом году занимаемся. Вопреки общепринятым взглядам, я полагаю, что противостояние принципа удовольствия принципу реальности и первичного процесса — процессу вторичному происходит не в психологическом плане, а в плане опыта собственно этического.
Фрейд прекрасно понимал, в каком измерении человеческие действия разворачиваются, и потому в идеале механической редукции, который, по видимости, преподносит нам "Entwurf, следует видеть лишь компенсацию, уравновешивающую фрейдовское открытие фактов, имеющих отношение к неврозу — явлению, которое первоначально было обнаружено именно в этической сфере, которой оно в действительности и принадлежит. Свидетельством чему то, что на первом плане в нем выступает конфликт, и что конфликт этот разыгрывается с самого начала именно в моральном плане.
Это, впрочем, не так уж ново. Все, кто когда-либо систему этики пытались состряпать, имели дело именно с этой проблемой. Именно этим история, или генеалогия, морали и интересна. Не в ниц-шевском смысле, а в смысле последовательности этических систем, то есть теоретического осмысления морального опыта. Здесь-то и становится ясно центральное значение некоторых проблем в том виде, в котором они изначально были поставлены и рассматривались с большим или меньшим постоянством в дальнейшем.
Почему в конце концов обречены были этические мыслители вновь и вновь возвращаться к загадочному вопросу о том, в какое отношение вступают между собой, определяя нравственность человеческого поступка, удовольствие, с одной стороны, и верховное благо, с другой? Почему нужно все к той же теме — теме удовольствия — вновь и вновь возвращаться? Чем обусловлена внутренняя потребность, заставляющая этического мыслителя пытаться свести на нет антиномии, которые с этой тематикой связаны — связаны потому, что удовольствие, которое предстает в большинстве случаев как нечто моральному усилию противоположное, именно в этом последнем должно найти свое последнее основание; то самое основание, к которому сводится, в конечном счете, то благо, что служит для человеческого поступка ориентиром? Вот пример — и не единственный — того узла, распутать который для решения проблемы нам предстоит. Знаменательно при этом то постоянство, с которым проблема конфликта возникает внутри любой системы морали.
Фрейд эти задачи всего лишь наследует. При этом, однако, он делает в их решение вклад настолько весомый, что мы до сих пор не успели осознать в полной мере, насколько иначе проблемы этической позиции для нас теперь ставятся. Вот почему необходимы нам какие-то ориентиры, и на те из них, что понадобятся нам в этом году, я успел уже ваше внимание обратить.
Среди ориентиров этих нам предстоит сделать выбор, так как всем авторам, которые о морали писали, нам внимание уделить не удастся. Я уже говорил с вами об Аристотеле, так как считаю, что именно "Никомахова этика" является первой книгой, в которой этическая проблематика как таковая стала центральной. До нее, одновременно с ней и после нее, было, как вы знаете, немало других, в том числе и принадлежащих самому Аристотелю, в которых на первый план выдвигалась проблема удовольствия. Но мы не будем обсуждать здесь Сенеку и Эпиктета, а обратимся лучше к теории утилитаристов, так как именно она является для того поворота, который привел нас к Фрейду, наиболее показательной.
Интерес комментариев, которым мы определенные работы здесь подвергаем, заключается в том, что можно лучше всего сформулировать в тех самых терминах, которыми пользуется Фрейд в работе "Entwurf для обозначения того, что очень близко, во всяком случае на мой взгляд, к тому, на значение чего в функционировании первичных процессов я вам все эти годы указывал — я имею в виду Bahnung, пролагание путей.
Фрейдовский дискурс открывает в обсуждении этических проблем перспективы, следуя которым мы можем проникнуть в суть моральных проблем глубже, чем это кому-либо удавалось раньше. Именно этой путеводной нити мы в этом году последуем — именно в понятии реальность, в подлинном смысле этого употребляемого нами зачастую столь необдуманно слова, заключена мощь фрейдовской концепции, которая сказывается в самом постоянстве, с которым ссылаемся мы в своей аналитической практике на имя Фрейда.
Тот жгучий интерес, с которым читаем мы "Entwurf, не вызван, понятное дело, ее вкладом, более чем скромным, в психологию фантазии.
Текст этот, как вы убедитесь, трудный, но от того не менее захватывающий. Не столько на французском, сколько на немецком, поскольку французский перевод представляет его в невыгодном свете — в нем повсюду недостает точности, жизни, смысловых акцентов оригинала. Слова мои заставят, возможно, иных из вас пожалеть лишний раз о том, что немецким они не владеют. По-немецки это текст поразительно чистый, свежий…, первый заметный, но удивительный уже луч света. Во французском переводе он сглаживается, тускнеет. Постарайтесь прочесть его, и вы сами увидите, как прав я был, говоря, что суть его не в построении новых гипотез, а в том, что именно здесь впервые вступает Фрейд в схватку с пафосом той реальности, с которой он в работе с пациентами сталкивается. Все дело в том, что именно теперь — когда ему почти сорок — обнаруживает он ее, этой реальности, собственное измерение, ее жизнь, исполненную глубокой значительности. Если я обращаю ваше внимание на этот текст, то вовсе не потому, что мне непременно надо на что-то сослаться. Хотя впрочем, почему бы и нет? Вы уже знаете, что я умею при случае сохранять по отношению к текстам Фрейда независимость, держать дистанцию. Развивая, например, мысль о первенствовании означающего в цепочке бессознательного у субъекта, я всего-навсего акцентирую определенные черты нашего, психоаналитического, опыта. В сообщении, которое мы вчера вечером выслушали, это называлось содержанием опыта, которому противопоставлялись строительные леса концепций — деление, к которому я не могу присоединиться безоговорочно, хотя чему-то в реальности оно действительно соответствует. Так вот, в этом году нам предстоит отважиться на нечто большее, нежели просто сохранять фрейдовскому тексту верность и толковать его так, словно это источник истины ne varietur — истины, которая служит нашему опыту руслом, моделью и обязательным облачением.
Что мы собираемся предпринять? Мы исследуем генезис фрейдовской концепции, проследив ее развитие от нашего наброска, "Entwurf — к седьмой главе Толкования сновидений, первой печатной работе, где Фрейд проводит различие между первичным и вторичным процессами и формулирует соотношение между сознательным, предсознательным и бессознательным; затем к введению, в рамках этой трихотомической икономии, в нарциссизм; далее к тому, что именуют второй фрейдовской топикой, где особое значение приобретают взаимосвязанные функции Я, сверх-Я и внешнего мира и где получает свое законченное выражение то, ростки чего можно разглядеть уже в "Entwurf; и, наконец, ряд позднейших текстов, где мысль Фрейда вращается вокруг вопроса о том, как выстраивается для человека реальность — текстов, среди которых статья 1925 года о "Verneinung", к которой нам еще предстоит обратиться, и работа о Недовольстве культурой — о недовольстве, обусловленном положением, которое человек занимает в мире. Немецкий термин, которым пользуется здесь Фрейд — это Kultur, и то значение, которое приобретает этот термин под пером Фрейда, нам еще придется, возможно, попытаться очертить поточнее, так как Фрейд никогда не заимствует понятия в их банальном, нейтральном употреблении. Любая концепция, которую мы у него встречаем, предельно освоена им.
Тщательно послеживая в этом году эволюцию фрейдовской метафизики, мы делаем это потому, что именно в ней можем мы найти следы построений, которые отражают этическую направленность его мысли. Как ни трудно бывает нам осознать это, но она-то как раз и находится в центре нашей работы, она-то и удерживает вместе тот мир, который представляет собой психоаналитическое сообщество, обеспечивая распространение — которое создает зачастую впечатление распыления — единой в основе своей интуиции, предстающей каждому в одном из своих аспектов. Если мы возвращаемся постоянно к Фрейду, то это как раз потому, что исходная, центральная его интуиция носит характер этический. Я считаю важным подчеркнуть это, потому что без этого нельзя наш опыт понять. Без этого он будет безжизненным, деградирует, заведет нас в потемки. Вот почему выбрал я в нынешнем году эту тему.
После прошлой моей лекции я имел удовольствие получить с вашей стороны отклик, в своем роде ответ.
Среди вас есть два человека, которые как раз собирались — с другой целью, с целью составления словаря, а может быть также и из личного своего интереса — "Entwurf заново перечесть. Они подошли ко мне после лекции, чтобы выразить свое удовлетворение моим подходом к этой работе, который оправдывал в какой-то степени их заинтересованность в ее прочтении.
В связи с этим мне вспомнилось, естественно, поскольку мысль об этом грызет меня непрестанно, что мой семинар — это именно семинар, и что не одно лишь означающее семинар дает ему право на этот статус претендовать. Вот почему я пригласил одного их них высказать соображения, возникшие у него в связи с тем, как привлек я этот текст к теме нашего семинара. Вы выслушаете сейчас Жана-Бернара Лефевра-Понталиса — он, как и коллега его, Жан Лапланш, хорошо представляют себе на сегодняшний день эту работу, которая, как заметил только что Валабрега, должна быть свежа в памяти, чтобы говорить о ней с толком. Это правда? Я не знаю — может быть, в конце концов, окажется, что все не так уж и сложно.
Г-н Лефевр-Понталис — Нужно прежде рассеять одно маленькое недоразумение. Я вовсе не являюсь специалистом по этой работе, более того, я ее даже не перечитывал — я еще только собираюсь это сделать. Д-р Лакан попросил меня вернуться к нескольким моментам, затронутым на семинаре прошлой недели, в частности, к вопросу об отношении к реальности, которое, по его словам, предстает в оригинале Фрейда как нечто проблематичное, а то и прямо парадоксальное. [Следует доклад г-на Лефевра-Понталиса.]
Благодарю Вас за сегодняшнее выступление, которое положит, надеюсь, в этом году начало традиции, которая не только облегчит мне задачу, предоставив небольшие паузы, но и в прочих отношениях окажется небесполезной.
С особой элегантностью, как мне представляется, сумели Вы выделить ключевые места работы, где велико, надо сказать, рискованное искушение углубиться в тонкости. Я сам, должен признаться, пожалел было, что Вы так и не рассмотрели подробно, какое именно место занимают здесь Bahnung, с одной стороны, и Befriedigungserlebnis, с другой, равно как и не напомнили нам о той топологии, которую система φ, φ, ω неявно подразумевает — последнее, возможно, могло бы кое-что прояснить. Очевидно, впрочем, что можно целый триместр, а то и год, потратить на то, чтобы исправить те искажения, которые внес английский перевод в интуиции, присутствующие в тексте оригинала.
Мне приходит в голову один бросающийся в глаза пример. Термин Bahnung передан по-английски словом facilitation. Очевидно, между тем, что слово это создает представление прямо противоположное. Bahnung подразумевает создание пути в виде непрерывной связной цепочки — я думаю даже, что Фрейд здесь близок к идее цепочки означающих — недаром же говорит он, что эволюция аппарата φ заменяет простое количество количеством плюс Bahnung, то есть его, этого количества артикуляция. В английском переводе, facilitation, мысль эта уходит в тень.
Французский перевод выполнен был с английского, так что количество ошибок еще возросло и есть места, где текст перевода, по сравнению с ясным текстом оригинала, кажется просто невразумительным.
Мне кажется, однако, что вам удалось правильно акцентировать те моменты, которые нам предстоит обсуждать в дальнейшем и которые прояснят для нас соотношение между принципом реальности и принципом удовольствия. Вы верно указали на парадоксальность этого отношения, заметив, что принцип удовольствия не поддается вписыванию в биологические координаты. Но загадка эта не покажется нам, в конце концов, столь уж неразрешимой, если мы примем во внимание, что подобное положение вещей объясняется одним простым обстоятельством — дело в том, что знакомый субъекту опыт удовлетворения всецело завязан для него на другом — на том, кого Фрейд называет — я сожалею, что на это удачное выражение не обратил ваше внимание раньше — Nebenmensch. Я приведу вам позднее несколько цитат, свидетельствующих о том, что лишь посредством него, этого Nebenmensch, как говорящего субъекта, все, что связано с процессом мышления, может в субъективном мире субъекта получить форму.
Я попрошу вас вернуться еще раз к таблице из двух связанных перекрещивающимися линиями колонок, которую я нарисовал в прошлый раз. Эта схема, которой мы будем пользоваться до концу семинара, позволяет установить между функциями удовольствия и реальности связь, всю глубину которой нам предстоит в дальнейшем исследовать. Не сделав этого, мы придем к парадоксу, который Вы сегодня немного излишне, может быть, акцентировали — к парадоксу, который заключается в том, что нет видимого основания полагать, будто реальность способна заставить себя услышать и, в конечном счете, одержать верх — а верх она таки одерживает, о чем свидетельствует более чем достаточно опыт всего человечества, которое, при нынешнем порядке вещей, вымирать явно не собирается. Перспектива представляется прямо противоположной. Удовольствие занимает свое место в человеческом устроении лишь постольку, поскольку соотносится с неким пунктом, который, оставаясь всегда пустым, загадочным, обнаруживает при этом определенную связь с тем, чем является для человека реальность. Именно здесь и удается нам максимально приблизиться ктой интуиции, к тому восприятию реальности, которые одушевляют мысль Фрейда на всем протяжении ее развития.
Фрейд предлагает считать, что система φ должна всегда поддерживать определенный количественный уровень Q-η, которому суждено до конца играть существенную роль. Разрядка не может, на самом деле, быть полной и достичь того нулевого уровня, при котором психический аппарат оказался бы в состоянии окончательного покоя — состоянии, которое уж никак нельзя считать удовлетворительной, с точки зрения функционирования принципа удовольствия, целью. Вот здесь-то и задается Фрейд вопросом — в переводе не прозвучавшим — о том, как объяснить, что количество это, которым все регулируется, поддерживается на определенном уровне.
Вы, пожалуй, поспешили немного, говоря о том, к чему отсылают нас система φ и система ф. Если одна из них связана преимущественно с экзогенными раздражениями, это вовсе не значит еще, что вторая связана с раздражениями эндогенными. Система φ включает в себя важную часть, образованную как раз вследствие того, что приходящие из внешнего мира в необработанном виде количества Q трансформируются в количества, которые с теми, что характеризуют систему φ совершенно несравнимы и в которые эта последняя организует то, что поступает в нее из внешней системы, развиваясь — способом, который Фрейд хорошо объясняет — в том же направлении, в котором происходят преобразования, описанные Фехнером — преобразования того, что выступает как количество в чистом виде, в нечто осложненное. Фрейд даже пользуется здесь латинским термином complicationes, осложнения.
Перед нами, таким образом, следующая схема. С одной стороны — система ф. С другой — система ф, сеть необычайно сложная и способная к сокращению и расширению, Aufbau. Между этими двумя системами, с самого начала преобразования, имеет место порог, подлежащий преодолению — порог, который на маленькой схеме Фрейда уже указан. Преодолевая этот порог, чистое количество преобразуется, полностью меняя при этом свою количественную структуру. Понятие структуры, Aufbau, играет у Фрейда принципиально важную роль. В аппарате φ он различает его Aufbau, то, что удерживает количество, с одной стороны, и его функцию разрядки, die Funktion der Abfuhr, с другой. Причем функция эта не описывается в терминах цепи и утечки из нее, а предстоит на этом уровне раздвоенной, расщепленной.
Нужно ясно отдавать себе отчет в том, что механизм, о котором я говорю, описывается здесь как изолированный внутри живого существа. Изучается именно нервный механизм, а не организм в целом. Это момент чрезвычайно важный и проявляет он себя, на наш взгляд, с убедительной очевидностью. Проявления его как бы накладываются на организм, и очевидность их покоится на иных основаниях, нежели у тех гипотез, по поводу которых Фрейд удачно сказал, что если они вам по вкусу, не стоит принимать их слишком всерьез, пока не станет менее откровенной их произвольность, die Wьlkьlichkeit der Constructio ad hoc. Для нас очевидно, что механизм этот представляет собой, по сути дела, топологию субъективности — субъективности как чего-то такого, что созидается и выстраивается на поверхности организма.
Есть в системе φ и другая важная часть, которую Фрейд отличает от ее ядра — я имею в виду Spinalneuronen, которые открыты эндогенному возбуждению — возбуждению, со стороны которого механизм преобразования количеств отсутствует.
Рассыпаны в работе Фрейда и другие сокровища, о которых Вы, стремясь — вполне оправданно — к упрощению, не упомянули. Поэтому, чтобы перебросить мостик к тому, о чем в следующий раз пойдет речь, я сделаю это сам.
Существует, например, такое понятие, как Schlьsselneuronen. Нервы эти выполняют определенную функцию по отношению к той части системы ф, которая обращена к эндогенным раздражителям и получает от них некоторые количества энергии. Schlьsselneuronen представляют собой особый механизм разрядки, существующий внутри системы ф. Но, как ни парадоксально это, функция этой разрядки состоит единственно в том, чтобы заряд увеличить. Эти Schlьsselneuronen, Фрейд называет их еще — и не думаю, что по ошибке — motorische Neuronen. Они провоцируют раздражения, происходящие внутри системы ф, серию движений, которые увеличивают напряжение и лежат, таким образом, в основе неврозов как мы их сейчас себе представляем — проблема, незаслуженно забытая, но представляющая для нас живейший интерес.
Но оставим это сейчас в стороне. Для нас важно то, что все происходящее здесь имеет место, как ни парадоксально это, именно там, где господствует принцип артикуляции посредством Bahnung, там, иными словами, где возникает галлюцинаторный феномен восприятия, феномен той ложной реальности, к восприятию которой человеческий организм, вообще говоря, предопределен. Но в этом же месте формируются, и при том бессознательным образом, процессы, ориентируемые и управляемые реальностью, поскольку субъект должен найти путь к удовлетворению. Однако удовлетворение в этом случае не имеет ничего общего с принципом удовольствия. Именно такую, очень любопытную, мысль обнаруживаем мы в конце третьей части рассматриваемого нами текста. Все богатство его содержания Вы нам раскрыть не смогли. Набрасывая схему того, что нормальное функционирование механизма собой представляет, Фрейд говорит не о специфической реакции, а о специфическом действии — удовлетворению соответствует именно оно. За этим spezifische Aktion стоит целая огромная система, так как единственное, чему может она соответствовать — это обретенный объект. На этом как раз и основан у Фрейда принцип повторения — к которому нам позже еще придется вернуться. Дело в том, что действию этому, этому spezifische Aktion, всегда чего-то недостает. И в этом оно не отличается от происходящего в тот момент, когда возникает моторная реакция, ибо представляет оно собой на самом деле именно реакцию, чистый акт, разрядку действием.
Всему этому посвящен в работе большой отрывок, который у меня еще будет случай для вас прояснить. Я не знаю более вдохновенного описания той неизбежно переживаемой человеком дистанции, того разрыва, который налицо у него между артикуляцией пожелания, с одной стороны, и тем, что происходит, когда желание его вступает на путь осуществления, с другой. Именно у Фрейда находим мы объяснение того, почему всегда налицо в этой ситуации нечто такое, что очень далеко от удовлетворения и не несет в себе никаких черт того, на что специфическое действие нацелено. И в заключение Фрейд говорит о монотонном качестве — именно этим словом, насколько я помню, его работа заканчивается. По отношению к тому, что субъект преследует, все, что бы в области моторной разрядки ни возникло, имеет характер ограниченный, редуцированный.
Это последнее наблюдение Фрейда не может не восприниматься нами как глубочайшее выражение именно нравственного по своему характеру опыта.
Заканчивая сегодня на этом, я обращаю ваше внимание на аналогию, существующую между поисками, которыми всякое бессознательное стремление одушевляется, поисками в не поддающемся определению удовольствии некоего архаического — регрессивного, я бы сказал — качества, с одной стороны, и того, что может осуществиться и принести удовлетворение в самом полном смысле этого слова, в смысле моральном, с другой.
Но это не просто аналогия, ибо корни ее лежат на глубине, о которой никто, возможно, до сих пор, не составил ясного представления.
2 декабря 1959 года.
IV Das ding
Дело и вещь.
Niederschrifien.
Nebenmensch.
Fremde.
Сегодня я попробую говорить о вещи — das Ding.
Вводя этот термин, я делаю это потому, что существуют известные двусмысленности, известные недомолвки относительно того, какой смысл несет у Фрейда противопоставление принципа реальности принципу удовольствия — то, иными словами, придерживаясь чего я попытаюсь привести вас к пониманию, насколько это противопоставление для нашей практики в этическом ее аспекте ценно. Двусмысленности же эти связаны с чем-то таким, что имеет отношение к строю означающего, и даже к строю лингвистическому. Здесь необходимо означающее конкретное, особое, позитивное, и я не нахожу во французском языке ничего, что соответствовало бы — я буду признателен тем, кого мои наблюдения подвигли бы на то, чтобы мне какое-то решение предложить — что соответствовало бы, повторяю, существующему в немецком деликатному и не всегда легко уловимому противопоставлению между двумя означающими вещь терминами — das Ding и die Sache.
1
Во французском языке им соответствует лишь одно слово — вещь, la chose, происходящее от латинского causa. Юридическая составляющая этимологии этого слова указывает на нечто такое, что предстает как оболочка и обозначение чего-то конкретного. Имейте в виду, что в немецком языке "вещь" первоначально относилась именно к юридической операции, решению, казусу. Что касается das Ding, то оно может означать не столько юридическую операцию как таковую, сколько собрание, которым возможность такой операции обусловлена, Volksversammlung.
Не подумайте, пожалуйста, что эти ссылки на этимологию — вполне, кстати сказать, в духе того, что имел в виду Фрейд, утверждая, что в поисках следов накопленного традицией многих поколений опыта именно лингвистические наслоения наиболее надежно отражают ту деятельность, которая накладывает на психическую реальность свою печать — не подумайте, повторяю, будто в поисках наших мы предпочитаем полагаться на этимологические экскурсы и изыскания такого рода. То, как используются слова сегодня, функционирование означающего в его синхронии, куда как более для нас важно и ценно. Гораздо большее значение имеет для нас то, каким образом слова das Ding и die Sache используются сейчас, в повседневной речи. В довершении всего, обратившись к этимологическому словарю мы узнаем, что Sache тоже означало первоначально юридическую операцию. Sache — это обсуждаемая в юридическом порядке вещь, казус — говоря нашим языком, оно знаменует переход возникшего между людьми конфликта в регистр символического.
И все же оба термина не являются полностью эквивалентными. Вы заметили, быть может, что в последнем сообщении г-на Лефевра-Понталиса прозвучали термины — то, что он на них обратил внимание, делает ему честь, так как немецкого он не знает — использование которых Фрейдом наводит его на выводы, идущие, казалось бы, в разрез с тем, чему учу вас я. Речь идет об отрывке из статьи Фрейда "Бессознательное", где репрезентация вещей, Sachvorstellung, противопоставляется каждый раз репрезентации слов, Wortvorstellung.
Я не стану сегодня вдаваться в обсуждение того, что позволило бы пролить свет на этот отрывок — отрывок, на который те, кого мои занятия подвигают на чтение Фрейда, часто, хотя бы в порядке вопроса, ссылаются и который противоречит, как им кажется, тому значению, которое придаю я означающей артикуляции, утверждая, что подлинная структура бессознательного предъявлена нам именно в ней.
Отрывок этот действительно свидетельствует, по видимости, против меня, когда противопоставляет Sachvorstellung в качестве принадлежащего бессознательному — Wortvorstellung в качестве принадлежащего предсознательному. Я попросил бы однако тех, кто желает в этом разобраться — я не думаю, что большинство из вас обратится к текстам самого Фрейда, чтобы проверить, насколько комментарий, мною предлагаемый, ему соответствует — прочесть сначала, всю целиком, статью "Die Verdrдngung", "Вытеснение", которая статье о бессознательном у Фрейда предшествует, а затем и эту последнюю, где находится обсуждаемый нами отрывок. Для других я ограничусь здесь указанием на то, что отрывок этот специально посвящен вопросу, который встает перед Фрейдом в связи с поведением шизофреника, то есть с явно необычным значением, которое приобретает в том, что можно назвать шизофреническим миром, сходство слов.
Все то, о чем я говорил раньше, сходится, как мне кажется, на одном — на том, что вытеснению, Verdrдngung, подвергается не что иное, как означающие. Именно вокруг отношения субъекта к означающему строится, в основе своей, позиция вытеснения. Только поэтому и можно, подчеркивает Фрейд, говорить — в строгом, аналитическом, операциональном, сказали бы мы, смысле слова — о бессознательном и сознательном. После чего и выясняется, что позиция шизофреника ставит нас — в гораздо более острой форме, чем любая разновидность невроза — перед проблемой репрезентации.
У нас будет еще случай вернуться впоследствии к этому тексту, но сразу скажу, что в решении, которое предлагает Фрейд, противопоставляя Wortvorstellung и Sachvorstellung друг другу, налицо тупик, который сам он прекрасно видит, — трудность, которая объясняется просто-напросто состоянием современной ему лингвистики. Однако несмотря на это Фрейд отлично понял и сформулировал разницу между языковой операцией как функцией, реализуемой в момент ее артикуляции, когда она действительно выполняет принципиально важную роль в предсознательном, с одной стороны, и структурой языка, согласно которой упорядочиваются задействованные в бессознательном элементы, с другой. Именно здесь, между ними двумя, выстраиваются те координаты, те Bahnungen, те цепочки, которые определяют собой ее икономию.
Я сделал долгое отступление, поскольку хотел бы ограничиться замечанием, что речь у Фрейда идет, как-никак, о Sachvorstellung, а не о Dingvorstellung. И не случайно Sachvorstellungen связаны у него с Wortvorstellungen, показывая тем самым, что между вещью и словом имеется связь. Солома слов потому и представляется нам соломой, что мы отделили от нее зерна вещей, но ведь именно эта солома и несла на себе некогда это зерно.
Я не собираюсь приняться за разработку теории познания, но совершенно очевидно, что вещи, которые составляют мир человека, являются вещами вселенной, структурированной речью, что именно язык, символический процесс, управляет ею и в ней господствует. Пытаясь исследовать животный мир и мир человеческий до их последних глубин, мы каждый раз изумляемся, обнаруживая, насколько недейственным оказывается в животном мире символический процесс как таковой. Тот факт, что человек включен в символический процесс так, как не может быть в него включено ни одно животное, не может быть объяснен в терминах психологии — такое объяснение предполагает полное, строгое знание того, что символический процесс собой представляет.
Sache — это не что иное, как продукт промышленности или просто человеческой деятельности, поскольку эта последняя управляется языком. Сколь бы скрытой роль вещей в генезисе человеческого действия ни была, вещи эти всегда на поверхности, всегда могут быть сделаны явными. Подразумеваемая в неявном виде всяким человеческим поступком, деятельность, продуктом которой являются вещи, относится к регистру предсознательного, то есть чего-то такого, что наш интерес к этим вещам может вернуть в сознание, при условии, что мы уделим им наше внимание, что мы их заметим. Слово, поскольку оно артикулируется, поскольку оно является здесь, чтобы найти в вещи свое объяснение, поскольку поступок, сам языку, в форме заповеди, подвластный, его, объект этот, обособляет и порождает — слово, в таком качестве, связано с вещью взаимностью.
Итак, Sache и Wort тесно между собою связаны, составляют пару. Das Ding, напротив, держится особняком.
Это das Ding мне хотелось бы вам продемонстрировать в жизни, в том принципе реальности, о котором Фрейд заговорил уже на заре своей деятельности и продолжал говорить до самого конца. Указания на него можно найти как в посвященном принципу реальности месте в "Entwurf, так и в статье "Die Verneinung", "Запирательство", где момент этот очень существенен.
Das Ding не следует искать в тех допускающих выявление и потому до известной степени отрефлектированных связях, которые позволяют человеку поверять свои слова вещами — вещами, что, между прочим, этими же словами и созданы. В das Ding перед нами нечто иное.
Что представляет собой das Ding — вот где настоящая загадка. Загадка эта заложена уже в том принципе реальности, парадоксальность которого Лефевр-Понталис в прошлый раз вам продемонстрировал. Говоря о принципе реальности, Фрейд неизменно обращает внимание на то, что принцип этот где-то обязательно не срабатывает, заявляя о себе, в конечном итоге, лишь на полях, своего рода давлением, напором, который, похоже, и соответствует — бесконечно на деле превосходя его — тому самому, что Фрейд имеет ввиду, говоря не о жизненных потребностях, упоминаемых им обычно в связи с ролью вторичных процессов, а о том, что именует он по-немецки die Not des Lebens. Выражение, согласитесь, гораздо более сильное, чем потребности. Нечто такое, что хочет. Не потребности, а Потребность, единственная в своем роде. Давление, насущность. Состояние Not- это насущность жизни.
Заявляет о себе Not des Lebens на уровне вторичного процесса, но вмешательство ее не сводится к корректирующей активности, задача которой состоит в том, чтобы задать уровень Q-η, количества энергии, сохраняемой организмом соразмерно с необходимым ответом, — количества, которое требуется для сохранения жизни. Обратите внимание, что задается этот необходимый уровень именно на уровне вторичного процесса.
Вернемся к принципу реальности, о котором говорится, таким образом, как о вмешательстве некоей необходимости. Это-то наблюдение и выводит нас на след того, что я только что назвал загадкой принципа реальности — дело в том, что стоит нам попытаться артикулировать его как зависимый от физического мира, с которым он, похоже, по замыслу Фрейда должен быть связан, как ясно становится, что принцип реальности служит на деле тому, чтобы субъекта от реальности изолировать.
Мы не находим здесь ничего нового по сравнению с тем, чему, на самом деле, учит нас биология — с тем именно, что структура живого существа определяется процессом гомеостаза, изоляции его по отношению к реальности. Сводится ли к этому то, что говорит нам Фрейд, размышляя о функционировании принципа реальности? По видимости, да. Он показывает нам, что как качественному элементу реальности, так и количественному ее элементу вход в царство — по-немецки именно так, Reich — вторичного процесса заказан.
Внешнее количество входит вступает в контакт с механизмом, именуемым системой ф, то есть с той частью нервного аппарата, которая ориентирована непосредственно на внешний мир — грубо говоря, речь идет о нервных окончаниях на уровне кожи, сухожилий, даже мускулов и костей, о чувствительности в глубине организма. Все сделано для того, чтобы внешнее количество это, Q, было четко отгорожено, остранено по отношению к другому количеству, Q-η — количеству, которое неизменно поддерживается, определяя уровень, который обособляет в нервном аппарате механизм ф. Весь "Entwurf и представляет собой, собственно, теорию нервного механизма, по отношению к которому организм остается точно таким же внешним, каким является для него внешний мир.
Перейдем к качеству. Внешний мир не теряет своего качества целиком — это последнее вписывается, как показывает теория сенсорного аппарата, дискретным образом в шкалу, концы которой утрачены, а масштаб сокращается в зависимости от задействованных сенсорных полей. Сенсорный аппарат, говорит Фрейд, служит не столько тому, чтобы гасить или амортизировать возбуждение, как делает это механизм φ в целом, сколько для того, чтобы просеивать его, отцеживать.
Фрейд не делает дальнейших попыток искать решение в направлении, которое заинтересовало бы физиолога — какого-нибудь г-на Пирона, работающего над трудом под названием "Ощущение, путеводитель жизни". Вопрос о том, каким образом делается выбор в том поле, где визуальные, слуховые и прочие восприятия способны возникнуть, им далее не рассматривается. Что мы имеем у Фрейда, так это понятие о глубокой субъективации внешнего мира — о существовании чего-то такого, что процеживает данные восприятия таким образом, что реальность — во всяком случае, в естественном, спонтанном виде своем — воспринимается человеком в чрезвычайно выборочной форме. Человек имеет дело с избранными местами реальности.
Но происходит это, на самом деле, лишь в рамках функции, которая, по отношению к икономии целого, локализована — задача ее не в том, чтобы информировать нас как можно глубже о качественной стороне дела, его сути, а в том, чтобы подать знак. Хотя знаки у Фрейда и выступают исключительно как Qualitдtszeichen, знаки качеств, функция знака не имеет прямого отношения к качеству, которое так и остается загадочным, непрозрачным. Знаки являются таковыми постольку, поскольку они оповещают нас о присутствии чего-то такого, что действительно соотносится с внешним миром, сигнализируя сознанию о том, что именно с ним, с внешним миром имеет оно в данном случае дело.
Внешний мир представляет собой нечто такое, с чем сознанию как-то предстоит разобраться, и с тех пор, как существуют люди, как люди мыслят и как пытаются они построить теорию познания, разбираться с ним оно не перестает. Далее Фрейд в эту проблему не углубляется, замечая лишь, что она, безусловно, очень сложна и что нам далеко еще до того, чтобы делать даже отдаленные предположения об органических причинах происхождения этого конкретного механизма.
Не об этом ли тогда идет речь у Фрейда, когда он говорит о принципе реальности? Не является ли она, эта реальность, всего-навсего тем, за что выдают ее сторонники так называемого бихевиоризма — чем-то таким, что представляет собой временную сетку, наброшенную субъектом на мир, где ему есть чем питаться, отдельные элементы которого он может усваивать, но в целом построенный на случайностях и совпадениях, хаотичный? Неужели это все, что Фрейд, говоря о принципе реальности, имеет в виду?
Вот вопрос, который я сегодня перед вами ставлю, вводя понятие о das Ding.
Прежде, чем этот вопрос рассматривать, я вернусь еще раз к тому, что следует из маленькой, в две колонки, таблички, которую я предложил вам две недели назад.
В одной колонке — Lustprinzip, Realitдtsprinzip — в другой. Все, что относится к бессознательному, функционирует на стороне принципа удовольствия. Принцип реальности, со своей стороны, господствует там, где налицо все, что имеет отношение к отреф-лектированному, поддающемуся артикуляции, доступному, выходящему из предсознательного дискурсу. Я уже обратил ваше внимание на то, что, как подчеркивает сам Фрейд, мыслительные процессы, постольку, поскольку руководит ими принцип удовольствия, бессознательны. Сознания они достигают в меру того, как имеется возможность их вербализовать, как отрефлектирован-ное объяснение водит их в пределы досягаемости принципа реальности, в пределы досягаемости сознания как инстанции постоянно бодрствующей и употребляющей внимание на то, чтобы улавливать происходящее в реальном мире, позволяя тем самым в этом мире как то ориентироваться.
Именно в собственных речах своих удается субъекту, по чистой случайности, уловить те хитрости, с помощью которых встраиваются в его мысль принадлежащие ему идеи — идеи, происхождение которых зачастую более чем загадочно. Необходимость высказать их, их артикулировать, вводит между ними порядок порою чрезвычайно искусственный. На это охотно обращал внимание Фрейд, замечая, что объяснения тому, что те или иные настроения и расположения духа возникают у нас одно за другим, находятся неизменно, но при этом ровным счетом ничто не свидетельствует о том, что подлинные причины именно этой последовательности их появления нам доступны. В этом как раз и позволяет нам убедиться опыт психоанализа.
Причин, способных убедить нас в рациональности последовательности наших эндопсихических форм, всегда обнаруживается более чем достаточно. Мы прекрасно знаем, однако, что в большинстве случаев связь между ними нужно искать в совершенно другом месте. Итак, процесс мысли — а именно в нем, как-никак, лежат пути подхода к реальности, та Not des Lebens, которая поддерживает на определенном уровне нагрузку нервного механизма — протекает в области бессознательного. И доступен он нам только искусственно — при помощи артикулированной речи. Фрейд говорит даже, что лишь постольку, поскольку отношения наши проговариваются, носят речевой характер, можем мы собственную речь слышать и движение речи, ее Bewegung, имеет место. Я не думаю, что слово Bewegung звучит здесь по-немецки очень естественно, и полагаю, что Фрейд употребляет его не случайно, а с нарочитой целью подчеркнуть необычность своей мысли, суть которой в том, что лишь в меру того, как это Bewegung заявляет о себе в системе ω, появляется возможность что-то узнать о том, что включается, в какой-то степени, в ту цепь, которая, на уровне механизма ф, стремится прежде всего к двигательной разрядке, способной поддержать напряжение на уровне максимально низком.
Из всего того, что задействовано в процессе отвода, Abfuhr, и находится под знаком принципа удовольствия, сознательный субъект воспринимает что-то постольку лишь, поскольку в движении есть центробежная составляющая, поскольку налицо чувство движения к речи, чувство усилия. Все это вылилось бы в смутное восприятие, способное в лучшем случае выделить и противопоставить друг другу в мире два крупных качества, которые Фрейд характеризует как монотонные — неподвижное и подвижное, то, что способно двигаться, и то, что двинуть с места нельзя — когда бы не имели места структурно иные движения, артикулированные движения речи. Перед нами здесь нечто такое, что, оставаясь причастно еще монотонности, бледности и бесцветности, является, однако же, тем единственным, благодаря чему достигает сознания все то, что имеет отношение к процессам мышления, к тем скромным попыткам продвижения от Vorstellung к Vorstellung, от представления к представлению, вокруг которых человеческий мир, собственно, и выстраивается. Лишь постольку, поскольку в чувствительно-двигательной цепочке имеется нечто такое, что затрагивает на каком-то уровне систему ф, оказывается что-то задним числом ощутимо, воспринято в форме Wortvorstellung.
Только таким образом может система сознания, система ω, зарегистрировать то, что происходит в психике. Именно это и имеет в виду Фрейд, когда говорит несколько раз — всегда в осторожных, а порою в двусмысленных выражениях — об эндопсихичес-ком восприятии.
Присмотримся еще раз внимательнее к тому, что происходит в системе ф. Фрейд обособляет в работе "Entwurf систему Ich. Метаморфозы и трансформации этого понятия на позднейших стадиях развития его теории нам еще предстоит наблюдать, но уже здесь в нем сполна заложена вся двусмысленность, которую Фрейд в дальнейшем ему усвоит, сказав, что по большей своей части Ich бессознательно. Строгое определение Ich мы находим в работе "Einfьhrung des Ich", где оно фигурирует как система, однородно нагруженная чем-то таким, чему свойственна Gleichbesetzung — у самого Фрейда этого термина здесь нет, но употребляю я его в полном согласии с тем, что имеет он в виду, говоря о нагрузке ровной, однородной. Существует в системе φ нечто такое, что складывается как Ich и представляет собой eine Gruppe von Neuronen (…) die konstant besetzt ist, also dem durch die sekundдre Funktion erforderten Vorratstrдger entspricht — термин Vorrat нарочито повторяется здесь. Поддержание этой нагрузки предполагает регулирующую функцию. А речь здесь идет именно о функциях. Если бессознательное существует, то это и есть Ich, поскольку в функционировании своем оно в данном случае бессознательно — ведь дело мы с ним имеем ровно постольку, поскольку регулируется оно той Besetzung, или той Gleichbesetzung, о которой мы только что говорили. Отсюда и значение скрещиваний на моей таблице — скрещиваний, на которых я настаиваю. Двойственность, выражению которой они служат, нам в ходе развития мысли Фрейда еще предстоит проследить.
Но система, которая отвечает за восприятие и регистрацию и которая будет в дальнейшем фигурировать как Wahmehmungs-beivusstsein, не лежит на уровне Я как инстанции, которая обеспечивает равномерность, однородность и, по возможности, постоянство Besetzung, регулирующей функционирование мысли. Место сознания иное — это механизм, который Фрейду приходится выдумывать, который расположен, по его словам, между системой φ и системой φ и который вместе с тем ничто в его тексте не позволяет расположить на пределе их обеих. Ибо система φ непосредственно проникает — используя, разумеется, соответствующий механизм — в систему φ и разветвляется в ней, расставаясь при этом лишь с частью того количества энергии, которую она в эту систему вносит.
Система ω функционирует совсем в другом месте, куда более обособленно, и позиция ее поддается определению гораздо труднее, нежели позиция других механизмов. Ведь на самом деле, говорит Фрейд, нейроны ω черпают свою энергию не из внешних количественных ее поступлений — в лучшем случае, можно представить себе, что они sich die Periode aneignen, усваивают себе их периодичность. Именно об этом я только что косвенно упоминал, говоря о выборе как функции сенсорного механизма. Роль этого последнего состоит в том, чтобы служить для Qualitдtszeichen проводником, обеспечивая, при малейшем шаге, возможность тех отклонений, которые индивидуализируются как сосредоточенные на том или ином избранном звене цепи акты внимания и позволяют добиться лучшего приближения к процессу, нежели принцип удовольствия, который стремится установить степень этого приближения автоматически.
Но стоило Фрейду попытаться функционирование этой системы представить связно, как в сочетании, единстве, почти слиянии восприятия, Wahrnehmung, с сознанием, Beurusstsein — в том, одним словом, что записывается у Фрейда символом W-Bw, — обнаруживается нечто поразительное для нас. В связи с этим я попрошу вас обратить внимание на письмо 52, о многократном использовании которого мною Лефевр-Понталис в прошлый раз говорил, — письмо, где Фрейд начинает, в своих признаниях Флиссу, объяснять то, каким образом следует себе представлять функционирование бессознательного. Вся его теория памяти выстраивается вокруг последовательности записей, Niederschriflen. Фундаментальным требованием всей этой системы является, таким образом, создание представления о психическом механизме, которое объединяло бы в связное целое все те области, где можно наблюдать то, что в мне-мических следах в действительности функционирует.
Согласно письму 52, Wahrnemung, впечатление от внешнего мира взятое в его грубом, сыром, первоначальном виде, лежит вне того поля, которое соответствует опыту регистрируемому, то есть опыту, действительно записанному в чем-то таком, что Фрейд уже на ранних этапах своей работы описывает, как это ни поразительно, словом Niederschrift, — чем-то таком, что предстает, следовательно, не как просто-напросто Prдgung, впечатление, но как нечто подающее знак и относящееся поэтому к разряду письма — не я, прошу обратить внимание, заставил его этот термин выбрать.
Первый Niederschrift появляется в возрасте, который Фрейд приблизительно оценивает — впрочем, это не так уж важно — в четыре года. Позднее, вплоть до восьмилетнего возраста, откладывается другой Niederschrift, более упорядоченный, организованный как функция воспоминаний — он-то, собственно, бессознательное, по-видимому, и образует. Ошибается Фрейд в данном случае, или нет, не имеет значения — мы убедились с тех пор, что бессознательное и специфическая для него организация мышления восходят к периоду гораздо более раннему. Важно другое — важно, что затем у него идет уровень предсознательного, Vorbewusstsein, а вслед за ним уровень сознания, Bewusstsein — не в качестве временной фазы, а в качестве некоей границы, предела. Другими словами, работа, которая ведет нас от означивания мира к формулируемой в словах речи, цепочка, которая тянется от самого архаического бессознательного к артикулируемой субъектом речи — все это разворачивается между Wahrnemung и Bewusstsein, в подкожном, так сказать, пространстве. Продвижение, которое интересует Фрейда, осуществляется, таким образом, в месте, которое не стоит безоговорочно отождествлять, с точки зрения топологии, с нейронным механизмом. То, что между Wahrnemung и Bewusstsein происходит, должно так или иначе — судя по тому, как Фрейд это дело нам представляет — иметь отношение к бессознательному, причем отношение это на сей раз не только функциональное, но затрагивающее Aufbau, структуру, как он сам, проводя это противопоставление, выражается.
Иными словами, благодаря означающей структуре, благодаря внедрению ее в пространство между восприятием и сознанием, бессознательное, а с ним и принцип удовольствия, принимают участие в этом процессе уже не в качестве Gleichbesetzung, функции поддержания нагрузки на определенном уровне, а в качестве чего-то такого, что имеет отношение v. Bahnungen. Структура накопленного опыта покоится в них нетронутой, сохраняясь в записи.
На уровне Ich, на уровне функционирующего бессознательного, происходит отладка того, что стремится внешний мир отстранить. На уровне Ьbung происходит, наоборот, разрядка — перед нами здесь та же, с перекрещивающимися связями, схема, которая характерна для общей икономии механизма. Структура регулирует разрядку, функция — придерживает ее. Фрейд называет это также словом Vorrat, запас — тем самым, которое использует он, говоря о Vorratskammer, кладовке, собственного своего бессознательного. Носитель этих запасов, Vorratstrдger, и есть Я, Ich, как основа того количественного показателя, той энергии, которая составляет ядро психического механизма.
Именно на этой основе обнаруживается нечто такое, что функционирует, как мы сейчас убедимся, в качестве первого восприятия субъектом реальности. Здесь-то и заявляет о себе реальность, связанная с субъектом самым интимным образом — его ближний, Nebenmensch. Поразительная формулировка, сопрягающая воедино остраненность и сходство, раздельность и тождество.
Мне следовало бы процитировать весь абзац целиком, но я ограничусь кульминационным его моментом — "итак, комплекс Nebenmensch распадается на две части, одна из которых оказывает свое воздействие с помощью постоянного механизма, который остается единым целым в качестве вещи" — als Ding.
Вот эта-то мысль как раз и оказалась утрачена в безобразном французском переводе, где мы читаем, что quelque chose (нечто) reste comme tout cohйrent (остается в качестве связного целого). Дело в том, что данное место у Фрейда вовсе не отсылает нас к "связному целому" как некоей характеристике, которая переносится с глагола на существительное — как раз наоборот. Dingпредставляет собой элемент, который субъектом, в его столкновении с Nebenmensch, с самого начала обособляется как нечто по природе своей ему чуждое, Fremde. Объект, это сложное образование, состоит из двух частей — здесь налицо разделение, разница в самом подходе к суждению. Все, что является в объекте его качеством и может быть представлено в качестве его атрибута, входит в нагрузку системы φ и формирует те первоначальные представления, Vorstellungen, вокруг которых и решаются судьбы того, что в первых, скажем так, явлениях на сцену субъекта как такового регулируется законами удовольствия и неудовольствия, Lust и Unlust. Das Ding — это нечто совершенно иное.
Перед нами изначальный разрыв между опытом и реальностью. То же самое обнаруживается и в Verneinung, запирательстве. Обратитесь к тексту, и вы увидите, что тут налицо, в том же самом диапазоне воздействия, та же самая функция — функция того, что оказывается изнутри субъекта вынесено изначально во "вне" — то первичное "вне", которое не имеет, по словам Фрейда, ничего общего с той реальностью, в которой субъекту придется впоследствии ориентироваться с помощью Qaulitдtszeichen, указывающих ему, что в поисках удовлетворения он находится на верном пути.
Перед нами здесь нечто такое, что заранее, до всякой поверки поиском, полагает этому поиску его направление, его цель и его предел. Именно это имеет в виду Фрейд, говоря, что "первая и ближайшая цель поверки реальностью состоит не в том, чтобы отыскать в реальном восприятии объект, который соответствовал бы тому, что субъект в данный момент себе представляет, а в том, чтобы этот последний обрести вновь, чтобы убедиться, что он по-прежнему в реальности налицо".
Ding как Fremde, нечто чужое, а порой и враждебное, то первое, в любом случае, что предстоит субъекту в качестве ему вне-положенного — вот что служит субъекту на пути его продвижения главным ориентиром. Продвигается же он, сверяясь с чем? Оглядываясь на что? — На мир своих желаний. Ему важно убедиться в наличии чего-то такого, что может, в какой-то степени, сослужить ему службу. Службу в чем? — В сверке с миром желаний и ожиданий — миром, ориентированным на то, что поспособствует ему при случае в достижении Вещи, das Ding. Объект этот окажется налицо тогда, когда все условия окажутся выполнены, в самом конце — ясно ведь, что то, что предстоит в данном случае отыскать, найти не удастся. Объект по самой природе своей безвозвратно утрачен. И найден заново он никогда не будет. Чего-то — в ожидании нечто лучшего или нечто худшего — всегда будет недоставать.
Мир Фрейда, то есть мир нашего в вами психоаналитического опыта, строится на предположении, что именно этот объект, das Ding, как абсолютно Иное субъекта предстоит найти заново. Но находят его всего-навсего в облике сожаления. Находят не его вовсе, а место его в координатной системе удовольствия. Именно в состоянии пожелания и ожидания стремится субъект отыскать, во имя принципа удовольствия, то оптимальное напряжение, ниже которого нет больше ни восприятия, ни усилия.
В конечном счете, без чего-то такого, что галлюцинаторно порождало бы его в качестве отсылочной системы, никакой мир восприятия не способен оказывается сколь-нибудь приемлемо себя упорядочить, приобрести человеческое устроение. Мир восприятия предстает у Фрейда зависимым от этой основополагающей галлюцинации — галлюцинации, без которой несвязанного внимания не могло бы существовать.
Мы подходим здесь к понятию spezifische Aktion — понятию, которое встречается у Фрейда неоднократно и которое мне хотелось бы для вас прояснить. В понятии Befriedigungserlebnis заключено, на самом деле, противоречие. Предметом поиска является объект, по отношению к которому функционирует принцип удовольствия. Функционирование это вплетено в ткань, в сюжет, составляет основу того, к чему отсылает любой практический опыт. Так как же именно Фрейд этот опыт, это специфическое действие, понимает?
Здесь стоит снова обратиться к переписке с Флиссом, чтобы лучше почувствовать все значение ее — в особенности же к письму 52, еще не раскрывшего нам всех своих тайн. Приступ истерии — говорит нам это письмо — не является разрядкой. Хороший урок тем, кто вечно испытывает потребность выдвинуть в функции аффекта на первый план фактор количества. Именно истерия представляет собой ту область, на примере которой проще всего показать, в какой мере факт оказывается в сцеплении психических событий коррелятивен случайности. Это ни в коем случится с глагола на существительное — как раз наоборот. Dingпредставляет собой элемент, который субъектом, в его столкновении с Nebenmensch, с самого начала обособляется как нечто по природе своей ему чуждое, Fremde. Объект, это сложное образование, состоит из двух частей — здесь налицо разделение, разница в самом подходе к суждению. Все, что является в объекте его качеством и может быть представлено в качестве его атрибута, входит в нагрузку системы φ и формирует те первоначальные представления, Vorstellungen, вокруг которых и решаются судьбы того, что в первых, скажем так, явлениях на сцену субъекта как такового регулируется законами удовольствия и неудовольствия, Lust и Unlust. Das Ding — это нечто совершенно иное.
Перед нами изначальный разрыв между опытом и реальностью. То же самое обнаруживается и в Verneinung, запирательстве. Обратитесь к тексту, и вы увидите, что тут налицо, в том же самом диапазоне воздействия, та же самая функция — функция того, что оказывается изнутри субъекта вынесено изначально во "вне" — то первичное "вне", которое не имеет, по словам Фрейда, ничего общего с той реальностью, в которой субъекту придется впоследствии ориентироваться с помощью Qaulitдtszeichen, указывающих ему, что в поисках удовлетворения он находится на верном пути.
Перед нами здесь нечто такое, что заранее, до всякой поверки поиском, полагает этому поиску его направление, его цель и его предел. Именно это имеет в виду Фрейд, говоря, что "первая и ближайшая цель поверки реальностью состоит не в том, чтобы отыскать в реальном восприятии объект, который соответствовал бы тому, что субъект в данный момент себе представляет, а в том, чтобы этот последний обрести вновь, чтобы убедиться, что он по-прежнему в реальности налицо".
Ding кик Fremde, нечто чужое, а порой и враждебное, то первое, в любом случае, что предстоит субъекту в качестве ему вне-положенного — вот что служит субъекту на пути его продвижения главным ориентиром. Продвигается же он, сверяясь с чем? Оглядываясь на что? — На мир своих желаний. Ему важно убедиться в наличии чего-то такого, что может, в какой-то степени, сослужить ему службу. Службу в чем? — В сверке с миром желаний и ожиданий — миром, ориентированным на то, что поспособствует ему при случае в достижении Вещи, das Ding. Объект этот окажется налицо тогда, когда все условия окажутся выполнены, в самом конце — ясно ведь, что то, что предстоит в данном случае отыскать, найти не удастся. Объект по самой природе своей безвозвратно утрачен. И найден заново он никогда не будет. Чего-то — в ожидании нечто лучшего или нечто худшего — всегда будет недоставать.
Мир Фрейда, то есть мир нашего в вами психоаналитического опыта, строится на предположении, что именно этот объект, das Ding, как абсолютно Иное субъекта предстоит найти заново. Но находят его всего-навсего в облике сожаления. Находят не его вовсе, а место его в координатной системе удовольствия. Именно в состоянии пожелания и ожидания стремится субъект отыскать, во имя принципа удовольствия, то оптимальное напряжение, ниже которого нет больше ни восприятия, ни усилия.
В конечном счете, без чего-то такого, что галлюцинаторно порождало бы его в качестве отсылочной системы, никакой мир восприятия не способен оказывается сколь-нибудь приемлемо себя упорядочить, приобрести человеческое устроение. Мир восприятия предстает у Фрейда зависимым от этой основополагающей галлюцинации — галлюцинации, без которой несвязанного внимания не могло бы существовать.
Мы подходим здесь к понятию spezifische Aktion — понятию, которое встречается у Фрейда неоднократно и которое мне хотелось бы для вас прояснить. В понятии Befriedigungserlebnis заключено, на самом деле, противоречие. Предметом поиска является объект, по отношению к которому функционирует принцип удовольствия. Функционирование это вплетено в ткань, в сюжет, составляет основу того, к чему отсылает любой практический опыт. Так как же именно Фрейд этот опыт, это специфическое действие, понимает?
Здесь стоит снова обратиться к переписке с Флиссом, чтобы лучше почувствовать все значение ее — в особенности же к письму 52, еще не раскрывшего нам всех своих тайн. Приступ истерии — говорит нам это письмо — не является разрядкой. Хороший урок тем, кто вечно испытывает потребность выдвинуть в функции аффекта на первый план фактор количества. Именно истерия представляет собой ту область, на примере которой проще всего показать, в какой мере факт оказывается в сцеплении психических событий коррелятивен случайности. Это ни в коем случае не разрядка, а именно Aktion — но не просто действие, а действие как Mittel zur Reproduktion von Lust.
Теперь ясно становится, что именно Фрейд называет действием, Aktion. Отличительная черта всякого действия состоит в том, что оно представляет собой Mittel, средство воспроизведения. Оно является этим по крайней мере в своем корне, Das ist er [der hysterische Anfall] wenigstens in der Wurzel. Sonst, втожесамоевремя, motiviert es sich vor dem Vorbewusstsetn mit allerlei Grьnden, ономожетмотивироватьсялюбымиоснованиями, почерпнутыминауровнепредсознательного.
О том, в чем состоит его суть, Фрейд говорит нам сразу же после этого, иллюстрируя одновременно ту свою мысль, согласно которой действие представляет собой Mittel zur Reproduktion. В случае истерии, истерического плача, все происходящее рассчитано, направлено, нацелено на den Anderen, Другого — того доисторического, незабвенного Другого, до которого никто никогда не сможет уже добраться.
Сказанное здесь Фрейдом позволяет нам понять в первом приближении не только то, что невроз собой представляет, но и то, с чем он соотнесен, в чем состоит регулирующий его принцип. Если результатом специфического действия, нацеленного на испытывание удовольствия, является воспроизводство начального состояния, обретение объекта, Ding, то образы поведения невротиков становятся нам понятны.
Поведение страдающего истерией, к примеру, имеет целью воссоздать состояние, в центре которого стоит объект, Ding, выступающий здесь, как Фрейд где-то пишет, как предмет отвращения. Специфическое для страдающего истерией переживание, Erlebnis, определяется, таким образом, тем, что первичный объект является для него объектом неудовольствия.
На другом полюсе — различие проводится здесь самим Фрейдом и отказываться от него не следует ни в коем случае — в случае невроза навязчивых состояний, объект, по отношению к которому выстраивается базовое переживание, переживание удовольствия, это объект, который, в буквальном смысле, доставляет слишком много удовольствия. Фрейд это очень хорошо понял: это первое, что было им в отношении данного типа невроза отмечено. Поведение страдающего неврозом навязчивости на всех путях и поворотах его обнаруживает и выдает себя тем, что следует правилам, позволяющим тщательного избегать того, в чем и сам субъект достаточно ясно распознает зачастую предмет своего желания, его цель. Мотивация этого уклонения от удовольствия носит порою характер чрезвычайно радикальный, поскольку принцип удовольствия и дан нам, собственно, для того, чтобы обеспечивать как раз такой способ функционирования, который позволял бы избегать избыточного, излишнего удовольствия.
Здесь же, идя в ногу с первыми наблюдениями Фрейда над тем, в чем этическая реальность заявляла о себе у субъекта, с которым он имел дело, поспешу указать на позицию субъекта в третьей из тех главных категорий расстройств — истерии, невроза навязчивых состояний и паранойи — которые первоначально Фрейд выделяет. Говоря о паранойе, что интересно, Фрейд использует то самое выражение, над первоначальным появлением которого на горизонте фрейдовской мысли я предложил вам в свое время поразмышлять — выражение Versagen des Glaubens. Дело в том, что пресловутый чужак этот — первый, по отношению к которому должен субъект первоначально определиться. Параноик в него просто не верит.
Термин вера используется здесь, мне кажется, в смысле куда менее психологическом, чем поначалу это может казаться. Радикальная позиция параноика, как понимает ее Фрейд, затрагивает самый глубокий слой связи человека с реальностью — тот самый, что заявляет о себе как вера. Здесь нетрудно усмотреть связь с другой, встречной перспективой, на которую я уже указывал вам, когда говорил, что у истоков паранойи лежит, по сути дела, отказ от опоры в символическом порядке — той самой, особой по своему характеру, опоры, вокруг которой и возникают, как мы убедимся в дальнейшем, две различные стороны в отношениях субъекта с das Ding.
Первоначально das Ding представляет собою то, что мы назовем вне-означаемым (le hors-signifiй). Именно в зависимости от этого вне-означаемого, от переживаемых отношений с ним и выстраивается хранимая субъектом дистанция, а само его становление оказывается обусловлено характером этих отношений, первичным, предшествующим какому бы то ни было вытеснению аффектом. Все те начальные построения, которые мы в работе "Entwurf находим, вращаются, так или иначе, вокруг этого. Вытеснение, не будем забывать, еще составляет в это время большую проблему и все поразительно утонченные соображения, которые он на этот счет будет развивать в дальнейшем, явятся у него исключительно в связи с необходимостью осмыслить специфику вытеснения по сравнению со всеми прочими формами защиты.
Итак, именно по отношению к этой первоначальной Вещи, Ding, выстраивается здесь первая система ориентации, делается первичный выбор, возникает, наконец, та первооснова субъективной ориентации, которую назовем мы в данном случае выбором невроза, Neurosenwahl. Именно здесь возникают те параметры, в соответствии с которыми все дальнейшее функционирование принципа удовольствия окажется отрегулировано.
Остается теперь убедиться в том, что именно здесь, на этом самом месте, организуется впоследствии то, что Вещи одновременно обратно, противоположно и идентично и чем das Ding, эта немая, по сути дела, реальность окажется подмененной, — организуется реальность, которая приказывает, повелевает. Именно это бросается в глаза в построениях того, кто понял роль das Ding лучше других, хотя и подходил к ней исключительно с позиций философии и науки — в философских построениях Канта. Вполне правомерно в конечном счете представлять себе das Ding в терминах чистой означающей канвы, всеобщей максимы, чего-то совершенно к индивиду безотносительного. Здесь-то и следует нам, вместе с Кантом, усматривать ту точку наведения, прицела, схода, с которой действие, которое мы назовем моральным, должно быть сообразовано и которая сама парадоксальным образом — мы с вами увидим в дальнейшем, как именно — предстанет в дальнейшем как образец определенного рода блага, Gute.
Сегодня же я хочу всего-навсего указать на то, что Вещь заявляет о себе для нас лишь постольку, поскольку она "попадает" в слово — в том смысле, в котором говорим мы "попасть в десятку". В тексте Фрейда тем способом, которым нечто чуждое, враждебное входит в первичное переживание реальности человеческим субъектом, является крик. Ведь крик — это нечто такое, в чем мы, я бы сказал, не нуждаемся. Мне хотелось бы здесь указать попутно на то, что во французском языке выражено более эксплицитно, нежели в немецком — у каждого языка есть свои преимущества. Слово das Wort означает по-немецки одновременно и слово, иречъ. Что касается французского, то в нем слово mot имеет совершенно особый оттенок. Mot — это, по сути дела, момент ответа. Mot — говорит где-то Лафонтен — это то, что замолкает, то, на что никакое слово — mot — в ответ не следует. Вещи, о которых идет речь — и которые кое-кто, возражая, мог бы противопоставить мне как нечто такое, что расположено у Фрейда на уровне более высоком, нежели тот мир означающих, в котором я учу вас видеть подлинный двигатель процесса, именуемого первичным, — суть именно вещи, потому что они немы. А немые вещи — это совсем не то же самое, что вещи, которые не имеют с речью ничего общего.
Достаточно будет напомнить вам о фигуре, которую каждый из вас живо себе представляет — фигуре одного из братьев Маркс, немого Гарпо. Что еще способно внушить нам более насущный, неотступный, волнующий, берущий за душу, головокружительный, подталкивающий к краю бездны, к краю небытия вопрос, нежели улыбка, то ли предельно извращенная, то ли совершенно придурочная, Гарпо Маркса? Уже одного этого немого достаточно, чтобы создать ту атмосферу радикального сомнения и опустошения, которая проникает собой все замечательные фарсы братьев, всю череду непрерывныхуо&е$, которыми представления их столь ценны.
И еще одно слово. Сегодня я говорил вам о Другом — Другом в качестве Вещи, Ding. И закончить мне хотелось разговором о кое-чем куда более доступном нашему опыту — о независимом использовании, предусмотренном французским языком для некоторых форм личных местоимений.
Чем является для нас произнесение, артикуляция, явление вовне, вне собственного голоса, того Топ — Ты\ — которое срывается с наших уст в момент растерянности, подавленности, изумления, в присутствии если не смерти — не станем опережать события — то, во всяком случае, той привилегированной в наших глазах фигуры другого, вокруг которой сосредоточены все наши главные устремления и которая, несмотря на это, так нас смущает?
Я не думаю, чтобы это Ты — благоговейное Ты, вокруг которого терпят порою окончательный крах любые проявления потребности обожать — было таким уж простым. Я полагаю, что в нем налицо искушение приручить Другого, Другого доисторического, того незабываемого Другого, который того и гляди застанет нас врасплох и сбросит нас с высоты своим появлением. В этом Ты чудится нам какая-то защита, и в момент, когда оно произносится, именно в нем и ни в чем ином, пребывает, я бы сказал, всецело то самое, что фигурировало в сегодняшней моей лекции как das Ding.
Чтобы не оканчивать это занятие на чрезмерно оптимистической ноте, я укажу на другой случай, когда независимое, изолированное синтаксически слово несет бремя идентичности с вещью.
Дело в том, что этому Ты, которое я назвал приручающим и которое ничего на самом деле не приручает, Ты тщетного заклятия и напрасно чаемого соединения, соответствует то, что случается с нами, когда мы получаем приказ из области, лежащей по ту сторону механизма, где кишит в нас бесформенной массой то, что имеет отношение к das Ding. Я говорю о том слове, которым отвечаем мы на возложение на нас поручения или ответственности — слове Я! Но что оно, это отдельно стоящее Я, собой представляет? Что это, как не Я уклонения, Я неприятия, я самоумаления?
Итак, Я с самого начала артикулируется здесь как нечто такое, что, возникая, изгоняет себя, как защита, как инстанция, которая в первую очередь и прежде всего отвергает, которая не столько аннонсирует, объявляет, сколько денонсирует, изобличает, и чье одинокое появление над горизонтом следует одновременно рассматривать как закат.
К этому Я и вернемся мы в следующий раз, двигаясь дальше в том направлении, где моральный поступок предстает как переживание удовлетворенности.
9 декабря 1959 года.
V Das ding (II)
Комбинаторика Vorstellungen. Граница боли.
Между восприятием и сознанием.
Недомолвки Verneinung.
Мать как das Ding
Фрейд замечает где-то, что, избавив многих от мучительного чувства вины и дойдя до крайних пределов в исследовании царства инстинктов, психоанализ тем самым нисколько не преуменьшил значение моральной инстанции.
И это для нас истина вполне очевидная — наша практическая деятельность приносит ей каждый день новые подтверждения.
Те, кто не имеет к психоанализу отношения, не отдают до сих пор себе отчет в том, в какой огромной степени воздействует на субъекта неосознанное чувство вины. К тому, что предстает нам, в общих чертах, в виде бессознательного чувства вины, я как раз и счел необходимым в этом году приглядеться внимательнее, формулируя дело таким образом, чтобы выявить в полной мере оригинальность, революционность основанного на фрейдовском опыте осмысления этической сферы.
1
В последний раз я попытался разъяснить вам значение для фрейдовской психологии работы "Entwurf — работы, в которой интуитивные представления Фрейда о том, что представляет собой невротический опыт, получили свое первое концептуальное оформление. Я попытался, в частности, указать вам на поистине осевую функцию, которую приходится нам приписать тому, с чем сталкиваемся мы на побочной линии этого текста — линии, которую главное просто не пропустить, тем более что Фрейд, в разной форме, подхватывает ее снова и снова вплоть до конца. Речь идет о das Ding.
Das Ding — это то, что в начальном — как логически, так и психологически — моменте организации мира в психике предстает в виде изолированного и чуждого предела, вокруг которого вращаются представления, Vorstellungen, управляемые, как показал Фрейд, тем связанным с функционированием нервного механизма принципом, который именуется у него принципом удовольствия. Вокруг него, этого das Ding, и происходит прогрессивная адаптация, которая, будучи неразрывно сплетена с символическим процессом, принимает у человека столь своеобразную форму.
Вновь сталкиваемся мы с das Ding в "Verneinung" — статье, написанной в 1925 году и богатой плодотворными вопросами и идеями — где термин этот фигурирует в формуле, существенность которой явствует уже из того центрального места — места загадки — которую этот термин в нем занимает. Дело в том, что das Ding совпадает здесь, судя по всему, с Wiederzufinden, с тем стремлением к поискам утраченного, которым, для Фрейда, и обусловлена как раз ориентация человеческого субъекта на объект. Объект этот, обратите внимание, даже не называется. Отдавая уместную здесь дань известной критической традиции анализа текстов, чья привязанность к означающему принимает порою характер вполне талмудический, обратим внимание на этот замечательный факт: объект, о котором идет речь, Фрейд так ни разу и не называет.
Поскольку объект этот надлежит найти, мы называем его объектом утраченным. Несмотря на то, однако, что на поиски его все, по существу, и направлено, утрачен он, собственно, никогда не был. В ходе этой ориентации на объект то, что канву опыта регулирует, Vorstellungen, вызывают друг друга по законам организации памяти, комплекса памяти, той Bahnung — трассировки — и тех, скажем для строгости, стыковок, чью игру нервный механизм позволяет нам, возможно, наблюдать в материальной форме и чье функционирование регулируется законом принципа удовольствия.
Принцип удовольствия руководит поисками объекта и направляет этот поиск теми окольными путями, которые позволяют субъекту сохранять от этой цели дистанцию. Этимология слова поиск, recherche, даже теперь, когда слово это пришло во французском на смену вышедшему из употребления quйrir, несомненно отсылает нас к латинскому circa, обход. Перенос количества энергии от одного Vorstellung к другому постоянно поддерживает в поиске определенную дистанцию по отношению к тому, вокруг чего он кружится. Искомый объект задает поиску незримый закон, не являясь, однако, тем, что задает собой конкретные его траектории. Фиксирует эти траектории, моделируя их возвращение — возвращение, которое дистанции по отношению к объекту не упраздняет, — не что иное, как принцип удовольствия. Именно принцип удовольствия обрекает поиски на то, чтобы найти, в результате, лишь удовлетворение жизненных нужд, Not des Lebens.
На пути этих поисков субъект испытывает раз за разом удовлетворение, связанное с объектным отношением и им поляризованное. Объектное отношение непрерывно моделирует, темперирует и поддерживает ход поисков в соответствии с законом, диктуемым принципом удовольствия. Этот закон фиксирует уровень определенного количества возбуждения, превысить которое нельзя, не перейдя при этом пределы поляризации Lust/Unlust, поскольку удовольствие и неудовольствие представляют собой всего лишь две формы, в которых осуществляется один и тот же процесс регуляции — процесс, который называется принципом удовольствия.
Приемлемое количество регулируется — Фрейд выражается здесь, правда, метафорически, но понимать его можно почти буквально — шириной проводящих путей, индивидуальным диаметром того, что организм может выдержать. Что происходит за этим пределом? Психический импульс отнюдь не обретает способность продвинуться ближе к цели — скорее наоборот, он дробится, распределяется в психическом организме, количество преобразуется в сложность. Расширяя освещенную, так сказать, зону нервного механизма, она зажигает вдалеке, то там, то здесь, созвездия представлений, Vorstellungen, которыми диктуется, согласно принципу удовольствия, ассоциация идей, бессознательных мыслей, Gedanken.
У предела этого есть имя. И он совсем не то же самое, что полярная пара Lust/Unlust, о которой говорит Фрейд.
Я хотел бы обратить ваше внимание на то, что изначально, еще прежде чем берет на себя эту функцию система ф, регулирует согласно принципу удовольствия поступающие количественные потоки — я имею в виду уклонение, движение, бегство. Именно двигательная функция выполняет в конечном счете задачу регулирования допустимого для организма уровня напряжения, достижения гомеостаза. Но гомеостаз нервной системы, которая имеет автономный механизм регулирования, не совпадает — что приводит к известной рассогласованности — с гомеостазом организма в целом, что связан, к примеру, с балансом жидкостей в организме. Равновесие жидкостей заявляет о себе как вид стимуляции, осуществляемой изнутри. Именно так выражается Фрейд — существуют стимуляции, осуществляемые изнутри нервного организма. Эти стимуляции он сравнивает со стимуляциями внешними.
Я хотел бы теперь на этом пределе, пределе боли, несколько остановиться.
Комментаторы, собравшие письма Фрейда к Флиссу, сочли, что Фрейд допустил в одном месте оговорку, использовав слово motorish, подразумевающее источник движения, вместо слова secretorish, подразумевающего клетку, ядро, орган. Как я уже говорил однажды, у меня нет уверенности, что перед нами здесь именно оговорка. Фрейд действительно утверждает, что в большинстве случаев болевая реакция возникает тогда, когда двигательная реакция, реакция уклонения, невозможна — при условии, что стимуляция, возбуждение, идет изнутри. Мне кажется поэтому, что пресловутый ляпсус этот свидетельствует лишь о том, что Фрейд рассматривает болевую реакцию как гомологичную, в основе своей, реакции моторной. К тому же — что меня поразило очень давно и вам, я надеюсь, не покажется столь уж абсурдным — спинной мозг устроен таким образом, что нейроны и аксоны боли располагаются на том же уровне, в том же месте, что и некоторые из нейронов и аксонов, связанных с тонической двигательной функцией. Боль, таким образом, не должна быть относимой исключительно к регистру чувствительных реакций. Это именно то, на мой взгляд, что хирургия боли нам демонстрирует — чего-то простого, что могло бы рассматриваться как чувствительная реакция в чистом виде, не существует. Сложный характер боли, ее промежуточное, так сказать, положение между системами передачи сигналов от периферии к центру и от центра к периферии, подтверждается поразительными результатами, которые дает определенный тип разреза, позволяющий при оперировании внутренних образований, прежде всего злокачественных, сохранить сигнал боли при действующей анестезии или устранить в ней субъективное качество, делающее ее невыносимой.
Все эти данные получены современной физиологией, которая не позволяет покуда полноценно их обобщить, почему и ограничусь я здесь предположением, что нам следует, по-видимому, рассматривать боль как область, которая раскрывается в существовании вблизи того предела, где существо не имеет уже возможности двигаться.
Разве не о том же говорят нам поэты в мифе о Дафне, которая обращается в дерево под действием боли, избежать которой она не может? Разве не знаем мы, что живое существо, которое не способно двигаться, самой формой своей наводит нас на мысль о присутствии чего-то такого, что можно назвать застывшей мукой? А в наших отношениях с царством камня, которому мы не даем катиться свободно, который мы всегда стремимся установить, воздвигнуть, неподвижно фиксировать, в самой архитектуре как таковой разве не ощутительна некая демонстрация боли?
Особенно показательно в этом отношении то, что происходило в эпоху барокко — происходило под влиянием того исторического момента, что знаменовал собой начало эпохи, где живем мы с вами. Именно тогда сделана была попытка воплотить в архитектуре порыв к блаженству, зажечь в ней свободу, делающую ее ярчайшим парадоксом в истории зодчества. Но какие формы он, этот порыв к удовольствию, блаженству, здесь принимает — не те ли, которые мы, на языке, чья метафоричность попадает здесь в цель, называем мучительными?
Простите мне этот экскурс — он нужен был мне в качестве предварительной зацепки для перехода к теме, которую нам предстоит затронуть — я имею в виду тип "человека удовольствия" в восемнадцатом веке и связанный с ним совершенно особый стиль в исследовании эротизма.
Вернемся к нашим Vorstellungen и попытаемся теперь понять их, подглядеть и зафиксировать их в момент работы — только тогда станет нам ясно, к чему фрейдовская психология, собственно, ведет дело.
Воображаемый по своему составу, принадлежащий стихии воображаемого, объект представляет собой, так сказать, субстанцию видимости, материал витальной приманки, явление, способное, в качестве Erscheinung — простите за немецкое слово — вызвать разочарование, то, одним словом, в чем видимость находит себе опору, но в то же время явление текучее, хаотичное — то, что и фабрикует как раз само Vor, нечто третье, нечто берущее начало от Вещи. Vorstellung по самой сути своей представляет собой нечто подвергшееся разложению — то самое, вокруг чего испокон веку, начиная от Аристотеля, вращается западная философия и φαντασία.
Vorstellung понимается Фрейдом радикально — в той форме, в которой вошло это понятие в философию, которая движется в проложенном теорией познания русле. Замечательно то, что он придает представлению, Vorstellung, тот самый, причем до крайности доведенный облик, в котором философы так и не осмелились его представить — облик полого тела, призрака, бледного инкуба, паразитирующего на отношениях с миром; чахлого наслаждения, которое на протяжении всех рассуждений философа выступает как его, этого Vorstellung, существенная черта. Обособляя Vorstellung в этой роли, Фрейд тем самым вырывает его из традиции.
Но сама сфера, где Vorstellungen располагаются — куда он ее помещает? К чему эти Vorstellungen тяготеют? Я уже говорил в прошлый раз, что если читать Фрейда внимательно, приходится прийти к выводу, что располагаются они между восприятием и сознанием, в подкожном, так сказать, пространстве.
Именно туда, в промежуток между восприятием и сознанием, внедряется то, что функционирует на уровне принципа удовольствия. Что же именно? — Мыслительные процессы, регулирующие посредством принципа удовольствия нагрузку Vorstellungen, и структуру, в которую выстраивается бессознательное, структуру, в которой подспудное содержание бессознательных механизмов коагулирует, образуя сгустки репрезентации, то есть чего-то такого, что имеет то же строение — вот пункт, на котором я принципиально настаиваю — что и означающее. Это уже не просто Vorstellung, а, как напишет Фрейд позже в своей статье Бессознательное, Vorstellungsreprдsentanz, то, что делает из Vorstellung элемент ассоциативный, комбинаторный. Тем самым, мир Vorstellung оказывается заранее организован в соответствии с возможностями означающего как такового. Уже на уровне бессознательного организация происходит согласно законам, которые являются, как убедительно показал Фрейд, вовсе не законами противоречия или законами грамматическими, а законами сгущения и смещения — теми самыми, которые я называю здесь законами метафоры и метонимии.
Что же удивительного тогда, если Фрейд говорит нам, что эти протекающие между восприятием и сознанием мыслительные процессы не существовали бы для сознания вовсе, не будь они сообщены ему посредством дискурса, то есть того, что может быть в предсознании, Vorbewusstsein, эксплицировано? Что имеется здесь в виду? Фрейд не оставляет ни малейшего сомнения на этот счет — речь идет о словах. И нам с вами предстоит выяснить, в частности, каким образом эти Wortvorstellungen, о которых здесь идет речь, соотносятся с тем, о чем только что говорили здесь мы.
Эти Wortvorstellungen, утверждает Фрейд, совсем не то же самое, что те Vorstellungen, процесс метафорического и метонимического наложения которых в механизме бессознательного мы здесь прослеживаем. Это нечто совсем другое. Wortvorstellungen полагают начало дискурсу, артикуляция которого отвечает процессу мысли. Другими словами, мы ничего о процессе нашего мышления не знаем, если мы — я специально говорю это, чтобы свою мысль подчеркнуть — если мы, повторяю, не занимаемся психологией. Мы знаем их лишь постольку, поскольку говорим о том, что в нас происходит, говорим в выражениях, избежать которых не можем, хотя и осознаем одновременно их недостоинство, тщету, пустоту. Только с момента, когда начинаем мы говорить о нашей воле или о нашем рассудке как об отдельных способностях, имеем мы предсознание и действительно становимся способны соединить в связный дискурс кое-что из той болтовни, которой пользуемся, чтобы себя в себе самом как-то артикулировать, себя оправдать, чтобы рационализировать для себя, в тех или иных обстоятельствах, пути, которыми следует наше желание.
Речь идет не о чем ином, как именно о дискурсе. И Фрейд подчеркивает, что мы о своем желании ничего, кроме этого дискурса, не знаем. В сознание, Bewusstsein, поступает только Wahrnehmung, восприятие этого дискурса, и ничего более. Именно так, в точности, Фрейд и думает.
Именно поэтому и склонен он сводить к нулю поверхностные репрезентации, или, как их называет Зильберер, функциональный феномен. Конечно, встречаются в определенной фазе сновидения элементы, которые репрезентируют в тех или иных образах психическое функционирование — скажем, чтобы воспользоваться известным примером, репрезентируют слои психики посредством игры в "гусёк". Что говорит Фрейд? Что речь в данном случае идет всего-навсего о сновидениях ума, склонного к метафизике — читай: к психологии — ума, склонного придавать преувеличенное значение тому, что дискурс с необходимостью навязывает нам, когда перед нами стоит задача в нашем внутреннем опыте что-то вычленить. Беда, однако, в том — говорит Фрейд, — что репрезентация эта упускает из виду структуру, то иное, самое глубокое тяготение, корни которого надо искать на уровне Vorstellungen. А они, эти Vorstellungen, тяготеют друг к другу, обмениваются, сочетаются, уверяет нас Фрейд, согласно законам, в которых вы, если вы за моей мыслью следите, без труда узнаете основополагающие законы функционирования цепочки означающих.
Удалось ли мне донести до вас свою мысль? Мне кажется, что трудно на этот счет высказаться яснее.
Мы получили, таким образом, представление о действительной артикуляции дискурса, о силах тяготения, которым повинуются Vorstellungen в форме Vorstellungsreprдsentanzen этой бессознательной артикуляции. Важно теперь обратить внимание на то, что мы назовем, в данном случае, Sachvorstellungen. Эти последние занимают место, полярно противоположное словесным, так сказать, играм, Wotrvorstellungen, хотя, на данном уровне, без них не обходятся. Что касается das Ding, то это другое дело — это исконная функция, располагающаяся на том уровне, где тяготение бессознательных Vorstellungen изначально возникло.
Мне не хватило в прошлый раз времени, чтобы на примерах, почерпнутых из конкретного словоупотребления, пояснить для вас лингвистическое различие между Ding, с одной стороны, и Sache, с другой.
Ясно, что слова эти не употребляются безразлично, и что даже в тех случаях, когда подходит, в принципе, любое из них, выбор, который вы между ними в немецком сделаете, придаст тому, что вы собираетесь сказать, определенный смысловой акцент. Я попрошу тех из вас, кто знаком с немецким, обратиться к словарным примерам. Так, говоря о религиозных предметах, предпочтут Sache, причем одновременно скажут, что вера — это не Jedermannsding, вещь не для всех. Майстер Экхарт употребляет слово Ding, говоря о душе, а душа для Майстера Экхарта — это, как известно, Grossding, самая большая вещь в мире, так что термин Sache был бы здесь явно для него неуместен. Пожелай я дать вам почувствовать разницу между этими двумя терминами, сославшись в самом общем виде на то, в чем так рознится в употреблении этого означающего немецкий язык от французского, я бы воспользовался фразой, которая уже вертелась у меня на языке в прошлый раз, но которую я, не будучи как-никак прирожденным немцем, произнести побоялся, решив воспользоваться прошедшими двумя неделями, чтобы опробовать ее на тех, для кого этот язык является родным. Die Sache — так звучит моя фраза — ist das Wort des Dinges. Дело — другими словами — это слово вещи.
Постольку, поскольку мы переходим к дискурсу, das Ding, Вещь, разрешается в ряд последствий — в то, о чем как раз и можно сказать: meine Sache. Мое всё, одним словом, — и совсем не то же самое, что das Ding, Вещь, к которой и предстоит нам сейчас вернуться.
Вы не удивитесь, наверное, если я скажу, что на уровне Vorstellungen Вещь не то что является ничем — ее просто нет и заявляет она о себе как нечто отсутствующее, инородное.
Все то, что высказывается о ней хорошего и плохого, раскалывает субъект по отношению к ней — раскалывает непоправимо, неисцелимо, хотя Вещь остается при этом той же самой. Нет хорошего и плохого объекта — есть хорошее, есть плохое, а еще есть Вещь. Плохое и хорошее относятся уже к разряду представлений, Vorstellungen, они являются здесь своего рода признаками, ориентирующими субъект в соответствии с принципом удовольствия по отношению к тому, чему навсегда суждено остаться лишь репрезентацией, лишь поиском особенного, привилегированного состояния — состояния пожелания, ожидания. Ожидания чего? Чего-то такого, что всегда остается от Вещи на определенной дистанции, хотя с этой Вещью, выступающей здесь как нечто потустороннее, сообразуется.
Наблюдаем мы все это на уровне того, что обозначили в прошлый раз в качестве этапов системы ф. Здесь и Wahrnehmungszeichen, и Vorbewusstsein, и Wortvorstellungen поскольку они отражают в дискурсе происходящее на уровне мыслительных процессов, которые управляются, в свою очередь, законами Unbewusst, то есть принципом удовольствия. В качестве отражения дискурса Wortvorstellungen противостоят тому, что организуется здесь, в соответствии с речевой икономией, в облике Vorstellungsreprдsentanzen, которые именуются Фрейдом в работе "Entwurf концептуальными воспоминаниями — термин, который знаменует у Фрейда первое приближение к этому же, по сути, понятию.
На уровне системы ф, то есть на уровне того, что происходит перед входом в систему φ и уходом в лабиринты Bahnung, в организованную систему Vorstellungen, типичной реакцией регулируемого нейронным механизмом организма является избегание. Вещи избегаются, vermeidet. Уровень Vorstellungsreprдsentanzen — это преимущественное место, где происходит вытеснение, Verdrдngung. Уровень же Wortvorstellungen — это место запирательства, Verneinung.
Я задерживаюсь ненадолго на этом, чтобы показать вам значение одного проблемного для некоторых из вас момента, касающегося Verneinung. Фрейд отмечает, что Verneinung — это преимущественный способ коннотации на уровне дискурса того, что в бессознательном пребывает вытесненным, Verdrдngt. Другими словами, Verneinen — это парадоксальный способ, которым присутствует в произнесенном дискурсе, в акте высказывания, в дискурсе Bewusstwerden то, что сокрыто, verborgen, в бессознательном, способ, которым заявляет о себе то, что для субъекта оказывается одновременно наличным и непризнанным.
Изучение Verneinung следовало бы дополнить, как начал я было уже это делать, изучением функционирования негативной частицы. Я уже показывал вам, воспользовавшись работой Пишона, насколько тонко используется во французском языке для выражения несогласия частица не, продемонстрировав в качестве примера один парадоксальный, на первый взгляд, способ, которым может субъект высказать свое чувство страха.
Мы не говорим как, казалось бы, требует того логика, я боюсь, что он придет (je crains qu'il vienne) — мы говорим я боюсь, как бы он не пришел (je crains qu'il ne vienne). Это не витает между двумя этажами графа, который я научил вас использовать для того, чтобы различать акт высказывания и его содержание. Говоря, я боюсь того-то и того-то, я вызываю его к существованию, к существованию в виде пожелания, чтобы он пришел. Вот тут-то и проникает в мою речь маленькая частица не, демонстрируя своим появлением рассогласованность акта высказывания с его содержанием. Отрицательная частица не является на свет лишь в момент, когда я действительно говорю, а не тогда, когда я, на уровне бессознательного, одержим чужой речью. Именно это, без сомнения, Фрейд и хочет сказать. Именно так, по-моему, нужно понимать Фрейда, когда он говорит, что отрицания на уровне бессознательного нет — ибо он тут же убедительно демонстрирует, что оно-таки есть, то есть что в бессознательном существует множество способов выразить это отрицание метафорически. Существует множество способов репрезентировать его в сновидении — кроме, конечно, нашей маленькой частицы не, поскольку она появляется лишь как элемент дискурса. На этих конкретных примерах хорошо видна разница между функцией дискурса, с одной стороны, и функцией речи, с другой.
Verneinung, таким образом, это не просто парадокс, состоящий в том, что нечто оказывается налицо в форме нет — далеко не безразлично, что именно за этим нет кроется. Существует целый мир несказанного (non-dit), запретного (inter-dit), так как именно в этом облике предстает нам то вытесненное, Verdrдngt, которое и называем мы бессознательным. Но Verneinung — лишь наиболее явная форма того, назвать сказанным невзначай, между прочим. С тем же успехом можно было бы обратиться к повседневному языку выражения чувств — возьмите, хотя бы, все случаи, когда мы начинаем речь с фразы: Яме говорю, что… Или просто, как в известном месте у Корнеля: Я вас не ненавижу. Нет.
Как видите, в этой своего рода игре в "гусёк" Verneinung, запирательство, выступает, с определенной точки зрения, как превращенная форма вытеснения, Verdrдngung. Выясняется также и различие организации того и другого по отношению к функции признания. Для тех, кто это не до конца понял, укажу дополнительно на соответствие между тем, что артикулируется сполна на уровне бессознательного, Verurteilung, и тем, что происходит на уровне, обозначенном Фрейдом в пятьдесят втором письме к Флиссу, где значение Verneinung выступает в первом знаковом своем обличий — в обличий Verwerfung.
Один из вас, а именно Лапланш, в своей диссертации о Гель-дерлине, о которой нам доведется однажды, я надеюсь, здесь побеседовать, задается вопросом, обращенным, естественно, и ко мне тоже, о том, что же это Verwerfung собой представляет. Идет ли речь — спрашивает он — об Имени отца (Nom-ife-pиre), как это происходит в случае паранойи, или об Имени-Отца (Nom-du-Pиre)? Если речь идет о втором, то найдется довольно мало патологических случаев, которые ставили бы нас перед фактом его отсутствия, его действительного отказа. Если имеется в виду Имя-Отца, не сталкиваемся ли мы с рядом трудностей, обусловленных тем фактом, что какое-то означаемое, связанное с опытом, наличным или отсутствующим, чего-то такого, что на каком-то основании и в какой-то мере является, чтобы это место занять, для субъекта всегда найдется?
Конечно, подобное понятие означающей субстанции не может не вызвать недоумения у любого, кто добросовестно над этой проблемой задумывается. Не забывайте, однако, что мы имеем дело с системой Wahrnehmungszeichen, знаков восприятия, то есть с первичной системой означающих, с первоначальной синхронией означающей системы. Все начинается вообще лишь постольку, поскольку несколько означающих могут предстать субъекту одновременно, в Gleichzeitigkeit. Именно на этом уровне Fort коррелятивно Da. Fort не может выразить себя иначе, нежели в чередовании, опирающемся на основополагащую синхронию. Именно на базе этой синхронии организуется нечто такое, для образования чего простой игры Fort и Da было бы недостаточно.
Я уже ставил перед вами эту проблему — каков должен быть минимальный состав батареи означающих, чтобы регистр означающих мог организоваться? И я говорил, что где два, там и три, а это, в свою очередь, непременно предполагает четверку, четырех-частное, Geviert, как говорит где-то Хайдеггер. И лишь постольку, поскольку один из терминов, тот, что удерживает систему слов на определенной дистанции, в схеме определенных отношений, оказывается отвергнут, возникает и развивается на наших глазах психология психотика — не хватает чего-то такого, что он отчаянно стремится возместить, обозначить. Я не оставляю надежды на то, что мы к этой проблеме, быть может, вернемся, равно как и к замечательному объяснению, предложенному Лапланшем для случая поэтического опыта, который раскрывает эту проблему, снимает с нее завесу, особенно остро и значительно дает нам ее почувствовать — для случая Гельдерлина.
Функция этого места состоит в том, чтобы быть тем, что содержит — в том смысле, в котором содержать значит удерживать — слова. Благодаря этому возможными становятся первоначальная дистанция и артикуляция, вводится синхрония, на котором можно затем возвести здание той непреложной диалектики, в которой Другой может оказаться Другим Другого.
Этот Другой Другого налицо лишь благодаря своему месту. Он может найти себе место даже в том случае, если в Реальном мы его нигде не находим, даже если все то, что мы в Реальном для занятия этого места можем найти, красно только этим местом и не имеет за собой в качестве гаранта ничего, кроме самого места, которое занимает.
Перед нами, таким образом, вырисовывается другая топология — топология, начало которой полагают отношения с Реальным. Теперь мы попробуем эти отношения с Реальным определить и посмотреть заодно, что же означает на самом деле принцип реальности.
Именно с принципом реальности связана всецело та функция, которая артикулируется у Фрейда термином Ьberich, сверх-Я. Игру слов, здесь заключенную, пришлось бы, по совести, признать не слишком удачной, не будь она всего лишь способом, за неимением лучшего, обозначить то, что до тех пор называли нравственным чувством или чем-нибудь в этом роде.
Фрейд обнаруживает здесь совершенно новые связи, обнажая корни, демонстрируя психологическое функционирование чего-то такого, что довлеет в человеческой природе тому, чьи многочисленные проявления в ней ни в коем случае нельзя игнорировать — включая сюда и те, простейшие, которые мы называем заповедями, и десять заповедей в том числе.
О них, о десяти заповедях, которые нам, казалось бы, неплохо знакомы, я тоже не постесняюсь поговорить. Совершенно очевидно, что если не в нас, то, во всяком случае, в вещах вокруг нас они функционируют чрезвычайно активно, и к тому, что Фрейд говорит о них, следовало бы еще раз вернуться.
Выводы Фрейда я изложу сейчас в терминах, которые все комментаторы его, словно сговорившись, постарались изгладить у нас из памяти. В отношении основ морали Фрейд совершает открытие — сказали бы одни, делает утверждение — возразили бы им другие, заявляет об открытии — сказал бы я, смысл которого сводится к тому, что фундаментальный, изначальный закон, полагающий начало культуре как чему-то противоположному природе — ибо понятия эти разграничены у Фрейда во вполне современном смысле, то есть в том самом, в котором сформулировал бы это различие Леви-Стросс сегодня, — что закон этот, повторяю — это закон запрета на инцест.
Развитие психоанализа приносит этому факту все более веские подтверждения, все меньше и меньше обращая на него, однако, внимание. Я хочу сказать, что все, происходящее на уровне психологии отношений между матерью и ребенком и плохо укладывающееся при этом в категории фрустрации, вознаграждения и зависимости, является лишь развитием, в огромных масштабах, того, что представляет собой по самой сути своей материнская вещь, мать, поскольку она занимает место вещи, о которой мы говорим, das Ding.
Всем прекрасно известно, что коррелятивом ее является желание инцеста — желание, представляющее собой великое открытие Фрейда. И не сообщайте мне, что о нем говорится где-то у Платона, или что именно о нем идет речь у Дидро в Племяннике Рамо или в Приложении к Путешествию в Бугенвиль — меня это не касается. Мне важно, что в определенный исторический момент нашелся человек, который указал на него и сказал — смотрите, вот главное наше желание.
Вот то, что нужно всегда иметь твердо в виду — в запрете на инцест Фрейд видит принцип изначального закона, по отношению к которому остальные культурные образования суть не более чем его последствия и ответвления. В то же самое время он рассматривает инцест как наиболее глубокое, основное желание.
Леви-Стросс в своих замечательных научных трудах убедительно демонстрирует изначальный характер Закона как такового, то есть введение означающего и его комбинаторики в человеческую природу посредством регулируемых способами обмена брачных законов, которые получили у него название элементарных структур — законов, задающих при выборе брачного партнера набор предпочтений, который упорядочивает брачные союзы, давая начало новому, к закону наследственности не сводимому измерению. Но даже делая все это и пространно рассуждая об инцесте в попытке дать необходимости его запрета какое-то объяснение, он ограничивается указанием на то, почему отец не женится на собственной дочери — потому что дочери служат предметом обмена. Но почему сын не спит со своей матерью? Здесь что-то так и остается у него неразгаданным.
Он рассматривает, разумеется, те объяснения, которые исходят из губительных, якобы, биологических последствий родственных браков. Он показывает, что таковые вовсе не приводят к воспроизводству регрессивных черт, ведущих к опасности вырождения — напротив, при одомашнивании эндогамия до сих пор активно используется для улучшения пород, будь то растительных или животных. Закон действует в ином регистре — в регистре культуры. И следствием его всегда является исключение инцеста сын-мать, того инцеста по преимуществу, которому как раз и придает значение Фрейд.
Если прочим, смежным явлениям истолкования найдены, этот, центральный пункт остается неразъясненным. И читая текст Леви-Стросса внимательно, убеждаешься, что менее всего поддающийся объяснению, загадочный момент встречи между природой и культурой лежит именно здесь.
На этом мне хочется ваше внимание несколько задержать. То, что мы находим в законе инцеста, располагается как таковое на уровне бессознательных отношений с das Ding, Вещью. Желание матери не может быть удовлетворено, потому что оно знаменует собой конец, границу, упразднение всего мира требования — того мира, где выстраиваются глубинные структуры человеческого бессознательного. И поскольку принцип удовольствия, в силу предназначенной ему роли, обрекает человека на поиски чего-то такого, что он должен вновь обрести, но при этом не способен достичь, именно тут кроется самое главное, та внутренняя пружина, тот связующий принцип, который именуется законом запрета на инцест.
Этот метафизический анализ не был бы достоин внимания, не будь мы способны подтвердить его на уровне того действительного дискурса, который может оказаться для человека в пределах досягаемости его знания, то есть дискурса предсознательного и сознательного — на уровне, одним словом, действительного закона и, в конечном счете, тех пресловутых десяти заповедей, о которых только что была у нас речь.
Действительно ли этих заповедей десять? Очень может быть. Я попытался пересчитать их, обратившись к источникам. Для этого я воспользовался своим экземпляром Библии в переводе Леметра де Саси. Это самое близкое, что мы имеем во Франции, к тем переводам Писания, которые оказали на мысль и историю других народов столь решающее влияние — переводу Св. Кирилла, положившему начало славянской культуре, или Библии короля Иакова у англичан, не зная которую наизусть вы не будете у них считаться своим. Ничего похожего у нас нет, но я все-таки советую вам обратиться к этому переводу семнадцатого века, ибо несмотря не все его неточности и несовершенства именно этот перевод французы на протяжении веков читали, именно над ним поколения священников ломали копья, интерпретируя по-разному содержащиеся в этих текстах прошлые и ныне действующие запреты.
Итак, я нашел в этой книге текст Декалога, который Господь, воспретив приближаться к Себе народу, дал Моисею из блистающего молниями темного облака на Синае в третий день третьего месяца после выхода из Египта. Должен сказать, что я очень хотел бы дать однажды слово кому-нибудь более меня сведущему в этих вопросах, попросив его проанализировать серию превращений, через которые прошла за века формулировка этих десяти заповедей, начиная от еврейских версий этого текста и вплоть до привычно журчащих полустиший современного катехизиса.
Что касается этих десяти заповедей, то при всем негативном их характере — нам любят напоминать, что у морали есть не только негативная, но и позитивная сторона — я не стану особенно останавливаться на той стороне их, которая связана с запретами, а напомню лишь, что, как я раньше уже отмечал, они представляют собой, возможно, лишь заповеди речи; я хочу сказать, что они эксплицируют то, без чего никакая речь — не дискурс, а именно речь — невозможна.
Тогда, не имея возможности развить эту мысль, я ограничился лишь беглым замечанием, и сейчас добавлю по этому поводу несколько слов. Я хочу обратить ваше внимание на то, что в этих десяти заповедях, которые заключают в себе едва ли не все, что, наперекор стихиям, принято в качестве заповедей всем цивилизованным человечеством — или почти цивилизованным, потому что нецивилизованное известно нам только по нескольким скудным криптограммам, так что будем лучше держаться так называемого цивилизованного — так вот, в этих десяти заповедях ничего не сказано на тот счет, что с собственной матерью спать нельзя. Я не думаю, что заповедь "почитать" ее может содержать хоть какое-то — будь то положительное или отрицательное — указание в этом смысле — невзирая на то, что в провансальских историях о Мариусе и Оливии называют бесцеремонностью.
Не стоит ли нам в следующий раз попытаться интерпретировать эти заповеди как некую силу, близкую к той, что действует в процессе вытеснения бессознательного? Понять десять заповедей как то, что призвано удерживать субъекта на определенной дистанции от совершения инцеста, возможно при одном-единственном условии — а именно, если мы отдаем себе отчет в том, что запрет на инцест есть не что иное, как условие сохранения речи.
Сказанное заставляет нас задаться вопросом о смысле, который получают десять заповедей поскольку они глубочайшим образом связаны с тем, что регулирует дистанцию субъекта по отношению к das Ding, поскольку дистанция эта как раз и является условием речи, а сами десять заповедей суть условие сохранения речи как таковой.
Я только начинаю подходить к этой теме, но уже сейчас, начиная с этого момента, никто из вас не усомнится, надеюсь, в том, что десять заповедей являются условием всей общественной жизни. Достаточно просто эти заповеди перечислить, чтобы сразу же ясно стало, что они являются своего рода каталогом, рубрикатором тех отношений, в которые мы ежеминутно вступаем друг с другом. Именно в них раскрывается собственно человеческое измерение наших действий. Другими словами, мы все время только и занимаемся тем, что эти заповеди нарушаем, что, собственно, и делает общество возможным.
Чтобы держаться этого, мне нет нужды присоединяться к парадоксам Бернара де Мандевиля, который показывает в своей "Басне о пчелах", что личные пороки являются источником общественного благополучия. Речь идет не об этом, а лишь о том всего-навсего, чтобы посмотреть, чем именно обусловлена имманентность пред-сознанию этих десяти заповедей. С этого я в следующий раз и начну — сделав, впрочем, небольшое отступление в сторону того существенного предмета, к которому мне уже случилось здесь обратиться, когда я впервые заговорил о том, что можно назвать Реальным.
Реальное — говорил я вам — это то, что всегда оказывается на том же месте. Вас убедит в этом история науки, история человеческого мышления. Отступление это необходимо нам для того, чтобы подойти к теме великого революционного кризиса морали, чтобы поставить принципы под вопрос там, где они должны быть поставлены под вопрос — на уровне императива. Это и есть кантовская и одновременно садистская кульминация Вещи — момент, когда мораль становится, с одной стороны, применением всеобщей максимы в чистом виде, а с другой, в чистом виде объектом.
Момент этот важен для понимания того шага, который был сделан Фрейдом. В заключение сегодня хочу лишь процитировать одного поэта, моего друга, который однажды написал следующее: — "Проблема зла заслуживает рассмотрения лишь до тех пор, покуда мы не расстались с идеей трансцендентности некоего блага, которое могло бы диктовать человеку его обязанности. Пока мы не сделали этого, возвышенное понятие зла сохранит свою огромную революционную ценность".
Так вот, шаг, сделанный на уровне принципа удовольствия Фрейдом, состоит в демонстрации нам того, что Верховного Блага не существует, что Верховное Благо — das Ding, мать, инцестуаль-ный объект — это благо запретное, другого же блага просто-напросто нет.
Теперь нам с вами предстоит разобраться в том, откуда берется положительный моральный закон — закон, который не только ни на йоту не изменился, но стоит, напротив, столь прочно, что мы можем скорее — воспользовавшись популярным теперь благодаря кино выражением — расшибить себе лоб, нежели его опрокинуть.
Что это означает? А означает это — вот оно, направление, в котором я вас веду — что то, что на месте пропавшего объекта тщетно искали, оказалось объектом, который в реальности всегда налицо. На месте объекта, обрести который на уровне принципа удовольствия невозможно, явилось нечто такое, что обретается без труда, но предстает при этом в форме наглухо закрытой, слепой, загадочной — явился мир современной физики.
Вот то, вокруг чего и разыгрывается, собственно, как вы сами увидите, в конце восемнадцатого века, начиная с французской революции, кризис морали — то, в ответ на что и возникает как раз учение Фрейда. Учение это проливает на современную ситуацию свет, которым мы, как я надеюсь вам показать, так и не сумели до сих пор воспользоваться до конца.
16 декабря 1959 года.
VI О моральном законе
Критика практического
разума.
Философия в будуаре.
Десять заповедей.
Послание к Римлянам.
Пригласим в наше собрание простеца, дадим ему место в первом ряду и спросим у него, что, по его мнению, хочет сказать Лакан.
Простец поднимается, подходит к доске и объясняет нам вот что. "Лакан — говорит он — весь этот год рассказывает нам о das Ding. При этом das Ding занимает у него самый центр субъективного мира — того мира, икономию которого согласно учению Фрейда он исследует на своих семинарах уже несколько лет. Для субъективного мира человека характерно то, что означающее уже находится в нем на бессознательном уровне в обращении, так что ориентиры, которые этим означающим заданы, действуют в человеке наряду со способностями ориентации, предоставленными ему, как и всякому живому существу, функционированием природного организма".
Достаточно лишь прописать это на доске, поместив в центре das Ding и расположив вокруг организованный как совокупность означающих связей мир бессознательного, как сразу станет видно, насколько трудно представить эту картину топологически. Ибо в центре das Ding находится в том смысле, что оно из картины исключено. Другими словами, das Ding, это не поддающееся забвению доисторическое Другое, на обязательном первенстве которого Фрейд так настаивает, следует, на самом деле, представлять себе как лежащее вовне, в форме чего-то такого, что, будучи мне чуждым, entfremdet, находится, тем не менее, в самой сердцевине моего Я — в форме того единственного, что, на уровне бессознательного, представляет представление.
1
Когда я говорю — что-то такое, что представляет представление — не думайте, что это просто плеоназм, так как слова представляет и представление означают здесь, как из самого термина Vorstellungsreprдsentanz это явствует, две различные вещи. Речь идет о том, что — в бессознательном — представляет, то есть репрезентирует в качестве знака, представление как функцию восприятия, — о том способе, которым всякое представление репрезентируется, поскольку напоминает о благе, которое приносит с собой das Ding.
Но сказать "благо", значит уже прибегнуть к метафоре, к атрибуту. Все, что зачисляет представления в разряд блага, оказывается включено в систему преломлений и раскладов, навязанных ему структурой проложенных в бессознательном путей, возникающими в означающей системе элементов комплексными эффектами. Только таким образом и соотносит себя субъект с тем, что предстает ему как лежащее на горизонте благо. Его благо уже указано ему как значимая результирующая расклада означающих, возникающего на бессознательном уровне, то есть там, где система направлений и нагрузок, которые поведение субъекта подспудно задают, им ни в малейшей мере не контролируется.
Я использую здесь один термин, который смогут оценить по достоинству только те, в чьей памяти живы еще предложенные Кантом в Критике практического разума формулы — что же касается тех, кто их не припоминает, и тех, кто с этой замечательной во многих отношениях книгой до сих пор не знаком, то я посоветовал бы им багаж своей памяти или же культуры пополнить.
Мы не сможем плодотворно на этом семинаре работать, не сможем разобраться в вопросах психоаналитической этики, если книга эта не станет у вас настольной.
Пока же замечу лишь, хотя бы для того, чтобы пробудить у вас к этому труду интерес, что он замечателен, в частности, с точки зрения юмора. Нельзя удержаться на пределе концептуальной строгости, не испытывая смешанного чувства полноты удовлетворенности и головокружения и не чувствуя порою при этом, как раскрывается перед вами на очередном вираже мысли настоящая бездна подлинного комизма. Мы скоро сможем, кстати, в каком-то смысле повторить этот опыт сами.
Итак, хочу прямо признаться, что именно кантовский термин, термин Wohl, использую я в дальнейшем для обозначения того блага, о котором у меня идет речь. А речь идет о довольстве, доступном субъекту постольку, поскольку в отношении его действует, если горизонтом ему служит das Ding, принцип удовольствия — принцип, который задает тот закон, где разрешается напряжение, связанное, согласно формулировке Фрейда, с тем, что назовем удачными обманками, или, еще лучше, знаками, расписками, по которым платит, или не платит, реальность. Знак граничит здесь с разменной монетой репрезентации и вызывает в памяти фразу, которую очень давно, в одном из первом моих выступлений, в том, что было посвящено психической причинности, я использовал в формуле, открывавшей один из его абзацев — более недоступные нашим глазам, созданным для знаков менялы.
Развивая этот же образ, скажу, что знаки менялы уже присутствуют на заднем плане бессознательной структуры — структуры, которая регулируется законом Lust и Unlust, следуя в этом правилам нерушимого, жадного до повторения, до повторения знаков, Wunsch. Именно таким образом регулирует субъект свою первоначальную дистанцию по отношению к das Ding, источнику всякого Wohl на уровне принципа удовольствия, тому, в чем дано уже, в сосредоточенном виде, то самое, что мы, следуя путеводной нити философии Канта можем, вслед за практикующими аналитиками, которые не преминули уже это сделать, назвать dus Gute des Objekts, хорошим объектом.
По ту сторону принципа удовольствия, на горизонте, вырисовывается Gute, das Ding, вводя на бессознательном уровне то, что должно, по идее, вынудить нас заново поставить чисто кантовский вопрос о causa noumenon. Das Ding предстает на уровне бессознательного опыта как то, что уже задает собою закон. Причем речение это, закон, окрашено здесь теми самыми смысловыми оттенками, которые свойственны ему в жестких отношениях внутри примитивного сообщества — отношениях, описанных в вышедшей недавно книге Роже Вайана. Это закон произвола, каприза, закон оракула, закон знаков, не дающих субъекту ни малейшей гарантии, закон, по отношению к которому субъект не располагает тем, что именуется у Канта Sicherung. Вот почему на уровне бессознательного Gute является одновременно, и притом в самой основе своей, тем плохим объектом, который фигурирует по сей день в формулах школы Мелани Клейн.
Я должен пояснить, однако, что das Ding не различается на этом уровне как плохое. Субъект не имеет к плохому объекту ни малейшего доступа — уже потому хотя бы, что и по отношении к хорошему он держится на расстоянии. Неспособный вынести избыток блага, который может ему дать das Ding, тем более не способен он сориентироваться по отношению к тому, что плохо. Он может стонать, выходить из себя, проклинать — так или иначе, он ничего не понимает, ничто у него не складывается, не артикулируется, не помогает даже метафора. Как мы говорим в таких случаях, он обнаруживает симптомы, и симптомы эти лежат в основе происхождения симптомов защиты.
Как должны мы на этом уровне ее, защиту эту, себе представлять? Существует органическая защита — собственное Я защищается, калеча себя, как калечит себя оставляющий собственную клешню краб — что демонстрирует, кстати сказать, ту связь между двигательной функцией и болью, о которой я в прошлый раз говорил. Но в чем разница между защитой человека и защитой калечащего себя животного? Эта разница обусловлена означающими построениями в человеческом бессознательном. Но защита, самокалечение, к которому прибегает человек, осуществляется не только с помощью подстановки, смещения, метафоры — всего того, что задает его тяготению к хорошему объекту ту или иную структуру. Она осуществляется с помощью чего-то такого, у чего есть имя — с помощью, собственно говоря, лжи относительно зла.
На уровне бессознательного субъект лжет. И ложь эта является способом, которым пользуется он, чтобы высказать на этот счет истину, орфбд λόγος бессознательного артикулируется на этом уровне — о чем, собственно, и пишет Фрейд в "Entwurf в связи с истерией — как πρώτον феОЬод, первая ложь.
Нужно ли мне, после того, как мы так долго говорили об "Entwurf, напоминать вам о приводимом им в этой работе примере с Эммой — той Эммой, которая с Эммой из его "Studien" ничего общего не имеет? Речь идет о женщине, которая боится входить одна в магазины, опасаясь, что одежда ее станет там предметом насмешек
Все это связывается поначалу с неким ранним воспоминанием. Однажды, когда ей было двенадцать лет, она вошла в магазин, где продавцы посмеялись над ней, судя по всему из-за ее одежды. Один из них ей понравился — больше того, девушка, переживавшая тогда период полового созревания, почувствовала в связи с ним сильное волнение. За этим воспоминанием обнаруживается иное, указывающее на причину — воспоминание о том, как в возрасте восьми лет, в лавке, к ней приставал некий Greissler. Французский перевод, сделанный, и притом весьма бесцеремонно, с английского, называет его "лавочником" — на самом деле речь идет о старикашке, человеке, скажем так, почтенного возраста, который ущипнул ее весьма откровенным образом где-то под юбкой. Таким образом, в дальнейшем с этим воспоминанием соединилось представление об отмеченной в другом сексуальной привлекательности.
Все, что осталось в качестве симптома нетронутым, связано с одеждой, с насмешками по поводу одежды. Направление к истине, однако, указано, но указано прикровенно — в ложном Vorstellung, связанном с одеждой. Налицо, в непрозрачной форме, намек на происшедшее в том, втором воспоминании, а не в первом. Нечто такое, что не могло быть замечено поначалу, обнаружилось задним числом, и обнаружилось благодаря этой обманчивой трансформации — protonpseudos. Именно таким образом получаем мы указание на то, что навсегда клеймит для субъекта его связь с das Ding как нечто дурное, хотя сформулировать относительно него, что оно дурное, субъект иначе, как посредством своего симптома, не способен.
Вот то, что опыт работы с бессознательным заставляет нас добавить к нашим посылкам, когда мы вновь ставим этические проблемы в том виде, в котором они в течение веков ставились и в котором они были завещаны нам кантовской этикой, остающейся вершиной того, что мы — если не в опыте, то, по крайней мере, в мышлении нашем — сумели достичь.
Пути, на которых этические принципы формулируются как предстоящие сознанию — или всегда готовые возникнуть из пред-сознательного, — в качестве заповедей, теснейшим образом связаны со вторым принципом, который ввел Фрейд — принципом реальности.
Принцип реальности служит диалектическим коррелятивом принципа удовольствия. Один из них не является, как это представляется поначалу, осуществлением последствий другого — нет, каждый из них является для другого его полярным коррелятивом, так что один без другого не имел бы смысла. Понятие принципа реальности, которого я коснулся здесь, говоря о горизонте параноидального опыта, нам предстоит поэтому рассмотреть поглубже.
Принцип реальности не является, как я уже говорил вам, всего лишь тем, чем предстает он в работе "Entwurf, то есть поверкой, происходящей, иногда, на уровне системы ω, или системы Wahrnehmungsbewusstsein. Его действие проявляется не только на уровне системы, посредством которой субъект, поверяя в реальности то, что подает ему знак ее, этой реальности, присутствия, может скорректировать адекватность обманчивого Vorstellung, чье появление спровоцировано повторением, имеющим место на уровне принципа удовольствия. Он является чем-то расположенным по ту сторону этого уровня. Реальность предстает человеку как таковая — и интересна ему — в силу того, что она структурирована, в силу того, что она представляется ему в опыте чем-то таким, что всегда возвращается на то же самое место.
Я уже показал вам это, когда комментировал случай председателя суда Шребера. Функция звезд в системе бреда этого классического психотика указывает нам, подобно буссоли, на полярную звезду отношения человека к реальному. Изучение истории науки наводит на ту же самую мысль. Разве не удивителен, разве не парадоксален тот факт, что наблюдения пастуха или мореплавателя за тем, как возвращается вновь и вновь на то же самое место объект, имеющий, казалось бы, к человеческой жизни самое отдаленное отношение — звезда, указывают землепашцу, когда ему лучше сеять зерно? Вспомните о колоссальной роли, которую сыграли Плеяды в развитии средиземноморского мореплавания. Разве не очевидно, что именно наблюдения за возвращением звезд на крути своя — наблюдения, которые велись веками — позволили описать реальность как физическую структуру, каковое описание мы, собственно, и называем наукой? Законы, живительные законы, спустились с неба на землю, из эмпиреев перипатетической физики к Галилею. Но обнаружив на земле те же законы, что и на небе, галилеева физика восходит обратно на небо, демонстрируя нам, что звезды на самом деле совсем не то, за что поначалу их принимали, что они вовсе не беспорочны, что они подчиняются тем же законам, что и мир дольний.
Более того, теперь, много лет спустя после того, как удивительный Николай Кузанский сделал решающий шаг в науке, одним из первых заявив о небеспорочности звезд, мы прекрасно знаем, что они могли бы на том же месте и не оказаться.
Итак, изначальный позыв, вынуждавший нас веками прокладывать в Реальном борозды, чтобы обратить полученную структуру в нашу замечательно эффективную, но в высшей степени обманчивую науку, этот позыв das Ding — позыв отыскивать то, что повторяется, возвращается и гарантирует нам свое вечное возвращение на то же самое место — привел нас к последнему пределу, у которого мы ныне находимся, — пределу, где под сомнение мы вправе поставить любое место, а в реальности, которую мы столь замечательно научились ставить с ног на голову, ничто не тешит нас уверенностью в своем возвращении.
Но именно с этим поиском — поиском того, что вечно возвращается на то же самое место — остается до сих пор связано то, что вырабатывалось людьми веками под названием этики. Этика — это не просто факт наличия каких-то обязательств, не просто связи, которые связывают общество воедино, устанавливают в нем порядок и составляют для него закон. Существуют наряду с этим и так называемые элементарные структуры родства, на которые мы здесь так часто ссылаемся, а также структуры собственности и обмена — структуры, в силу которых в так называемых примитивных сообществах, то есть во всех сообществах на базовой ступени развития, человек сам становится знаком, элементом, предметом особым образом регулируемого обмена, который, как показали исследования Леви-Стросса, обязан своей неизменностью собственному относительно бессознательному характеру. То, что на протяжении поколений этот новый, сверхприродный структурный порядок поддерживает, и является как раз тем самым, что объясняет подчинение человека закону бессознательного. Но этика начинается по ту сторону этих структур.
Начинается тогда, когда, задаваясь вопросом о благе, которое он до тех пор бессознательно в социальных структурах искал, субъект обнаруживает глубокую связь между тем, что предстает ему как закон, с одной стороны, и самой структурой желания, с другой. Даже не видя поначалу то последнее желание, которое, как показали фрейдовские исследования, является желанием инцестуальным, он все равно так или иначе сталкивается с тем, что регулирует его поведение таким образом, что объект желания всегда удерживается от него на некотором расстоянии. Но расстояние это не вполне расстояние, это интимная дистанция, которая именуется близостью — дистанция, которая, не допуская идентичности, является близостью совершенно буквально, так что фрейдовский Nebenmensch в основании Вещи есть, в этом смысле, поистине его ближний.
И если то, что венчает собой здание этических заповедей, артикулируется в конце концов в неожиданной и скандальной для многих форме завета возлюбить ближнего как самого себя, то причина здесь в том, что в силу закона отношений человеческого субъекта с самим собой он становится в отношениях со своим желанием своим ближним сам.
Мой тезис состоит в том, что моральный закон артикулируется направленностью на Реальное как таковое — выступающее как то, что может стать гарантией Вещи. Вот почему я предлагаю вам поинтересоваться тем, что можно рассматривать как вершину, акмэ, кризиса этики и связано при этом, как я вам уже указывал, с моментом выхода в свет Критики практического разума.
Кантовская этика возникает в момент, когда обнаруживается, что физика — перейдя, в форме ньютоновской физики, тот порог, за которым она стала независимой от das Ding, от человеческой das Ding — оказывает дезориентирующее воздействие.
Именно ньютоновская физика вынуждает Канта радикально пересмотреть функцию чистого разума. Именно в связи с такой, откровенно научного происхождения, постановкой вопроса предлагается нам мораль, принципы которой отличаются неслыханной дотоле строгостью — мораль, открыто отказывающаяся от опоры на любой объект эмоциональной реакции, на то, что Кант называет pathologisches Objekt, патологическим объектом, то есть просто-напросто объектом, вызывающим страстное к себе отношение, какого бы характера оно ни было.
Никакое Wohl, благо, будь то наше или нашего ближнего, не должно в целеполагании морального действия приниматься в расчет. Единственным возможным определением морального действия является сформулированное Кантом правило — поступай так, чтобы максима твоего действия могла быть принята в качестве максимы универсальной. Поступок не является, таким образом, поступком моральным, пока единственным мотивом его совершения не является тот, о котором говорит это правило. Перевод немецкого allgemeine словом универсальная вызывает некоторые сомнения, так как по смыслу слово означает здесь скорее всеобщий, общепринятый. Кант противопоставляет "общее" "универсальному" — последнее слово заимствуется им в своей латинской форме, из чего следует наличие здесь какой-то недоговоренности. Handle so, dass die Maxime deines Willens jederzeit zugleich als Prinzip einer allgemeinen Gesetzgebung gelten kцnne. — Поступай так, чтобы максима твоей воли всегда могла послужить принципом законодательства, предназначенного для всех.
Из формулы этой — которая, как вы знаете, является для этики Канта центральной — философ делает самые крайние выводы. В своем радикализме он доходит до парадоксального утверждения, что gute Willen, добрая воля, полагается как исключающая всякое действие, которое целью своей полагает чье-либо благо. Я полагаю, на самом деле, что субъективность, заслуживающая имени современной, субъективность человека сегодняшнего дня, не может в формировании своем пройти мимо этого текста. Я говорю лишь в общем, потому что обойтись можно без чего угодно — наши соседи слева и справа если и не являются в наши дни в полном смысле этого слова ближними, то подпирают нас с обеих сторон достаточно тесно, чтобы мы не упали. Однако пройти через испытание чтением этого текста нужно — нужно хотя бы для того, чтобы оценить экстремальность, почти бессмысленность, ситуации, в которую загоняет нас нечто такое, что в истории, как-никак, ощутимо присутствует; куда загоняет нас упрямый факт существования науки.
Но хотя, конечно же, никто никогда не мог — в чем сам Кант нимало не сомневался — осуществить подобную моральную аксиому на практике, интересно все же было бы посмотреть, насколько далеко дела в этом направлении двинулись. На самом деле мы навели в отношениях с реальностью еще один важный мост. Начиная с определенного момента сама трансцендентальная эстетика — я имею в виду то, что разумеется под этим понятием в Критике чистого разума Канта — оказалась поставлена под сомнение: во всяком случае, на актуальном для новейшей физической теории уровне. С момента, о котором я говорю, можно было бы, исходя из последних достижений нашей науки, обновить кантовский императив, придать ему, используя язык автоматизации и электроники, более современное выражение — поступай лишь так, чтобы всякое твое действие могло быть запрограммировано. Что представляет собой еще один шаг к еще более демонстративному — демонстративнее уже нельзя — отмежеванию от того, что именуется Верховным Благом.
Поймите это правильно — Кант предлагает нам, когда мы рассматриваем максиму, которой подчиняются наши поступки, взглянуть на эту максиму как на закон некоей природы, в которой мы призваны жить. Именно здесь, представляется ему, заложен тот механизм, который заставляет нас с ужасом отвращаться от тех или иных максим, к которым могли бы легко увлечь нас наши наклонности. Он приводит на сей счет примеры, которые небезынтересно будет здесь разобрать конкретно, так как несмотря на видимую свою очевидность, они могут навести аналитика на некоторые размышления. Заметьте, однако, что он говорит о законах какой-то определенной природы, а не какого-то определенного общества. Слишком ясно ведь, что общества не только прекрасно живут по законам далеким от того, чтобы претендовать на универсальное свое применение, но, как я вам в последний раз уже показал, именно нарушение пресловутых максим и позволяет этим обществам процветать.
Речь идет, следовательно, о чисто умозрительной ссылке на некоторую природу, причем упорядочена эта природа по законам объекта, сконструированного в связи с вопросом, которым задаемся мы по поводу правила своего поведения. Это имеет замечательные последствия, в которые я не стану теперь входить.
Ограничусь тем, что открою вам глаза одним потрясающим фактом, не осознав который мы с вами продвинуться вперед не сможем — дело в том, что если Критика практического разума появилась в 1788 году, через семь лет после выхода в свет первого издания Критики чистого разума, то уже через шесть лет после Критики практического разума, по наступлении месяца термидора 1795 года, вышла другая книга, озаглавленная ее автором "Философия в будуаре".
Философия в будуаре написана, как, я думаю, вы все знаете, неким маркизом де Садом — человеком, знаменитым не только своими писаниями. Его скандальная известность сопровождалась с самого начала тяжелыми невзгодами и гонениями со стороны властей — ведь он провел в заключении двадцать пять лет, что, согласитесь, немалый срок для того, кто, насколько мы знаем, никаких значительных преступлений не совершал, — но дошла до наших дней, превозносимая ныне иными идеологами до крайней, если не неприличной, степени.
Хотя и способное в глазах у некоторых сойти за посвящение в развлечения определенного рода, творчество маркиза де Сада веселым не назовешь, причем наиболее высоко ценимые его пассажи оказываются, как правило, и самыми скучными. Последовательности, однако, у него не отнимешь, и как раз кантовские критерии выдвигаются им на первый план для обоснования позиции, которую можно назвать своего рода анти-моралью.
Наиболее последовательно парадокс этот развивается в его книге Философия в будуаре. В нее входит небольшой отрывок, являющийся, с учетом характера этой аудитории, единственным, чтение которого я всем настоятельно рекомендую — "Французы, еще одно усилие, чтобы сделаться республиканцами".
Вслед за этим призывом, позаимствованным, как полагают, у развернувших бурную активность в тогдашнем революционном Париже газетчиков, маркиз де Сад предлагает, ввиду крушения авторитетов, которое знаменует, как с самого начала предполагается в его книге, рождение подлинной республики, нечто полностью противоположное тому, что могло рассматриваться до тех пор как жизненно необходимый минимум любой последовательной и жизнеспособной морали.
На самом деле, предложение это недурно им обосновано. Вовсе не случайно открывается Философия в будуаре похвалой клевете. Клевета, утверждает Сад, никогда не вредит — ведь приписывая ближнему нечто гораздо худшее, чем то, что можно по справедливости ему вменить, она внушает нам остерегаться его козней. Далее Сад продолжает в том же духе, оправдывая пункт за пунктом нарушения важнейших императивов морального поведения и превознося инцест, прелюбодеяние, воровство и всё что хотите. Выверните наизнанку все законы Десятословия, и вы получите последовательное изложение учения, которое в конечном итоге формулируется примерно так — Примем за универсальную максиму нашего поведения право пользоваться другим, кто бы это ни был, как инструментом собственного удовольствия.
Сад демонстрирует, и притом очень последовательно, что в обобщенной форме своей закон этот, предоставляя либертенам свободно распоряжаться всеми женщинами без разбора и независимо от их согласия, освобождает, в свою очередь, и этих последних от всех супружеских, матримониальных и прочих обязанностей, которые цивилизованное общество возлагает на них. Такая концепция открывает широкую дорогу всему тому, что рисует воображение автора на горизонтах желания, призывая всякого довести до предела позывы своего вожделения и осуществить их.
Если равные возможности будут даны всем, мы увидим воочию, что представляет собою естественное сообщество. Наше отвращение перед этой картиной можно законно приписать тому, что сам Кант из числа критериев морального закона по видимости исключает, — элементу сентиментальности.
Если мы исключим из морали всякий элемент чувства, если мы устраним, обесценим того вожатого, которым чувство нам служит, то полученный на пределе этого процесса садистский мир окажется всего лишь возможным — пусть карикатурным, изнаночным
— вариантом мира, руководимого радикальной этикой, той самой, которую формулирует в 1788 году Кант.
Отголоски кантовской этики прекрасно слышны, поверьте мне, в моральных суждениях, которыми полна обширная литература так называемых либертенов, людей, стремящихся к удовольствию, — литература, поднимающая в карикатурной, опять же, форме проблему, которая столетиями, начиная с Фенелона, занимала Старый Режим — проблему воспитания девушек. В Поднятом занавесе Мирабо вы найдете крайнее, юмористически-парадоксальное ее решение.
Так вот, мы прикасаемся здесь к тому, что для этики в ее поиске оправдания, утверждения, почвы — опоры на принцип реальности, одним словом — означает неудачу, крушение. Я хочу сказать, что вопиющее противоречие обнажается здесь в этике как интеллектуальной конструкции. Ведь как кантовская этика не имела иных последствий, помимо умственной гимнастики, чье образовательное значение для любого мыслящего человека я уже отметил, так не возымела никаких социальных последствий и этика Сада. Поймите меня правильно, я не берусь судить, сделали ли действительно французы усилие, чтобы стать республиканцами, но ясно, что они, как и все народы Земли, даже те, кто совершил после них революции куда более смелые, более радикальные и более грандиозные по своему замыслу, не только оставили неизменными основы религиозной по своему существу этики Десятословия, но и внесли в них пуританскую ноту, которая со временем звучит в них все явственней. Дошло до того, что глава большого социалистического государства во время международного визита к своим партнерам по мирному сосуществованию возмущается, обнаружив на тихоокеанских берегах танцовщиц славной страны Америки, задирающих слишком высоко ноги.
И все же остается вопрос, от которого мы здесь не можем уйти
— вопрос об отношениях с das Ding.
Мне представляется, что отношения эти достаточно выпукло обрисованы у Канта в третьей главе его книги, посвященной дви жущим силам чистого практического разума. На самом деле Кант признает здесь по крайней мере один действующий в чувстве коррелятив морального закона в чистом его виде, и что интересно, коррелятив этот — обратите, пожалуйста, внимание на третий параграф этой третьей главы — есть не что иное как страдание. Я читаю вам этот отрывок — Мы можем, следовательно, aprioriусмотреть, что моральный закон как основание определения воли должен, будучи противен всем нашим наклонностям, вызывать чувство, которое позволительно назвать страданием. Это первый и, может быть, единственный случай, когда мы исходя из понятий aprioriв силах установить связь образа познания — в данном случае это познание посредством чистого практического разума — с чувством удовольствия или неудовольствия.
Другими словами, Кант согласен здесь с Садом. И в самом деле, чтобы вплотную приблизиться к dus Ding, чтобы открыть все клапаны желания — какое средство для этого предлагает нам, в пределе, Сад? По сути дела, страдание. Страдание другого, а заодно и собственное, так как они, глядишь, могут оказаться одним и тем же. Чрезмерное удовольствие — удовольствие, состоящее в том, чтобы силой прорваться к Вещи — невыносимо для нас. В этом и состоит как раз то смехотворное, или, используя популярное слово, маниакальное, что бросается нам в глаза в романических конструкциях Сада — они повсюду обнаруживают свойственное живым конструкциям недомогание, то самое, что так затрудняет для наших невротиков признание в некоторых своих фантазмах.
И действительно, до определенной степени, в каких-то пределах, фантазмы не выносят откровения речи.
Мы возвращаемся, таким образом, к моральному закону в привычном виде — к закону, воплощенному в определенном количестве заповедей. Я имею в виду те десять заповедей, свод которых обнаруживается в истоках, не столь уж затерянных в прошлом, народа, который сам рассматривает себя как избранный.
Я уже сказал вам, что к ним, заповедям этим, следовало бы вернуться. Я заметил в последний раз, что здесь надо провести работу, к которой мне хотелось бы привлечь одного из вас, как представителя традиции нравственного богословия. Множество вопросов заслуживают нашего внимания. Я говорил о количестве заповедей, но есть еще и форма их, тот способ, которым они нам, будущим поколениям, переданы. Я охотно обратился бы к помощи кого-нибудь из вас, кто достаточно хорошо знаком с ивритом, чтобы помочь мне ответить на интересующий меня вопрос — не используется ли уже в еврейском тексте "Чисел" и "Второзакония", где впервые формулируются десять заповедей, глагольная форма будущего, форма выражения воли?
Сегодня, однако, меня занимает в первую очередь то привилегированное положение, которое в структуре закона этим формулировкам принадлежит. Я хотел бы сегодня остановиться на двух из них.
Мне придется оставить в стороне те колоссальные проблемы, которые ставит перед нами сам факт установления этого закона чем-то, что заявляет о себе в формеЯ есмъ то, что есмь. Здесь явно не подобает толковать этот текст в духе греческой метафизики, предпочитая в переводе "который есть" или же "который есмь". По мнению гебраистов, английская версия, / amthatIam, ближе всего передает мысль этого стиха в подлиннике. Может быть, я ошибаюсь, но, не зная еврейского и в ожидании дополнительных сведений, которые кто-либо может мне на этот счет сообщить, я полагаюсь на лучшие авторитеты и верю в их безупречность.
Обращаясь к небольшому народцу, это Я есмъ то, что есмь, заявив для начала, что именно оно вывело его из египетского пленения, провозгласило затем — Да не будет у тебя других богов кроме меня пред лицем моим. Я оставляю открытым вопрос о том, что это пред лицем моим означает. Означает ли это, что не перед лицем Господним, то есть вне Ханаана, поклонение другим богам не является для правоверного еврея чем-то немыслимым? Слова, вложенные во второй книге Самуила в уста Давида, можно понять именно в этом ключе.
И все же вторая заповедь — та, что категорически воспрещает не только любой культ, но и любой образ, любое изображение всего, что в небе, на земле и в преисподней можно найти — показывает, на мой взгляд, что здесь устанавливается совершенно особое отношение ко всем душевным движениям человека вообще. Иными словами, исключение функции Воображаемого кладется здесь — на мой, как, надеюсь, и на ваш взгляд тоже — в основу отношения человека к Символическому — к Символическому в том смысле, в котором мы здесь его понимаем, то есть к речи. Для символического формулируется здесь его начальное, принципиальное условие.
Я оставляю в стороне вопрос о субботнем отдыхе, но полагаю, что этот поразительный наказ, благодаря которому мы, живущие в стране господ, до сих пор проводим каждый седьмой день в без-дельи, не оставляющем, как говорят острословы, обычному человеку никакой середины в выборе между занятиями любовью и смертной скукой, эта приостановка, пустота эта вводят, безусловно, в человеческую жизнь знак чего-то всякому закону полезности потустороннего, знак дыры. Что и связывает эту заповедь ближайшим образом с тем, по следу чего мы с вами теперь идем.
Я оставляю в стороне запрет на убийство, к которому мы еще вернемся, когда будем говорить о соответствии между поступком и воздаянием за него. Перейду прямо к заповеди о лжи, поскольку именно она смыкается с тем, что предстает нам как принципиальная, диктуемая принципом удовольствия, связь человека с Вещью — с той ложью, одним словом, с которой сталкиваемся мы повседневно в явлениях бессознательного.
В заповеди не лжесвидетельствуй наиболее рельефно выступает интимная связь желания в его структурирующей функции с законом. На самом деле эта заповедь для того и нужна, чтобы мы могли подлинную функцию закона почувствовать. И очень интересно, мне кажется, сблизить ее с софизмом, в котором ярче всего предстает нам тип мыслительной виртуозности, еврейскому, талмудическому способу рассуждения прямо противоположной, — я имею в виду парадокс Эпименида, тот самый, что начинается с заявления, будто все люди — лжецы. Что говорю я, произнося это, и следуя в этом, кстати, описанной мною артикуляции бессознательного? Да то, отвечает софизм, что прежде всего лгу я сам и поэтому не только по поводу функции истины, но и по поводу значения самой лжи ничего ценного высказать не способен.
Функция заповеди не лжесвидетельствуй, этого отрицательного наказа, состоит в том, чтобы устранить из высказываемого субъект высказывания. Вспомните хорошенько мой граф, и вы в нем без труда обнаружите то же самое — именно постольку, поскольку я лгу, поскольку я вытесняю тот факт, что именно я, лжец, сейчас говорю, могу я сказать не лги. В этом не лги, сформулированном как закон, заключена возможность лжи как главного, основополагающего для нас желания.
Приведу другой пример, не менее, на мой взгляд, уместный. Это знаменитая формула Прудона "собственность — это кража".
Еще одним примером служат истошные вопли протеста, раздающиеся со стороны адвокатов всякий раз, когда встает, в самой гипотетической, мечтательной форме, вопрос об использовании детектора лжи. Должны ли мы заключить отсюда, что уважение к человеческой личности предполагает право на ложь? Это, безусловно, вопрос, и ответом да, конечно, от него не отделаться. Здесь все далеко не так просто.
Как объяснить категорическое неприятие того факта, что найдется нечто такое, что сведет вопрос о речи субъекта к общезначимой объективирующей оценке? Дело в том, что когда речь обманывает, она и сама не знает, что говорит, хотя в то же самое время, обманывая, она выговаривает некую истину. И вот в этом-то обусловленном речью антиномическом напряжении между желанием и законом и нужно искать тот источник энергии, который именно эту заповедь соделывает одним из краеугольных камней того, что зовется, в меру уважения, ею заслуженного, человеческой участью. Время у нас на исходе, и я перескачу к следующей заповеди, чтобы добраться, наконец, до того, к чему мы во всех наших размышлениях о соотношении между желанием и законом, собственно, и шли. Я имею в виду знаменитую заповедь — она всегда вызывает улыбку, но по здравому размышлению улыбка эта долго не задерживается — которая звучит так — Не желай дома ближнего твоего, не желай жены ближнего твоего, ни раба его, ни рабыни его, ни вола, ни осла его, ничего, что у ближнего твоего.
Тот факт, что жена упоминается здесь между домом и ослом, многих навел на предположение, что речь здесь идет о нуждах примитивного сообщества — бедуины, ослы, арабы. Я так не думаю.
Закон этот, неистребимый в сердцах людей, которые, во всяком случае, в отношении жены ближнего, ежедневно нарушают его, стоит, без сомнения, в прямой связи с тем предметом, который мы с вами теперь исследуем — с Вещью.
Ибо речь здесь идет вовсе не о безразлично каких благах, речь идет о том, что подлежит закону обмена, об общественных гарантиях, Sicherung, о легализации, в занимательной, так сказать, форме позывов, impetus, владеющих человеком инстинктов. Речь идет о чем-то таком, ценность чего обусловлена тесной связью, в которой любой из этих объектов состоит с тем, в чем может покоиться само существо человека, ибо это и есть das Ding — не в качестве его блага, а в качестве блага, в котором он находит покой. Das Ding, добавлю здесь, именно как коррелятив закона речи в самых первых его основаниях — в том смысле, что именно das Ding и было в начале; что это первое, что смогло отделиться от всего того, что субъект начал именовать и артикулировать; что само желание, о котором говорит заповедь, обращено не к какой попало желанной вещи вообще, а к вещи именно в смысле Вещи моего ближнего.
Значение этой заповеди как раз и состоит в том, что она сохраняет дистанцию субъекта по отношению к Вещи как берущей основание в самой речи.
И куда же это нас выводит?
Неужели Закон и есть Вещь? Ни в коем случае. Однако Вещь я узнал не иначе, как посредством закона. Ибо у меня и мысли бы не было пожелать ее, если бы закон не говорил мне — не пожелай. Но Вещь, взяв повод от заповеди, произвела во мне всякое пожелание, ибо без Закона Вещь мертва. Я жив был некогда без Закона, но когда пришла заповедь, Вещь ожила, пришла вновь, а я обрел смерть. Таким образом, заповедь, данная для жизни, послужила мне к смерти, ибо Вещь, взяв повод от заповеди, обольстила меня и сделала меня посредством ее желанием смерти.
У некоторых, по крайней мере, из вас мелькнуло уже, я думаю, подозрение, что начиная с какого-то момента говорю с вами уже не я. И они правы, так как с одной лишь маленькой разницей — Вещь заступила у меня место греха — перед вами рассуждения апостола Павла о грехе и законе из Послания к Римлянам, глава 7, стих 7.
Какое бы мнение ни бытовало на этот счет в определенных кругах, вы ошибаетесь, если думаете, что авторы Писания чтения не заслуживают. Я, во всяком случае, никогда ничего кроме пользы не извлекал из них — что же касается Павла, которого я настоятельно рекомендую вам для чтения на каникулах, то в его обществе вы наверняка не соскучитесь.
Отношения между Законом и Вещью определены здесь как нельзя лучше. Именно это определение и послужит нам отправной точкой. Диалектика отношений между желанием и Законом такова, что желание вспыхивает в нас только в связи с Законом, посредством которого оно становится желанием смерти. Только в силу существования Закона грех, αμαρτία, что означает по-гречески нехватку и непричастность к Вещи, принимает характер чрезмерный, преувеличенный. Оставляют ли нас открытие Фрейда и психоаналитическая этика в плену этой диалектики? Нам предстоит теперь исследовать то, что человеческое существо оказалось способным в течение столетий выработать, чтобы Закон этот преступить, чтобы установить со своим желанием отношения, которые преодолевали бы этот связывающий их запрет и вводили бы, сверх морали, эротику.
Такая постановка вопроса не должна, мне думается, вас удивить, ибо это то самое, что делали испокон веку все религии, все мистические учения, все то, одним словом, что Кант именует несколько свысока Religionsschwдrmereien, религиозными мечтаниями — слово это переводу поддается с трудом. Что все это, как не способ восстановить, где-то по ту сторону закона, отношения с das Ding? Есть, без сомнения, и другие способы. Так, говоря об эротике, нам придется говорить и о том, что поддерживалось веками — о правилах любви. Фрейд говорит где-то, что он, в принципе, мог бы говорить о своем учении как об эротике, но, продолжает он, я не сделал этого, потому что сделать это означало бы уступку на словах, а кто уступает на словах, уступает и на деле — вот почему я говорю о теории сексуальности.
И это правда — на первом плане у Фрейда стоит этическое исследование простых взаимоотношений между мужчиной и женщиной. Но интересно, что в отношениях этих все так и осталось с тех пор на своих местах. Вопрос о das Ding и сегодня остается связанным с открытой, зияющей брешью в сердцевине человеческого желания. Я бы сказал, если вы мне позволите эту игру слов, что все дело для нас заключается в том, чтобы понять, что можем мы сделать, чтобы пропажу эту, dam, обратить в госпожу, dame, в нашу госпожу, notre dame.
Не улыбайтесь этому превращению — ведь язык произвел его до меня. Поинтересовавшись этимологией слова danger, опасность, вы обнаружите, что та же двусмысленность заключена и в нем, ибо danger означало первоначально domniarium, господство. Сюда же проникло потихоньку и слово dame, дама, госпожа. И не удивительно — ведь во власти другого находиться небезопасно.
Вот в это-ту, безусловно опасную, область и попробуем мы с вами в следующем году углубиться.
23 декабря 1959 года
Проблема сублимации
VII Влечения и приманки
Пасторальное измерение. Парадокс нравственного сознания.
Мир и тело. Лютер. Проблема отношений с объектом.
Во время каникул, размышляя и ища, quaerens, не querndevorem, кого поглотити, а, скорее, quoddoceamvobis, того, как лучше преподнести вам предмет, на который мы, говоря об этике психоанализа берем курс, я испытал потребность совершить экскурс в один из разделов сокровищницы английской и французской литературы. Дело в том, что следуя этим курсом мы неизбежно придем к очень проблематичному моменту не только учения Фрейда в целом, но и того, что можно назвать нашей ответственностью как психоаналитиков.
Не знаю, успели ли вы на нашем горизонте этот момент разглядеть — навряд ли, так как в этом году я не обмолвился о нем ни словом. Я имею в виду тот, как свидетельствуют цитаты, которые я вам приведу, проблематичный, но в тоже время важнейший для теоретиков анализа момент, который именует Фрейд сублимацией, SubUmierung.
Сублимация, на самом деле, представляет собой другую сторону того исследования, которое впервые предпринял именно Фрейд — исследования корней этического чувства, выступающего в форме запретов, в форме нравственного сознания. Это та сторона его, что получила у наших современников — тех, разумеется, что к психоаналитическому лагерю не принадлежат — неуклюжее и комичное для сколь-нибудь чуткого уха название философии ценностей.
Мы, способные, вместе с Фрейдом, заново критически оценить источники этической рефлексии и выводы из нее — оказываемся ли мы в столь же выгодном положении, когда речь заходит о положительной стороне дела, о моральном и духовном подъеме, о шкале ценностей? Но хотя здесь мы находимся на более зыбкой почве и перед нами встает проблема куда более деликатная, это не значит, что мы вправе пренебречь ею ради более непосредственной задачи простого терапевтического воздействия.
Фрейд в "Трех очерках по теории сексуальности" использует, описывая черты индивидуальной либидинальной авантюры, два взаимосвязанных термина — Fvcierbarkeit, то есть фиксацию, которую превращаем мы в регистр объяснения того, что в целом объяснению поддается, и Haftbarkeit, переводимый у нас как настойчивость, но имеющий в немецком любопытные смысловые оттенки, означая скорее ответственность, обязательство. Именно об этом и идет здесь речь — о нашей, психоаналитиков, коллективной истории.
Ведь мы тоже вовлечены в авантюру — авантюру, которая протекает в определенном направлении, в определенных обстоятельствах, следуя определенным этапам. Фрейд не сразу вступил на прямой путь, вехи которого нам завещал. И не исключено, что следуя направлению его поисков мы зациклились на каком-то одном моменте эволюции его мысли, не отдавая себе при этом должного отчета в том, что момент этот, как и все в человеческой истории, может иметь характер случайный, обусловленный обстоятельствами.
Чтобы двигаться дальше, попытаемся воспользоваться знакомым вам — мне, во всяком случае, хотя нашим его, пожалуй, не назовешь — методом: сделаем несколько, пару, к примеру, шагов назад, а уже потом три вперед, в надежде, таким образом, один шаг выиграть.
Итак, шаг назад — вспомним, чем именно может представляться поначалу анализ с точки зрения этики. Он может представляться — и есть, видит Бог, сирены, чье пение способно эту иллюзию сделать живучей — поиском морали, которая была бы естественной. Что ж, в практике анализа, как и в его учении, действительно имеется сторона, с которой он действительно предстает как попытка избавить нас от некоторых затруднений внешнего происхождения, носящих характер заблуждения, а то и недоразумения, установить между нами и миром те сбалансированные отношения, которые является нормой и которым мы, якобы, по мере созревания инстинктов естественно приближаемся. Мы являемся время от времени свидетелями проповеди, где в качестве благой вести фигурируют генитальные отношения — тема, на которую я, как вы знаете, предпочитаю говорить более чем настороженно, и даже весьма скептически.
Против этой точки зрения говорит многое. Если анализ и вовлекает нас в измерение, которое я назову, не только ради красного словца, пасторальным, то происходит это, по крайней мере, далеко не так просто.
Пасторальное измерение у культуры есть всегда — более того, оно никогда не упускает случая предложить себя в качестве вра-чевства для ее недуга. Пасторальным же я зову его потому, что именно в пасторали мы встречаем его в обнаженном виде. В наше время оно лучше замаскировано, выступая, к примеру, в столь долго актуальной для нас, хотя в последние несколько лет и отошедшей на второй план, суровой и педантичной форме непогрешимости пролетарского сознания или же в том несколько мифическом образе, о котором я только что упоминал и где нашли свое выражение надежды, пусть эфемерные, повод к которым действительно могла дать Фрейдова революция. Но по сути своей это та же самая пастораль, и речь здесь идет, как вы сами увидите, о споре очень серьезном.
Нам стоит, возможно, к этому спору вернуться, вникнуть заново в его смысл. Стоит, возможно, обратиться к пасторали и в ее архаической форме, к своего рода возврату в лоно природы, к надежде на природу — природу, которая предкам нашим навряд ли представлялась проще, чем нам самим. Нам предстоит выяснить, не содержится ли в том, что ingenium наших предков в этом направлении уже изобрел, некий урок — урок, который и сейчас неплохо было бы нам для себя уяснить.
Окидывая взглядом все то, что дало нам учение Фрейда, мы видим, безусловно, что есть в нем что-то такое, что в пасторальное измерение упорно не вписывается — то самое, чем и воспользовались мы с вами в этом году, чтобы к проблеме этики психоанализа найти подход. Практическая апория, парадоксальный характер которой Фрейд дает возможность нам оценить, лежит вовсе не в плоскости тех трудностей, перед которыми ставит нас усовершенствованная природа или природное совершенствование. Она имеет дело с чем-то таким, что носит черты злобы, злосчастия — именно таков изначальный смысл французского слова mйchant. Апория эта выступает со временем в творчестве Фрейда все более явно — с наибольшей отчетливостью сформулирована она в Недовольстве культурой или, скажем, в работе, где рассматриваются им механизмы такого явления, как меланхолия.
В чем же этот парадокс состоит? А состоит он в том, что нравственное, моральное, сознание заявляет о себе тем более требовательно, чем более оно утонченно — тем более жестоко, чем менее мы против него погрешаем — тем более щепетильно, чем более, воздерживаясь от поступков, загоняем мы его внутрь, где оно преследует самые интимные наши желания и устремления. Короче говоря, неистребимый характер морального сознания, его парадоксальная жестокость превращают его в живущего внутри индивидуума паразита, тем более ненасытного, чем более удовлетворяет тот его требованиям. Этика куда меньше, в пропорциональном отношении, преследует человека за его прегрешения, нежели за его несчастья.
Таков парадокс морального сознания в его спонтанной, так сказать, форме. Вместо того, чтобы говорить здесь об исследовании морального сознания, функционирующего в естественном состоянии — мы бы его там не нашли, — подойдем к нему с другой стороны, которую тоже можно назвать естественной и назовем этот подход критикой, со стороны психоанализа, этики дикой, некультивированной; этики, функционирующей, как обнаруживается, совершенно самостоятельно, в особенности у тех, с кем имеем мы дело, переходя в плоскость пафоса, страдания, патологии. Именно здесь, в конечном счете, проясняет анализ то, что можно назвать живущей в глубине человека ненавистью его к самому себе. О ней как раз и идет речь в античной комедии, известной под заглавием "Тот-кто-наказывает-самого-себя".
Речь идет о небольшой пьесе, принадлежащей к так называемой "новой комедии" — жанру, заимствованному латинским миром у греков. Читать я ее вам особенно не советую, так как после такого замечательного заглавия содержание вас неизбежно разочарует. Вы не найдете в ней ничего, кроме сатирического изображения тех или иных черт характера, меткой обрисовки комических ситуаций. Не забывайте, однако, что принадлежность комедии к легкому жанру обманчива — функция ее гораздо серьезней. В силу самой игры означающих, в силу означивающей артикуляции как таковой, мы выходим здесь далеко за пределы всего того, что сродно живописи, произвольному описанию, мы движемся к раскрытию того, что лежит в глубине. Комедия вновь ставит нас лицом к лицу с тем, что обнаруживает, как показал Фрейд, упражнение в бессмыслице.
То, что выходит здесь на поверхность — это глубина, дно, нечто такое, что вырисовывается по ту сторону бессознательного в действии и что фрейдовское исследование предлагает рассматривать как момент, где выступает в обнаженном виде влечение, Trieb — именно Trieb, а не Instinkt. Ибо Trieb не так уж далек от области das Ding. Это das Ding и предлагаю я вам в этом году рассмотреть в том свете, в котором обнаруживают себя стоящие перед нами проблемы.
Triebe были открыты и исследованы Фрейдом в рамках опыта, в основе которого лежало доверие к игре означающих, к игре подстановки их, так что область Triebe нельзя ни в коем случае путать с перегруппировкой, сколь бы новой она ни казалась, различных связей, соединяющих человека с его природной средой. Слово Trieb нужно переводить так, чтобы сохранить за ним максимальную двусмысленность: так, мы с удовольствием передаем его иногда по-французски словом dйrive, отклонение, отвлечение, — созвучным, кстати сказать, английскому drive, которым немецкий термин обычно на этом языке и передается. Отклонение это, которым и мотивируется любое действие принципа удовольствия, уводит нас ктому таинственному пункту, который был описан в терминах объектного отношения. Необходимо уточнить его смысл и разобраться в путанице, создаваемой кривотолками значений, куда более серьезной, чем любая двусмысленность на означающем уровне.
Мы подходим теперь к тому самому глубокому, что Фрейд в отношении природы Triebe высказал. Это касается способности их дать субъекту материал для удовлетворения самыми различными способами, открывая перед ним двери, путь, поприще сублимации. Область эта так и остается до сих пор в аналитической мысли неисследованной. Лишь самые смелые отваживались в нее углубиться, да и те жаловались на недостаточность, скупость того, что было Фрейдом на этот счет сформулировано. Мы будем в дальнейшем опираться на несколько текстов, принадлежащих к различным периодам его творчества, начиная с "Трех очерков по теории сексуальности", и кончая Моисеем и монотеизмом. В качестве этапов на этом пути мы рассмотрим также "Einfьhrung", "Vorlesungen" и Недовольство культурой.
Фрейд приглашает нас над сублимацией задуматься. Точнее говоря, само то, как пытается он область сублимации очертить, ставит перед нами ряд трудностей, заслуживающих того, чтобы на них сегодня остановиться.
Поскольку проблема сублимации встает перед нами в области Triebe, влечений, то я хотел бы сначала остановиться ненадолго на одном отрывке из "Vorlesungen", работе, известной во французском переводе под заглавием "Введение в психоанализ" — найти его можно в "Gesammelte Werke", том XI, стр. 358.
"Таким образом, мы должны, принимать во внимание, что именно сексуальные влечения, Triebe, необычайно пластичны. Одно может вступить в действие вместо другого. Одни могут занимать место других. Какое-то одно может позаимствовать интенсивность у прочих. Если одному из них реальность в удовлетворении отказывает, другое способно возместить это обстоятельство сполна. Они ведут себя по отношению друг к другу как сеть, как сообщающиеся каналы, наполненные текущей жидкостью".
Перед нами та самая метафора, которая легла, без сомнения, в основу известного сюрреалистического полотна "Сообщающиеся сосуды".
Продолжая, Фрейд говорит — я привожу далее его слова в сокращении — что ведут они себя так, хотя именно Genitalprimat может оказаться для них господствующим, получить главенство. Так что не следует полагать, будто этот последний так уж легко подвести под какое-то одно Vorstellung, представление.
В этом отрывке — как, впрочем, и во многих других — Фрейд предупреждает нас, что даже в случае, когда вся сеть, Netz, влечений, Triebe, подчиняется примату гениталий, Genitalprimat, структуру этого последнего не легко свести к какому то единому представлению, Vorstellung, в котором все противоречия разрешались бы.
Нам это слишком хорошо известно — Genitalprimat нимало не упраздняет присущей Triebregungen способности сообщаться между собою и вытекающей отсюда подвижности их, или, как говорит Фрейд, пластичности. Короче говоря, структура эта, как я уже многие годы и говорю вам, связывает человеческое либидо с субъектом, обрекая его на скольжение в игре знаков, на зависимость от структуры мира знаков — единственного поистине универсального и всесильного primat. A знак, согласно Пирсу, это то, что занимает для кого-то место чего-то.
Артикуляция возможностей Verschiebbarkeit, то есть возможностей сдвига в естественном ходе вещей, занимает у Фрейда не-
мало времени, прежде чем он приходит, наконец, в этом отрывке к разъяснению роли, которая даже в генитальном либидо остается за Partiallust. Короче говоря, чтобы подступить к проблеме Sublimierung, нужно помнить о пластичности инстинктов, хотя нельзя не отметить тут же, что по причинам, которые с этого момента предстоит объяснить, далеко не всякая сублимация является для данного индивида возможной. Имея дело с индивидом — и принимая, следовательно, во внимание как его поступки, так и внутреннюю его расположенность — мы всегда сталкиваемся с определенными пределами. Всегда остается что-то такое, что сублимации не поддается, индивиду всегда нужна определенная доза, норма, прямого удовлетворения, отсутствие которого приводит к нарушениям, к серьезным расстройствам.
Исходным моментом для нас, однако, остается связь либидо с этой Netz, с этой Flьssigkeit, с этой Verschiebbarkeit знаков как таковых. Именно к этому приходим мы всякий раз, когда читаем Фрейда с вниманием.
Сформулируем здесь еще одно важное положение, без которого нам вперед не продвинуться.
Совершенно ясно, что либидо, с его парадоксальными, архаичными, прегенитальными чертами, с его неизбывным полиморфизмом, с миром образов, связанных с проявлениями влечения на оральной, анальной и генитальной стадиях — этим еще одним оригинальным открытием Фрейда, — что весь этот микрокосм, короче говоря, не имеет с макрокосмом ничего общего и порождает мир в одной лишь фантазии. Вот учение Фрейда, в противоположность тому пути, на который его ученик, Юнг, пытался его увлечь, что и привело к возникшему около 1910 года в кружке Фрейда расколу.
Это важно, в особенности теперь, когда стало совершенно ясно, что если фаллос или анальное отверстие и обитали когда то под небесным сводом, нынче их искать там не стоит — они оттуда изгнаны навсегда. Было время, когда люди, даже в научной мысли, могли жить в мире, населенном их собственными космологическими проекциями. Долгое время существовало представление о душе мира и люди тешили себя мыслью о глубоких соответствиях между миром собственных образов и миром, который их окружает. Похоже, мы так и не уяснили вполне значение того факта, что фрейдовское исследование вместило весь мир в нас самих, водворило его, наконец, на свое место — не куда то еще, а в собственное наше тело. Я позволю себе в связи с этим обратить ваше внимание на живой интерес, который в период непосредственно предшествовавший высвобождению современного человека испытывала научная и богословская мысль к тому, о ком в отличие от нас, предпочитающих больше о нем не упоминать, Фрейд не колебался говорить открыто, называя его по имени — о том, кого издавна называют люди князем века сего, о Диаволе, Diabolus. Символическое восполняется здесь диавольским — во всех формах, которые богословская проповедь столь живо нарисовала.
Почитайте немного Лютера, не только "Застольные беседы", но и "Проповеди", и вы сами увидите, какое могущество могут приобрести образы, которые теперь, научно удостоверенные повседневным аналитическим опытом, нам отлично знакомы. Именно на них опирается мысль этого оказавшего столь мощное влияние и обновившего самые основы христианского вероучения пророка, когда он ищет способ выразить нашу богооставленность, наше падение в мир, где мы предоставлены самим себе. Выражения, которыми он пользуется, бесконечно более аналитичны, нежели все то, что сумела измыслить современная феноменология, рассуждая, в выражениях относительно мягких, о разлучении с материнской грудью — какое небрежение заставило иссякнуть ее молоко? Лютер же говорит буквально следующее — вы дерьмо, которое вываливается в мир из заднего прохода дьявола.
Вот она, та пищеварительная и экскрементальная по своей сути схема, которую создает мысль, не боящаяся крайних выводов из того факта, что по отношению к любому благу, какое только есть в мире, человек чувствует себя лишенцем, изгоем.
Вот истина, к которой подводит нас Лютер. Не думайте, что она прошла бесследно для мышления и жизни людей его времени. Ведь здесь получило свое выражение то самое, что послужило отправной точкой кризиса, определившего собой современное положение человека в мире. Именно эту истину заверяет своей печатью Фрейд, навсегда водворяя этот образ мира, эти фальшивые архетипы туда, где и находится их настоящее место — в наше тело.
Теперь, с этих пор, мы имеем с этим миром дело там, где он есть. Но эрогенные зоны нашего тела, эти главные точки фиксации — действительно ли открывают они перед нами розовую, пасторального оптимизма исполненную перспективу? Что они — путь к освобождению или к вящему порабощению? Эти эрогенные зоны, которые можно, покуда мысль Фрейда не получила более широкого истолкования, рассматривать как родовые, и которые ограничиваются определенными участками, местами зияния, определенным числом разбросанных по поверхности тела ртов, являются точками, которым предстоит стать истоками Эроса.
Чтобы почувствовать то существенное, оригинальное, что привносит здесь Фрейд, достаточно взглянуть на мысль сквозь призму, предоставленную нам поэтическим творчеством. Представьте себе, глазами поэта — такого, как Уолт Уитмен, к примеру — что может человек от собственного тела желать. Он может вообразить, что тело его вступает в эпидермический, полный, всецелый контакт с миром — в свою очередь, трепещущим и открытым — мечтать о тех горизонтах, о том образе жизни, которые рисует его поэтическая фантазия, лелеять надежду на откровение в этом мире некоей гармонии, на избавление от постоянно гнетущего чувства нависшего над ним проклятия.
Так вот, вопреки всему этому Фрейд обнаруживает на уровне того, что мы можем определить здесь как источник влечений, Triebe, некий предельный, неустранимый пункт, пункт прививки. Именно с этим сталкивает нас опыт, обнаруживая неизбывный характер — здесь нас снова поджидает двусмысленность — этих остатков архаических форм либидо.
С одной стороны, говорят нам, на Befriedigung от этих форм рассчитывать нечего. Самые архаичные запросы ребенка являются одновременно исходной точкой и тем ядром, которое никогда не растворится ни в глаголемом примате генитальности, ни в представлении, Vorstellung, об обобщенной, полученной путем андрогинного слияния человеческой форме. В сновидениях наших первичные, архаические облики либидо всегда сохраняются. Эта одна сторона дела — аналитический опыт вполне согласуется здесь с формулировками Фрейда.
С другой стороны, Фрейд указывает на возможности, на первый взгляд неограниченные, для подстановок — подстановок на другом конце, на уровне цели.
Я избегал до сих пор слова Objekt — слова, без которого, однако, не обходится Фрейд всякий раз, когда требуется, говоря о сублимации, провести кое-какие различия. Описать сублимированную форму инстинкта без отсылки к объекту у Фрейда, так или иначе, не получается. Я прочту вам сейчас отрывки, из которых вам ясно станет, где нужно искать источник его затруднения.
Речь идет об объекте. Но что он, объект, на этом уровне собой представляет? Когда Фрейд, расставляя в своем учении первоначально ему свойственные акценты, предлагает в своей первой топике, в работе "Три очерка по теории сексуальности" свои первые касающиеся сублимации формулировки, сублимация описывается им как такое изменение в объектах, или в самом либидо, которое осуществляется не в форме возвращения вытесненного, в виде симптома, опосредованно, а прямо — способом, который приносит непосредственное удовлетворение. Сексуальное либидо находит себе удовлетворение в объектах — но по каким признакам, прежде всего, оно их находит? Говоря грубо, в общем, и явно давая тем самым повод для бесконечных недоразумений, можно сказать, что это объекты общественно ценные, объекты, которые, будучи способны послужить общественной пользе, могут рассчитывать на одобрение со стороны группы. Именно это определяет возможность сублимации.
Итак, мы прочно держим теперь в руках оба конца цепочки. С одной стороны, налицо возможность удовлетворения, пусть даже путем подстановки, посредством того, что в тексте Фрейда названо суррогатом. С другой стороны, речь идет об объектах, которые станут для общества коллективной ценностью. Перед нами ловушка, в которую мысль, склонная по природе к легким решениям, так и стремится угодить сама. Здесь важно не соблазниться возможностью легковесно противопоставить друг другу или, наоборот, примирить между собою индивида и коллектив.
То, что индивиду для удовлетворения коллектива приходится сменить пластинку, перестроиться, но таким образом, что ему самому это, с другой стороны, принесет удовлетворение непосредственное и независимое, проблем, похоже, не создает. Но Фрейд с самого начала дает понять, насколько удовлетворение либидо проблематично. Все, что относится к разряду влечений, Triebe, заставляет нас задуматься не только о пластичности либидо, но и о пределах ее. Поэтому формулировка эта далеко не принадлежит к тем, которые могли Фрейда удовлетворять и в дальнейшем.
И он действительно от нее отходит, ставя в "Трех очерках" сублимацию в ее наиболее очевидных социальных проявлениях в соответствие с тем, что он называет Reaktionsbildung. Другими словами, здесь и в дальнейшем, на том этапе, когда в отсутствии топических решений, к которым он придет позже, возникают в его построениях заметные неувязки, он вводит понятие образования реакции. Другими словами, те или иные черты характера, те или иные черты, приобретенные под воздействием социума, рисуются им как нечто такое, что не только не лежит в плоскости, на продолжении, так сказать, удовлетворения инстинктов, но требует, напротив, выстраивания системы защит, направленных против, скажем, анального влечения. Таким образом, в основу построения сублимации инстинкта закладывается им противопоставление, антиномия. Проблема оказывается противоречия включена в его собственную формулировку.
То, что предстает у него как противостоящая инстинктивному устремлению конструкция, не может, следовательно, быть сведено к непосредственному удовлетворению — удовлетворению, в котором само влечение насыщало бы себя способом, единственной особенностью которого была бы наложенная на него печать коллективного одобрения.
На самом деле, вопросы, которые Фрейд в связи с сублимацией ставит, выходят на первый план лишь с разработкой им его второй топики. Мы подойдем к ней, отталкиваясь от Einfьhrung der Narzissismus — работы, представляющей собой введение не только в нарциссизм, но и во вторую топику в целом.
В тексте этом — переведенном для Общества нашим другом Жаном Лапланшем — к оригиналу которого в "Gesammelte Werke", том X, стр. 161–162 я призываю вас обратиться, вы найдете следующую формулировку — То, какое отношение имеет с нашей теперешней точки зрения эта формулировка идеала к сублимации — вот что нам теперь предстоит выяснить. Сублимация — это процесс, затрагивающий либидо объекта.
Я прошу заметить, что противопоставление Icblibido-Objektlibido впервые артикулируется Фрейдом как таковое, то есть в аналитическом плане, только в "Einfьhrung". Это текст дополняет формулировку, которую предложил поначалу Фрейд, охарактеризовав позицию человека в отношении удовлетворения как чреватую принципиальным конфликтом. Вот почему так важно ввести прежде понятие das Ding.
Das Ding как того, вокруг чего человек, преследуя свое удовольствие, должен в буквальном смысле слова кружить. Кружить, пока он не сориентируется, не поймет, где он; пока не заметит, что Фрейд говорит то же, что Святой Павел, то есть, иными словами, что руководит нами в погоне за удовольствием никакое не Верховное Благо, что перейдя определенный порог мы оказываемся по отношению к тому, что таит в себе das Ding, в положении совершенно неясном, так как никакого этического правила, которое выступило бы посредником между нашим удовольствием и реальным правилом, не существует.
Да и сам Святой Павел лишь вторит тому, чему учит незадолго до последней Пасхи, отвечая вопрошающим его, сам Иисус. Существует два варианта этого текста — один в Евангелии от Матфея и другой в Евангелиях от Марка и от Луки. В Евангелии от Матфея, где мысль эта выражена наиболее отчетливо, некто спрашивает его — Что сделать нам доброго, чтобы иметь жизнь вечную? Ответ Иисуса, в греческом тексте, звучит так — Что приходите вы ко мне говорить о благом? Кто знает что суть благая? Только Отец наш Небесный знает, что суть благая, и Он, Отец ваш, велит вам делать то, и делать это, и не ступать за эти пределы ни шагу. Остается лишь в простоте душевной следовать Его заповедям. Далее же, за ними, следует еще одна — люби ближнего твоего как самого себя — та самая, что должна была бы, по справедливости, стать последним — и сколь своевременным — словом Недовольства культурой, тем идеальным пределом, к которому логика фрейдовского исследования с необходимостью должна была его привести, так как Фрейд, чтобы ни изучал он, в выводах своих шел всегда до конца.
Я настоятельно прошу вас попытаться расслышать, если вы на это способны, в ответе Христа нечто такое, что уже давно для слуха всех, за исключением искушенных ушей, закрыто — поистине уши имеют не для того, чтобы слышать, и Евангелие лучший тому пример. Попробуйте прочесть слова того, о котором говорят, что он никогда не смеялся — прочесть их буквально и непредвзято. Время от времени вы не сможете не изумляться их юмору, равного которому не найдется нигде.
Возьмите хотя бы притчу об управляющем — любой, кто ходил хоть немного в церковь, привык слышать ее громогласно пре-возглашаемой с церковной кафедры, и никому не приходит в голову удивиться тому, что Сын Божий, чистейший из чистых, внушает нам, что нет лучшего способа спасти душу, чем мошеннически распоряжаться вверенными вам деньгами, ибо именно это способно если не сделать вас сыном света, то, по крайней мере, снискать себе со стороны последних некоторое снисхождение. Здесь явно налицо нечто такое, что с однородной, всеобщей, плоской моралью несовместимо. Можно найти и ряд других примеров такого рода. Допустим, следующий восхитительный joke·, воздайте кесарю кесарево — как это понимать? Перед нами стиль, построенный на парадоксах, стиль, где всегда найдется при случае место уловкам, уверткам, провалам бессмыслицы, хитроумным диалогам, где собеседнику всегда удается победоносно выскользнуть из расставляемых ему ловушек.
Возвращаясь к главному предмету нашей беседы, мы должны констатировать, что благо как таковое, стоявшее неизменно в центре всех посвященных этике философских исследований, этот философский камень всех моралистов, Фрейдом по существу отрицается. Оно отброшено им у истоков его мышления, в самом понятии принципа удовольствия как того, что регулирует самые глубокие, принадлежащие к разряду влечений, человеческие устремления. Перекроенное на тысячу ладов, оно оказывается особенно созвучно центральной для учения Фрейда проблеме — проблеме Отца.
Чтобы уяснить позицию Фрейда в отношении к Отцу, следовало бы присмотреться к тому, в каких выражениях ответил Лютер Эразму, который, долгие годы позволяя водить себя за нос, не выдержал, наконец, и насыпал тому соли под хвост, опубликовав De libero arbьrio, где напомнил этому разгоряченному сумасброду из Виттенберга, что вся христианская традиция, начиная со слов самого Христа и кончая апостолом Павлом, Августином и всей Святоотеческой мыслью, позволяет думать, что дела, добрые дела, в деле спасения что-то значат, что философскую традицию, другими словами, ту самую традицию Верховного Блага, списывать со счетов еще рано.
Лютер, до тех пор относившийся лично к Эразму сдержанно, хоть и не без иронии, публикует в ответ трактат De servoarbitrio, где указывает на заложенное в отношениях между людьми радикальное зло, на то, что кроется в сердцевине человеческой судьбы, на ту Ding, на ту causa, которая аналогична, как я однажды продемонстрировал вам, тому, что предносилось Канту на горизонте его "Практического разума", являя ему едва ли не парное соответствие. Предлагая термин, за псевдогреческий характер которого заранее прошу меня извинить, я назову это causapathomenon — causa наиболее фундаментальной человеческой страсти.
Лютер пишет в этой связи о вечной ненависти Бога к людям: не только к слабостям их, или к делам, содеянным ими по свободному произволению, а именно к ним самим — ненависти, существовавшей еще до сотворения мира. Как видите, я не зря советовал вам читать время от времени религиозных авторов — настоящих, а не тех, что пишут розовой водицей — впрочем, даже из этих последних можно почерпнуть порою кое-что интересное. То, что Франциск Сальский пишет о браке, вполне стоит книги Ван дер Вельде о совершенном браке. Но Лютер — это, по-моему, явление куда более крупное. Ведь ненависть, существовавшая до сотворения мира и коррелятивная отношениям между определенными последствиями закона как такового, с одной стороны, и определенной концепцией das Ding как радикальной проблемы, по сути дела, проблемы зла, с другой — я думаю, от внимания вашего не ускользнуло, что именно эта ненависть представляет собою то самое, с чем имеет дело и Фрейд, когда вопрос, которым задается он об Отце, позволяет ему разглядеть в нем образ тирана первобытной орды, того, против которого совершено было первое преступление и установлен был тем самым порядок, заложены принципиальные основы сферы закона в целом.
Не обратить внимания на культурную преемственность, связывающую Фрейда с определенным направлением мысли, заявившим о себе в переломный момент, приходящийся на начало шестнадцатого века, но отголоски которого слышны были вплоть до конца века семнадцатого, значит ничего не понять в том, какого рода проблемы фрейдовское мышление перед собой ставит.
Я сделал это двадцатипятиминутное отступление исключительно для того, чтобы показать вам, что в работе "Einfьhrung", то есть вскоре после 1914 года, Фрейд подводит нас вплотную к чему-то такому, что позволяет ему, формулируя вещи сами по себе очень важные, но понятные лишь в контексте, где они были высказаны, вновь увильнуть от проблемы отношений с объектом.
Проблему отношений с объектом следует рассматривать с фрейдовских позиций. Вы сами видите, что возникает она в отношениях нарциссических, отношениях воображаемого характера. Объект на этом уровне выступает постольку, поскольку он постоянно взаимозаменяем с любовью, которую питает субъект к своему собственному образу. Говоря об Ichlibido и Objektlibido, Фрейд ставит их в соответствие с Ich-Ideal и Ideal-Ich, миражом собственного Я и формированием идеала. Идеал этот воцаряется самостоятельно, образуя внутри субъекта нечто такое, что становится для него предпочтительно и чему он в дальнейшем неукоснительно подчиняется. Проблема идентификации как раз и связана с этим психологическим удвоением, ставящим субъекта в зависимость от навязанного ему идеализированного образа его самого — удвоения, которому Фрейд впоследствии всегда будет придавать столь большое значение.
Именно в этих призрачных по сути своей отношениях понятие объекта и возникает. Но это совсем не тот объект, что предстает на горизонте стремления в качестве цели. Между объектом, выстроенным в нарциссических отношениях, с одной стороны, и das Ding, с другой, существует разница. Исследуя эту разницу, мы как раз к проблеме сублимации и приходим.
В работе "Три очерка" Фрейд, в небольшом примечании, оставил эссеистическую по стилю своему зарисовку, посвященную задевающему нас за живое отличию между любовной жизнью древних — речь идет о дохристианской древности — и нашей собственной. Состоит оно, по словам Фрейда, в том, что если для древних важно было само стремление, то у нас основное значение придается объекту. Древние окружали праздничными церемониями само стремление и готовы были, ради стремления этого, воздать честь даже объекту обычному, заурядному, тогда как для нас манифестация стремления сама по себе ценности не имеет и нуждается в поддержке наделенного ценными чертами объекта.
Фрейд, к тому же, посвятил немало страниц описанию того, как любовная жизнь принижает нас — принижает во имя чего? — Во имя некоего незыблемого идеала. Прочтите, например, что пишет он в Недовольстве культурой, — "Среди вещей Голсуорси, этого тонкого, заслужившего ныне всеобщее признание английского прозаика, мне очень нравился когда-то один рассказ. Рассказ этот называется "TheAppleTree", и в нем хорошо показано, что в современной, цивилизованной, жизни не осталось больше места для простой и естественной, в духе пасторали, любви между двумя человеческими существами".
Все это, высказанное спонтанно и как бы непроизвольно, представляется мне неоправданной крайностью. Откуда Фрейд знает, что мы делаем акцент на вещи, а древние — на стремлении? Вы скажете, что, в отличие от наших классических трагедий, в античной превознесение идеала никогда не имеет места? Пусть так, но сам Фрейд, в конце концов, никак свое мнение не мотивирует.
Нам предстоит в следующий раз сравнить наш идеал любви с идеалом древних, обратившись к историческим работам. Нас будет интересовать совершенно определенный исторический момент. Речь идет, на самом деле, об эффекте возникновения структуры, об изменениях, которые претерпевает Эрос в истории. То, что куртуазная любовь, превознесение женщины, сложившийся в христианстве особый стиль любовных отношений составили целую эпоху, является фактом первостепенной важности, и к этому-то явлению я и предлагаю вам теперь обратиться.
Тем не менее, уже среди античных авторов, причем, что интересно, более у латинян, нежели у греков, имеются, как я вам покажу, некоторые, а может быть, и все элементы, характерные для того культа идеализированного объекта, который оказался решающим при выработке, носящей несомненные черты сублимации, определенного склада отношений. И то, о чем Фрейд так поспешно и ставя, возможно, дело с ног на голову, ведет речь, свидетельствует на самом деле, если присмотреться поближе, не столько о деградации любовных отношений, сколько об утрате какой-то нити, о кризисе объекта как такового.
Когда мы пускаемся на поиски стремления, это говорит, на самом деле, об определенной утрате — о происшедшей в нашей культуре утрате объекта. Возможно, что именно эта проблема стоит в центре интеллектуального кризиса, в котором берет свое начало фрейдизм, — таков, во всяком случае, тот вопрос, который нам предстоит поставить. Ностальгия, нашедшая выражение в представлении, будто древние находились к стремлению ближе, чем мы, свидетельствует, как всякая мечта о золотом веке, об Эльдорадо, всего лишь о том, что нам, не знающим больше, как вести себя по отношению к объекту, поневоле приходится опуститься со своими вопросами на уровень стремления.
В плане сублимации, объект неотделим от воображаемых, чисто культурных построений. Дело не в том, что сообщество признает эти объекты полезными, а в том, что оно находит в них своего рода поле разрядки, где может, в каком то смысле, тешить себя иллюзиями в отношении das Ding, колонизировать поле das Ding разного рода воображаемыми образованиями. Именно в этом направлении развиваются коллективные, получающие признание со стороны общества формы сублимации.
Общество радуется тем миражам, что поставляют ему моралисты, художники, ремесленники, модельеры платья и головных уборов, творцы всевозможных воображаемых форм. Но истоки сублимации нужно искать не в санкции, которую общество, довольствуясь этими формами, им сообщает. Истоки эти лежат в воображаемой функции — той самой, выражению которой послужит нам символическая запись фантазма (#0а), представляющего собой ту форму, в которой желание субъекта находит себе опору.
В своих исторически, социально обусловленных формах элементы а, воображаемые элементы фантазма, облекают собой, обольщают субъект именно там, где кроется das Ding. И поскольку тайну сублимации нам предстоит исследовать именно здесь, я поговорю с вами в следующий раз о куртуазной любви в средние века — в частности, о Minnesang.
Отмечая годовщину нашего прошлогоднего разговора о Гамлете, я скажу также несколько слов о елизаветинском театре — явлении, ознаменовавшем собой поворотный пункт европейской, равно как и всей цивилизованной, так сказать, эротики. Именно в этот момент и происходит, собственно говоря, то, о чем говорит в своем примечании Фрейд — идеализированный объект выходит на первый план.
Итак, Фрейд оставил нас перед проблемой зияния, которое вновь на месте того das Ding, что предносилось мистикам и богословам, открылось, — оставил в момент, когда рассчитывать на гарантию для das Ding со стороны Отца было больше нельзя.
13 января I960 года.
VIII Объект и вещь
Психология аффектов.
Материнский миф Мелани
Кляйн.
Кантовские апологии.
Сублимация и извращение.
ЖакПревер и его коллекция.
Центром — необходимым, я полагаю — вокруг которого организовано в этом году наше исследование, является das Ding. Понятие это весьма проблемное, и у тех из вас, кто размышляет над сказанным и сохраняет, как и положено, критическое отношение к предлагаемым мною формулировкам, могли возникнуть сомнения относительно позволительности возведения этого понятия к самому Фрейду.
Что ж, до тех пор, пока вы, по мере необходимости продвигаясь дальше, не осознаете вполне значения этого понятия, ответственность за него я целиком беру на себя. Лишь пользуясь им сможете вы убедиться в том, насколько прочно оно обосновано. Об этом, впрочем, я с вами еще раз поговорю в дальнейшем.
1
Иные из вас могут сказать или подумать про себя, что из всего "Entwurf я выудил всего лишь маленькую деталь.
Но я как раз уверен — и опыт нам это покажет — что у таких авторов, как Фрейд, нет, на поверку, ничего, что не вязалось бы со всем прочим, являлось бы всего лишь заимствованием, школярским пситтацизмом, ничего, что не несло бы на себе печать обязательности, отличающей все его рассуждения. Именно поэтому так важно обнаружить места, где в мысли его остаются пробелы, ибо пробелы эти, как я уже дал вам в ряде случаев почувствовать, всегда подспудно обусловлены какой-то необходимостью.
Скажу больше. Das Ding, на место и значение которого я пытаюсь вам указать, имеет для фрейдовского мышления принципиальную важность, и вы, по мере нашего продвижения, сами это признаете.
Речь идет о том самом исключенном внутреннем, которое, если воспользоваться терминами "Наброска", исключено внутри. Внутри чего? Внутри чего-то такого, что фигурирует у Фрейда, как раз в этот момент, в качестве Real-Ich, то есть, в данном случае, последнего Реального психической организации; Реального, которое носит в представлении гипотетический характер — в том смысле, что мы с необходимостью подозреваем в нем Lust-Ich. В этом последнем и заявляют как раз о себе первые зачатки психической организации, то есть того организма ф, властвует над которым, как мы узнаем из текста "Наброска" в дальнейшем, функция Vorstellungsreprдsentanzen — т. е. не просто репрезентации, но репрезентантов репрезентации, что точно соответствует тому пути, по которому так называемое психологическое знание шло и до Фрейда, поскольку первой формой его был атомизм. Идеационная элементарность эта и есть, в конечном счете, та правда, которая заключена была в атомизме.
Психология, в силу самой природы своей, не могла не прилагать всех усилий, чтобы от этого атомизма освободиться. Но освободиться от атомизма, противостать ему, психология не способна, не игнорируя при этом своего рода флоккулацию, которая сообщает ее материи — а материя ее, это психическое — ту фактуру, на которой возводятся мыслительные конструкции, фактуру дискурса как цепочки означающих. Это и есть основа, на которой вышивает свои узоры логика, со всем тем дополнительным и существенным, что она привносит с собой, включая сюда отрицание, Splitting, Spaltung, разделение, разрыв, возникающий, когда в дело вмешивается субъект. Психология поневоле подчиняется атомистическим условиям оперирования с Vorstellungsreprдsentanzen, поскольку именно в них флоккулирует, образуя своего рода хлопья, психическая материя. Психология старается, конечно, из этих условий вырваться, но до сих пор все начинания ее в этом направлении оказывались бесплодными.
Достаточно напомнить о том, насколько бестолковыми были попытки обратиться за помощью к аффективности — даже в анализе любые ссылки на нее неизменно заводили в тупик, заранее давая понять, что это не та дорога, по которой нам стоит следовать.
Конечно, значение аффектов отрицать не приходится. Важно, однако, не смешивать их с субстанцией того, что ищем мы в Real-Ich, по ту сторону означающей артикуляции в том ее виде, в котором мы, художники аналитического слова, можем ею манипулировать.
В отношении психологии аффектов Фрейд роняет по ходу дела важные и поучительные замечания. Он неизменно настаивает на том, что аффекты носят характер условный, искусственный — не означающего, а сигнала, к которому, в конечном счете, их всегда и можно свести. Этот характер как раз и сообщает им возможность смещаться, ставя, с точки зрения икономии, ряд необходимых условий — таких, к примеру, как неразрушаемость. И все же вовсе не в аффектах лежит секрет той икономической, даже динамической, сущности, который мы на горизонте, в пределе аналитической перспективы ищем. Это нечто куда более темное, смутное, связанное с энергетическими понятиями аналитической метафизики.
Метапсихология эта, правда, стремится в последнее время осмыслить себя в категориях, как ни странно, качественных. Достаточно упомянуть в связи с этим недавние попытки функцио-нализации так называемого десексуализированного либидо. Ссылки на такого рода качественные по своему характеру понятия все труднее становится обосновать на опыте, тем более на опыте, так сказать, аффективном.
Этой психологией аффектов — нам придется когда-нибудь заняться ей вместе. Я хотел бы лишь, чтобы открыть вам глаза на неадекватный характер того, что до сих пор в этом направлении, прежде всего в психоанализе, было сделано, предложить вам некоторые предметы для размышлений. Возьмем, к примеру, такой аффект, как гнев. То, что я предлагаю вам, это всего лишь практические, побочные соображения. Использование определенных категорий, к которым я предлагаю вам обратиться, позволит нам, надеюсь, объяснить, почему именно гнев неизменно вызывал на протяжении истории и этики повышенный интерес и почему, напротив, мы так мало интересуемся им в анализе.
То, что, к примеру, говорит о гневе Декарт — вас это вполне устраивает? Рабочая гипотеза, которую я вам предлагаю оценить на пригодность, состоит в том, что, являясь, бесспорно, страстью, находящей проявление как на органическом и физиологическом, так и на эмоциональном уровне, где она выражена в более или менее гипертоническом, взвинченном состоянии, гнев выступает, прежде всего, как реакция субъекта на разочарование, на отсутствие чаемого соответствия между символическим строем, с одной стороны, и ответом Реального, с другой. Другими словами, гнев тесно связан с тем, что имел в виду Пеги, сказав, в юмористическом, правда, контексте, что колышки не попадают в дырочки. Поразмышляйте над этим, и посмотрите, нельзя ли вам извлечь тут для себя какую-то пользу. Выводы отсюда можно сделать самые разные — вплоть до указания на начатки символической организации мира у тех немногих видов животных, в поведении которых что-то похожее на гнев прослеживается. Ибо приходится удивляться тому, что во всем животном царстве гнев явно не имеет места.
Фрейдовская мысль всегда склонна была рассматривать аффект как разновидность сигнала. То, что Фрейд в конце концов отнес к разряду сигналов даже страх, само по себе очень показательно. Искомое нами лежит, однако, по ту сторону организации Lust-Ich, феноменальный аспект которой всецело связан с большей или меньшей загрузкой системы Vorstellungsreprдsentanzen, то есть содержащихся в психике означающих элементов. Здесь перед нами нечто такое, что позволяет нам, по крайней мере операционально, в контексте наших попыток вступить на почву этики, поле das Ding как-то определить. Поскольку же Фрейд мыслит, исходя из терапевтической точки зрения, то мы можем попробовать определить поле субъекта, подходя к нему не только как к субъекту межличностного общения, субъекту, зависимому от опосредования означающим, но и как к чему-то такому, что находится за этим последним, по ту его сторону.
Вступив на почву того, что я называю полем das Ding, мы оказываемся перед лицом чего-то смутного, подвижного, лежащего по ту сторону аффективности и, в силу недостаточной упорядоченности своего регистра, с трудом различимого — чего-то куда более глубокого, на что я пытался уже, на предыдущих наших занятиях в этом году, вам указать. Это не регистр простой Wille в шопенгауэровском смысле этого слова, поскольку Шопенгауэр хотел бы видеть в ней, в противоположность представлению, самую сущность жизни. Это регистр, где налицо одновременно воля благая и воля злая, то volensnolens, где как раз и заключена суть той амбивалентности, что так плохо улавливается, когда встречаешься с ней на уровне любви и ненависти.
Именно в плане благой и злой воли, где предпочтение на уровне отрицательной терапевтической реакции отдается как раз злой, обнаруживает Фрейд в конце своего творческого пути поле das Ding, указывая нам на расположенную по ту сторону удовольствия плоскость. Итак, поле das Ding обнаруживает себя в конечном счете как этический парадокс — в das Ding Фрейд видит нечто такое, что может, в жизни, предпочесть смерть.
Об этом говорит нам все то, что мы успели с начала нынешнего года на нашем семинаре узнать. Может быть, эта мысль лежит на периферии учения Фрейда, может быть, позволительно пройти мимо нее, рассматривать ее как нечто случайное, побочное, утратившее свою актуальность? Ничего подобного — свидетельством тому служит, я полагаю, все его творчество. В поздние года Фрейд характеризует это поле как то, к чему тяготеет поле принципа удовольствия, так что в результате получается, что поле принципа удовольствия расположено по ту сторону принципа удовольствия как такового. Ни удовольствие, ни организующие, унификационные, эротические жизненные тенденции психического развития не дают достаточных оснований считать живой организм, жизненные нужды и потребности центральным фактором психического развития.
Конечно, термин операциональный имеет в данном случае, как и в любом мыслительном процессе, определенную ценность. В самом деле, ведь das Ding не ясна для нас вполне, что не мешает нам этим понятием пользоваться. Впрочем, этот операциональный этикет может здесь показаться вам неуместно юмористическим, поскольку то, о чем мы пытаемся тут говорить, представляет собой нечто такое, с чем мы — все и каждый — имеем дело совершенно не операциональным образом.
Я не собираюсь ситуацию никаким образом драматизировать. Всем эпохам свойственна вера в то, что именно в них достигла максимальной остроты конфронтация с чем-то завершающим, запредельным миру и несущим угрозу его существованию. Теперь в мире и обществе идет молва о том, что над нами нависла тень какого-то невероятного, абсолютного оружия, которым манипулируют на наших глазах с искусством поистине мусическим. Не думайте, конечно, что все произойдет завтра — конца света, в менее, правда, отчетливой форме, ожидали уже во времена Лейбница. Но все же это нависшее над нашими головами оружие, в сотни тысяч раз более разрушительное, чем то, что, в свою очередь, в сотни тысяч раз разрушительнее ему предшествовавшего — представьте себе, что оно нацелено на нас из космоса, размещенное на спутниках-носителях. Это придумал не я, ведь бряцанье оружием, которое ставит под угрозу саму планету как место обитания человечества, раздается вокруг нас каждый день.
Поставьте себя мысленно в ситуацию, которую прогресс знаний представил нам теперь немного яснее, чем удавалось это когда либо воображению, не упускавшему, однако, случая с этим представлением поиграть, — в ситуацию, когда какой-то человек или группа людей, окажется в состоянии сделать так, что существование всего человечества повиснет на волоске, и вы увидите тогда, внутри вас самих, что das Ding находится в этот момент на стороне субъекта.
Вы увидите, что будете умолять субъект знания, который эту вещь — абсолютное оружие — создал, разобраться в себе; увидите, как захочется вам тогда, чтобы истинная Вещь находилась в этот момент в нем — как захочется вам, другими словами, чтобы он не махнул на все рукой, сказав, что пора, мол, с этим кончать, так и не объяснив, почему.
Ну вот, теперь, после маленького экскурса, на которое слово операциональный меня вдохновило, и не пытаясь больше рисовать картины столь драматичные — не решусь сказать эсхатоло-гичные, так как понятие в наше время стремительно материализуется, — вернемся к сущности das Ding на том уровне, на котором мы непосредственно имеем с ней дело. Каким образом, иными словами, сталкиваемся мы с das Ding в области этики?
Нас с вами интересует не только das Ding как таковая, но и воздействие, которое она оказывает, ее присутствие в сердцевине тех козней, которые человек, пытаясь выжить в лесу желаний, строит, и тех компромиссов, в которые вступают эти желания с определенной, далеко не столь смутной, какой обычно ее себе представляют, реальностью.
Требования реальности охотно предстают зачастую в форме так называемых общественных требований. Фрейд не мог не придавать этим последним самого большого значения, но надо сразу сказать, что его подход к ним носит особый характер и позволяет ему преодолеть бесхитростную антиномию общество-индивид — антиномию, в которой индивид с самого начала выступает как потенциальный источник беспорядка.
Отметим сразу же, что в нашу эпоху совершенно немыслимо рассуждать о об обществе абстрактно. Немыслимо, прежде всего, исторически, но немыслимо и философски — уже потому, что господин по имени Гегель открыл нам глаза на современную функцию государства и на то, что необходимость, увязывающая законность в единое связное целое, связана с определенной феноменологией духа. Каждая форма человеческого существования, до моногамной пары включительно, облекается целой, связанной с государством, философией права, для которой пара эта служит отправной точкой.
Я занимаюсь с вами этикой психоанализа, и заниматься одновременно гегелевской этикой у меня нет времени. Мне важно отметить лишь, что они между собою не совпадают. В конечном пункте определенной феноменологии расхождение между индивидом и городом, между индивидом и государством, бросается в глаза. Что касается Платона, то и он настойчиво связывает расстройства в человеческой душе с тем же измерением — для него в таких случаях речь тоже идет о воспроизведении на шкале психики нарушений порядка в гражданской жизни. Все это вырастает из проблематики отнюдь не фрейдовской. Фрейд подходит к душевному больному с другой точки зрения, обнаруживая в нем измерение, которое не имеет ничего общего с беспорядками в государстве или с нарушениями в иерархическом строе. Фрейд имеет дело с больным индивидом как таковым, с конкретным невротиком или психотиком, он имеет дело непосредственно с ситуациями, где потенции жизни перетекают в потенции смерти, с потенциями, непосредственно вытекающими из познания добра и зла.
Итак, мы оказались лицом к лицу с das Ding и нам придется, так или иначе, с ней разобраться.
То, что я говорю вам, не должно было бы ни в коем случае вас удивлять, так как все, чего я хочу, это указать вам пальцем на то, что происходит в аналитическом сообществе. Аналитики настолько одержимы областью das Ding, которая так хорошо отвечает внутренней закономерности их опыта, что главную роль в эволюции аналитической теории получила так называемая кляй-нианская школа, причем поразительно наблюдать, как при всем дистанцировании от нее, при всей сдержанности, и даже презрении к ней со стороны определенной части аналитического сообщества именно эта школа поляризует и ориентирует сейчас все развитие аналитической мысли, включая и те усилия, которые предпринимаются нашей собственной группой.
Так вот, я прошу вас пересмотреть все кляйнианское построение в том ключе, который я вам здесь предлагаю. А суть этого построения в том, что центральное место в нем занимает das Ding, мифическое тело матери.
Во-первых, именно по отношению к нему заявляет о себе агрессивная, трансгрессивная, наиболее ранняя тенденция, первоначальные и обращенные позывы агрессии. С другой стороны, в регистре, где мы ставим сейчас вопрос о понятии сублимации во Фрейдовой икономии, нам есть что почерпнуть у теоретиков кляй-новской школы — как у самой Мелани Кляйн, так и у Эллы Шарп, которая, в этом пункте, по крайней мере, следует ей всецело. Совсем недавно один американский автор, сам отнюдь не кляйниа-нец, написал работу, где он рассматривает сублимацию как принцип творчества в изящных искусствах. В статье, к которой я позже еще вернусь, озаглавленной "ATheoryConcerningtheCreationintheFreeArts", г-н Ли, подвергнув фрейдовские формулы сублимации и кляйновские попытки раскрыть содержание этих последних более или менее исчерпывающему критическому разбору, приходит к выводу, что сублимация является, по сути дела, функцией восстановительной, попыткой символичекого возмещения воображаемого ущерба, нанесенного фундаментальному образу материнского тела.
Если вы еще не знакомы с этими текстами, я вам их принесу. Скажу сразу, однако, что сведение понятия сублимации к усилию, предпринятому субъектом для восстановления нанесенного материнскому телу фантазматического ущерба, не является, безусловно, наилучшим решением проблемы сублимации, равно как и проблемы собственно топологической, метапсихологической. При всем том здесь налицо, однако, попытка подойти к вопросу об отношениях, в которых находится субъект с чем-то изначальным, о его привязанности к фундаментальному и наиболее архаичному объекту, рамки которому задаются предложенным мною операциональным определением поля das Ding. Определение это позволяет не только составить представления об условиях, необходимых для расцвета того, что можно назвать в данном случае кляйновским мифом, но и увидеть ограниченность этого места, вернув сублимации ее настоящую функцию, более широкую, нежели та, к которой мы, следуя кляйновским категориям, неизбежно приходим.
Клиницисты, более или менее последовательно этим категориям следующие, приходят — я говорю вам сразу, откладывая доказательства на потом — к довольно ограниченным и, прямо надо сказать, ребяческим практикам, которые я резюмировал бы в термине атерапия. Совокупность всего того, что относится к разряду изящных искусств, то есть определенное число гимнастических, танцевальных и других упражнений, способны, как они полагают, доставить субъекту удовлетворение, элемент решения его проблем, душевное равновесие. Выводы эти опираются на ряд богатых содержанием наблюдений. Я имею в виду, прежде всего, статьи Эллы Шарп, значение которых я не собираюсь преуменьшать, — такие, как Некоторые аспекты сублимации бреда, или Сходство и различие бессознательных детерминант, лежащих в основе чистого искусства и чистой науки.
Читая эти статьи, вы сами убедитесь, насколько суженной проблема сублимации предстает в такой перспективе и насколько наивными оказываются полученные на этом пути результаты. Положительная ценность приписывается видам деятельности, связанным с раскрытием, более или менее преходящим, пресловутых артистических дарований, которые представляются в рассматриваемых случаях более чем сомнительными. Совершенно в стороне при этом остается то, чему, говоря о так называемой художественной продукции, нужно уделять, как и делал это парадоксальным образом, что как раз многих авторов до сих пор удивляет, сам Фрейд, первоочередное внимание — я имею в виду общественное признание. Объекты эти играют важную роль в чем-то таком, что хотя и не анализируется Фрейдом с желательной для нас полнотой, но бесспорно связывается им с мыслью об определенном прогрессе — понятие, Бог свидетель, у Фрейда далеко не линейное, — с определенным возвышением чего-то такого, что получает признание в обществе. Я не буду пока дальше эту мысль развивать. Достаточно указать на то, что Фрейд артикулирует ее способом, который представляется метапсихологическому регистру совершенно чуждым.
Обратите внимание, что невозможно дать сублимации в искусстве правильную оценку, не задумавшись над тем фактом, что всякая художественная продукция, в особенности если речь идет об изящных искусствах, исторически датирована. В эпоху Пикассо не пишут так, как писали во времена Веласкеса, в 1930 году нельзя писать роман так, как делали это во времена Стендаля. Это момент абсолютно существенный, и нам не нужно пока решать, относится он к регистру индивидуального или коллективного — достаточно будет отнести его к регистру культурного. Что удовлетворительного может в нем найти общество? Именно об этом мы и задаемся сейчас вопросом.
Именно здесь кроется проблема сублимации, связанная с тем, что она создает определенное число форм, в том числе и искусство — нас, впрочем, будет занимать лишь один его вид, искусство литературное, столь близкое к интересующей нас области этики. Ибо именно в связи с этической проблемой приходится нам об этой сублимации, как творческом истоке пресловутых получивших общественное признание ценностей, выносить суждение.
Чтобы взглянуть на вещи с точки зрения этики, лучше всего исходить из того, что при всей парадоксальности своей стало для этой области стержневой концепцией — я имею в виду кантианскую перспективу.
Итак, с одной стороны налицо das Ding, лежащая, будем надеяться, на правильной чаше весов. С другой, мы имеем противопоставленную ей кантовскую формулу долга. Она тоже имеет вес. Кант вводит правило поведения, которое применимо для всех, другими словами, он кладет на чашу весов разум. Нужно, конечно, еще показать при этом, каким образом разум может иметь вес.
Когда обращаешься непосредственно к авторам, это всегда дает очень много. Как-то недавно я сослался мимоходом на то место у Канта, где говорится о Schmerz, страдании, как коррелятиве этического поступка. Мне показалось, что даже те из вас, которые имели случай тексты Канта основательно изучать, на место это не обратили внимания. Так вот, открыв Критику практического разума вы увидите, что Кант, пытаясь убедить нас, что разум имеет реальный вес, придумывает великолепный по свежести своей пример, своего рода двойную апологию, историю, призванную дать почувствовать вес этического принципа в чистом его виде, возможность того, что долг возобладает вопреки всему, то есть вопреки всякому благу, представляющемуся с витальной точки зрения как желательное.
Все доказательство строится на сравнении двух ситуаций. Представьте себе, говорит Кант, что мы, пытаясь сдержать человека в чрезмерной погоне за наслаждениями, ставим его в следующее положение. Перед ним, в комнате, находится дама, которая служит на данный момент предметом его вожделений. Он свободен войти в эту комнату и свое желание, или потребность, удовлетворить, но при выходе его ждет смерть на виселице. Дело, конечно, не в этом, и вовсе не на этом покоится кантовская мораль. Вы сейчас увидите, в чем соль доказательства состоит. То, что виселица послужит достаточным препятствием, у Канта сомнений не вызывает — вряд ли кто сможет трахаться с мыслью об ожидающей его при выходе виселице. Тут же философ предлагает еще одну ситуацию с трагической развязкой — на этот раз речь идет о тиране, который предлагает человеку выбор между виселицей и милостями, ждущими его при условии, что тот согласится лжесвидетельствовать против своего друга. Кант справедливо полагает, что нетрудно себе представить человека, который отдал бы жизнь, чтобы лжесвидетельства не приносить, особенно если это последнее будет иметь для того, против кого оно направлено, роковые последствия.
Поразительно то, что силу доказательства имеет в обоих примерах реальность, то есть реальное поведение субъекта. Именно к Реальному призывает нас обратиться Кант, чтобы посмотреть, какой вес имеет в нем разум, который отождествляет он здесь с бременем долга.
Встав на почву рассуждений философа, нельзя не заметить, однако, что есть одна вещь, которая от его внимания ускользнула — в определенных условиях вовсе не исключено ведь, что герой первого примера если и не отдаст себя палачам — до этого дело в кантовской апологии в любом случае не доходит — то, по крайней мере, такую возможность рассмотрит.
Наш философ из Кенигсберга, этот симпатичнейший персонаж — я вовсе не намекаю, будто дело идет о личности мелкой, на подлинную страсть не способной, — вовсе не учитывает, похоже, что в условиях, как сказал бы Фрейд, Ьberschдtzung, переоценки объекта, которую я буду с этого момента называть сублимацией объекта, в условиях, где объект любовной страсти получает особенное значение — а именно в этом направлении намереваюсь я развить диалектику, предназначенную указать вам на место, которое эта сублимация в действительности занимает, — то есть в условиях сублимации женского объекта или, иными словами, любовной экзальтации — той самой, исторически легко датируемой, экзальтации, о которой Фрейд в упомянутом мною некогда здесь примечании говорит, что для человека нового времени акцент либидо приходится не на стремление, а на объект — а это, кстати говоря, колоссальная проблема, и я собираюсь, если вы, разумеется, не возражаете, вас познакомить с ней, посвятив несколько встреч явлению, на чьи признаки в истории германских народов я некогда, говоря о Гамлете, уже указал, а именно Minne, то есть определенной теории и практике куртуазной любви — почему бы и нет, если на этнографические изыскания у нас находится время, особенно если принять во внимание, что дело коснется определенных следов, в нас самих, отношений с объектом, без исторических своих предшественников просто немыслимых, — что в определенных условиях сублимации, одним словом, подобный порог выбора может быть преодолен: если не исторические факты, то, по крайней мере, кое-какие фантазии на этот счет можно, между прочим, найти в легендах и сказках, не говоря уже о реальных происшествиях, которых тоже, в конце концов, можно подобрать немало, — так что нельзя отрицать вероятность того, что может, в итоге, найтись господин, который спал бы с женщиной в полной уверенности, что наутро его ждет та или иная лютая казнь — хотя подобный поступок принадлежал бы, безусловно, к тому разряду совершенных на почве страсти безумств, с которым связаны проблемы совершенно особые — равно как и вероятность того, что господин этот относился бы к ожидающей его участи с полным хладнокровием — ради удовольствия, скажем, пресловутую даму расчленить на куски.
Такой случай тоже нельзя не предусмотреть, и в анналах уголовной хроники мы найдем тому изобилие примеров. Исходные данные кантовского примера, таким образом, несколько меняются, не говоря уже о его доказательной ценности.
Я свел, таким образом, воедино два не предусмотренных Кантом случая, две формы выхода за заданные принципу удовольствия принципом реальности, выступающим как критерий, пределы — чрезмерную сублимацию объекта, с одной стороны, и то, что обычно называют извращением, с другой. Как сублимация, так и извращение свидетельствуют об определенных обусловленных желанием отношениях — отношениях, которые обращают наше внимание на возможность сформулировать, пусть в форме вопроса, другой критерий нравственности, другой или той же самой, перед лицом принципа реальности. Ибо существует регистр нравственности, руководящейся тем, что лежит на уровне das Ding, — регистр, который заставляет субъект, в момент, когда тот против das Ding, то есть места своего желания, будь то сублимированного или извращенного, лжесвидетельствует, заколебаться.
Наше продвижение здесь неспешно, тем более что мы не сворачиваем с тропы нашего, аналитического, здравого смысла, который не так уж чужд просто здравому смыслу как таковому. С момента, когда уровень das Ding обнаружен, он выступает как место влечений, Triebe — влечений, которые не имеют, как показало фрейдовское учение, ничего общего с тем, что может довольствоваться умеренностью, мудро регулирующей взаимоотношения человеческого существа с его ближним, выстраивая их, на всех иерархических этажах общества, от семьи до государства, в единое гармоническое целое.
Мы должны вернуться здесь к значению сублимации в том виде, в котором попытался сформулировать его для нас Фрейд.
Сублимация связывается им с Triebe как таковыми — именно это и составляет для аналитиков при его теоретизации главную трудность.
Я попрошу избавить меня сегодня от зачитывания, так или иначе утомительного для вас, отрывка из Фрейда, к которому я вернусь еще, когда настанет время решить интересующий нас вопрос в том или ином смысле, удостовериться, следуем ли мы доподлинно — да или нет — мысли Фрейда. Но мне не удастся подогреть интерес к этому вопросу в большей части аудитории, не показав предварительно, что я имею в виду, то есть к чему именно собираюсь я вас привести.
В сублимации, говорит Фрейд, речь идет об определенной форме удовлетворения Triebe — термин, который нужно переводить не инстинкты, как это часто делают, а отклонения, отвлечения, — имея в виду показать, что Trieb отклоняется от того, что именует Фрейд его целью, Ziel.
Сублимация предстает у него как нечто отличное от икономии замещения, в котором находит обыкновенно свое удовлетворение вытесненное влечение. Симптом — это возвращение путем означающего замещения того, что находится на горизонте влечения как его цель. Здесь то и выступает функция означающего во всей полноте своего значения, так как невозможно, не задействовав ее, отличить возвращение вытесненного, с одной стороны, от сублимации как возможного способа влечение удовлетворить, с другой. Парадокс состоит в том, что влечение может найти свою цель не там, где эта цель в действительности лежит — причем речь не идет в данном случае об означающем замещении, конституирующем сверхдетерминированную структуру, двусмысленность и двойную причинность в том, что называем мы симптоматическим компромиссом.
Понятие это не перестает ставить аналитиков и теоретиков психоанализа перед рядом трудностей. Что значит это изменение цели? Речь ведь идет именно о цели, а вовсе не об объекте в собственном смысле слова, хотя этот последний и входит, как я в прошлый раз подчеркнул, очень быстро в расчет. Не будем забывать, что Фрейд очень рано замечает, что понятия цели и объекта путать не следует. На этот счет есть один отрывок, который по мере необходимости я вам процитирую, хотя указать на него могу уже сейчас. В работе Einfьhrung des Narzissismus, если мне не изменяет память, Фрейд подчеркивает, что разница между сублимацией и идеализацией заключается в функции, которая принадлежит в них объекту, — если идеализация влечет за собой идентификацию субъекта с объектом, то сублимация представляет собой нечто совсем иное.
Для тех, кто знает немецкий, сошлюсь также на небольшую, опубликованную в "Internationale Zeitschrift" в 1930 году статью Рихарда Штербы Zur Problematik der Sublimierungslehre, где хорошо освещены трудности, с которыми сталкивались аналитики в связи с понятием сублимации в ту эпоху, то есть после выхода в свет фундаментальной статьи Бернфельда и одновременно с пуб-ликациейв 1931 годув "International Journal ofPsychoanalysis" статьи Гловера Sublimation, Substitution, and Social Anxiety.
Эта последняя статья, написанная на английском языке, доставит вам при чтении гораздо больше трудностей, так как она велика по объему и следовать мысли автора трудно, ибо он прилагает эталон сублимации ко всем известным тогда понятиям психоанализа, пытаясь установить, как можно его с тем или иным уровнем теории совместить. Результат этого обозрения поразителен — перед нами разбор всей аналитической теории, от начала до конца, с очевидностью демонстрирующий непреодолимые трудности, на которые наталкиваются любые попытки использовать на практике понятие сублимации, не впадая при этом в противоречия, которыми этот текст изобилует.
Я хотел бы сразу же попробовать показать вам, в каком направлении сублимация расположена — хотя бы для того, чтобы можно было затем получше узнать, как она функционирует и в чем состоит ее ценность.
Итак, удовлетворение влечения, Trieb, носит парадоксальный характер, ибо происходит, судя по всему, не там, где находится его цель. Довольствуемся ли мы тем, что скажем, вслед за Штерба, к примеру, будто на самом деле изменилась сама цель — в начале, мол, она была сексуальной, а потом уже нет? Именно так, кстати, представляет дело сам Фрейд. Откуда следует, что сексуальное либидо свой сексуальный характер утратило. Вот почему ваша дочь поражена немотой.
Довольствуемся ли мы кляйновским регистром, содержащим, как нам кажется, какую-то частицу, но лишь частицу, истины, чтобы говорить о воображаемом разрешении проблемы замещения, о восстановлении тела матери?
У любого, кто не довольствуется чисто вербальными, то есть начисто лишенными смысла, решениями, формулы эти вызовут желание разобраться в проблеме сублимации поглубже.
Вы уже предчувствуете, должно быть, в каком направлении я намереваюсь двигаться в своих рассуждениях дальше. Сублимация, приносящая влечению, Trieb, удовлетворение, отличное от его цели — о которой всегда говорят как об естественной его цели, — и является как раз тем самым, что обнаруживает подлинную природу Trieb, состоящую в том, что оно не является инстинктом в чистом виде, а связано с das Ding как таковой, с Вещью как чем-то от объекта отличным.
Мы руководствуемся фрейдовской теорией, говорящей о том, что объект в основе своей нарциссичен, что он погружен в регистр Воображаемого. В той мере, в которой объект задает направления и центры притяжения, воздействующие на человека в открытом мире постольку, поскольку объект интересует его в качестве его более или менее точного образа, отражения, объект этот Вещью как раз не является, ибо Вещь находится в самой сердцевине либидинальной икономии. И в самом общем виде определение сублимации будет выглядеть так — она возводит объект — я сознательно иду на то, что использованный мною термин отзывается каламбуром — в вящее достоинство, в достоинство Вещи.
Это важно, когда речь идет, скажем, о том, о чем я здесь мимоходом уже говорил и к чему в следующий раз собираюсь вернуться — о сублимации женского объекта. Вся теория Minne, куртуазной любви, имела, на самом деле, решающее значение. И хотя в социологических своих проявлениях куртуазная любовь более не существует, следы ее сохраняются по сей день в бессознательном, по отношению к которому термин "коллективное" просто излишен, в бессознательном традиционном, чьим носителем является вся литература, вся образная сфера, в которой переживаем мы наши отношения с женщиной.
Этот образ любви был избран обдуманно. Он не был созданием народной души, пресловутой великой души благословенных средних веков, о которой писал Густав Коген. Вполне обдуманно были в небольшом кругу образованных людей сформулированы те правила чести и учтивости, благодаря которым и смогло произойти то превознесение объекта, абсурдный характер которого я вам в деталях продемонстрирую — один немецкий писатель, специалист по германской средневековой литературе такого рода, действительно говорит в связи с этим об absurdMinne. Моральный кодекс этих людей помещает в центр определенного сообщества некий объект, который представляет собой, между тем, объект вполне естественный. Не думайте, пожалуйста, что любовью в ту эпоху занимались меньше, чем в нашу.
Объект возведен здесь в достоинство Вещи, Вещи в том ее виде, в котором мы с вами сумели ее в терминах фрейдовской топологии определить — Вещи, которая не соскальзывает в сеть целей, Ziele, а заключается ею в кольцо. Благодаря тому, что этот новый объект был возведен в определенную эпоху в достоинство Вещи, можем мы теперь объяснить для себя феномен, который всем, кто подходил к нему с социологической точки зрения, неизменно представлялся откровенно парадоксальным.
Мы не сможем, конечно, вполне исчерпать все разнообразие знаков, ритуалов, тем и тематических связей, в особенности литературных, которые и составили собой субстанцию и действительный продукт человеческих взаимоотношений, именовавшихся, в зависимости от эпохи и места, по разному — Minne, куртуазной любовью, или как то иначе. Напомню лишь, что существовавший в начале семнадцатого века во Франции кружок так называемых жеманников и жеманниц был последним проявлением этих взаимоотношений в нашу с вами эпоху.
Но это далеко не последнее слово, ибо мало сказать: они поступали так, дело обстоит так — чтобы вопрос тут же сам собой разрешился, чтобы объект мог взять на себя эту роль. Дело не в том, чтобы просто-напросто дать вам ключ к какому-то частному историческому эпизоду, ибо главная цель, которую я себе ставлю, состоит в том, чтобы воспользовавшись этой оставшейся в прошлом ситуацией лучше понять то, в каком отношении интересующее нас коллективное образование именуемое искусством находится к Вещи, равно как и собственное наше, в плане сублимации, поведение.
Определение, которое я вам дал, отнюдь не ставит в наших размышлениях точку — мне предстоит, во-первых, свою точку зрения подтвердить и проиллюстрировать и, во-вторых, показать, что для того, чтобы объект оказался таким образом в нашем распоряжении, необходимо, чтобы на уровне отношения объекта с желанием произошло что-то такое, что невозможно артикулировать правильно, не сформулировав выводов, к которым пришли мы в прошлом году в отношении желания и того, как оно может себя вести.
Я закончу сегодня небольшим анекдотом, в которой не стоит видеть нечто большее, чем пример, но пример парадоксальный — и, несмотря на незначительность свою, весьма показательный — того, что сублимация собой представляет. Поскольку сегодня мы остановились на уровне объекта и Вещи, я хотел бы вам показать, что значит найти в объекте специфическую функцию, которую может оценить, одобрить общество.
Речь идет о случае из моей собственной жизни, и поместить его вы можете под рубрику психологии коллекционирования. Один человек, опубликовавший недавно работу, посвященную коллекционерам и торгам и задуманную как пособие для коллекционеров, рассчитывающих обогатиться, долго просил меня подкинуть ему несколько идей по поводу смысла коллекционирования. Я предусмотрительно молчал, так как единственное, что я в силах был посоветовать, это походить пять-шесть лет на мой семинар.
О психологии коллекционирования можно сказать немало. Я и сам немного коллекционер. И если кое-кто из вас думает, что я в этом подражаю Фрейду, то ради бога. Я лично полагаю, что у меня на это другие причины. Я видел остатки коллекции Фрейда на полках у Анны Фрейд, и мне показалось, что притягательное влияние оказывало на него сосуществование, на уровне означающего, […] с египетской цивилизацией, а вовсе не просвещенный вкус к тому, что именуют "объектом".
То, что именуют "объектом" коллекционеры, имеет совершенно иной смысл, нежели то, что называется объектом в психоанализе. В психоанализе, объект — это пункт воображаемой фиксации, удовлетворяющий, неважно в каком регистре, влечение. Объект коллекционирования — это нечто совершенно другое, и я сейчас покажу вам это на обещанном примере, где коллекция выступает в своей рудиментарной форме. Коллекцию ведь обычно представляют себе как набор разных предметов, но это совершенно не обязательно.
В эпоху великого покаяния, пережитого нашей страной в годы маршала Петена, во времена призывов потуже затянуть пояса и трудиться на благо родины и семьи, я навестил своего друга Жака Превера, жившего тогда в Сен-Поль-де-Вансе. И я увидел у него дома — не знаю, почему это мне сейчас вспомнилось — коллекцию спичечных коробков.
Подобную коллекцию в то время было собрать нетрудно — больше, пожалуй, и нечего тогда было коллекционировать. Выглядело, однако, это собрание следующим образом — коробки были все одинаковые и расположены были очень красиво таким образом, что, частично входя друг в друга, образовывали своего рода непрерывную ленту, которая шла вдоль каминной полки, поднималась с нее на стену, достигала карниза и шла затем вниз вдоль дверного проема. Не скажу, что ей не было видно конца, но в качестве орнамента это выглядело очень красиво.
Но самым замечательным в этой коллекции, солью ее, была не эта красота и не удовлетворение, которое она собирателю доставляла. Я думаю, что сила и новизна впечатления, которое производило на зрителя это собрание пустых — последнее очень существенно — спичечных коробков связаны с обнаружением того, чему мы уделяем, наверное, слишком мало внимания: что спичеч-
150
ный коробок является не просто объектом, что представ нашему взгляду в виде, Erscheinung, внушительного множества, он, возможно, окажется Вещью.
Иными словами, такое расположение спичечных коробков свидетельствовало о том, что коробок — это не просто предмет, имеющий определенное назначение, и даже не тип в платоновском смысле, некий абстрактный спичечный коробок; что коробок сам по себе является самостоятельной вещью — вещью, бытие которой обладает собственной внутренней связностью. Произвольный, разрастающийся и избыточный, почти абсурдный характер этой коллекции выявлял на самом деле в спичечном коробке его вещность. Смысл подобной коллекции придается, таким образом, особым взглядом на вещи — взглядом, направленным не столько на коробок спичек, сколько на Вещь, которая в этом коробке пребывает.
Однако с каким угодно объектом результата этого, как ни крути, не добиться. Ведь поразмыслив, мы видим, что коробок спичек представляет собой побочную разновидность того, что может в определенных случаях оказаться исполнено морального смысла — выдвижного ящика. В данном случае, ящик этот, извлеченный частично из чрева удобно облекающей его крышки, обнаруживает копулятивную способность — ее-то и предназначен был явить взору тот образ, что без труда в композиции Превера угадывался.
Эта маленькая история об откровении Вещи по ту сторону объекта демонстрирует лишь одну, самую невинную, из форм сублимации. И может быть, из этой истории яснее для вас станет то, почему же, в конце концов, общество может сублимацией удовлетвориться.
Если это удовлетворение, то, в данном случае по крайней мере, это удовлетворение, которое ни от кого ничего не требует.
20 января I960 года.
IX О творении exnihilo
Чудеса психоанализа.
То, что, в Реальном, терпит от
означающего ущерб.
Притча о горшке и вазе.
Несколько слов о катарах.
Влечение, онтологическое
понятие
Возвращаясь к разговору о функции, которая принадлежит Вещи в моем определении сублимации, я начну с того, что вас несколько развлечет.
После нашей с вами последней встречи, снедаемый совестью, вечно упрекающей меня в том, что я не дал вам по рассматриваемому предмету полных библиографических сведений, я обратился в тот же вечер к двум цитируемым Гловером статьям Мелани Кляйн, включенным в сборник "Contributions toPsychoanalysis".
В первой из них, InfantAnalysis, написанной в 1923 году, можно найти немало интересного о сублимации и о вторичном факте торможения, то есть о том, каким образом функции, которые у ребенка, согласно кляйновской концепции, достаточно либиди-нализованы, оказываются по причине сублимации — то есть, вторичным образом — заторможены.
Я не буду пока на этом задерживаться, так как пытаюсь в данный момент сосредоточить ваше внимание на концепции сублимации как таковой — ведь вся путаница и происходит здесь оттого, что в эту проблему не хотят по-настоящему вникнуть.
Вторая статья, 1929 года, озаглавлена InfantileAnxiety-SituationsReflectedinaWorkofArtandintheCreativeImpulse, то есть Отражение ситуации детской тревоги в произведении искусства и творческом позыве. Я сожалею, что не познакомился с нею раньше. Она невелика по объему, но я с удовлетворением убедился, что она идеально укладывается в мою концепцию.
1
В первой части статьи обсуждается музыкальный опус Равеля на слова Колетт, под названием "Дитя и чары". Я изучил ее с удовольствием, несмотря на то, что текст знаком автору лишь в английском и немецком переводах.
Мелани Кляйн удивляется тому, насколько хорошо соответствует произведение искусства последовательности детских фантазий в отношении тела матери с их первичной агрессией и той контр-агрессией, которую ребенок чувствует с его стороны. Короче говоря, перед нами довольно пространное и очень неплохое изложение того, что замечательным образом роднит воображение творца произведения искусства, и музыканта в особенности, с первоначальным, центральным полем психического творчества, на который указывают нам описанные Кляйн фантазии, выявленные у детей в процессе психоанализа. Совпадение этих фантазий с обнаруженными при анализе произведения искусства структурными формами поразительно, но констатировать это для нас, разумеется, еще мало.
Вторая часть статьи куда более интересна — именно ею и собираюсь я вас развлечь. Речь идет на этот раз о статье аналитика Карины Микайлис под заглавием Пустое пространство, где та пересказывает один не лишенный пикантности клинический случай. Судя по его резюме, занимающем четыре страницы, речь идет о поразительном, предельном по своему характеру случае, описанном, однако, таким образом, что у нас нет возможности его надежно диагностировать и мы так и не знаем в итоге, позволительно ли квалифицировать его как меланхолическую депрессию.
Речь идет о больной по имени Рут Кьяр, чья жизнь вкратце автором обрисована. Художником пациентка никогда не была, но говоря о своих переживаниях во время приступов депрессии, она всегда жаловалась на то, что сама она называла пустым пространством внутри нее — пространством, которое она не в состоянии была заполнить.
Подробности биографии женщины я опущу. Как бы то ни было, она, с помощью психоаналитика, выходит замуж и дела у нее поначалу идут неплохо. Однако по прошествии какого-то времени приступы меланхолии возвращаются. Здесь-то и начинается самое интересное. Мы находимся, на самом деле, в той области психоаналитических чудес, которые подобные работы охотно, не без наивного удовлетворения, выставляют на вид.
По какой-то не вполне понятной причине дом, где поселились молодожены, сплошь увешен — одна комната в особенности — картинами деверя пациентки, художника. Затем, в один прекрасный день, деверь этот, который был художником талантливым — так, во всяком случае, утверждает автор статьи, проверить которую у нас способа нет — договаривается о продаже одной из своих картин, снимает ее со стены и уносит. На стене остается пустое место.
Вот это-то пустое место и оказывается тем центром, вокруг которого разворачиваются, кристаллизуются вернувшиеся в этот момент к пациентке приступы меланхолической депрессии. И справляется она с ними следующим образом — в один прекрасный день она решает todaubalittle, побаловаться немного живописью и написать что-нибудь на стене, заполнить как-то это чертово пустое пространство, вокруг которого кристаллизуются ее депрессии — пространство, о функции которого мы хотели бы узнать больше, так как клиническое описание ее оставляет желать лучшего. Чтобы заполнить это пространство в манере своего деверя, она хочет написать картину, которая как можно лучше гармонировала бы с полотнами, ее окружающими. Она покупает в художественной лавке соответствующие палитре своего деверя краски и принимается за работу с горячностью, которая представляется нам характерной для фазы, скорее, нарастания депрессии. Вскоре работа была готова.
Забавно то, что когда пациентка, дрожа от страха перед приговором мастера, показала работу деверю, тот едва ли не пришел в ярость. Вы ни за что не внушите мне — сказал он — будто это написали вы; это работа мастера, причем не просто опытного художника, а ветерана кисти. Не рассказывайте мне сказки и признавайтесь, кто это сделал. Убедить его так и не удается, и он продолжает клясться, что если это сделала его невестка, то он готов пойти дирижировать симфонией Бетховена в Шапель Руаяль не зная музыкальной грамоты.
Конечно, в рассказе этом немало такого, что почерпнуто автором из вторых рук и вызывает у нас известное недоверие. Чтобы поверить в подобное чудо живописной техники, хочется провести некоторые дополнительные разыскания. Но какая нам разница — важно лишь, что Мелани Кляйн обнаруживает здесь подтверждение наличию структуры, которую случай этот превосходно, по ее мнению, иллюстрирует. Для вас уже очевидно, наверное, до какой степени совпадает эта структура с центральной плоскостью, используемой мною в топологической схеме постановки вопроса о том, что мы называем здесь Вещью.
Как я вам уже сказал, кляйновская теория помещает туда, в сущности, тело матери, именно с ним связывая фазы любой сублимации, включая такие чудесные случаи как это вот спонтанное, граничащее с озарением, восхождение новичка к вершинам живописной техники. Госпоже Кляйн особенно нечему тут удивляться, так как сами сюжеты, выбранные ее пациенткой, чтобы это пустое пространство заполнить, ее теорию, вроде бы, подтверждают. Это, во-первых, обнаженная негритянка, затем старуха, облик которой красноречиво говорит о грузе прожитых лет, разочаровании, безутешной покорности судьбе и, наконец, возрожденная, вернувшаяся из небытия фигура ее собственной матери, изображенной в цветущем возрасте. Что и требовалось доказать — мотивация всего явления здесь, по мнению Мелани Кляйн, как на ладони.
Интересен, конечно, урок, который мы можем извлечь отсюда относительно топологии, в которой феномены сублимации располагаются. Но вы сами чувствуете, что не вполне ясно еще, как сами эти феномены возможны.
То, что я делаю здесь, это попытка выстроить для сублимации координаты, в которых ясно стало бы, в каких отношениях находится она с тем, что мы называем Вещью, — с тем, чему в выстраивании реальности субъекта принадлежит центральное место. Каким образом можем мы ее максимально четко в рамках нашей топологии очертить?
В прошлый раз я привел вам один небольшой пример, заимствованный из психологии коллекционирования, но вы ошиблись бы, полагая, что наш предмет им исчерпан, хотя в исследуемом направлении он действительно позволяет разглядеть очень многое. Пример этот иллюстрирует, вообще говоря, превращение объекта в некую вещь, внезапное возведение спичечного коробка в достоинство, которое ему ранее не принадлежало. Ясно, однако, что будучи вещью, это еще далеко не Вещь.
Не будь Вещь в принципе от нас сокрыта, мы не были бы обречены — как обречена на это любая психика — пытаясь помыслить ее, ее обходить, кружить вокруг, постепенно к ней приближаясь. И если она утверждает себя, то происходит это в областях уже одомашненных. Именно поэтому мы так эти области и называем — ведь Вещь всегда предстает как нечто завуалированное, скрытое.
Скажем сегодня, что если в устроении психики, описанном Фрейдом на основе тематики принципа удовольствия, место ее именно таково, то именно потому, что она, Вещь эта, представляет собою то, что в Реальном — Реальном, которое нам не нужно пока как-то ограничивать, Реальном в его совокупности, включающем как Реальное субъекта, так и Реальное того, с чем он имеет дело как по отношению к нему внешним, — то, повторяю, что, в первоначальном Реальном, терпит от означающего ущерб.
На самом деле, первые же отношения, которые складываются в психической системе субъекта — системе, которая сама подчинена гомеостазу, закону принципа удовольствия — флоккулируют, кристаллизуются в означающие элементы. Психический аппарат, с которым мы при обследовании больного имеем дело, подчинен организации означающих. Мы можем, следовательно, утверждать, в негативной форме, что между организацией в сети означающих, в сети Vorstellungsreprдsentanzen, с одной стороны, и созданием в Реальном того пространства, того центрального места, в виде которого предстает нам поле самой Вещи, с другой, — нет ничего.
Именно в этом поле и находится, по-видимому, то самое, что должно, по словам Фрейда, соответствовать находке как таковой, представлять собой объект Wiedergefundene, вновь обретенный. Это и есть фундаментальное определение, которое дает Фрейд объекту в качестве того, что задает направление, объекту, как я уже говорил, парадоксальному, так как Фрейд вовсе не утверждает, будто объект этот действительно был потерян. Объект этот по самой природе своей представляет собой объект обретенный. То, что он был утерян, есть уже следствие — следствие, возникающее задним числом. Не будь он, таким образом, обретен, мы никогда не узнали бы, что он был утрачен.
Итак, вновь налицо фундаментальная структура, позволяющая нам утверждать, что Вещь, о которой идет речь, может, в силу устроения своего, быть представлена тем, что когда то, рассуждая о дискурсе молитвы и скуки, мы назвали Другой вещью. Другая вещь — это, по сути, Вещь и есть.
Такова вторая характеристика Вещи как Вещи сокрытой — природа ее такова, что при встрече с обретенным объектом она представлена другой вещью.
Нельзя не видеть, что в крылатой фразе Пикассо — Яне ищу, я нахожу — именно находка, знаменитое trobar трубадуров, труверов и всех риторов, первенствует над поиском.
Найденное, конечно же, ищется, но ищется на путях означающего. Поиск этот носит, в каком то смысле, характер анти-психи-ческий — по своему месту и своей функции он лежит по ту сторону принципа удовольствия. Ибо согласно законам принципа удовольствия означающее проецирует в это потустороннее эгализацию, гомеостаз, тенденцию к однородной загрузке системы Я как таковой — для того лишь, чтобы система эта дала в итоге осечку. Функция принципа удовольствия состоит в действительности в том, чтоб переносить субъект от одного означающего к другому, задей-ствуя ровно столько означающих, сколько необходимо для того, чтобы поддерживать на максимально низком уровне напряжение, регулирующее функционирование психического аппарата.
Мы подошли, таким образом, к вопросу о том, как человек с этим означающим соотносится, что и позволяет нам сделать следующий шаг.
Но если принцип удовольствия регулирует посредством закона заблуждения всю спекуляцию, что охватывает собой необъятный человеческий дискурс, включающий не только речи человека, но и деятельность его в той мере, в какой ею движет поиск, нацеленный на обретение вещей в знаках, то каким образом отношения человека с означающим как чем-то таким, чем он способен манипулировать, могут свести его с объектом, который выступает представителем Вещи? Вот для ответа на этот вопрос и важно нам с вами понять, что именно человек делает, когда он означающее формирует.
Труднее всего, когда речь идет об означающем, не цепляться сразу же за тот факт, что опоры свои человек мастерит себе сам.
Долгие годы я приучаю вас к мысли, которая всегда должна занимать в вашем сознании первое и главное место — к мысли о том, что означающее как таковое формируется оппозиционными структурами, появление которых вносит в человеческий мир глубокие изменения. Но как бы то ни было, любое индивидуальное означающее сработано человеком, причем не столько его душой, сколько его руками.
Здесь наша мысль вполне сходится с языковым обиходом, в котором мы, когда речь заходит о сублимации — во всяком случае, о сублимации в искусстве — не обинуясь употребляем слово творение. Понятие творения, вместе со всем тем, что оно подразумевает, то есть со знанием о творце и о твари, нам теперь и пора рассмотреть — пора потому, что не только для нашей нынешней темы, мотива сублимации, но и для этики в самом широком смысле, оно оказывается центральным.
Я утверждаю, что функцию, позволяющую не избегать вещи, наподобие означающего, а представлять ее, объект может постольку, поскольку он представляет собой объект тварный. Следуя старой, передаваемой из поколения в поколения притче, которой ничто не помешает воспользоваться и нам, мы обратимся к едва ли не самому древнему художественному ремеслу — ремеслу горшечника.
Когда я рассказывал вам в прошлый раз про спичечные коробки, у меня были на то свои причины — вы сами в дальнейшем эту историю вспомните и убедитесь, что в диалектике наших рассуждений о вазе она нам послужит подспорьем. Но ваза устроена гораздо проще. И появилась она на свет, безусловно, раньше, чем спичечный коробок. Она существовала всегда. Она была, быть может, первым продуктом человеческого ремесла. Это, вне сомнения, орудие, предмет утвари, и там, где мы находим его, человеческое присутствие можно констатировать безошибочно. Эта ваза, которая была искони и которой с незапамятных времен пользовались для того, чтобы образно, по аналогии, метафорически, представить тайны творения, пригодится нам и сегодня.
Чтобы убедиться в уместности такого использования, обратитесь к последнему, кто задумывался над тайной творения, к Хай-деггеру — ведь говоря о das Ding, он выстраивает свою диалектику именно вокруг вазы.
Что касается роли das Ding в хайдеггеровской перспективе связанного с концом метафизики современного откровения, в перспективе того, что он зовет Бытием, то я в это углубляться не стану. Вы легко сможете сделать это сами, обратившись к сборнику, озаглавленному "Доклады и статьи", и собственно к статье о "Вещи". Вы увидите что функция, которую Хайдеггер приписывает Вещи в процессе, характеризующем развитие человека, состоит в соединении вокруг нее небесных и земных сил.
Сегодня для меня важно будет существующее в вазе элементарное различие между использованием ее в качестве утвари, с одной стороны, и ее означающей функцией, с другой. Если это действительно означающее, и если это первое означающее, сформированное человеком своими руками, то по самой своей сути как означающего это означающее ничего иного, как всего, что само является означающим — означающее, ни к какому означаемому в особенности не отсылающее. Хайдеггер помещает его в центр самой сущности земли и неба. Оно связывает то и другое в акте возлияния, самим фактом двойной направленности этого акта — возносящего нечто от земли, чтобы принять это нечто свыше. Именно такова функция вазы.
Это ничто в особенности, характеризующее вазу в ее означающей функции, воплощается в форму, которая и характеризует вазу как таковую. Ведь ваза творит именно пустоту, впервые открывая тем самым перспективу ее наполнения. Пустое и полное входят в мир благодаря вазе — сам по себе ничего подобного он не знает. Только с помощью вазы, этого рукотворного означающего, пустое и полное входят в мир как таковые, неся в себе тот же смысл.
Перед нами прекрасная возможность осязательно ощутить, насколько ложно противопоставление пресловутого "конкретного" пресловутому "фигуральному" — ведь если ваза полна, то лишь постольку, поскольку первоначально, по сути своей, она пуста. И в этом же самом смысле могут быть полными или пустыми речь или дискурс.
Это близко тому, о чем я говорил однажды на конгрессе в Руа-омоне, настаивая на том, что банка горчицы по сути своей, в практической жизни, предстает именно как пустая банка горчицы. Мысль эта, которая тогда могла сойти за concetto, острое словцо, легко получает в нашей новой перспективе свое объяснение. Развивать ее можно как угодно далеко, насколько хватит фантазии. Меня ничуть не смутило бы, скажем, если бы в имени Борнибюс, ассоциирующимся с одной из наиболее знакомых и солидных марок горчицы, вы увидели одно из имен Божиих, поскольку именно Борнибюс эти банки горчицею наполняет, а тем самым "определяет" и нас.
Пример с горчицей и вазой позволяет нам сформировать представление о том, вокруг чего всегда вращалась главная, центральная для всей этики проблема Вещи — если мир сотворила разумная сила, если его сотворил Бог, то каким образом получилось так, что чего бы мы ни делали, во-первых, и от чего бы мы ни воздерживались, во-вторых, дела в мире идут так плохо?
Горшечник изготовляет вазу из глины более или менее чистой или очищенной, и вот тут то и вмешиваются религиозные проповедники, предлагая прислушаться к тому, как стонет ваза под рукой горшечника. Порой проповедник дает слово и ей самой, заставляя с жалостью и стенаниями допытываться у творца, почему тот обращается с ней так грубо или, наоборот, столь мягко. Есть, однако, одно обстоятельство, которое креационистская мифология, о которой я говорю, скрывает — в особенности грешат этим как раз авторы, что примером вазы, лежащим в основе образного воссоздания творческого акта, активно пользуются, и работают они, как я уже говорил вам, на границе религии и мифологии, что не случайно. Дело в том, что ваза изготовляется из какого-то вещества. Из ничего ничего изготовить нельзя.
На этом строится вся античная философия. Трудность для нас в осмыслении аристотелевской философии состоит в необходимости, следуя ей, постоянно иметь в виду, что материя вечна и что ничто не происходит из ничего. Именно поэтому философия эта так и не смогла расстаться с образом мира, который не позволил даже Аристотелю — а во всей истории человеческой мысли вряд ли найдется по силе ума ему равный — выйти за ограду предстоявшей его взору небесной сферы и не рассматривать мир, в том числе мир человеческих отношений, мир языка, как часть вечной природы, которая по сути своей ограничена.
Так вот, если взглянуть на вазу с точки зрения, которую я с самого начала здесь предложил, то есть если рассматривать ее как объект, созданный для того, чтобы представлять наличие в центре Реального пустоты, именуемой нами Вещью, то пустота эта, в том виде, в котором она в этом представлении предстает нам, предстает нам именно в качестве nihil, ничто. Вот почему горшечник, как и любой из вас, к кому я сейчас обращаюсь, творит вазу собственноручно вокруг этой пустоты, творит так, как делает это мифический творец — ex nihilo, отправляясь от пустого места, дыры.
Весь мир потешается над макаронами, называя их завернутой во что-то дыркой. То же можно сказать и о пушке. Но смех смехом, а факт остается фактом — налицо полная идентичность между формированием означающего, с одной стороны, и введением в Реальное зияния, дыры, с другой.
Я вспоминаю, как однажды вечером, обедая с одним из потомков тех королевских банкиров, что более века тому назад принимали у себя в Париже Генриха Гейне, я удивил его — и полагаю, что от удивления этого он не оправился до сих пор — сообщив, что в основе развития современной, созданной Галилеем, науки лежит вовсе не античная философия и аристотелевская перспектива, а библейская иудейская идеология. Со времени Галилея эффективность символического подхода непрерывно росла, заполучая в свои владения все новые области и избавляясь от всех ограничивавших ее интуитивными данными предпосылок. В результате возникла наука, законы которой увязываются друг с другом все лучше, при том, что все, происходящее в каждой конкретной точке, становится все менее мотивированным.
Другими словами, небесный свод не существует более, и присутствие хоровода небесных тел, по которому мы составляли себе о нем представление, вовсе не обязательно — действительность их, как уверяет экзистенциализм, носит характер искусственный, по сути своей произвольный.
Не нужно забывать и о том, что в предельной ситуации, в один прекрасный день, сама ткань видимости — то, что рисуется нам как сбалансированное равновесие между энергией и материей — разорвется, обнажив введенное нами в него зияние, и бесследно исчезнет.
Вводя рукотворное означающее, которое представляет собой ваза, мы как раз и создаем тем самым понятие о творении ex nihilo. А понятие о творении exnihiloкоэкстенсивно точному расположению Вещи как таковой. Именно здесь, на самом деле, и находится уже много веков — и прежде всего ближайших, тех, когда мы были сформированы сами — то место, где артикулируется и взвешивается вся моральная проблематика.
Один отмеченный радостным оптимизмом отрывок из Библии говорит нам, что когда Господь в шесть дней свое творение завершил, он посмотрел на все созданное и увидел, что оно хорошо. Именно так мог бы сказать, сделав вазу, горшечник — это сделано хорошо, на славу. Другими словами, произведением всегда можно полюбоваться.
Всем известно, однако, что может из вазы вылиться или в вазе скрываться, и ясно, что ни функционирование вещей в человеческом обществе, ни то, к чему эти. произведения человеческих рук приводят, ни малейшего оптимизма внушить не может. Вот почему именно вокруг пользы и вреда дел и кристаллизовался в обществе, по крайней мере на Западе, тот кризис сознания, кульминация которого, после веков колебания то в одну, то в другую сторону, пришлась на период, о котором я уже говорил вам однажды, приведя классическую цитату из Лютера, который долго смущал христианскую совесть своим радикальным утверждением, что ни одно дело не может быть ни при каких условиях вменено человеку в заслугу.
Я не сказал бы, что это утверждение несправедливое, еретическое — позиция эта имеет свои глубокие основания. Чтобы сориентироваться в море сект, разногласия между которыми, сознают они то или нет, лежит именно в подходе к проблеме зла, трехчас-тное деление, вытекающее из рассмотренного мною примера с вазой, послужит отлично.
Озабоченный поиском источника зла, человек оказывается перед выбором из следующих трех, потому что других просто нет.
Во-первых, произведение — такой ответ равнозначен позиции отречения, известной, помимо нашей, и многим другим традициям. Всякое произведение само по себе уже вредоносно и порождает лишь те последствия, которые заключены в нем самом, причем отрицательных оказывается по меньшей мере столько же, сколько и положительных. Позиция эта прямо сформулирована, например, в таоизме, где использование вазы в форме ложки справедливо требует специального позволения — ведь введение в мир ложки чревато целым потоком диалектических противоречий.
Во-вторых, материя. Здесь мы сталкиваемся с теориями, о которых вы, я думаю, слышали и которые связываются — неизвестно, кстати, до конца, почему — с так называемыми катарами.
О них то я сейчас немного и поговорю.
Читать вам курс о катарах я не собираюсь, но укажу, однако, на книгу, где вы легко найдете хорошую библиографию по этому вопросу — книгу, о которой вы, без сомнения, слышали, книгу не самую лучшую и не слишком глубокую, но зато занимательную — я имею в виду Любовь и Запад Дени де Ружмона.
Я полностью перечел эту книгу в новом издании и при втором чтении она уже не то чтобы совсем не понравилась мне, скорее даже понравилась. Разрабатывая собственную концепцию, автор довольно удачно соединил в ней разнообразные данные, позволяющие составить представление о глубоком кризисе, который ознаменовала собой в эволюции мышления западного человека идеология — или, скажем так, теология — катаров. Хотя автор и показывает, что корни явления, которому посвящена его книга, лежат на границах того, что принято называть "Западом", речь у него идет именно о последнем. Я впрочем, никакого значения термину Запад не придаю и делать его в наших построениях осевым было бы, на мой взгляд, ошибочно.
Как бы то ни было, в жизни Европы наступил момент, когда нашлись люди, которые задумались над вопросом о том, все ли в творении как таковом так уж ладно. Нам очень трудно сейчас точно сказать, что именно думали эти люди и что, собственно представляло собой, в наиболее глубоких своих проявлениях, то религиозное и мистическое движение, которое называем мы сегодня катарской ересью. Можно даже утверждать, что это единственный исторический случай, когда власть действовала настолько эффективно, что почти все следы произведенной расправы ей удалось уничтожить. Подвиг этот совершила римско-католическая церковь. До нас дошли лишь незначительные записи в документах, из которых очень небольшому числу можно доверять. Документы инквизиционного следствия, и те словно растворились в воздухе, и нам приходится довольствоваться лишь отрывочными косвенными свидетельствами. Один доминиканский священник сообщает, к примеру, что катары были людьми очень храбрыми, вели христианский по сути дела образ жизни и отличались исключительной чистотой нравов.
В исключительную чистоту их нравов я охотно верю, так как им приходилось тщательно остерегаться любого поступка, который способствовал бы так или иначе увековечению этого по самой сути своей дурного и презренного мира. Практика совершенствования состояла главным образом в стремлении встретить смерть в состоянии максимальной отрешенности от мира, которое было для них признаком возвращения в адамический мир чистоты и света, мир истины, созданный первым и благим Творцом, чье творение испорчено было впоследствии вмешательством дурного Творца, Демиурга, который и ввел в этот мир ужасный принцип порождения, а с ним и гниения, то есть трансформации.
Именно в аристотелевской перспективе трансформации материи в другую материю, которая порождает саму себя, стала при-сносущность материи царством зла.
Решение, как вы видите, очень простое — если и не достаточно строгое, то, во всяком случае, вполне последовательное.
Одним из редких надежных документов о движении катаров, имеющихся в нашем распоряжении — ибо об учении катаров нам толком ничего не известно — является относительно позднее, что уже внушает некоторые подозрения, сочинение, озаглавленное "Книга двух начал". Вы легко найдете его в превосходной книге Писания катаров, изданной Рене Нелли.
Зло заключается в материи. Но не только в материи, и это важный момент для понимания тех исторических изменений, которые в осмыслении этическим мышлением проблемы зла успели произойти. Зло может заключаться не только в делах, не только в презренной материи, от которой человек аскетическим усилием отвращается, в мир, который именуют мистическим и который может нам показаться мифическим, иллюзорным, при этом не переходя, — зло может заключаться в Вещи.
А заключаться в Вещи может оно потому, что Вещь — это не означающее, служащее для произведения путеводительным ориентиром, и не материя произведения; а то, что, пребывая в самой сердцевине мифа о творении, с которым вся эта проблема накрепко связана — ибо в любом случае, даже если разговоры о Творце для вас пустой звук, все равно вы мыслите зло и задаетесь вопросом о нем не иначе как в креационистских терминах, — сохраняет присутствие человеческого. Речь идет о Вещи как том, что служит, по определению своему, определением человеческому — хотя человеческое-то как раз и ускользает от нас.
То, что мы зовем "человеческим", получает здесь то же определение, которое только что дал я "Вещи" — то, что в Реальном терпит от означающего ущерб.
Обратите внимание вот на что — весь ход фрейдовской мысли подводит нас к вопросу о том, что, являясь для принципа удовольствия внутренним двигателем, лежит по ту его сторону и является, очень возможно, тем самым, что я назвал недавно предрасположенной к добру или злу волей. Конечно, вас ждут на этом пути многочисленные ловушки и соблазны — вам захочется, к примеру, спросить, является ли человек — как будто так уж просто определить, что человек такое — по природе добрым или же злым. Но речь идет не об этом, речь идет обо всем в целом. Речь идет о том факте, что человек формирует это означающее и вводит его в мир — другими словами, речь идет о попытке понять, что делает человек, формируя его по образу Вещи, если особенность Вещи и состоит как раз в том, что вообразить ее невозможно. Проблема сублимации должна ставиться именно так.
Вот почему я беру в качестве отправной точки историю Minne. Этим термином я воспользуюсь в силу особенной его характерности, а также потому, что в германском языке он употребляется совершенно недвусмысленно. Язык этот четко отличает Minne от Liebe, в то время как во французском и то и другое именуются одним и тем же словом amour, любовь.
Проблема, которую ставит перед собой наш автор состоит в том, чтобы установить возможную связь между тайной и глубокомысленной ересью, которая начала активно распространяться в Европе с начала одиннадцатого века, хотя о том, насколько она затрагивала в это время и высшие классы, мы не знаем, с одной стороны, и появлением, артикуляцией, воплощением на практике особой моральной и этической системы, особого стиля жизни, известного под названием куртуазной любви, с другой.
Я не буду преувеличивать, если скажу вам, что проанализировав все исторические, социальные, политические, экономические данные, и применив все известные методы интерпретации, современные историки единодушно разводят руками. Ничто не дает удовлетворительного объяснения успеху этого удивительного образа жизни в эпоху, поверьте мне, мягкостью нравов и изысканностью манер вовсе не отличавшуюся — скорее наоборот. Европа едва успела выйти из периода раннего феодализма, сводившегося на практике к господству на огромной географической территории чисто бандитских нравов, когда вырабатываются в ней поразительные по парадоксальности своей правила взаимоотношения мужчины и женщины.
Учитывая, что час уже поздний, я не буду теперь же вам эти правила излагать. Скажу лишь, что в следующей раз темой моей будет двусмысленный и загадочный вопрос о том, что представляет собой так называемый женский объект.
Не подумайте, что я считаю себя в этой области знатоком — я и пытаться не стану применять свои скромные средства к решению этой проблемы. Но сам факт, что у современного автора объект этот, которому подчиняются, служат, возносят хвалы, по отношению к которому ведут себя в соответствии со всеми сентиментальными стереотипами куртуазного отношения к Даме, создает, в конечном итоге, впечатление, что все, прославляющие его, имеют в виду одно и то же лицо, заставляет нас призадуматься. Автор, о котором я говорю — это г-н Андре Морен, профессор факультета изящной словесности города Лилля, которому обязаны мы к тому же замечательной антологией Minnesang'а, вышедшей в издательстве "Aubier".
Творение это является функцией объекта, к вопросу о точной роли которого мы с вами уже подошли — роли, которую играли, между тем, персонажи из плоти и крови, которые вовсю в этом деле участвовали. Мы можем поименно перечислить всех дам и лиц, которые стояли у истоков появления этого нового стиля жизни и поведения. Первые «звезды» этой социальной эпидемии известны нам не хуже, чем господин Сартр или госпожа де Бовуар сегодня. Элеонора Аквитанская не является мифическим персонажем, как не является таковым и графиня Шампанская, ее дочь.
Нам важно будет посмотреть, каким образом некоторые загадки, которые поставили в тупик историков, можно разрешить с помощью излагаемого мною здесь аналитического учения — учения, которое позволяет объяснить этот феномен как произведение сублимации в самом чистом ее виде.
Вы в деталях увидите, с помощью каких действий объекту, именуемому в данном случае Дамой, сообщается полномочие представления Вещи. Что позволит нам затем, намечая дорогу, которую нам с вами до середины февраля, когда я вас на время оставлю, предстоит пройти, посмотреть, что из этой конструкции сохранилось в качестве последствий в тех проблематичных отношениях с женским объектом, с которыми мы с вами имеем дело еще сегодня. Нам предстоит осмыслить эти отношения в формах аналитической структуры.
После февральского перерыва я постараюсь помочь вам по достоинству оценить то новое, которым мы Фрейду обязаны.
Идея творения единосущна вашей мысли. Ни вы и никто другой не может мыслить в иных терминах, нежели в терминах креационизма. То, что вы считаете наиболее близкой вам мыслительной моделью, эволюционизм, является у вас, как и всех ваших современников, формой защиты, цеплянием за религиозные идеалы, мешающие вам видеть то, что происходит в окружающем мире. Но то, что вы, как и весь мир, знаете вы то или нет, связаны понятием творения, не означает, что место Творца вы представляете себе отчетливо.
Ясно, что Бог умер. Именно об этом говорит нам от начала до конца фрейдовский миф — ведь если Бог появился на свет в силу того факта, что Отец умер, то это значит, разумеется, что смерть Бога не осталась для нас незамеченной, и вот почему Фрейд так крепко на эту тему задумывается. С другой стороны, если Бог обслуживает Отца, который с самого начала мертв, то он всегда мертв и сам. Вопрос о Творце связан, следовательно, для Фрейда с тем, что должно поддерживать существование явлений этого же порядка и по сей день.
Это и есть цель нашего исследования в этом году — способ, которым ставится перед нами вопрос относительно Вещи. Именно к этому вопросу подходит Фрейд в своей психологии влечения, так как Trieb к психологическому понятию никак не сводится — это абсолютно фундаментальное онтологическое понятие: понятие, отвечающее кризису сознания, который ничто не обязывает нас исследовать обстоятельно, поскольку мы сами переживаем его.
Но как бы мы его ни переживали, смысл того, что я пытаюсь здесь высказать как раз в том, чтобы помочь вам отдать себе в нем отчет.
27января I960 года.
X Замечания на полях
Гномический элемент. Искусство, религия, наука. По поводу понятия Spitz. Анаморфоза и архитектура. Первенство Es.
Этим утром я несколько не в ударе — критерии, которые я себе предъявляю, не позволяют мне провести семинар как обычно, тем более, что наступил момент, когда мне хотелось бы предложить вам ряд вполне строгих формулировок. Позвольте мне, в связи с этим, отложить то, что я собирался сказать, до следующего раза.
Мое двухнедельное отсутствие пришлось не ко времени, так как мне не терпится шагнуть дальше того, о чем я обещал с вами поговорить в прошлый раз, — не раньше, конечно, чем я с вами все-таки об этом поговорю.
1
Куртуазная любовь является образцовой формой сублимации, ее парадигмой. Единственным документальным подтверждением этого является для нас искусство, но и в области этики ее отголоски до сих пор чувствуются.
И если документальные свидетельства куртуазной любви доставляются нам искусством в форме безжизненной, вызывающей у нас разве что археологический интерес, то этические ее отголоски явно ощущаются в отношениях между полами и по сей день.
Столь длительные последствия явления, локализованного, казалось бы, в области проблематики эстетического характера, способны, вместе с тем, дать почувствовать значение сублимации, выдвинутой психоанализом на первый план.
Я хотел бы, будь я сейчас в лучшей форме, показать вам, как эта проблема ставится исторически, как она ставится методически, продемонстрировав, что и здесь мы, психоаналитики, способны прояснить трудности, с которыми сталкиваются историки, филологи, литературоведы и другие специалисты, бравшиеся за ее решение и откровенно признавшие, что так и не смогли точно определить, чем именно явление куртуазной любви в своем историческом появлении обусловлено.
Неудачу эту признают все и даже, я бы сказал, почти в одних и тех же выражениях. Возникает парадоксальная ситуация, где исследователи, словно сговорившись, углубляются — как это каждый раз, когда приходится иметь дело с подобного рода явлениями и случается — в изучение различных влияний, что в большинстве случаев является не более чем способом переложить проблему на чужие плечи. Истоки проблемы — утверждает каждый из них — нужно искать в чем-то лежащем в соседней области. Но тогда все равно нужно понять, как это произошло там, а это, как на грех, как раз не в их компетенции.
В данном случае ссылки на влияния никак проблему не прояснили. Мы попытаемся поникнуть в самую ее сердцевину и убедимся, что теория Фрейда способна пролить на нее некоторый свет. Поэтому для меня проблема эта интересна не только в качестве примера, но и в качестве методической пробы.
То, что я исхожу из этого очень ограниченного явления, вовсе не означает, что вся проблематика сублимации должна непременно рассматриваться в открывающейся здесь перспективе, то есть базироваться на отношениях между мужчиной и женщиной, отношениях внутри пары. Я ни в коем случае не собираюсь ни сводить ее к этим отношениям, ни даже просто ставить эти последние в ее центр. Но я полагаю зато, что именно этот пример поможет нам прийти к общей формуле, которая у Фрейда уже намечена, — нужно только знать, где ее вычитать, причем я не говорю о выискивании той или иной частности.
Если случается мне порой выделить у Фрейда ту или иную фразу, ту или иную изолированную формулу, тот или иной, так сказать, гномический элемент, то будьте уверены — я совершенно сознательно пытаюсь использовать его в своих целях. Когда вы читаете у меня формулу вроде желание человека — это желание Другого, то перед вами гномический элемент, сентенция, хотя сам Фрейд вовсе этого не имел в виду. Иногда, впрочем, хотя и не намеренно, у него это получалось. Так, например, я приводил вам однажды очень сжатую формулу, где механизмы истерии, невроза навязчивости и паранойи сближаются, соответственно, с тремя видами сублимации — искусством, религией и наукой. В другом месте, Фрейд сближает паранойю с научным дискурсом. Эти его намеки как раз и помогут нам артикулировать в общем виде формулу, которая позволит связать функцию сублимации с Вещью.
Вещь эта доступна на самых элементарных примерах — для демонстрации их достаточно, почти как в доказательствах классической философии, классной доски и мела. В прошлый раз, объясняя место, которое занимает Вещь в отношениях, где человек выступает посредником между Реальным и означающим, я воспользовался схемой вазы. Эта Вещь, все сотворенные человеком формы которой принадлежат регистру сублимации, всегда оказывается представленной с помощью пустоты, так как ничем другим представлена быть не может — или, точнее, так как она не может быть представлена иначе, как чем-то другим. Но в любой форме сублимации определяющая роль будет принадлежать пустоте.
Я укажу вам теперь три различных способа, которыми искусство, религия и научный дискурс, соответственно, с этой пустотой связаны. Не обещаю, однако, что три формулы, которые я предложу, останутся до конца нашего с вами пути без всякого изменения.
Любое искусство характеризуется тем или иным способом организации вокруг этой пустоты. Несмотря на то, что это формула очень общая, я не думаю, что для тех, кто интересуется выяснением связанных с искусством проблем, она окажется бесполезной, и надеюсь в дальнейшем найти способ ее многократно и весьма осязательно проиллюстрировать.
Религия во всех ее формах представляет собой тот или иной способ этой пустоты избежать. Мы вторим, говоря это, фрейдовскому анализу, так как именно Фрейд сумел выделить в религиозном поведении черты невроза навязчивости. Но несмотря на то, что церемониальная фаза составляющих комплекса религиозного поведения в рамки этой формулы всецело укладывается, мы не можем вполне удовлетвориться ей, — не исключено, что сказать эту пустоту уважать было бы дальновиднее. В любом случае, пустота остается в центре, что и позволяет нам говорить в этом случае о сублимации.
Что касается третьего вида дискурса, дискурса науки, то поскольку в нашей традиции он вырос из дискурса мудрости, дискурса философского, особое значение для него приобретает явление, которое Фрейд, говоря о паранойе и ее отношении к психической реальности, окрестил термином Unglauben. Как я мимоходом в одном из предыдущих моих семинаров уже отметил, Unglauben вовсе не является отрицанием феноменологии Glauben, веры. Определенных обобщений мы в дальнейшем у Фрейда на этот счет не найдем, но понятие это проходит через все его творчество, а в "Наброске" функции этой придается исключительное значение. Навязчивый интерес к феноменологии веры преследует Фрейда до конца его жизни — так, весь Моисей и монотеизм на объяснение фундаментальных явлений веры как раз и направлен.
Более глубоким и более динамически важным для нас является, однако, феномен неверия — неверия, которое является не подавлением веры, а присущим человеку способом отношения к его миру, и истине, в котором он пребывает.
Здесь опасно было бы довериться слишком общим противопоставлениям и полагать, будто в ходе истории действительно случались сенсационные повороты, вроде, скажем, перехода от эпохи теократии к так называемым "гуманистическим" формам освобождения индивида и ориентации на реальность. Представление о мире не играет здесь сколь-нибудь решающей роли. Речь не идет в данном случае о чем-то носящем черты определенного Weltanschauung, в том числе и моего собственного. Я не претендую здесь более чем на роль библиографа, способного сориентировать вас, выделив то серьезное, что благодаря людям, наделенным, каждый в своей специальности, рефлективным чутьем, можно в литературе на этот предмет найти. Я посоветую вам обратиться к работе историка, Люсьена Февра, опубликовавшего, в очень доступной серии, книгу под заглавием Проблемы неверия в шестнадцатом веке — книгу, способную показать вам, каким образом разумное использование исторических методов позволяет более нюансированно, чем это обычно делается, поставить вопрос о развитии способов осмысления проблем веры.
Тем, кто найдет время и захочет, вдобавок, провести его за занимательным чтением, я порекомендую еще одну небольшую книжку того же автора, представляющую собой дополнение, отнюдь не второстепенное, к первой, своего рода лодку, идущую в кильватере большого судна. Называется она Вокруг Гептамеро-на. Речь в ней идет о Маргарите Наваррской, которую никто из вас не путает, я надеюсь, с королевой Марго. Известная как автор весьма вольных рассказов, она написала также мистический трактат, что, впрочем, у историка удивления вызывать не должно.
Февр пытается показать нам, что именно, в контексте того времени и в психологическом контексте самого автора, появление сборника под этим заглавием могло означать. И это позволяет нам прочесть Гептамерон не то чтобы более умудренно, но хотя бы не подвергая текст невольной цензуре, не опуская завершающие каждое повествование рассуждения персонажей — рассуждения, которые подаются как правильные и на самом деле, по большей части, являются таковыми в действительности. Обычно мысли собеседников, лежащие в русле моральной, а то и строго религиозной рефлексии, читателем опускаются, так как тот с самого начала почитает их не более, чем приправой. Но заблуждаться на этот счет не стоит — приправа-то и является в любом блюде главным. Люсь-ен Февр учит нас, как надо Гептамерон читать — если бы мы это знали, в книжке его мы, честно говоря, не нуждались бы.
Что касается неверия, то в нашей перспективе оно предстает как дискурсивная позиция, точно заданная своим отношением к Вещи — Вещь в ней отбрасывается, в буквальном смысле слова Verwerfung.
Если в искусстве имеет место Verdrдngung, вытеснение Вещи, а в религии, скорее всего, Verschiebung, то в дискурсе науки мы имеем дело с самым настоящим Verwerfung. Дискурс науки отвергает присутствие слова, поскольку, в перспективе, ему рисуется идеал абсолютного знания, то есть чего-то такого, что полагает Вещь, никак при этом с ней не считаясь. Всем известно, что перспектива эта оказалась в конечном счете в ходе истории несостоятельной.
Весь дискурс науки именно этим Verwerfung и предначертан. Вот почему, в полном согласии с моей формулой — отторгнутое от Символического появляется в Реальном — он пришел к перспективе, где вырисовывается в конечном итоге нечто не менее таинственное, чем Вещь — так называемая физика.
Разговор о парадигме куртуазной любви, этом примере сублимации в искусстве, последствия которой еще живы в нашей культуре, я отложу до следующего раза. Мы продолжим его, когда я вернусь после недолгого своего отсутствия. Мы возьмем тогда образцы оставленных ей следов, являющихся, бесспорно остатками определяющей для явления куртуазной любви первоначальной означающей конструкции, и попытаемся найти в фактах сегодняшней действительности нечто такое, что иначе, как через происхождение от нее, объяснить нельзя.
Поскольку моя задача сегодня — лишь дать небольшие комментарии на полях, замечу, мимоходом, что вы были бы неправы, не обратив внимание на то, что понятие Вещи, которое преподношу я вам в этом году как нечто новое, не присутствовало имплицитно в том, о чем мы уже говорили раньше.
И поскольку некоторые из вас время от времени интересуются особенностями того, что называют "моим стилем", я должен напомнить вам, например, о выражении ФрейдоваВещъ, которым я одну из написанных мною вещей озаглавил — к ней, кстати, не худо было бы вам теперь обратиться. Этот текст, и его заглавие, вызвали немалое удивление, ибо, как правило, комментируя с философской точки зрения мои намерения, их укладывают в русло модного в свое время занятия — борьбы с так называемым овеществлением. Сам я, конечно, ни о чем подобном не говорил. Но намерения дискурсу задним числом приписать несложно. Ясно, что выбрав это заглавие, я сделал это намеренно. Если вы потрудитесь этот текст прочитать, то обнаружите, что говорю я, по сути дела, не о чем ином, как о Вещи. И то, как я говорю о ней, как раз и послужило причиной смущения, которое этот текст сумел вызвать, — ведь именно Вещи я в нем время от времени даю слово.
Я хотел бы, однако, чтобы для тех, кто приезжает сюда более или менее издалека, встреча эта не прошла совсем даром.
Я полагаю, что на этом этапе нашего семинара у иных из вас могли накопиться для меня вопросы, возникнуть ответы, или появиться желание рассказать вслух о том, что те или иные мои положения для них значат.
Я прекрасно знаю, как неловко бывает прерывать молчание аудитории звоном колокольчика и брать слово, и потому предлагаю вам присылать мне вопросы в письменной форме. Для меня это неудобств не составит, так как я остаюсь свободен отвечать на них, как я того пожелаю.
Заодно мы коснемся еще одной, неожиданной для вас темы. Некоторые из вас присутствовали вчера на научном заседании нашего Общества, а я не знаю, чем оно кончилось, так как подробно ответив докладчикам, к которым я испытываю огромное уважение, и засвидетельствовав огромный интерес к их работе, я вынужден был покинуть собрание. Сегодня они находятся здесь, и хотел бы попросить у Смирнова некоторых объяснений по поводу NoandYesШпитца.
Почему вы не нашли, чем nayesвозразить?
[Ответ г-на Смирнова.]
Для тех, кто этого текста не знает, скажу, что речь идет о книге, входящей в серию работ, основанных на непосредственных наблюдениях за новорожденными детьми, точнее, за детьми в период до появления у них артикулированной речи. Шпитц полагает, что ему удалось обнаружить у детей в этот период patternдля нет как семантической формы. Проявляется он, по его мнению, в виде определенного числа жестов, и прежде всего в так называемом rooting- покачивании головкой при приближении груди. Слово это трудно поддается переводу, но в тексте ему соответствует еще одно, snot, мордочка, из которого ясно, о чем идет речь.
Жест этот рассматривается во всей полноте своих возможных значений. Смирнов вчера взялся показать нам, что Шпитц должен был включить в их число и функции, возникающие в связи с фрустрацией, сопровождающей у детей нет, на которое наталкиваются они со стороны взрослого. Но жест этот первоначально далек от своего финального значения, так как прежде всего — я не говорю о прочих случаях, когда жест покачивания головой возникает — это, вообще говоря, жест, сопровождающий ожидание удовлетворения, его приближение.
Я далек от того, чтобы относиться к Шпитцу сурово, напротив, я встаю на его защиту — я не утверждаю, что он прав, но то, что он говорит, сказано выразительно и исполнено значения. Мой упрек вам состоит в том, что вы не оценили по достоинству его попытку рассмотреть это явление по аналогии с тем, что происходит в случаях травматического невроза — это последнее воспоминание, говорит он, перед возникновением реакции на катастрофу.
Я поставил вас в затруднительное положение, попросив напомнить о других работах Шпитца, о его фантастической PrimalCavityв частности, или, по меньшей мере, о том, что написано им об экране сновидения.
Шпитц не формулирует как общее правило свое наблюдение, согласно которому способ реакции, берущий начало на более ранней стадии, может в критической ситуации быть использован и в дальнейшем. Мне эта идея представляется очень плодотворной и широко применимой. Я полагаю, что вы как раз и обратили на это внимание, хотя может быть это был и Лапланш.
Шпитц вынужден прибегнуть для объяснения к механизму пассивному, каковым является травматический невроз. Он имплицитно предполагает, следовательно, наличие в прошлом некой фрустрации в процессе кормления. Он рассматривает rootingкак след, оставшийся вписанным в поведение после чего-то такого, что было, как он вынужден предположить, отказом в кормлении или отнятием от груди, ибо именно им этот жест предшествует. Удивительно, однако, что он артикулирует это как изолированный, выведенный на основе частного случая факт, а не как общее правило.
[Выступление гг. Смирнова и Лапланша; вопрос г-на Одуара: Почему Вы говорите нам о das Ding, вместо того, чтобы говорить просто-напросто об опосредовании?]
Отвечу вам сразу и коротко. Я знаю, что вам всегда слышалось в моих речах выражение того, что можно назвать гегельянской интерпретацией аналитического опыта. Мы подходим в данном случае к фрейдовскому опыту с этической стороны. Этика представляет собой существенное для этого опыта измерение, так как он направляет нас к действиям, которые, имея характер терапевтический, включены, хотим мы того или нет, в регистр этики и должны быть осмыслены в этических терминах. И чем меньше мы этого хотим, тем в большей степени это так и есть. В этом убеждаемся мы на опыте — та самая форма анализа, что кичится печатью особой научности, как раз приводит в конечном итоге к нормативным представлениям, по поводу которых мне всегда приходит на ум проклятие, обращенное в Евангелии от Матфея в адрес тех, кто возлагает на чужие плечи бремена тяжкие и неудобо-носимые. Усиление нормативных категорий по отношению к аффектам ведет к вызывающим тревогу последствиям.
Ясно, что акцент ставится нами на то, что является в стремлениях неустранимым, на то, что предстает, на горизонте опосредования, в виде чего-то такого, что пресловутому овеществлению не удается в себя включить. Но описывая вокруг этого нечто круги, сжимая вокруг него кольцо, мы сжимаем его вокруг этого пустого образа.
Сознательное намерение особо это понятие подчеркнуть заметно буквально во всем, что приходилось мне до сих пор говорить. Обратившись к моим текстам, которые этот предмет затрагивают, вы убедитесь, что ни малейшей двусмысленности там нет. Они не дают оснований вменить мне тот гегелевский радикализм, что приписал мне недавно неосторожно автор статьи в "7дм модерн". Вся диалектика желания, которую я, начиная как раз с того времени, как эта необдуманная фраза была написана, на ваших глазах развивал, идет с этим радикализмом вразрез. И в нынешнем году это стало еще яснее. В эффекте сублимации эта черта неизбежности выступает, как мне кажется, особенно ярко.
Г-н X: — Сублимация, согласно предложенной вами формуле, состоит в том, чтобы возвести объект в достоинство Вещи. Вещи этой в начале нет, ибо сублимация должна нас к ней привести. Я хочу спросить, не является ли эта Вещь не совсем вещью, а, напротив, некоей He-Вещью, которая лишь впоследствии, благодаря сублимации, начинает рассматриваться нами как Вещь (…).
Все сказанное Вами свидетельствует о том, что ориентируетесь Вы в материале неплохо и внимательно следите за ходом моих мыслей. Нам, аналитикам, нечто дано — дано при условии, что мы учитываем всю совокупность нашего опыта и умеем правильно его оценить. Усилие сублимации, говорите Вы, стремится, в конечном счете, реализовать Вещь, либо спасти ее. Это и верно, и в то же время неверно. Здесь налицо некая иллюзия.
Ни наука, ни религия не в состоянии, по природе своей, спасти Вещь или нам ее дать, так как заколдованный круг, отделяющий нас от нее, начертан нашим отношением к означающему. Как я уже сказал вам, Вещь представляет собой то, что, в Реальном, терпит ущерб в силу фундаментальных по своему характеру отношений, которые с самого начала увлекают человека на пути означающего, в силу самого факта порабощенности человека тому, что именует Фрейд принципом удовольствия и что, как вы, надеюсь, ясно себе представляете, как раз господство означающего и есть — я имею в виду подлинный принцип удовольствия, в том смысле, в котором работает он у Фрейда.
Мы имеем дело, одним словом, с тем, как сказывается означающее на психическом Реальном, и именно по этой причине предприятие, именуемое сублимацией, не является во всех своих формах бессмысленным — ответ дается с помощью того, что уже задействовано.
Я хотел принести сегодня с собой, чтобы показать его вам в конце семинара, объект, для понимания которого — именно понимания, а не описания — требуется длинный историко-искусст-воведческий комментарий. Чтобы подобный объект сконструировать и получить от него удовольствие, необходимо совершить несколько обходных маневров.
Я вам его сейчас опишу. Это объект, именуемый анаморфозой. Я думаю, многие из вас знают, что это такое — это своего рода конструкция, созданная таким образом, что в результате оптического смещения некая форма, недоступная поначалу для восприятия как таковая, складывается в легко прочитываемый образ. Удовольствие состоит в наблюдении над тем, как образ неожиданно появляется из ничего поначалу не говорящей формы.
В истории искусства анаморфоза встречается очень часто. Достаточно пойти в Лувр, и вы увидите там полотно Гольбейна Посланники. У ног одного из них, выписанных очень реалистично, вы увидите на полу загадочную продолговатую форму, немного напоминающую лежащую на тарелке глазунью. Однако встав к картине под определенным углом — таким, что в результате схождения перспективы трехмерность изображения на картине исчезнет — вы увидите, как появится перед вами череп, эмблема классической темы Vanitas. И все это на великолепной картине, заказанной императорскими посланниками в Англии, которые остались, судя по всему, работой довольны и немало порадовались использованному в ней трюку.
Явление это исторически локализовано Именно в шестнадцатом и семнадцатом веках к нему стали испытывать острый, даже завораживающий, интерес. Так, в одной построенной во времена Декарта иезуитской часовне была стена длиной восемнадцать метров, на которой сцены Рождества Христова и житий святых были написаны таким образом, что ни с какой точки самого зала разобрать, что на ней изображено, невозможно, и только при входе в зал из определенного коридора хаос линий складывался на мгновение таким образом, что сюжет росписи становился ясен.
Анаморфоза, которую я собирался с собой принести, имеет куда меньшие масштабы. Принадлежит она коллекционеру, о котором мне здесь уже случалось упоминать. Речь идет о полированном цилиндре, выполняющем функцию зеркала, возле которого вы помещаете некое подобие детского нагрудника — плоскую поверхность с нанесенной на нее неразберихой линий. Посмотрев на нее под определенным углом, вы увидите, как появится в цилиндрическом зеркале искомый образ — очень красивая анаморфоза рубенсовского распятия.
Объект этот не был бы создан, не приобрел бы нужного смысла, без предшествовавшей ему длительной эволюции. За ним стоит вся история архитектуры, история живописи, их сочетания, полученных в результате их сочетания эффектов.
Коротко говоря, первоначальную архитектуру можно определить как нечто организованное вокруг пустоты. Именно это впечатление производят на нас также формы, скажем, собора Святого Марка, и именно в этом заключается подлинный смысл всякой архитектуры. Позже, по чисто экономическим соображениям, люди стали довольствоваться образами такой архитектуры, архитектуру научились изображать на стенах архитектурных построек — и живопись тоже поначалу представляла собой нечто такое, что организуется вокруг пустоты. Поскольку задача состояла в том, чтобы средствами этой организации, в живописи менее ярко выраженной, воспроизвести сакральную пустоту архитектуры, живопись пыталась добиться как можно большего с нею сходства — откуда и открытие перспективы.
Следующая стадия дает парадоксальный и довольно забавный урок того, как легко можно запутаться в собственных сетях.
С момента открытия перспективы в живописи, появляется архитектура, подчиненная живописной перспективе. Это ощутимо, например, в искусстве Палладио — посетите театр Палладио в Вичен-це, этот маленький шедевр в своем роде, одновременно типичный и поучительный. Неоклассическая архитектура подчиняется законам перспективы, обыгрывает их, делает их для себя правилом, то есть помещает их внутри чего-то такого, что было сделано в живописи для воспроизведения пустоты первоначальной архитектуры.
Начиная с этого момента затягивается узел, который со смыслом пустоты оказывается все меньше и меньше связан. И я полагаю, что возвращение искусства барокко к играм с формой и всевозможным, вроде анаморфозы, трюкам как раз и представляет собой попытку восстановить подлинный смысл художественного поиска. Художники барокко пользуются открытием свойств линий для того, чтобы добиться возникновения чего-то такого, чье местонахождение сбивало бы зрителя с толку, ибо место его, строго говоря, нигде.
Картина Рубенса, возникающая на месте непонятного дотоле изображения служит прекрасной иллюстрацией того, о чем идет речь — речь идет о том, чтобы аналогическим, анаморфическим способом напомнить зрителю, что искомое нами в иллюзии является чем-то таким, в чем иллюзия, в каком то смысле, выходит за собственные пределы, разрушает себя, показывая тем самым, что налицо она лишь в качестве значимой, означающей.
Это как раз и возвращает ее бесспорное первенство области языка — области, где мы во всех случаях имеем дело исключительно с означающим. И именно это возвращает поэзии первенство среди искусств. Вот почему, говоря о проблемах соотношения искусства и сублимации, я буду исходить из куртуазной любви, то есть из текстов, которые особенно показательно демонстрируют ее, любви, условную сторону — в том смысле, что во все интуитивное, субстанциональное и переживаемое язык всегда привносит нечто искусственное.
Феномен куртуазной любви тем более поразителен, что появляется она в эпоху, когда трахаться люди умели со вкусом — я хочу сказать, что они не делали из этого секрета и на пустые слова времени не теряли.
Именно сосуществование двух форм отношения к данному предмету и поражает более всего.
Вы упоминаете Вещь и He-Вещь. Конечно, Вещь, если хотите, это, в то же самое время, и He-Вещь. Дело в том, на самом деле, что не здесь значимым образом обособить нельзя. Перед нами в данном случае та же трудность, с которой сталкиваемся мы в связи с фрейдовским понятием Todestrieb — ведь сам же Фрейд, который его вводит, уверяет нас, между тем, что отрицания в бессознательном нет.
Мы не возводим на этом никакой философской конструкции. Я отсылаю вас вновь к понятию, которое, чтобы не создавалось впечатления, будто я уклоняюсь от своих обязанностей, в прошлый раз несколько приземлил, сказав, что говоря о Вещи, говорю о вещи вполне конкретной. Но говорю я о ней, конечно же, операциональным образом, имея в виду место, которое принадлежит ей на определенном логическом этапе нашей мысли и ее концептуального оформления, имея в виду ее функцию в том, с чем мы в данном случае имеем дело.
Прошлым вечером я упоминал и критиковал подмену всей классической фрейдовской топологии одним-единственным термином ego- подмену, особенно достойную сожаления когда она допускается человеком, сумевшим проникнуться аналитической мыслью так глубоко, как Шпитц.
Ведь трудно же, в самом деле, признать за egoглавную функцию, из которой исходил аналитический опыт — которая была для него элементом шока, на также ее эхом или кортежем. Не будем забывать, что немедленным ответом Фрейда на это понятие явилось изобретение термина das Es. Это первенство Es в наши дни оказалось совершенно забыто.
В каком-то смысле, способ, которым это Es представлено в текстах второй топики, недостаточно его акцентирует. Именно для того, чтобы о первичном, изначальном характере этой интуиции в нашем опыте вам напомнить, и назвал я в этом году, говоря об этике, определенную референтную зону именем Вещь.
Г-н Лапланш: — Я хотел бы спросить, как соотносится принцип удовольствия с игрой означающих.
Связь между ними покоится на том, что принцип удовольствия заявляет о себе в основном в плане нагрузки, Besetzung, в ее Bahnungen, и облегчается посредством Vorstellungen и, в еще большей степени, через так называемые Vorstellungsreprдsentanzen — термин, который появляется у Фрейда очень рано, еще до статьи Бессознательное. Каждый раз, когда заявляет о себе потребность, принцип удовольствия стремится спровоцировать перезагрузку в собственный фонд — в кавычках, конечно, так как на этом, мета-психологическом, уровне, о клинике речи нет — галлюцинаторную перезагрузку того, что уже приносило галлюцинаторное удовлетворение прежде.
Именно в этом блуждающий нерв принципа удовольствия и состоит. Принцип удовольствия стремится к перезагрузке представления. Вмешательство принципа реальности должно, следовательно, носить радикальный характер — оно никогда не является лишь вторым этапом. Конечно, любая адаптация к реальности происходит не иначе, как путем пробы, подборки, в процессе которых субъекту приходится едва ли не кончиком языка убеждаться, что он не грезит.
В том новом, что фрейдовская мысль принесла, эта составляющая является абсолютно необходимой, что, кстати говоря, никогда никем всерьез не оспаривалось. Перед нами картина парадоксальная и провокационная. Никто до Фрейда не осмеливался представить функционирование психического аппарата подобным образом. Фрейд описывает его, исходя из собственных наблюдений за появлением того неизбежного, что в глубине истерических подстановок кроется: первое, что мучимый потребностью и лишенный возможностью ее удовлетворить человек делает — это начинает ее удовлетворение галлюцинировать, после чего ему остается лишь эту галлюцинацию проверять. К счастью, он делает примерно в то же самое время те нужные жесты, что позволяют ему уцепиться за зону, где галлюцинация эта совпадает в приблизительных границах с чем-то реальным.
Вот оно, то убожество, от которого отправляется в своих положениях, если верить фрейдовским фундаментальным работам, вся диалектика психоаналитического опыта. Именно это имел я в виду, говоря о соотношении принципа удовольствия с означающим.
Ибо с самого начала и впредь Vorstellungen носят на себе черты означающей структуры.
3 февраля I960 года.
XI Куртуазная любовь в качестве анаморфозы
Об истории и целях искусства. Сублимация Отца. По поводу Бернфельда. Вакуоль и нечеловеческий партнер. Обходные маневры.
Почему анаморфоза эта лежит сейчас на моем столе? Она здесь для того, чтобы проиллюстрировать мою мысль.
В прошлый раз я уже сказал вам несколько слов о смысле, или целях, искусства — искусства в обычном значении этого слова, то есть в значении Изящных Искусств. Я не единственный из психоаналитиков, кто проявляет интерес к этой теме. Так, я ссылался уже на статью Эллы Шарп о сублимации, написанной на материале росписи альтамирской пещеры — первой открытой археологами пещеры, где сохранились первобытные росписи. Может быть, то, что предстает в нашем описании, как центральное место, интимная посторонность, экстимность, Вещь, одним словом, как раз и прольет свет на то, что остается покуда для интересующихся искусством доисторического периода загадкой, тайной — само то место, в котором оно возникло.
Удивление вызывает тот факт, что для изображений была выбрана подземная пещера. Ведь подобное расположение не обеспечивает видимости, достаточной для создания и созерцания этих поражающих воображение настенных росписей. В условиях освещения, которыми могли, по нашим понятиям, располагать древние, работа над ними, как и их рассматривание, были, надо полагать, делом не легким. И все же именно на стенах пещеры располагались с самого начала изображения, являющиеся, насколько мы знаем, первыми произведениями первобытного искусства.
Изображения эти можно назвать испытаниями — испытаниями в обоих смыслах этого слова, субъективном и объективном. Испытанием, безусловно, для самого художника, так как изображения эти, как вы знаете, накладываются зачастую одно на другое, как если бы в этом священном месте предоставлялась каждому, кто на это способен, возможность вновь начертать, спроецировать вовне то, что хотел он выразить, и притом сделать это поверх того, что было изображено прежде. Но испытанием, в то же время, и в объективном смысле, ибо изображения эти поневоле производят на нас впечатление теснейшей связи как с окружающим миром, с тем, чем жило это состоявшее преимущественно из охотников сообщество, так и с чем-то таким, что предстает в их жизни как отмеченное чертами потустороннего и священного и представляет собой то самое, что как раз и пытаемся мы зафиксировать в самой общей форме в понятии Вещи. То, чем живет первобытное сообщество, предстает здесь, так сказать, под углом зрения Вещи.
Здесь начинается та линия, на другом конце которой, куда ближе к нам, где-то в начале семнадцатого века, наверное, как раз и лежит упражнение, именуемое анаморфозой. Я уже говорил вам, какой интерес проявляла к этим упражнениям конструктивная мысль художников той эпохи. И вот теперь я попытался кратко объяснить вам, где можно искать его корни.
Вслед упражнениям в живописи на стенах пещер, стремящимся зафиксировать невидимого их обитателя, выстраивается на наших глазах цепочка, идущая от храма, организованного вокруг пустоты, которая обозначает собой место Вещи, к изображению пустоты на самих стенах, эту пустоту окружающих, — выстраивается по мере того, как живопись учится постепенно ее, эту пустоту, осваивать и подходит к ней, в конечном счете, настолько близко, что это позволяет ей посвятить себя задаче фиксирования пустоты в форме пространственной иллюзии. Всю историю живописи можно представить себе как постепенное освоение иллюзии пространства.
Я очень краток, и мне хотелось бы, чтобы вы сами потом, читая специальную литературу, убедились в справедливости тех отрывочных сведений, что я успеваю дать.
Перед тем, как сформулированные в конце пятнадцатого и начале шестнадцатого века геометрические законы перспективы начали в живописи применяться систематически, эта последняя пережила этап, на котором применяла для конструирования пространства специальные устройства. Так, двойная лента, изображение которой можно было видеть на стенах церкви Санта-Мария Маджоре в шестом и седьмом столетиях, представляет собой способ обращаться с определенными пространственными построениями. Но оставим это — для нас важно покуда, что в итоге живопись приходит к иллюзии. Во всем этом остается один болезненный, чувствительный, ущербный пункт, который оказался для всей истории искусства, и для нас, поскольку мы с вами в эту историю так или иначе вовлечены, поворотным — дело в том, что иллюзия пространства и сотворение пустоты представляют собой совершенно разные вещи. Об этом как раз и говорит нам появление в конце шестнадцатого — начале семнадцатого века анаморфозы.
Я рассказывал вам в прошлый раз о монастыре иезуитов — это, конечно, моя оплошность, Заглянув в превосходную книгу Балтрушайтиса об анаморфозах, я обнаружил, что речь идет о монастырях минимов, имеющихся в Париже и Риме. Вдобавок, не знаю, почему, я спроецировал в Лувр Посланников Гольбейна, хранящихся в Национальной Галерее. Вы найдете у Балтрушайтиса очень тонкий анализ этой картины и, в том числе, изображения черепа, который становится видимым, когда вы, минуя картину, выходите через дверь, специально сделанную для того, чтобы вы, оглянувшись в последний раз, увидели полотно в его подлинном, зловещем свете.
Итак, повторяю, интерес к анаморфозе ознаменовал собой тот поворотный пункт, когда художник начинает использовать пространственную иллюзию совершенно противоположным образом и пытается поставить ее на службу первоначальной цели, то есть утвердить на ней реальность уже как реальность скрытую, ибо произведение искусства всегда призвано, так или иначе, заключить в свой круг Вещь.
Это позволяет нам немного ближе подойти к неразрешенному вопросу о целях искусства — состоит ли она, цель эта, в подражании, или в отсутствии подражания? Подражает ли искусство тому, что оно представляет? Поставив вопрос таким образом, мы заведомо оказываемся в ловушке и способа выйти из этого воплощенного в альтернативе между искусством фигуративным и искусством абстрактным тупика у нас нет.
Мы не можем не чувствовать заблуждения, сквозящего в жесткой позиции, которую заняла философия — так, Платон низводит искусство на самую нижнюю ступень в ряду видов человеческой деятельности, поскольку все существующее существует для него лишь в отношении своем к идее, которая как раз реальна. То, что не существует, является лишь подражанием тому, что более-чем-реально, сверхреально. Подражая, искусство остается лишь тенью тени, подражанием подражанию. Такова тщета произведения искусства, работы кисти.
В ловушку эту попадаться не надо. Произведения искусства подражают, конечно же, объектам, которые они представляют, но цель их состоит на самом деле вовсе не в том, чтобы представлять их. Предлагая взору подражание объекту, они делают из этого объекта нечто иное. Другими словами, они лишь притворяются подражающими. Объект поставляется ими в определенное отношение к Вещи — отношение, которое призвано очерчивать эту вещь как можно теснее, предъявляя одновременно как наличие ее, так и ее отсутствие.
Это известно всем. В момент, когда живопись в очередной раз оборачивается сама на себя, в момент, когда Сезанн начинает писать свои яблоки, ясно становится, что когда он эти яблоки пишет, он вовсе не подражает им, а делает нечто совсем другое — и это при том, что его последняя, наиболее впечатляющая, манера им подражать, ориентирована на предъявление объекта как раз в наибольшей степени. Но чем ярче объект подражанием ему предъявлен, тем явственнее открывает он нам то измерение, где иллюзия рушится, тем явственнее имеет он в виду что-то другое. Каждому известно, что за способом, которым Сезанн пишет яблоки, стоит некая тайна, ибо отношение к Реальному, которое подобным искусством возобновляется, являет объект в новом свете и восстанавливает его достоинство, благодаря чему и вписываются эти инкрустации Воображаемого в историю искусства, неотделимы будучи, как уже было отмечено, от усилий, которые более ранние художники прилагали, со своей стороны, чтобы цель искусства осуществить.
Использовать понятие историчности можно, разумеется, лишь с крайней осторожностью. Так называемая история искусства полна лукавства. Обычный для каждого произведения искусства способ действия состоит в том, что создание иллюзии оборачивается им в свою противоположность и возвращается к первоначальной цели — спроецировать реальность, которая не является реальностью представленного объекта. История же искусства, напротив, в силу самой необходимости, лежащей в ее основе, имеет дело лишь с субструктурой. Отношения художника со своим временем всегда противоречивы. Пытаясь заново совершить свое чудо, искусство всегда идет против течения, наперекор господствующим нормам и расхожим мыслительным схемам.
В случае нашей анаморфозы мы имеем дело с забавой, которая может показаться несерьезной, учитывая утонченность средств, используемых, чтобы этого скромного технического успеха достичь. Но как не взволноваться, не растрогаться при виде этой вещицы, где образ обретает восходящую и нисходящую форму? При виде этого подобия шприца, который представляется мне, когда я даю волю своей фантазии, прибором для взятия крови, крови из чаши Грааля — особенно, если вспомнить, что крови-то в чаше Грааля как раз и нет?
Те мысли, что на этот счет я успел здесь развить, я прошу вас покуда воспринимать чисто метафорически. Я сделал это лишь постольку, поскольку хочу поговорить с вами о конкретной, возникшей в определенный момент истории поэзии, форме сублимации — форме, особо интересующей нас в связи с тем, что мысль Фрейда вновь поставила в центр наших интересов при изучении психической икономии, с Эросом и эротизмом.
Для начала я ограничусь лишь указанием вот на что — вокруг этой анаморфозы можно выстроить едва ли не все, о чем я в связи с этикой психоанализа могу сказать и что покоится целиком на запретной отсылке, с которой столкнулся Фрейд в конечной точке того, что можно назвать у него эдиповым мифом.
Поразительно, что изучение клинической картины невротика побудило Фрейда перешагнуть к рассмотрению поэтического творения, драмы Эдипа — творения, связанного в истории культуры с совершенно определенной эпохой. Когда мы будем говорить о Моисее и монотеизме и подойдем к рассмотрению Недовольства культурой, который я вас просил за время перерыва в наших собраниях прочитать, вы сами увидите, что между Фрейдом и данными иудео-греческого опыта, то есть теми, которые характеризуют, вплоть до самых последних ее проявлений, нашу собственную культуру, никакой дистанции нет.
Не менее поразительно и то, что Фрейд не преминул распространить свои размышления о происхождении морали на действия Моисея. Читая Моисея и монотеизм, эту поистине удивительную книгу, мы видим, что Фрейд поневоле обнаруживает двойственность того главного, к чему, как я в течение всех этих лет старался вам показать, он нас отсылает, двойственность Имени-Отца в роли означающего.
Формально, в качестве сублимации выступает у него структурирующее обращение к отцовскому могуществу. В том же тексте, где первичная травма умерщвления отца описывается у него, как нечто, лежащее на горизонте, он, не смущаясь явным противоречием, утверждает, что сублимация эта возникает в совершенно определенный исторический момент, возникает на фоне того осязаемого, очевидного факта, что рождение дает мать. В том, что упор делается с этого момента на функцию отца, то есть того, относительно которого уверенности никогда нет, Фрейд видит несомненный духовный прогресс. Признание функции отца предполагает сложную умственную работу. Введение функции отца в качестве первичной представляет собой не что иное, как сублимацию. Но каким образом, спрашивает Фрейд, можем мы этот скачок, этот прогресс представить себе, если для осуществления его требуется проявление чего-то такого, что могло бы авторитет отца и реальность его утвердить извне?
Уже сам Фрейд обращает наше внимание на тупик, в который нас заводит тот факт, что хотя сублимация и налицо, мотивировать ее исторически может лишь миф, к которому наличие ее восходит. С этого момента функция мифа становится совершенно очевидной. Миф этот, на самом деле, говорит о том самом, что является наиболее осязаемой духовной реальностью нашего времени — о смерти Бога. Именно в качестве смерти Бога умерщвление отца, которое непосредственным образом эту смерть воплощает, предложено Фрейдом в качестве современного мифа.
Миф этот обладает всеми свойствами мифа — другими словами, он, подобно всем прочим мифам, ничего нам не объясняет. Как я, опираясь на Леви-Стросса, а главным образом на то самое, что у истоков его формулировок лежало, уже объяснил вам, миф всегда представляет собой означающее построение, набросок, если хотите, предназначенный лечь в основу заключенных в определенных психических отношениях антиномий. Причем функционирует он не на уровне, где речь идет о смягчении индивидуальной тревоги или где дело исчерпывается тем или иным предполагающим человеческую общность построением, а на уровне всей этой общности в полном ее объеме.
Предполагается, что речь идет как об индивиде, так и об общности, но на уровне, с которым мы имеем здесь дело, противоположности между ними нет. Ибо речь идет о субъекте, поскольку этот последний должен от означающего пострадать. В этом страдании, происходящем от означающего, и заявляет о себе тот критический пункт, по отношению к которому тревога выступает лишь как побочный, играющий при случае роль сигнала аффект.
Фрейд обогатил вопрос об истоках морали дополнительным смыслом, заговорив о том, что сам он назвал недовольством в культуре, о расстройстве, другими словами, которое заключается в том, что определенная психическая функция, именуемая сверх-Я, срывается с тормозов, обеспечивавших правильное ее действие, и приводит, таким образом, к обострению, которое в ней самой же и заключается. Остается лишь, изнутри этого расстройства, понять, каким образом живущие внутри психической жизни тенденции могут быть правильным образом сублимированы.
Но прежде еще нужно ответить на вопрос, в чем эта возможность, именуемая сублимацией, состоит. Я не успею в отпущенное мне время ознакомить вас с безумными трудностями, на которые наталкивались каждый раз авторы, пытавшиеся придать термину сублимация какой-то смысл. Я хотел бы, однако, чтобы кто-нибудь из вас сходил в Национальную библиотеку и познакомился с напечатанной в восьмом томе "Imago" статьей Бернфель-да, чтобы нам затем о содержании этой статьи рассказать. Берн-фельд является особенно последовательным выразителем взглядов второго поколения аналитиков, и сами слабости выработанных им в отношении сублимации формулировок способны многое для нас прояснить. Прежде всего, в самих ссылках Фрейда на операцию сублимации его явно смущает их этическая, культурная, социальная окрашенность. Наличие внешнего по отношению к психике оценочного критерия смущает его и заслуживает в его глазах критической оценки ввиду вне-психологического своего характера. В дальнейшем мы увидим, однако, что характер этот не доставляет так много трудностей, как это поначалу кажется.
С одной стороны, само противоречие между целеотклоняющим аспектом, Zielablenkung, влечения, Trieb, стремления, Strebung, и тем фактом, что происходит это в области объектного либидо, ставит и перед Бернфельдом, в свою очередь, массу проблем, разрешаемых им с крайней неловкостью, которой, кстати говоря, отмечено все, что было до сих пор о сублимации в психоанализе высказано.
Согласно мнению Бернфельда — речь идет о позиции, сформулированной где-то в 1923–1924 году — сублимация определяется той составляющей стремления, которая может быть использована в целях Я, Ichziele. В подтверждение он приводит примеры, наивность которых бросается в глаза. Так, он рассказывает о ребенке по имени Роберт Вальтер, который, как и многие дети, предавался в незрелом возрасте поэтическим упражнениям. И что Бернфельд на этот счет говорит? Он говорит, что стать поэтом составляло у этого ребенка его Ichziel. В связи с этим, очень рано сделанным выбором, оценивается им и все остальное, то есть тот способ, которым, с момента достижения им зрелости, в эту Ichziel окажется постепенно интегрирован происшедший в его либидиналь-ной икономии неясный, но клинически вполне ощутимый переворот. В частности, его детское поэтическое творчество, с одной стороны, и его фантазмы, с другой, поначалу между собой никак не связанные, постепенно координируются друг с другом все больше.
Бернфельд, таким образом, предполагает, что цель, которую этот ребенок перед собою поставил — стать поэтом — носила у него характер изначальный, первичный. Аргументацию такого же рода находим мы и в других приводимых им не менее поучительных примерах. Некоторые из них касаются функции Verneinungen, спонтанно возникающих в отношениях между группами детей — особенное внимание уделяется этому вопросу в публикации, посвященной проблемам молодежи, за выпуск которой он тогда отвечал.
Важно, однако, другое — и это, кстати говоря, можно найти у всех, кто этим предметом интересовался, включая самого Фрейда. Фрейд отмечает, что художник, проделав определенную работу в плане сублимации, получает от этой работы выгоду, которая проявляется в признании, приносящем художнику в виде славы, почестей, денег то фантазматическое удовлетворение, которое и лежало у истоков стремления, достигающего, таким образом, путем сублимации своей цели.
Все это хорошо, при том условии, однако, что наличие такой функции, как поэт, мы заранее предполагаем во внешнем мире бесспорной. То, что ребенок может поставить себе, в качестве цели своего Я, стать поэтом, предполагается, как раз, само собой разумеющимся — и, в частности, среди тех, кого Бернфельд именует выдающимися людьми. Он, конечно, оговаривает тут же, что, используя термин hervorragender Mensch, он не хотел бы придавать ему ценностную окраску, что, конечно, по отношению к термину выдающийся звучит более, чем странно. Масштабы выдающейся личности затушевать трудно. Кстати говоря, в Моисее и монотеизме Фрейда выдающаяся личность не только не затушевана, но, напротив, выдвинута на первый план.
В оправдании нуждаются, таким образом, не просто вторичные выгоды, которые могут индивиды извлечь из своего творчества, но и сама первоначальная возможность того, что в общественном согласии, в самой структуре его, находится место для такой функции, как функция поэтическая.
Именно такое согласие возникает на наших глазах в определенную историческую эпоху вокруг идеала, который известен, как идеал куртуазной любви. В определенном кругу — кругу, судя по всему, весьма узком — идеал этот лег в основу морали, поступков, оценок, проявлений верности и преданного служения, определенных моделей поведения. И все это непосредственно интересует нас потому, что стержнем было здесь — что? Разновидность эротики.
Явление, о котором у нас пойдет речь, возникло, вероятно, в середине или в самом начале одиннадцатого века и существовало в течение всего двенадцатого, а в Германии вплоть до начала тринадцатого века. Я имею в виду куртуазную любовь и ее поэтов, певцов, носивших название трубадуров на юге, труверов — в северной Франции, и миннезингеров — в германских землях, тогда как Англия и ряд областей в Испании были затронуты этим движением лишь незначительно. Возникнув в определенную поэтическую эпоху, игры эти, связанные с совершенно определенным поэтическим ремеслом, впоследствии прекратились и с течением времени оказались забыты настолько, что последующие века сохранили о них лишь более или менее слабое воспоминание.
В момент расцвета этого явления, в период от начала одиннадцатого и до первой трети тринадцатого века, созданная певцами куртуазной любви особая поэтическая техника играла роль, важность которой мы не способны сейчас со всей точностью оценить, но которой определенные круги — круги придворные, прежде всего, круги феодальной аристократии, занимавшей привилегированное положение в обществе — были, безусловно, затронуты самым чувствительным образом.
Был даже всерьез поставлен вопрос о том, существовали ли в действительности так называемые суды любви. То, что Мишель де Нотр-Дам, известный как Нострадамус, рассказывает нам, уже в начале пятнадцатого века, о процессах благородных Дам, чьи славные имена с лангедокским звучанием он называет, рождает невольный трепет. Все это пересказывает затем и Стендаль в своей Науке любви, книги замечательной в своем роде и отражающей тот романтический интерес, который питали его современники к куртуазной поэзии — поэзии, которую называли тогда провансальской, хотя подлинной ее родиной были, скорее, Лимузен и Тулуза.
Существование и функционирование описанных Нострадамусом казуистических любовных процессов обсуждается и оспаривается. В нашем распоряжении имеется, однако, ряд текстов и, в частности, опубликованный Ренуаром в 1917 году трактат Андре де Шаплена. Его сокращенное заглавие, "De arte amandi", полностью совпадает с названием известной книги Овидия, которую переписчики никогда вниманием не оставляли.
Эта рукопись четырнадцатого века, найденная Ренуаром в Национальной библиотеке, содержит тексты судебных решений, вынесенных Дамами, личности которых в истории хорошо известны — это Элеонора Аквитанская, которая была последовательно — и это "последовательно" предполагает активное личное ее участие в разыгравшейся впоследствии драме — супругой Людовика VIIЮнейшего и Генриха Плантагенета, будущего короля Англии, за которого она вышла замуж, когда тот был еще герцогом Бургундским, что и позволило ему претендовать на области, входившие в состав Франции; это ее дочь, которая вышла замуж за некоего Генриха I, графа Шампанского; это и другие знатные дамы, чье существование исторически засвидетельствовано. Все они, согласно этой рукописи, участвовали в казуистических разбирательствах любовных дел — разбирательствах, предполагавших воплощенные в ясных примерах, ни в коем случае не приблизительные, ориентиры. За ориентирами этими стояли определенные идеалы, к которым надлежало стремиться — о некоторых из них мне и хотелось бы с вами поговорить.
Примеры свои мы можем позаимствовать с равным успехом и в германских землях, и в средиземноморских. Отличие будет исключительно в означающих, так как поэзия эта создавалась на народных наречиях, и в первом случае язык будет немецким, а во втором — окситанским. Термины, хотя и на разных языках, пересекаются, совпадают — мы явно имеем дело с одной и той же системой. Система эта организуется вокруг нескольких тем, первой из которых является траур, и даже траур пожизненный, до самой смерти.
В началах своих, как сформулировал это один из тех, кто в Германии начала девятнадцатого века ее в основных чертах описал, куртуазная любовь представляет собой схоластику несчастной любви. Используемые в этой области термины определяют собой регистр, в котором обретаются достоинства Дамы, что находит отражение в нормах, которыми регулируется порядок обмена между участниками этого своеобразного ритуала: вознаграждение, великодушие, милость (Gnade), блаженство. Чтобы лучше представить себе эту исключительно тонкую и сложную организацию, вспомните о Карте Нежности, где она, в куда более пресной форме, тоже представлена — ведь и наши пуристы, в другую историческую эпоху, тоже выдвинули социальное искусство беседы на первый план.
В отношении куртуазной любви поразительно то, что она возникает в эпоху, когда, судя по историческим данным, ни о каких признаках уважения к женщине, а тем более освобождения ее не может быть речи. Чтобы дать вам представление об этом времени, я позволю себе напомнить вам одну историю периода расцвета куртуазной любви — историю графини Ком-менж, дочери некоего Гильома де Монпелье.
Некто Петр Арагонский, король Арагона, горя желанием, вопреки историческим обстоятельствам — первому в средневековой истории натиску Севера на Средиземноморье, вылившемуся в форму крестового похода против Альбигойцев и побед, одержанных над графами Тулузы Симоном де Монфором — утвердиться на севере Пиринеев и зная, что упомянутая дама наследует после смерти ее отца графство Монпелье, замышляет овладеть ею. Дама находится замужем и по натуре своей не склонна, судя по всему, ввязываться в грязные политические интриги. Это женщина очень замкнутая, почти святая, в церковном смысле этого слова — недаром и скончаться ей предстоит в Риме, в ореоле святости. Политические козни и давление со стороны сюзерена, Петра Арагонского, вынуждают ее оставить своего мужа. Вмешательство Папы заставляет его вернуть супругу к себе, но после смерти ее отца события разворачиваются, повинуясь воле более могущественного сеньора — муж, не отличавшийся верностью, отказывается от нее, и она выходит замуж за пресловутого Петра Арагонского, который обращается с ней настолько дурно, что она бежит от него и оканчивает жизнь в Риме под покровительством Папы, выступившим в данном случае в роли единственного защитника оскорбленной невинности.
Характер этой истории наглядно показывает, каково было в действительности положение женщины в феодальном обществе. Роль ее сводится, собственно говоря, к тому, на что указывают нам элементарные структуры родства — она не более чем коррелятив функций общественного обмена, живое воплощение определенного количества материальных благ и знаков могущества. Она отождествляется, по сути дела, с определенной социальной функцией, не оставляющей места личности и личной свободе — за исключением прибежища в виде религиозного права.
Вот в этом социальном контексте и возникает новая, исключительно любопытная роль — роль поэта куртуазной любви. Важно представлять себе его социальное положение, так как это позволит пролить определенный свет на фундаментальное, четко артикулированное представление, которое способна фрейдовская идеология дать о моде, к функционированию которой художник оказался в определенной форме причастен.
Мы имеем дело с удовлетворением стремления к власти, говорит Фрейд. Вот почему тем более интересно отметить, что среди миннезингеров — в известном под названием "Manuscrit des Manes" собранииЛТшиеош^е (находившемся в начале девятнадцатого века в Национальной Парижской библиотеке; высоко ценимом Генрихом Гейне, видевшем в нем источник всей позднейшей германской поэзии; в результате переговоров после 1888 года по справедливости возвращенном немцам и ныне находящемся в Гейдельберге) их насчитывается 126 — можно найти немало поэтов, занимавших в обществе чрезвычайно высокое положение — соравное князьям, королям, императорам.
Первым из трубадуров был Гильом Пуатье, седьмой граф Пуатье, девятый герцог Аквитанскии. До того, как он посвятил себя поэтическому творчеству, положившему начало куртуазной поэзии, Гильом был грозным разбойником, каковым являлся, собственно, в эту эпоху всякий себя уважающий знатный сеньор. В ряде ситуаций, о которых я умалчиваю, он выказал себя самым гнусным грабителем. Иного от него трудно было и ждать. Но вот, с какого-то момента он становится поэтом — поэтом этого совершенно особого рода любви.
Я хочу сразу же указать вам на те специальные работы, где вы можете найти тематический анализ настоящих ритуалов, выполнения которых куртуазная любовь требовала. Вопрос в том, какое место занимает эта любовь с психоаналитической точки зрения.
Упомяну походя о книге, немного удручающей своей манерой с легкостью решать проблемы или от них уходить, но зато напичканной сведениями и цитатами — книге Радость любви некоего Пьера Пердю, опубликованную издательством "Плон". Не лишне познакомиться и еще с рядом книг, рассматривающей проблему в несколько иной плоскости — речь в них идет не столько о самой куртуазной любви, сколько о ее исторической родословной. Среди них интереснейший сборник, который автор его, не умея, как всегда, хорошо сформулировать, о чем идет речь, озаглавил "Антология возвышенной любви"; выпущенная издательством "Ашет" ктлтаЛюбовъ имифы сердца Рене Нелли, грешащая, разве что, некоторым филогеничес-ким морализмом; и, наконец, вышедшая в издательстве "Флам-марион" книга Анри Корбена Творческое воображение, рассматривающая область значительно более широкую, нежели та, что сегодня нас занимает.
Не имея достаточно времени, я не рассматриваю лежащие на поверхности темы этой поэзии, тем более что мы столкнемся с ними в примерах, на которых я продемонстрирую вам, что вытекают они из определенного рода условностей. На этот счет мнение историков единодушно — куртуазная любовь была, по сути дела, поэтическим упражнением, способом обыграть ряд определенных тем, тем условного, идеализирующего характера, ничему реальному и конкретному в жизни не отвечавших. Идеалы эти, тем не менее, и прежде всего идеал Прекрасной Дамы, обнаруживаются и в эпохи более поздние, вплоть до наших дней. Влияние их на строй чувств современного человека принимает совершенно конкретные формы, и в формах этих продолжается их триумфальное шествие.
Это именно шествие, то есть нечто такое, истоки чего следует искать в систематическом и умышленном использовании означающего как такового.
Было сделано немало усилий, чтобы показать родственность самого аппарата, самой организации форм куртуазной любви интуитивному проникновению в некие истоки, религиозные, или мистические, например, располагающиеся где-то в том центре, к которому эта любовь стремится, к Вещи, которую любовь эта, вкладывая в нее собственный смысл, превозносит. Однако все усилия эти оказались, на поверку, обречены.
На уровне икономии отношения субъекта к объекту своей любви действительно налицо явное сродство куртуазной любви с такими традициями мистического опыта, как индусская, и даже тибетская. Всем известно, какое значение придавал этому факту Дени де Ружмон — именно поэтому и предложил я вам прочесть книгу Анри Корбена. Есть, однако, на пути этой гипотезы и значительные, порой принципиально непреодолимые трудности, связанные, например, с датами. Так, сходные явления, которые встречаем мы у некоторых мусульманских поэтов Иберийского полуострова, оказываются по времени более поздними, чем поэзия Гильома де Пуатье.
С точки зрения структуры для нас интересен тот факт, что поэтическое творчество смогло оказать решающее влияние — задним числом, в исторических последствиях своих — на нравы, причем случилось это, когда происхождение и ключевые термины этой поэзии были уже забыты. Но только структурные ориентиры и позволяют нам судить о функции этого сублимированного творчества.
Объект, а именно, объект женский, проникает в эту поэзию очень своеобразным путем — как объект, которого лишены, объект недоступный. Каково бы ни было социальное положение того, кто в этом регистре функционирует — некоторые даже были по рождению слугами, sirvens: Бернар де Вентадур, к примеру, был сыном слуги в замке Вентадур, тоже трубадура, — недоступность объекта предполагалась изначально.
Воспеть Даму в той роли, которой наделила ее поэзия, невозможно, не создав в начале окружающего и изолирующего барьера.
С другой стороны, этот объект — его именуют обыкновенно Domnei, но часто и в мужском роде, Mi Dom, что означает мой господин — эта Дама, одним словом, предстает в чертах вполне обезличенных, и многие исследователи отмечали, что все стихи кажутся адресованными одной и той же персоне.
Тот факт, что тело ее зачастую описывается как^'га delgat e gen — то есть что внешне полнота входила в представление той эпохи о сексуальной привлекательности: egen означает грациозная — не должен вас вводить в заблуждение, ибо так ее описывают всегда. В этой поэтической области женский объект лишен какой бы то ни было реальной субстанции. Именно это позволило впоследствии такому, например, метафизическому поэту, как Данте, с легкостью взять реальный, как нам прекрасно известно, исторический персонаж, юную Беатриче, в которую он влюбился, когда ей было всего девять лет, и которая стала потом центральной фигурой всей его поэзии, от VitaNuovaдо Божественной комедии, и сделать ее воплощением философии, больше того — священной науки, взывая к ней на языке тем более чувственном, чем более аллегорический облик она в его творчестве принимала. Чем больше предмет любви обращается в символическую функцию, тем меньше, говоря о нем, стесняются в выражениях.
Здесь в чистом виде выступает активность места, которое занимает в сублимации цель стремления — то, чего человек требует, не может не требовать, это лишение чего-то реального. Это место один из вас, говоря о том, что я пытаюсь описать как das Ding, назвал — на мой взгляд, весьма остроумно — вакуолью.
Я не против этого выражения, хотя прелесть его заключается как раз в гистологическом его звучании. О чем-то в таком роде речь здесь, собственно, и идет, особенно, если довериться беспочвенным грезам иных современных спекулятивных теорий, называющих то, что передается внутри органической структуры — эдакая функция ложноножки — коммуникацией.
Коммуникация как таковая здесь, конечно, отсутствует. Но если бы в одноклеточном организме коммуникация эта была организована, схематически, вокруг вакуоли, и была бы направлена на функцию вакуоли как таковую, перед нами было бы как раз то, с чем имеем мы дело, схематически, в представлении.
И в самом деле, где создается для нас вакуоль? В системе означающих, конечно, ибо требование быть лишенным чего-то реального связано, по самой сути своей, с первоначальной символизацией, целиком заключенной в значении дара любви.
В связи с этим меня, по ходу дела, не мог не поразить тот факт, что в терминологии куртуазной любви используется существительное domnei. Ему соответствует глагол domnoyer, означающий что-то вроде ласкать, дурачиться. Несмотря на созвучие со словом don, дар, domneiс ним ничего общего не имеет — оно имеет в виду Даму, Domna, то есть ту, что выступает, порою, как госпожа.
В этом есть своя забавная сторона, и количество метафор, возникших в куртуазной любви вокруг термина donner, дать, заслуживает, пожалуй, специального исторического исследования. Можно ли утверждать, что в отношениях между партнерами это donner направлено преимущественно в ту или иную сторону? Истоки этой проблемы и нужно, наверное, искать в том, что в слово donner оказались внесены элементы значения термина domneiи глагола domnoyer.
Создание куртуазной поэзии направлено на то, чтобы в эпоху, чьи исторические координаты обнаруживают определенное расхождение между особенно суровыми условиями реальности, с одной стороны, и некоторыми глубинными потребностями, с другой, локализовать в месте Вещи некое культурное недомогание. Творческая задача куртуазной поэзии состоит в том, чтобы создать, согласно присущему искусству способу сублимации, объект, сводящий с ума, чтобы создать нечеловеческого партнера.
Описывая Даму, поэт никогда не говорит о реальных, конкретных ее добродетелях — мудрости, благоразумии, даже просто осмотрительности. Если ее и называют мудрой, то не оттого, что она причастна к некоей нематериальной мудрости, которую она скорее олицетворяет собой, чем обнаруживает в каких-то конкретных действиях. Испытания, которым подвергает она своего служителя исполнены, напротив, крайнего произвола. По сути дела, Дама именно такова, какой позже, в то время, когда живы остались лишь инфантильные отзвуки этой идеологии, ее назвали — она жестока и подобна Гирканской тигрице. Но с крайними формами ее произвола мы встречаемся именно у авторов эпохи труверов — Кретьена де Труа, например.
Подчеркнув искусственность куртуазных построений я хотел бы, прежде чем показать вам, насколько прочными оказались эти конструкции и насколько осложнили они отношения между мужчиной и служением женщины, добавить, что именно то, о чем мы только что говорили, наша анаморфоза, позволит нам уточнить то, что остается в этой перспективе немного размытым — значение нарциссической функции.
Вы знаете, что функция зеркала, которую я счел необходимым описать как показательный образец воображаемой структуры, выявляется именно в нарциссических отношениях. Исследователи безусловно обращали внимание на то, что идеология куртуазной любви открыто направлена на возвышенную идеализацию — сторона, которая свидетельствует о глубоко нарциссическом ее характере. Так вот, образ, воплощенный нашей анаморфозой, как раз и поможет нам разглядеть, о какой функции зеркала идет речь.
Это зеркало, в зазеркальное пространство которого идеал субъекта проецируется лишь случайно. В определенных случаях зеркало, действительно, может имплицитно включать нарцисси-ческие механизмы — то деструктивное, агрессивное принижение, с которым мы в дальнейшем еще встретимся. Но выполняет оно и еще одну роль — роль предела. Оно — тот предел, который нельзя перейти. И обеспечение недоступности объекта является единственной задачей, в которой оно участвует. Но участвует в ней не оно одно.
Существует целая серия мотивов, представляющих собой предпосылки, органические составляющие куртуазной любви. Следующий, например — объект не просто недоступен, но и отделен от того, кто мучительно стремится его достичь, всякого рода злокозненными силами, которые чудный провансальский язык именует, в частности, словом lauzengiers. Слово это означает ревнивцев, но также и злоязычных сплетников.
Другая важная тема — это тема секрета. Она включает целый набор хитростей — в частности, об объекте никогда не говорится иначе как посредством так называемого Senhal. С таким же явлением встречаемся мы и в арабской поэзии на эти темы, где подобный любопытный словесный ритуал неизменно поражает читателя, так как формы его порой необычайно показательны. Удивительный Гильом де Пуатье, в частности, в определенный момент начинает называть предмет своих воздыханий именем Bon Vezi, то есть Добрый Ближний. В итоге историки, теряясь в догадках, пришли к выводу, что имя это относится у него к Даме, которая сыграла в его жизни, как известно, большую роль — веселой, судя по всему, бабенке, чьи земли граничили с его собственными.
Для нас куда более важное значение, нежели само упоминание о соседке, с которой Гильом де Пуатье при случае заигрывал, имеет совпадение этого выражения с именем, которое использует Фрейд, когда говорит о первоосновах, о психологическом генезисе Вещи — Nebenmensch. Именем, указывающим на то самое место которое занимает в собственно христианском развитии апофеоз ближнего.
Короче говоря, я хотел дать вам почувствовать сегодня, что мы имеем здесь дело с искусственной, искусной организацией означающего, фиксирующей в некий момент направления определенной аскетической практики, а также показать, какой смысл надлежит придавать подобной тактике уклонения в икономии психики.
Уклонение в психике не всегда служит исключительно регулированию прохода, соединяющего то, что организуется в области принципа удовольствия, с тем, что выступает как структура реальности. Существуют также уклонения и препятствия, формируемые для того, чтобы явить область вакуоли как таковую. Все дело в том, чтобы спроецировать своего рода трансгрессию желания.
Тут-то и вступает в игру этическая функция эротизма. Фрейдизм только и делает, собственно говоря, что намекает на плодотворность эротизма для этики, хотя открыто ничего подобного не формулирует. Техники, о которых в куртуазной любви идет речь — а они описаны достаточно точно, чтобы мы могли догадаться, что именно из сексуальной практики, которой этот эротизм вдохновлялся, могло порой происходить в действительности — являются техниками задержки, торможения, amorinterruptus. Этапы, предшествующие в куртуазной любви тому, что называется очень таинственно — мы не знаем, в конечном счете, о чем именно идет речь — дароммилости, соответствуют приблизительно тому, что Фрейд в своих "Трех очерках по теории сексуальности" относит к разряду предварительных удовольствий.
Но парадокс того, что можно назвать, в перспективе принципа удовольствия, эффектом Vorlust, предварительными удовольствиями, как раз и заключается в том, что поддерживаются они как раз вопреки принципу удовольствия. Говорить о сексуальной валоризации предварительных этапов любовного акта можно лишь постольку, поскольку поддерживается удовольствие желать, то есть, строго говоря, удовольствие испытывать неудовольствие.
Что касается этого акта, этого слияния, то нам никогда не узнать, идет ли речь о мистическом единстве, о признании Другого на определенной дистанции, или вообще о чем-то совершенно ином. В большинстве случаев, похоже, что в куртуазной любви высшим даром является для влюбленного такое действие как привет, приветствие — знак Другого как таковой, и ничего больше. Это обстоятельство дало повод для многочисленных и далеко идущих спекуляций, вплоть до того, что приветствие это отождествляли с тем, которым регулировались, в так называемом consolamentum, отношения между высшими степенями иерархии катаров. Ступени, ведущие к этой вершине, эротическая техника тщательно артикулировала и различала — начиная с питья, беседы, касания, скрывающегося отчасти за так называемыми услугами, и кончая поцелуем, osculum, последним этапом, предшествующим единению милости.
Все это носит черты столь загадочные, что для прояснения их не раз предпринимались попытки сблизить куртуазную любовь с индийской и тибетской эротикой, которая, похоже, была тщательнейшим образом кодифицирована и представляла собой строго дисциплинированную аскезу удовольствия, в результате которой субъект оказывался способен собственные переживания как бы материализовать. Но предположение, будто что-либо подобное действительно практиковалось и трубадурами, было бы явной экстраполяцией. Лично я в это не верю. Не нуждаясь в предположении о тождестве между происходящими из различных культурных ареалов практиками, я полагаю, что на нас эта поэзия оказала решающее влияние.
Помимо явного фиаско ученых попыток объяснить этот своеобразный способ ввести в нашу культуру идеализированный женский объект историческими влияниями, наиболее поразительно для нас то, что некоторые из наиболее аскетических и парадоксальных из использованных в регистре куртуазной любви терминов заимствованы из Овидиева Искусства любви.
Овидий написал предназначенное для юных повес искрометное стихотворное сочинение, где можно узнать, к примеру, в каких кварталах Рима можно встретить самых симпатичных телок, и развивает эту тему в трех песнях, завершающихся неприкрытым описанием того, что иначе, как играми в постели не назовешь. Все это перемежается формулами, вроде, например, Arte regendus Amor, правила любви должно задавать искусство. И вот, десяток веков спустя, находятся стихотворцы, которые начинают воплощать эти формулы буквально, в подлинно вдохновенных поэтических заклинаниях.
У Овидия мы читаем также, что Militiaespeciesamorest, любовь является своего рода военной службой — что означает в устах поэта, что с римскими дамами не все шло у него так гладко. И вот, пожалуйста — в регистре рыцарской культуры, столь забавно и выпукло очерченной в Дон Кихоте, слова эти отзываются совершенно иным смыслом, подразумевая военное служение на страже женщины и ребенка.
Нетрудно увидеть важность, которую я придаю этим аналогиям, которые, кстати сказать, хорошо засвидетельствованы — мы знаем, что Ars amandi Овидия имело хождение в среде духовенства в течение всего средневековья и что Кретьен де Труа даже выполнил его перевод. Такие вот переклички как раз и позволяют понять, что мы под функцией означающего подразумеваем. Именно здесь я хотел бы поставить последнюю точку в том, что я сегодня собирался сказать, указав на то, что появление куртуазной любви подобно возникновению фантазма при виде шприца, о котором у нас недавно шла речь.
Но несмотря на это мы имеем здесь дело с чем-то фундаментальным — с чем-то таким, без чего немыслимо было бы для Анд-ре Бретона прославлять в наши дни любовь, которую он назвал в заглавии своего романа безумной. Выражение это выбрано им в связи с тем, что занимало его, то есть в связи с тем, что именует он объективным случаем. Конфигурация означающих поистине странная — найдется ли через одно-два столетия читатель, который, познакомившись с романом в совершенно ином контексте, поймет, что под "объективным случаем" подразумеваются вещи, явление которых исполнено смысла настолько, что им не находится места в области рациональных схем и причин, чего-то такого, что могло бы их появление в Реальном хоть как-то обосновать?
Другими словами, безумная любовь у Бретона тоже возникает на месте Вещи.
Прежде чем расстаться с вами сегодня и назначить очередную встречу через три недели, я хотел бы закончить четверостишием, которое пришло мне нежданно на память сегодня утром, — четверостишием другого поэта-сюрреалиста, Поля Элюара. Стихи эти лежат в его поэзии как раз у того предела, на той границе, которую я пытаюсь, говоря с вами, дать вам ощутить -
На разодранном небе, на струях дождя,
Где лицо, где жемчужина песни морской,
Что сулит мне рассвет после ночи любви,
И к сомкнутым устам ртом открытым прильнет.
10 февраля I960 года.
XII Критика Бернфельда
Реакционное образование и сублимация. Преждевременность сублимации.
Между фрейдовской эстетикой и фрейдовской этикой.
Сублимация и идентификация.
Курьез.
Не будем забывать, что я принял в этом году решение сделать этот семинар по-настоящему семинаром.
Это решение напрашивается тем более, что среди нас есть немало людей, способных принять в работе семинара участие. Среди них, в частности, человек, которого я могу по праву называть своим другом, Пьер Кауфман, ассистент Сорбонны, который давно уже следит за работой нашего семинара и принимает в происходящем деятельное участие. Многие из вас, возможно, следят за философской хроникой, которую он ведет в Combat по четвергам, где он неоднократно освещал нашу работу, в частности, в связи с конгрессом в Руаомоне, и где недавно он любезно поместил информацию, необходимую одному автору — его зовут Анри Лефевр — который считал возможным указывать на недостатки нашего курса, основываясь лишь на небольшой части его, или на отдельной статье.
Сказав это, перехожу к главному. Четыре занятия назад я сослался здесь на небольшую работу Бернфельда. Речь шла о статье Bemerkungen ьber "Sublimierung", опубликованной в "Imago" в 1922 году. Г-н Кауфман заинтересовался этим материалом, наш контакт привел к дальнейшему диалогу, и в результате он представил мне недавно нечто такое, что показалось мне достаточно плодотворным и многообещающим, чтобы попросить его развить, насколько он сочтет это для себя нужным и интересным, свои соображения и изложит нам как свои мысли по поводу самого текста Бернфельда, так и те выводы, которые он может из него сделать.
Я специально предупреждаю, что в ходе доклада прозвучит ряд очень интересных намеков — и зная о том, насколько глубоко ознакомился г-н Кауфман с источниками материала, с которым он, вступив в область психологии, имел дело, я уверяю вас, что у намеков этих есть основания. Мы здесь, во Франции, как, впрочем, и в англоязычных странах, имеем о богатейшей немецкой традиции очень слабое представление, в то время, как Фрейд, судя по всему, был в ней необычайно начитан и знал ее досконально.
В отношении многих вещей нам следовало бы узнать многое, о чем даже г-н Кауфман не успел еще в своих публикациях нам поведать. Сегодня вы сможете получить об этих вещах какое-то представление.
Я передаю ему слово, заранее принося благодарность за проделанную для нас работу. [Доклад г-на Кауфмана.]
Ваш доклад выставляет на вид неясности бернфельдовой теории или, по меньшей мере, применения ее к рассматриваемому им конкретному случаю. Результат выходит довольно двусмысленный и сомнительный. Тезис Бернфельда состоит, в общем, в том, что говорить о сублимации можно исключительно в случае, когда налицо перенос энергии либидо с объектов на Ichziele.
Ichziele существуют заранее, сублимация же имеет место, когда либидинальная энергия оказывается оживлена и выведена на поверхность со вступлением ребенка в пубертатный период. Часть энергии переносится с целей, связанных с удовольствием, на цели, равняющиеся на собственное Я, ichgerechte. И хотя проведенное Фрейдом различие между Verdrдngung и Sublimierung сохраняется, Sublimierung дает о себе знать тогда, когда налицо оказывается Verdrдngung. Так, например, лишь постольку, поскольку любовь ребенка к этой Мелитте носит на себе след вытеснения, то, что этому последнему не подвергается, способно оказывается перейти в плоскость сублимации. Бернфельд, таким образом, видит между этими процессами некую синхронность. Другими словами, Бер-нфельду удается усмотреть сублимацию лишь постольку, поскольку налицо перед ним моментальный коррелятив вытеснения.
Г-н Кауфман: — (…) Уверяя нас, что в "Трех очерках" заложена некая двусмысленность, он тем не менее прибавляет, что сублимацию несомненно отличает от реакционного образования не-вытесненный характер либидо.
Д-р Лакан: — Это правда, отношения между реакцией и Sublimierung действительно предстают в "Трех очерках о сексуальности" чрезвычайно двусмысленными. Именно этот текст, стр. 78 и 79 "Gesammelte Werke", ставит нас перед определенной проблемой. Содержащиеся на этих страницах формулировки по сей день задают комментаторам серьезную задачу — если одни выражения говорят о том, что Фрейд рассматривает Sublimierungкак одну из форм реакционных образований, то из других мест следует, что, наоборот, реакционные образования мыслились им внутри формы, где Sublimierungбыло явлением куда более масштабным.
Единственное, что отсюда действительно важно запомнить, это краткая фраза внизу страницы 79, завершающая собой параграф, посвященный реакционной формации и сублимации. Фраза эта содержит оговорку, которая, как совершенно правильно отметил Бернфельд, дальнейшего развития не получила — Возможны и сублимации, в которых действуют иные механизмы, причем более простые.
Короче говоря, данный способ анализа икономии источников энергии в поэтической деятельности оставляет в случае мальчика Роберта определенный осадок, который сам Бернфельд на странице 339 характеризует так- Aus dem Rest der Melitta — той, в которую он влюблен — geltenden Objectlibido entwickeln sich Stimmungen. Идалее, настр. 340: die Energie, mit der die tertiдre Bearbeitung vollzogen wird, ist nun unbezweifelbar unverdrдngte Objektlibido. Именно в этом и состоит проблема, возникающая, когда мы ставим явление сублимации в зависимость от различия между Libidoziel, Ichziele и Lustziele. И именно здесь Штерба, чья статья вышла из печати в прошлом году, тоже терпит неудачу. Если все определяется перемещением энергии из одной сферы в другую, в сферу определенного типа целей, отмеченных, кстати сказать, в подростковый период крайней неустойчивостью, то Бернфельд, уловив тот поворотный момент, который в поэтическом творчестве мальчика показался ему решающим, вынужден оказывается откровенно отнести это детское поэтическое призвание под рубрику Ichziele, разрешая проблему указанием на то, что "стать поэтом" является в данном случае целью, которую ставит перед собой Я субъекта, — целью, обнаружившейся у этого мальчика очень рано. Особенностью этого преждевременного увлечения является, с точки зрения Бернфельда, лишь то, что в нем нашло отражение усвоенное им, в смутных и безличных чертах, в школе. Именно поэтому сочинения этого времени отмечены для него печатью неполноценности. Интересными они становятся лишь начиная с того момента, когда подросток почувствовал, что он драматическим образом в поэтическую деятельность вовлечен.
Я пытаюсь представить вещи в наиболее выгодном для автора свете. Но разве мало детей, переживая этот латентный, по сути дела, период, увлекаются эпизодически, мимолетно, поэтическим творчеством? Фрейд прекрасно мог наблюдать это на примере одного из собственных своих детей. Здесь перед нами проблема, которую ни к подражанию, ни к распространению культуры свести нельзя. Нам действительно приходится относить проблему сублимации к раннему возрасту, но это нимало не обязывает нас ограничиться рассмотрением области индивидуального развития. Вопрос о том, откуда берутся поэты, и почему поэтическое призвание может предъявить свои требования к юному существу очень рано, невозможно решить, исходя исключительно из представленного нам в данной работе генетического развития и новых характеристик, возникающих с того момента, когда сексуальность субъекта заявляет о себе явно.
Мы идем вразрез с самим духом фрейдовского открытия, если не видим, что сексуальность налицо у ребенка с самого начала — больше того, начиная с той фазы, которая периоду латентности предшествует. Именно это и давало повод настаивать на том, что источники сублимации носят догенитальный характер. Проблема сублимации возникает раньше, чем ясна становится на уровне сознания разница между целями либидо, с одной стороны, и целями собственного Я, с другой.
Позволяя себе лишний раз обратить внимание на собственный вклад в эту проблему, замечу, что термин, которым я пользуюсь в попытке увязать, наконец, сублимацию с тем, о чем у нас идет речь, термин das Ding, Вещь, как раз и призван обозначить то место, вокруг которого должно строиться определение сублимации — определение, связывающее ее со временем, предшествующим самому рождению Я, а тем более появлению на свет целей этого Я, Ich-Ziele.
То же самое замечание касается и предложенного Вами сближения того, что делаю с образом Вещи я, с тем, как пользуется им Зиммель.
Позиция Зиммеля кое в чем мне интересна, так как у него можно найти представление не просто о дистанцировании, но и о некоем объекте как чем-то таком, чего невозможно достичь. Но у него это еще объект. На самом деле, недостижимым в Вещи является сама Вещь, а вовсе не объект, и в этом мое радикальное расхождение с Зиммелем — расхождение, связанное с появлением в разделяющем нас временном промежутке понятия, которое многое изменило, фрейдовское понятие бессознательного.
Зиммель действительно близко подходит к тому, в чем вы справедливо увидели опасение анального характера, но понять это вполне ему дано не было, так как изменения, о которых я говорю, были для него впереди.
Г-н Кауфман: — (…) Бернфельд полагает, что проблема только запутается, если ввести в анализ сублимации понятие ценности. Он утверждает, например, что на уровне психоанализа произведение художника ничем не отличается от коллекции марок. (…)
Д-р Лакан: — Не только между коллекцией произведений искусства и коллекцией марок, но даже между художественным собранием и, скажем, коллекцией, составленной пациентом или ребенком из грязных клочков бумаги. Сама мысль о введении критериев, не имеющих отношения к психическому развитию как таковому, Бернфельду претит.
Последняя часть статьи представляет собой попытку связать сублимацию с любопытным опытом работы автора с группами молодежи.
Констатация величины пениса является, по его мнению, для периода, когда дети с интересом демонстрируют друг другу свои гениталии, элементом чрезвычайно значимым. В этом проявляется, согласно Бернфельду, конфликт между Я, с одной стороны, и объектным либидо, с другой. С одной стороны, Я нарциссичес-ки выказывает себя самым прекрасным, самым большим, самым сильным. С другой стороны, ему противостоит либидо, приводящее к генитальному возбуждению.
Именно это является, по его мнению, решающим фактором для постепенного складывания внутри группы эзотерической церемонии, о которой у него идет речь, и именно здесь усматривает он начало периода, начиная с которого можно говорить о том, что в коллективных действиях их проявляется сублимация.
О мнении этом стоит упомянуть хотя бы потому, что оно крайне проблематично, особенно если учесть, что у тех, кто считает себя самыми сильными и отважными, обнажение это сопровождается коллективной мастурбацией.
Г-н Кауфман: — (…) В общем, Бернфельду не повезло — он стал писать о сублимации в связи с идеальным Я до того, как Фрейд успел объяснить ему природу этого идеального Я и необходимость принимать в расчет отношения с другим.
Д-р Лакан: — Вы оптимист, потому что те, кто писал после Бер-нфельда, так и не сумели, похоже, введением этого идеального Я воспользоваться. Прочтите то, что было впоследствии о сублимации написано, вплоть до Заметок о сублимации и опубликованной в "AnalysisStudies" статьи Нейтрализация и сублимация — нигде не найдете вы ни малейшей попытки установить между сублимацией и идеальным Я хоть какую-то связь. Такова ситуация, в которой мы сегодня находимся и от которой нам с вами предстоит отталкиваться.
Я от души благодарю Вас за проделанную Вами для нас работу. Позвольте лишь, чтобы расставить в сказанном сегодня точки над i, процитировать фразу, резюмирующую собой теоретическую позицию самого Бернфельда: "Те составляющие порыва влечения в целом, которые действию, давлению вытеснения сумели противостоять, могут быть сублимированы. Это означает, что составляющие эти обладают особенностями, позволяющими поддержать функцию Я за счет усиления тех его тенденций, которые подвергаются в данный момент опасности".
Это и есть определение, которого он придерживается и которое включает оба отмеченных Вами полюса. Либо Я является сильным и те, в ком устремления Я оказались развиты достаточно рано, образуют аристократию, своего рода элиту — и тогда напрасно замечает он в скобках, будто никаких ценностных предпочтений не вносит, так как избежать их в данной ситуации трудно. Либо, напротив, устремления Я оказываются под угрозой и вынуждены подпитываться из источников, предоставленных ему устремлениями влечения, поскольку эти последние могут возврата избегнуть. Вот та концепция, к которой приходит в итоге Бернфельд.
Всем здесь присутствующим понятно, наверное, что все, о чем я тут говорю, лежит в промежутке между фрейдовской этикой, с одной стороны, и фрейдовской эстетикой, с другой. Эстетика Фрейда интересна нам постольку, поскольку она представляет собой одну из фаз собственно этической функции, и удивительно, что на нее до сих пор должного внимания не обращали, в то время как тема этики стала в психоанализе расхожим местом — Джонс, например, то и дело говорит о моральном самодовольстве, являющемся, в каком-то смысле, тем самым, в силу чего этика делает для нас недоступной ту Вещь, которая недоступна для нас с самого начала и так.
Я попытался к тому же продемонстрировать вам, что фрейдовская эстетика, в самом широком смысле этого слова, то есть понятая как анализ всей икономии означающих в целом, обнаруживает ее, Вещи, недоступность. Именно из этого нужно в решении нашей проблемы исходить, делая отсюда все необходимые выводы и, в частности, касательно вопроса об идеализации. Вы видели, кстати говоря, как последний раз, в связи с сублимацией в куртуазной морали, готов был возникнуть на наших глазах идеальный тип.
Мне хотелось бы, в завершение, сделать еще одно замечание, значение которого вполне выяснится только в дальнейшем. Поскольку мы, говоря об этике, различаем два уровня, которые предчувствовали в своих размышлениях уже древние и о которых говорится в отрывке из "De Officiis", который я вам впоследствии приведу, то перед нами действительно встает вопрос о том, должно ли Высшее Благо, summum bonum, ставиться в связь с honestas, стилем порядочного человека, предполагающим определенную организацию жизни, определенный стиль ее, место которого как раз начальной сублимацией и задается, или с utilitas, лежащей в основе того утилитаризма, который послужил мне в этом году отправной точкой для того, чтобы этическую проблему поставить и показать вам, в чем, по сути своей, она состоит.
2 марта I960 года.
Дополнение
Любопытный образчик сублимации.
Сегодня я приготовил для вас кое-что любопытное, даже прямо-таки забавное. Подобного рода курьезы только мы, аналитики, и способны, наверное, по достоинству оценить.
В прошлый раз, после доклада г-на Кауфмана о статье Берн-фельда и ее источниках, я сказал вам, что проблема состоит в том, чтобы установить связь между сублимацией и идентификацией.
Прежде чем оставить разговор о сублимации на схеме, выстроенной мною вокруг понятия Вещи — понятия, которое по довольно веским причинам остается для вас, возможно, под покровом тайны — я хочу познакомить вас, в качестве примечания к нашей теме, с одним текстом, имеющим к проблеме сублимации непосредственное отношение
Сублимация — это совсем не то, за что люди безосновательно ее принимают, и вовсе не обязательно устремлена к чему-то возвышенному. Смена объекта не ведет непременно к исчезновению сексуального объекта, сексуальный объект может в процессе сублимации предстать в подлинном своем виде. Предметом поэзии может стать самая неприкрытая сексуальная игра, причем поэзия отнюдь не утратит при этом своей сублимирующей направленности.
Короче говоря, я считаю небесполезным зачитать вам из досье куртуазной любви один документ, приводящий в недоумение даже специалистов — они понятия не имеют, с какой стороны к нему подойти.
Другой такой поэмы в истории куртуазной любви просто нет. Это гапакс, вещь, единственная в своем роде. Мы находим ее среди произведений одного из наиболее утонченных и возвышенных трубадуров, Арно Даниеля, известного исключительно богатыми формальными находками, особенно в поэтической форме так называемой сестины, о которой я не буду здесь подробно распространяться — мне просто хотелось бы, чтобы по крайней мере слово это что-то вам говорило.
Этот Арно Даниель написал поэму, посвященную самому любопытному из упомянутых мною ритуалов, в которых воплощалось служение рыцаря своей Даме. Поэма необычна тем, что выходит, стараниями испуганных авторов, за рамки порнографии и приобретает вполне скатологические черты.
Речь идет, судя по всему, о проблеме, возникшей в куртуазной моральной казуистике. Дело состоит в следующем: одна Дама, именуемая в поэме Domna Ena, приказывает своему кавалеру — приказ этот является испытанием, призванным засвидетельствовать верность, преданность и достоинство влюбленного — потрубить в ее трубу. Выражение это имеет в тексте вполне однозначный смысл.
Чтобы не томить вас ожиданием, я прочту для вас — по-французски, так как думаю, что вряд ли найдется среди вас человек, понимающий забытое ныне, хотя и обладающее определенными достоинствами и стилистическими прелестями окситанское наречие — эту поэму, написанную в подлиннике девятистишиями со сквозной, меняющейся от строфы к строфе, рифмой.
Поскольку сеньор Раймон, заодно с сеньором Трюк Малеком, защищают госпожу Эну и ее повеления, я должен сказать, что состарюсь и покроюсь сединами, прежде чем согласиться исполнить столь неудобовыполнимое требование. Ибо чтобы "вострубить в эту трубу" ему понадобился бы клюв, которым он мог бы доставать зерна из сего жерла. К тому же он подвергался бы опасности ослепнуть от сильных испарений, подымающихся от этих складок.
Ему понадобился бы клюв, клюв длинный и острый, ибо труба эта пупырчата, уродлива и мохната, и нет дня, когда она была бы суха, и глубокая трясина внутри ее — вот почему извергает она без конца бродящее в ней жидкое варево. И не подобает ходить в любимцах тому, кто ртом своим приникает к этому жерлу.
Будет довольно впереди других испытаний, достойнейших и прекраснейших, и если сеньор Бернар уклонился от этого последнего, то, клянусь Господом, не от того, что вел себя как трус, движимый страхом. Ведь струи воды, которые могли оросить его сверху, неизбежно ошпарили бы его щеки и шею, а даме не подобало бы затем наградить поцелуем того, кто трубил в смердящую эту трубу.
"Бернар, я не согласен на сей счет с РаймономДюрфором и не скажу, что вы были не правы в вашем решении, ибо пытаясь играть на сей трубе ради удовольствия, вы встретили бы препятствия поистине непреодолимые и скоро умерли бы от злосмрадия, худшего, нежели запах навоза, которым удобряем мы древа нашего вертограда."
Поистине он избежал великой опасности, не совершив поступок, которым попрекали бы впоследствии его сына и всех уроженцев Корниля. Лучше было бы ему удалиться в изгнание, нежели протрубить в ту воронку между копчиком илобком, откуда струятся потоки цвета ржавчины. Он никогда бы не смог остеречься, чтобы чело его и ноздри не оросились этими струями.
Госпожа, да не вознамерится Бернар трубить в означенную трубу, не вооружившись большой "затычкой", ведь только закупорив ею отверстие лобка сможет он играть на трубе не подвергаясь опасности.
Этот весьма необычный документ исключительно хорошо демонстрирует глубокую двусмысленность, свойственную сублимирующему воображению. Оценивая его, надо иметь в виду, что поэзия труверов и трубадуров дошла до нас далеко не полностью, и что некоторые стихотворения Арно Даниеля известны нам лишь по двум-трем манускриптам, в то время как эта поэма, не лишенная, между прочим, утерянных в переводе литературных достоинств, не только не была утрачена, но сохранилась в целых двадцати манускриптах. Есть в нашем распоряжении и другие тексты, свидетельствующие о том, что в диспуте этом принимали участие еще два трувера, Трюмалек и Раймон де Дюрфор, отстаивавшие в нем противоположное мнение, но я избавлю от них ваш слух.
Мы имеем здесь дело с внезапным переворотом, удивительным самоопровержением. Ведь Арно Даниель — Бог свидетель — рисует любовный союз в самых утонченных чертах — недаром доходит он в своем желании до готовности к жертве, обращающей его самого в ничто. И вот тот же человек на наших глазах пишет, не без некоторых колебаний, правда, поэму, предмет которой явно должен был его трогать, так как в противном случае он не приложил бы к нему таких стараний.
Идеализированная женщина, Дама, занимавшая только что позицию Другого и объекта, оказывается внезапно в ином, искусно выстроенном с помощью изощренных означающих месте, где она неприкрыто обнаруживает пустоту вещи, которая оказывается в наготе своей именно вещью, ее вещью, той самой, что кроется в ее сердцевине, в ненасытной ее пустоте. Именно она, эта Вещь, функцию которой в связи с сублимацией многие из вас предчувствовали, предстает здесь лишенной покровов, обнаруживая свою напористую и жестокую мощь.
Нетрудно заметить, однако, что она давала знать о себе и раньше, ведь в нашем случае мы не имеем дело с чем-то единичным, беспрецедентным. Обратите, к примеру, внимание, на рассказ о происхождении флейты в Пасторали Лонгина. Пан преследует нимфу Сирингу, которая бежит от него и исчезает среди зарослей тростника. Разгневанный Пан срезает тростник, и именно тогда, говорит нам Лонгин, появилась свирель из трубок разной длины — сделав ее, тонко замечает поэт, Пан дал понять, что любовь его не имеет равных себе. Сиринга обратилась в одну из трубок его свирели. Регистр насмешки, куда вписывается удивительная поэма, которую я вам только что прочитал, лежит внутри той же самой структуры, той же самой схемы с пустотой в центре. Вокруг нее, пустоты этой, и артикулируется то, через что проходит, в итоге, сублимация желания.
Мой рассказ будет неполным, если я не добавлю, на всякий случай, что в четырнадцатой песне "Чистилища" Данте помещает Арно Даниеля в компанию содомитов. Проследить истоки нашей поэмы еще глубже мне не удалось.
Я предоставлю теперь слово г-же Юбер, которая расскажет вам об одном тексте, на который в аналитической литературе часто ссылаются, — я имею в виду статью Шпербера под заглавием О влиянии сексуальных факторов на происхождение и развитие языка. Дело в том, что статья эта касается целого ряда проблем, тесно связанных с тем, в чем нам, говоря о сублимации, предстоит разобраться.
В своей статье о символизме, на которую я сам в нашем журнале поместил комментарий, не показавшийся читателю, судя по откликам, очень доступным, Джонс на работу Шпербера открыто ссылается. Если, говорит Джонс, теория Шпербера верна, если некоторые первичные трудовые процессы, и прежде всего процессы сельскохозяйственного труда, взаимоотношения человека с землей, действительно следует рассматривать как эквиваленты полового акта, если действительно в них образовались черты, след которых сохраняется в том значении, которое мы этим отношениям придаем, вправе ли мы связывать эти первичные отношения с процессом символизации? Джонс утверждает, что нет. Другими словами, Джонс, исходя из собственных представлений о функции символа, считает, что в явлениях такого рода ни о символическом преобразовании, ни о преобразовании, которое можно было бы зачислить в разряд сублимационных эффектов, не может быть речи. Явление сублимации следует брать в его подлинном, буквальном смысле. Копуляция крестьянина с землей является не символизацией, а эквивалентом символической копуляции.
На этом стоит остановиться подробнее. В статье своей я сделал отсюда кое-какие выводы, к которым впоследствии еще вернусь. Но чтобы значение текста Шпербера — а напечатан он в первом выпуске журнала "Imago", еще менее, пожалуй, доступного, чем все прочие — было выяснено вполне, г-жа Юбер любезно согласилась проработать его и сегодня нам его содержание перескажет. [Следует доклад г-жи Юбер.]
9 марта I960 года.
Парадокс наслаждения
XIII Смерть Бога
Сексуальная символика.
О нумене в миссии Моисея.
Великий Человек и его умерщвление.
Христоцентризм Фрейда.
Наслаждение и долг.
Если мне хотелось познакомить вас со статьей Шпербера, то лишь потому, что она перекликается с ходом наших мыслей по поводу сублимации.
Я не стану углубляться в критику этого текста, так как надеюсь, что после нескольких лет слушания моего курса способ рассуждения его автора наверняка вызвал у многих из вас настороженность. Если задачи, которые он ставит, бесспорно интересны, то способы демонстрации, напротив, оставляют желать лучшего. Попытаться доказать, что основополагающие виды человеческой деятельности происходят, в сублимированной форме, из общего, сексуального, источника, ссылкой на тот факт, что слова, первоначально имевшие, предположительно, сексуальное значение, постепенно приобретали смысл от этого первоначального значения все более далекий, означает вступить на путь, где сам характер доказательств не выдерживает в глазах здравомыслящего человека никакой критики.
То, что слова с изначально сексуальным значением расплывались подобно масляному пятну, вбирая в себя значения все более отдаленные, не означает, что ими оказалось покрыто все поле значения без остатка. Это не означает, другими словами, что весь язык, которым мы пользуемся, сводим, в конечном счете, к присутствующим в нем ключевым словам, повышенная оценка роли которых существенно облегчается принятием на веру более чем сомнительного понятия корня и его конститутивной, якобы, для языка связи со смыслом.
Исследование роли корней и основ в флективных языках ставит особые проблемы, далеко не всегда применимые ко всем языкам вообще. Что можно сказать в этой связи, например, о китайском, где все значащие элементы односложны? Понятие корня является одним из самых неуловимых. Речь, на самом деле, идет о связанной с развитием языковых значений иллюзии, о таком использовании языка, которое не может не внушить опасений.
Это не значит, что замечания Шпербера касательно использования слов, скажем так, с сексуальной основой, в других языках — исключительно, кстати сказать, индоевропейских — совершенно лишены интереса. Просто они не смогут удовлетворить нас в той перспективе, к которой я, надеюсь, вы успели у меня на занятиях привыкнуть и которая состоит в том, чтобы различить функцию означающего, создание значения путем их, означающих, метафорического и метонимического использования.
Вот здесь-то проблема и возникает. Почему они, зоны эти, в которых сексуальное значение расплывается, подобно пятнам, почему русла, в которых оно обыкновенно распространяется, причем распространяется в направлении вполне, как вы видели, определенном, словно нарочно выбраны таким образом, чтобы для обозначения их можно было применить слова, уже имеющие сексуальный смысл? Почему, в связи с этим, именно для слова, означающего действие резания, но действие ослабленное, амортизированное, выявили, покопавшись в самых ранних источниках, пресловутое первичное его значение, значение сексуального акта, фаллического проникновения? Почему именно слово foutre, трахать, стало в выражении mal foutu метафорой для обозначения нескладного, дурно сделанного? Почему именно вульва послужила образом для обозначения целого ряда действий, в том числе таких, как прятаться, убегать, илиудиратъ (se tailler), как перевели несколько раз соответствующий немецкий термин в работе Шпербера?
Что касается выражения se tailler в значении убегать, скрываться, то я сделал было попытку установить точно, когда оно начало употребляться в языке в этом смысле. Времени у меня на это было немного, а имеющиеся в моем распоряжении словари и справочники мне ничего не дали. Правда, специальных словарей, посвященных разговорному словоупотреблению, у меня в Париже нет. Я был бы рад, если бы кто-нибудь из вас взялся такое исследование провести.
Итак, почему на практике задействуется в метафоре определенный тип значения, определенные означающие, связанные первоначально с сексуальными отношениями и несущие на себе печать этого использования? Что заставляет нас пользоваться тем или иным арготическим термином с изначально сексуальным значением для метафорического описания ситуаций, в которых ничего сексуального нет?
Но если бы речь шла лишь о том, каким образом в нормальной, диахронической эволюции словоупотребления сексуальные референции начинают использоваться метафорически, то есть, иными словами, если бы речь шла лишь об очередном образчике спекулятивных психоаналитических измышлений, я не предложил бы вашему вниманию этот текст. Ценность его составляет то, что лежит на его горизонте и, оставаясь недоказанным, составляет заветную его мысль — мысль о коренном родстве, существующем между древнейшим использованием орудий, древнейшими техниками, такими земледельческими операциями, как вскрытие пахотой земного чрева, или такими ремесленными операциями, как упоминавшееся уже мною изготовление вазы на гончарном круге, с одной стороны, и тем вполне конкретным, что представляет собой даже не половой акт, нет, а сам женский половой орган.
Потому и интересна эта статья, потому и ведет она мысль в верном направлении, что в центре всех этих метафор оказывается женский половой орган, и даже, точнее, сама форма отверстия и полости, так как ясно становится, что здесь налицо провал, зияние, предполагающее скачок от одного референта к другому.
Статья констатирует, что использование термина, означающего первоначально коитус может расширяться практически беспредельно, что использование термина, означающего первоначально вульву способно претерпевать самые разнообразные метафорические превращения. Отсюда делается предположительный вывод, что вокализация, сопровождающая, якобы, половой акт, могла лечь у человека в основу означающего, обозначающего либо орган как таковой, преимущественно женский орган, либо, буквально, сам акт соития. Преимущественно вокальный характер использования означающего у человека объясняется предположительным происхождением его от мелодичных призывных звуков, которыми сопровождались, по-видимому, первоначально половые отношения у людей, точно так же, как происходит это у некоторых видов животных, в особенности у птиц.
Мысль весьма интересная. Но вы сами чувствуете, однако, насколько велика разница между более или менее типичным криком, сопровождающим ту или иную деятельность, и использованием означающего, вычленяющего в нем тот или иной элемент артикуляции, будь то действие или орган. Означающая структура как таковая здесь отсутствует — ничто не позволяет предположить, будто в естественном сексуальном зове налицо тот элемент противопоставления (в Fort-Da, послужившем нам первоначальным примером, уже присутствующий в развернутом виде), который, собственно, в основе структуры использования означающего и лежит. Несмотря на то, что половой зов вполне может соотноситься с временной модуляцией акта, повторение которого способно повлечь за собой фиксацию тех или иных вокальных элементов, элемента, пусть самого примитивного, для выстраивания языка он ничего дать не в силах. Между ним и языком лежит зияние, пропасть.
Интерес статьи заключается, однако, в представлении, которое дает она о возможном подходе к пониманию очень существенного в осмыслении нашего опыта и в теории Фрейда момента — в понимании того, что сексуальный символизм, в самом обычном смысле этого слова, может оказаться тем, что поляризует первоначально метафорическую игру означающих.
На этом и закрываю я эту тему, хотя боюсь, что мне еще придется к ней возвратиться.
Я подумал уже о том, с чего мне сегодня лучше начать, чтобы нить моих размышлений не прерывалась. Побеседовав с некоторыми из своих слушателей, я решил, что небезынтересно будет рассказать вам о лекциях, выступлениях и беседах, которые состоялись у меня в Брюсселе. Дело в том, что все, что я говорю, остается, так или иначе, в русле нашей с вами основной темы, и говоря о ней вне этих стен, я лишь подхватываю ее более или менее на том месте, к которому мы с вами уже подошли.
Было бы опрометчиво с моей стороны миновать то, что я там сказал, молчаливо предполагая, будто это вам прекрасно известно. На самом деле это не так, и не в моих интересах было бы эту тему здесь опустить.
Мой способ строить занятие может вам показаться несколько бесцеремонным, но, учитывая путь, который нам с вами предстоит проделать, у меня слишком мало времени, чтобы руководствоваться педагогическими соображениями. Моя задача не в этом.
Больше того, учительская позиция мне претит, так как, выступая перед непосвященной аудиторией, психоаналитик поневоле становится пропагандистом. Если я и согласился выступить в Католическом университете Брюсселя, то лишь для того, чтобы поддержать, в порядке взаимопомощи, наших живущих и работающих в Бельгии друзей и коллег. Но соображение это носит в моих глазах не существенный, а, скорее, чисто второстепенный характер.
Итак, я оказался перед широкой и производившей, во всех отношениях, очень благоприятное впечатление публикой, приглашенной на мое выступление Католическим университетом — самого этого факта вполне достаточно, чтобы объяснить вам, почему предметом моего разговора стало отношение Фрейда к функции Отца.
При этом я, как водится, не ходил вокруг да около и в выражениях не стеснялся. Я не пытался позицию Фрейда по отношению к религии как то смягчить. Вы знаете, однако, какую позицию по отношению к религиозным истинам занимаю я сам.
Хотя позиция эта была сформулирована достаточно ясно, я считаю необходимым все же кое-что уточнить. Дело в том парадоксальном обстоятельстве, что по соображениям ли личного характера, или во имя так называемого научного метода, разделяемого порой и людьми, которые, оставаясь верующими, полагают своим долгом отрешиться в определенной области от точки зрения чисто конфессиональной, предметы, термины и доктрины, принадлежащие области веры как таковой изымаются из обсуждения и изучения под тем предлогом, что принадлежат к сфере, куда всем, кроме верующих, вход заказан.
Вы сами слышали, как я недавно прямо воспользовался тем отрывком из послания Апостола Павла к Римлянам, где речь идет о том, как закон порождает грех. Вы помните, конечно, что ценой небольшой подтасовки — без которой я прекрасно мог бы, кстати говоря, обойтись, — а именно введением Вещи на место греха, мне удалось точно сформулировать свою мысль о связи между желанием и законом. Так вот, я вовсе не считаю, что этот в данном конкретном случае по-своему эффективный и позволивший удачно, путем небольшой уловки, прийти к тому самому, что я старался вам показать, пример обязан своим происхождением чистой случайности.
Для нас, аналитиков, считающих себя способными, когда дело касается явлений, относящихся к нашей области, подниматься над определенными до-психологическими концепциями и подходить к человеческой действительности непредвзято, нет нужды проявлять с религиозными истинами какую бы то ни было, а тем более до прямой веры доходящую солидарность, чтобы непосредственно обратиться к тому, что в терминах, характерных для религиозного опыта — в терминах, скажем, конфликта между свободой и благодатью — оказывается артикулировано.
Понятие благодати, в силу точности своей формулировки, оказывается, когда речь идет о психологии поступка, просто незаменимо — в классической психологии академического толка мы ничего подобного не найдем. Не только сами религиозные учения, но и история актов выбора, то есть ересей, в этой области засвидетельствованных, исторические движения, которые задали ориентацию, вылившуюся в ряд конкретных, переходивших из поколения в поколение этических установок, — все это не только подлежит для нас изучению, но и требует от нас, в своем собственном регистре с присущими ему средствами выражения, самого пристального внимания.
Если определенные темы обсуждаются преимущественно людьми, которые верят, будто они веруют — а откуда им, вообще говоря, это знать? — то этого еще недостаточно, чтобы область эта стала их исключительным достоянием. Если они действительно в это верят, то для них это не верования, а просто истины. Если они во что-то верят, то независимо от того, верят они, что верят, или же нет — двусмысленнее веры ничего не бывает, — ясно одно: они верят, будто это знают. Перед нами такое же знание, как любое другое, и в качестве такового попадающее, как и всякое знание, в область нашего изучения, поскольку мы, будучи аналитиками, полагаем, что не существует знания, в основе которого не лежало бы неведение.
Последнее как раз и позволяет нам признавать знанием знания самого разного толка, а не только знание научно обоснованное.
И потому я не считаю, что напрасно предстал перед аудиторией, представлявшей очень важный сектор общественности. Смог ли я на самом деле заставить кого-то задуматься, остается вопросом. Это покажет будущее. Вы представляете собой совершенно иную аудиторию и для вас мысли эти прозвучат совершенно иначе.
Фрейд занял в отношении религиозного опыта позицию самую непримиримую, заявив, что все, сюда относящееся, имеет чисто сентиментальную подоплеку, лично ему ничего не говорит и всегда оставалось для него мертвой буквой. Дело, однако, в том, что для нас, с нашим отношением к букве, это ничего не решает — пусть мертвая, буква эта была как-никак ясно артикулирована. И выступая перед людьми, которые не могли, по-видимому, отречься от определенных непосредственно затрагивающих функцию Отца положений, поскольку они, положения эти, представляют собой сердцевину того опыта, который заявляет о себе как об опыте религиозном, я мог со спокойной совестью позволить себе заявить, что, говоря на эту тему, Фрейд — как я выразил эту мысль в насторожившем публику подзаголовке своего выступления — держит равновесие.
Достаточно открыть маленькую книжицу, именуемую Моисей и монотеизм — книжицу, которую Фрейд кропал потихоньку в течение десяти лет, так как после Тотема и табу он только и думал, на самом деле, что об истории Моисея и религии своих отцов. Если бы не статья о Spaltung, расщеплении эго, можно было бы вообще сказать, что после завершения Моисея и монотеизма перо выпало у него из рук. Вопреки тому, что мне, говоря о том, что было написано Фрейдом в последние годы жизни, пытались эти последние недели внушить, я вовсе не полагаю, будто он переживал в это время период творческого упадка. Трудно, во всяком случае, представить себе нечто более четко артикулированное и лучше увязанное с более ранними его мыслями, нежели Моисей и монотеизм.
Речь в этой работе идет об идее монотеизма как таковой, которая в глазах Фрейда несет на себе бесспорную печать преимущества перед любой другой. Тот факт, что Фрейд был атеистом, здесь совершенно ничего не меняет. Для такого атеиста, как Фрейд, — хотя не для всякого атеиста, конечно — идея эта ведет, в радикальных своих последствиях, к чему-то такому, что имеет для него решающую ценность. Поэтому существуют, конечно, превзойденные, отжившие формы, которые самостоятельного интереса, помимо роли своей в качестве носителей этой идеи, уже не имеют, но принципиально это ничего не меняет.
Смысл картины, которая рисуется нам в рассуждениях Фрейда, не оставляет сомнений. Он не имеет в виду, что помимо монотеизма ничего нет, боже упаси. Никакой теории относительно богов он не предлагает, но в книге достаточно говорится об атмосфере, с которой обыкновенно связывают представление о язычестве — позднейшее представление, связанное с сохранением язычества преимущественно среди сельского населения. В этой языческой атмосфере в период ее цветения нужен встречался повсюду — на каждом шагу, на любом углу, в каждом гроте, на каждом перекрестке дорог. Вся жизнь людей была буквально пронизана им и следы этого присутствия встречаем мы во многих областях до сих пор. Здесь перед нами черта, которая монотеистическому исповеданию веры откровенно противоположна.
Нуминозное возникает в язычестве на каждом шагу, и наоборот, каждый шаг нуминозного оставляет свой след, порождает памятник. Достаточно самого малого его вмешательства, чтобы воздвигнуть новый храм или учредить новый культ. Нуминозное размножается и кишит в человеческой жизни буквально повсюду, в таком изобилии, что человеку необходимо оказывается, в конце концов, явить свою власть, чтобы удержать этот процесс в каких-то границах.
Именно эту грандиозную картину развития язычества, а вместе его упадка, и рисуют нам античные сказания. Нам трудно представить себе, что сказания эти, столь богатые смыслом, что мы до сих пор позволяем ими себя убаюкивать, были совместимы с какой бы то ни было верой в Бога — настолько все они, будь то героические или простонародные, наполнены рассказами о беспорядочных, безумных, анархических страстях, которым одержимы их божества. Для героических сказаний смех олимпийцев в Илиаде служит тому достаточной иллюстрацией. О смехе вообще можно было бы сказать многое. Зато в писаниях философов мы находим, наоборот, изнанку этого смеха, этих смехотворных божественных похождений. Все это нам трудно сегодня себе представить.
И вот, в этой обстановке, возникает монотеистическая идея. Как это возможно? Каким образом вышла эта идея на поверхность? Ответ Фрейда на этот вопрос очень важен, позволяя оценить уровень, на который поднимается его мысль.
В основе построения Фрейда лежит гипотеза о Моисее-египтянине и Моисее-мидианите. Такая аудитория, как вы, на восемьдесят процентов состоящая из психоаналитиков, знает эту книжку, полагаю, едва ли не наизусть.
Моисей-египтянин являл собой фигуру великого человека, законодателя, и вместе с тем политика, рационалиста, усвоившего себе дух тех идей, появление которых Фрейд связывает с появлением в Египте в четырнадцатом веке до рождества Христова засвидетельствованной последними открытиями религии Эхнато-на. Религия эта провозглашает своего рода энергетический унитаризм, символизируемый солярным органом, откуда энергия эта изливается в мир и распределяется в нем. Эта первая попытка рационалистического видения мира, воплощенного в унитаризме реального, в идее субстанционального единства мира, сосредоточенного в солнце, окончилась неудачей. С исчезновением Эхнатона религиозные сюжеты вновь множатся в изобилии, причем в Египте активнее, чем где-либо еще, пандемониум богов берет верх и сводит реформу на нет. Находится, однако, человек, который подхватывает знамя этого рационалистического видения мира — это Моисей-египтянин, который избирает небольшую группу людей, чтобы провести их через испытания, сделающие их достойными основать сообщество, построенное на этих принципах. Находится, другими словами, человек, пожелавший построить социализм в одной отдельно взятой стране — с той разницей, однако, что никакой страны у него в распоряжении не было, а была лишь горстка людей, с которыми предстояло эту страну создать.
Именно так представлял себе Фрейд подлинного Моисея, этого Великого Человека — остается лишь понять, каким образом идея его оказалась нам передана.
Вы скажете, что Моисей этот был, как-никак, волшебником, иначе как бы он смог развести столько кузнечиков и лягушек? Это его дело. С той точки зрения, которая нас сейчас занимает, с точки зрения религиозной, это принципиального значения не имеет. Оставим использование магии в стороне — она ему, впрочем, до сих пор ни в чьих глазах не повредила.
Наряду с этим Моисеем имеется, однако, и другой — мидианит, зять Иофора, которого Фрейд называет также синайским или хо-ривским и фигура которого слилась впоследствии, по его мнению, с фигурой первого. Именно этот, второй Моисей и слышит обращенные к нему из неопалимой купины решающие слова, которые нельзя, как сделал это Фрейд, обходить стороной — словак есмь, но не тот, который есть, как попытался истолковать их христианский гнозис, вовлекая нас в затруднения относительно бытия, которым и сейчас не видно конца и которые эту экзегетику в значительной мере успели скомпрометировать, а то, что есмъ, то есть Бог, который предстает как по существу своему сокрытый.
Этот сокрытый Бог является вместе с тем и Богом ревнивым. Его нелегко, похоже, отделить от того, кто, тоже оставаясь недоступным в кольце скрывающего его пламени, сообщает, согласно библейскому сказанию, свои заповеди собравшемуся народу, не позволяя ему, в тоже время, перейти определенный предел. Поскольку заповеди эти выдержали испытание временем, то есть независимо от того, следуем мы им или нет, мы их по прежнему слышим, сама неразрушимая прочность их может свидетельствовать о том, что они, как я уже попытался вам показать, представляют собой законы самого языка.
Относительно Моисея-мидианита у меня возникает особый вопрос — мне очень хотелось бы знать, с кем, или с чем, стоял он на самом деле лицом к лицу на Синае и на Хориве. В конце концов, не в силах выдержать исходящий от лика сказавшего Я есмъ то, что есмъ свет, мы довольствуемся утверждением, что для нас с вами неопалимая купина была для Моисея Вещью, и на этом ее оставим. Но как бы то ни было, последствия, которые имело это откровение, нам предстоит оценить.
Каким образом решает эту проблему Фрейд? Он полагает, что Моисей-египтянин был убит своим народцем, к идее построения социализма в одной отдельно взятой стране оказавшимся куда менее терпимым, чем наши. Впоследствии люди эти опутали себя по отношению к Богу парализующей всю их жизнь сетью заповедей, чиня при этом всяческие неприятности своим многочисленным соседям — вспомним, что представляла собой, на самом деле, история евреев в ту пору. Достаточно перечитать эти древние хроники, чтобы ясно стало, что в насильственной колонизации в Ханаане толк знали — так, порою они склоняли соседние народности к поголовному обрезанию, чтобы затем, пользуясь немощью, которая некоторое время после этой операции между ног ощущается, благополучно их истребить. Я, впрочем, не говорю это в упрек религии, оставившей этот период далеко позади.
Несмотря на все сказанное, Фрейд, впрочем, ни мгновение не сомневается, что главной темой еврейской истории является несение вести о едином Боге.
Вот таким образом обстоят дела. Фигура Моисея расслаивается надвое — Моисея-рационалиста, и Моисея-одержимого обскуранта, о котором почти ничего в источниках не говорится. Фрейд, однако, основываясь на дошедших до нас исторических материалах, считает, что единственным фактором, который мог способствовать распространению идеи Моисея-рационалиста, могло послужить то обстоятельство, что идея эта передавалась безотчетно, под покровом мрака, будучи связанной, в вытеснении, с умерщвлением Великого Человека. Именно благодаря этому, утверждает Фрейд, могла она сохранить при передаче ту действенность, которую история по праву позволяет нам оценить. Мысль Фрейда подходит к христианской традиции столь близко, что это поистине впечатляет — монотеистическая традиция получает свое завершение в том, что первоначальное убийство Великого Человека проявляется во втором, которое его, в определенном смысле, делает явным и обнаруживает: в убийстве Христа. И лишь по мере того, как тайное проклятие первого убийства, влияние которого объясняется, в свою очередь, тем, что оно перекликается с убийством, которому обязано своим возникновением человечество, убийством первобытного отца-вожака, выходит на свет, совершается то, что мы по праву должны назвать, ибо именно так называет его в своем тексте Фрейд, христианским искуплением.
Только эта традиция доводит до конца откровение того, что представляет собой первоначальное преступление, полагающее начало закону.
Как не констатировать после этого оригинальность фрейдовской позиции по отношению ко всему тому, что история религии нам до него предлагала? История религии занимается главным образом тем, что пытается извлечь из религий своего рода общий знаменатель религиозности. Мы выделяем в человеке своего рода религиозный сегмент и превращаем его в отдельное измерение, куда и вынуждены оказываемся включить религии настолько разные, как религия острова Борнео, конфуцианство, даосизм и христианство. И хотя сделать это нелегко, но встав на путь обобщений, так или иначе к чему-нибудь да приходишь. В данном случае человечество пришло к классификации чисто воображаемого материала, прямо противоречащей заповеди, которая с самого начала для монотеистической религии была характерна и которая в число первых заповедей, представляющих собой закон речи, с самого начала была включена — не сотвори себе резного изображения, гласит эта заповедь, а если не хочешь рисковать лишний раз, не сотвори изображения вовсе.
И коли уж так получилось, что разговор у нас шел о первоначальной сублимации в архитектуре, затрону я и проблему разрушенного храма, от которого не осталось и следа. Какая особая символика, какие предосторожности, какие особые соображения заставили изгнать из него, вплоть до самого последнего уголка, все то, что могло бы, на стенках этой вазы, вызвать в воображении, что очень нетрудно, образы животных, растений, и другие формы, которые находим мы на стенах первобытной пещеры? Ведь храм этот призван был, на самом деле, служить лишь оболочкой того, что находилось в его сердцевине — ковчега Завета, символа союза в чистом виде, узла, связавшего воедино сказавшего о себе Я есмь то, что есмь и давшего заповеди и народ, который принял эти заповеди, чтобы отмечен был между всеми народами тот, чьи законы мудры и исполнены смысла. Каким образом смогли они построить храм так, чтобы избежать при этом всех ловушек искусства?
Никакой документ, никакой зримый образ не поможет нам этот вопрос решить. Я оставляю его покуда открытым.
Речь идет о том, что когда Фрейд говорит в Моисее и монотеизме о моральном законе, то он всецело связывает его с сюжетом, разыгранным, по его собственным словам, и исчерпанным до конца лишь в рамках иудео-христианства.
Что касается других религий, которые он расплывчато характеризует как восточные, имея в виду, как мне кажется, всю гамму, включающую Будду, Лао-Цзы, и многих других, то все они — заявляет он со смелостью, перед которой, как бы рискованна она ни казалась, нам остается только преклониться — представляют собой не более чем культ Великого Человека. А это значит, что все они остановились на полдороге, по эту сторону убийства Великого Человека, оставшись в состоянии более или менее незрелом.
Я не готов сам под всем этим подписываться, но в истории перевоплощений Будды действительно найдется немало рассказов, где можно, с той или иной степенью правдоподобия, найти подтверждение мысли Фрейда о том, что именно в силу неспособности своей довести драму до своего логического конца, то есть до христианского искупления, остановились эти религии в своем развитии. Излишне и говорить, что под пером Фрейда христоцен-тризм этот выглядит по меньшей мере поразительно. И если он, едва ли сам это замечая, к нему соскользнул, на то должны были быть, по меньшей мере, какие-то причины.
Как бы то ни было, здесь открывается продолжение того пути, которым нам предстоит последовать.
Для того, чтобы нечто носящее характер закона могло быть передано, необходимо, чтобы оно проследовало путем, проложенным первоначальной драмой, описанной в Тотеме и табу Фрейда, то есть путем убийства отца и его последствий, путем лежащего в основании культуры умерщвления отцовской фигуры, о которой нельзя, на самом деле, сказать что-либо определенное; сомнительной, но устрашающей, фигуры всемогущего, представляющего собой наполовину животное, вождя первобытной орды, убитого своими сыновьями. Вследствие этого убийства — вывод, достойный самого тщательного обсуждения — между сыновьями возникает соглашение, которое ложится в основу закона. Это и есть та решающая для возникновения закона фаза, которую Фрейд искусно связал с убийством отца, идентифицировав ее с двусмысленным отношением сына к отцу, то есть с возвращением любви после содеянного поступка.
В этом-то поступке вся загадка и заключается. Он призван заслонить собою тот факт, что убийство отца не только не открывает путь к наслаждению, на которое присутствие отца якобы накладывало запрет, а, напротив, этот запрет усиливает. В этом-то все и дело, и именно здесь, в самом действии, как и в его объяснении, налицо слабое место. Несмотря на то, что препятствие, путем убийства, оказалось устранено, наслаждение остается под запретом — и более того, запрет становится строже.
Промах этот не только поддерживается, артикулируется, обнаруживается соответствующим мифом, но этим же самым мифом тщательно камуфлируется. Вот почему так важно понять, что Тотем и табу — это прежде всего миф, и более того, как уже было сказано, это, может быть, единственный миф, на который современная эпоха оказалась способна. И придумал этот миф именно Фрейд.
Нам с вами важно зацепиться за то, что из этого промаха следует. Все, что через запрет перешагивает, составляет долг и заносится в Большую Долговую Книгу. Любое получаемое наслаждение несет в себе нечто такое, что записывается в Долговую Книгу Закона. Более того, приходится допустить, что в правиле этом налицо либо парадокс, либо место какого-то сбоя, так как переход означенного порога в другом направлении дает отнюдь не симметричные результаты.
В самом деле, в Недовольстве культурой Фрейд отмечает, что всякая уступка в наслаждении в пользу запрета приводит, опять же, к его, этого запрета, дальнейшему ужесточению. Любой, кто подчинит себя моральному закону, станет свидетелем того, как все более строгими, мелочными, жестокими становятся требования его Сверх-Я.
Почему в обратном направлении это правило не работает? То, что оно не работает, это факт, и любой, кто во имя отказа, в какой угодно форме, от морального закона попробует предаться необузданному наслаждению, встретит препятствия, о живучести которых наш опыт неопровержимо свидетельствует — препятствия, чьи многообразные проявления не исключают возможности происхождения их из одного корня.
В итоге мы приходим к выводу, что для доступа к этому наслаждению необходимо преступление, трансгрессия и что именно этой цели — здесь мы вновь вторим апостолу Павлу — служит закон. Трансгрессия в направлении наслаждения не может не опираться на противоположное себе начало, на формы Закона. И если сами по себе пути наслаждения заключают в себе нечто такое, что ослабляет наслаждение, стремится сделать его неосуществимым, то именно запрет служит ему тем, так сказать, вездеходом, тем гусеничным транспортом, что позволяет выбраться из лабиринта петель, где человек блуждает по кругу, на прямую и наезженную колею удовлетворения.
Вот чему учит нас, при условии, что мы прислушиваемся к словам Фрейда, психоаналитический опыт. Необходимо было, чтобы грех имел Закон, и только при этом условии может грех, как говорил апостол Павел, стать — никто не говорит, что это ему удается, но перспектива такая перед ним открывается — крайне грешен.
Покуда мы наблюдаем здесь узел, в который тесно связаны между собою желание и закон. Идеал Фрейда представляет собой, поэтому, тот умеренный идеал честности и порядочности, который можно назвать, придав этому слову идиллический смысл, патри-
229
архальным. Отец семейства являет здесь собою тот самый до слез чувствительный персонаж, что выступает в качестве человеческого идеала в пьесах Дидро и фигурирует, в качестве излюбленной темы, на гравюрах восемнадцатого столетия. Предполагается, что патриархальная порядочность эта осторожно сообщает нам доступ к удовлетворению наших умеренных, нормальных желаний.
Но сколь бы новым то, что несет в себе предлагаемый Фрейдом миф, ни выглядело, каким-то образом оно, безусловно, уже было востребовано. И разглядеть, каким именно требованиям оно отвечает, не так уж трудно.
Если миф о происхождении Закона воплощается в убийстве отца, то именно отсюда берут свое происхождение прототипи-ческие фигуры, принимающие последовательно облик тотеми-ческого животного, того или иного, более или менее могущественного и ревнивого, божества и, наконец, единого бога, Бога-Отца. Миф об умерщвлении отца — это миф той эпохи, для которой Бог мертв.
Но если Бог мертв для нас, то произошло это потому, что он был мертв с самого начала — это как раз Фрейд и говорит нам. Он вообще никогда не был отцом, кроме как в мифологии сына, то есть в мифологии заповеди, повелевающей его, отца, возлюбить, и в драме страстей, свидетельствующей о воскресении по ту сторону смерти. Это значит, что человек, воплотивший в себе смерть Бога всегда здесь, с нами. И с ним — та заповедь, что повелевает нам любить Бога. И вот перед этим-то Фрейд и останавливается, как останавливается он — в Недовольстве культурой об этом сказано прямо — перед любовью к ближнему, заповедью, которая представляется нам невыполнимой и, более того, непонятной.
В следующий раз мы попытаемся объяснить, почему. Сегодня я хотел бы обратить внимание лишь на то — я не первый это заметил, — что в самом христианстве есть определенная атеистическая идея. Именно христианство, утверждает Гегель, окончательно свергло богов с пьедестала.
Человек пережил смерть Бога, приняв ее на себя, но, делая это, он предлагает нам себя сам. Языческая легенда гласит, что в Эгейском море, в момент, когда разодралась завеса Иерусалимского храма, моряки слышали возглас: Великий Пан умер. Хотя в Недовольстве культурой Фрейд и выступает как моралист, перед заповедью любви к ближнему он останавливается. Именно к этой проблеме, к самому средоточию ее, подводит нас его теория склонности. Связь Великого Пана со смертью — вот проблема, перед которой психологизм теперешних учеников Фрейда оказался бессилен.
Именно поэтому свою вторую лекцию в Брюсселе я посвятил любви к ближнему. Это еще одна тема очередной встречи с моей аудиторией. О том, чем эта встреча закончилась, я предоставлю вам возможность судить в следующий раз самим.
16марта I960 года.
XIV Любовь к ближнему
Особый Бог. Foolи Knave. Истина об истине. В каком отношении наслаждение есть зло. Святой Мартин. Кантианские анекдоты.
Вы помните, что в прошлый раз я продолжил разговор, воспользовавшись темой, предназначенной для католической аудитории. Не подумайте, что таким образом я собирался облегчить себе жизнь. Я не просто передал вам сказанное мною в Брюсселе — я не сказал им и половины того, о чем говорил вам.
То, что я сказал в прошлый раз о смерти Бога-Отца, подводит нас к следующему волновавшему Фрейда вопросу — вопросу, из которого явствует, что он подходит, не обинуясь, к самой сердцевине нашей подлинной жизненной проблематики. Он не уходит в бесплодные обобщения относительно функции религии в человеческой жизни. Его интересует способ, которым эта функция непосредственно нас затрагивает, — та заповедь, которая артикулирована в нашей цивилизации как заповедь любви к ближнему.
1
Фрейд подходит к этой заповеди с полной серьезностью. И если вы потрудитесь его Недовольство культурой прочесть, то сами увидите, что именно с нее он начинает, с ней ведет непрерывно спор и на ней заканчивает. Только об этом он, по сути, и говорит. То, что он о ней говорит, должно было бы, вроде, оскорблять слух и встречаться зубовным скрежетом. Но, как ни странно, ничего подобного — стоит тексту получить на какое-то время в печатном виде хождение, и преходящее головокружение, именуемое чувством ориентации, у читателей исчезает бесследно.
Итак, я попытаюсь основные ориентиры этого текста оживить в вашей памяти. А поскольку это заставит меня высказать вещи не слишком, пожалуй, удобоваримые, мне остается лишь обратиться к самому языку, к логосу, как говорил Фрейд, с просьбой подсказать мне по возможности умеренные выражения.
Итак, Бог мертв. А если Он мертв, то Он был мертв всегда. Я уже объяснил вам суть того, что Фрейд по этому поводу думал, то есть мифа, изложенного им в книге Тотем и табу. Только потому, что Бог мертв, и был мертв с самого начала, могла до нас дойти пронесенная множеством верований весть, в которой он предстает вечно живым, восставшим из пустоты, оставленной после его смерти среди тех не знающих противоречий богов, которыми в особенности бурно кишела, как уверяет нас Фрейд, египетская земля.
Вестью этой является весть о едином Боге, который является в одно и то же время правителем мира и подателем того света, что согревает своим теплом жизнь и просвещает ее лучами сознания. Ее атрибуты — это атрибуты мысли, вносящей в Реальное свой порядок. Это Бог Эхнатона, божество тайной вести, носителем которой и является еврейский народ, поскольку, умертвив Моисея, он воспроизвел тем самым архаическое убийство отца. Это и есть, согласно Фрейду, тот Бог, к которому обращено бывает далеко не всем доступное чувство, именуемое amorintellectualisDei.
Фрейд знает также, что хотя в любви этой и признаются порою незаурядные люди, вроде обитавшего некогда в Амстердаме полировщика линз, сила ее не настолько велика, чтобы помешать, скажем, возведению, в ту же самую эпоху, того Версаля, стиль которого неопровержимо свидетельствует о том, что колосс книги пророка Даниила твердо стоял тогда на глиняных своих ногах, как стоит, сколько бы раз ни сокрушали его, и по сей день.
Нельзя, конечно, отрицать, что на хрупкой вере, о которой я только что говорил, построено было здание новой науки — науки, суть которой, неизменно образующая горизонт нашего мировоззрения, выражается формулой, согласно которой реальное — рационально, а рациональное — реально.
Как ни странно, но наука эта, оставшись этой формуле до какой то степени верной, пребывает тем не менее в услужении у колосса, о котором я только что говорил и который, хотя и был уже сотни раз сокрушен, стоит покуда неколебимо. Культ любви, который одиночки, вроде Фрейда или Спинозы, воздают Богу-подателю благой вести, не имеет ничего общего с Богом верующих. Это ясно всем, и в первую очередь самим верующим, которые, будь то христиане или иудеи, никогда не упускали случая чинить Спинозе разнообразные неприятности.
Забавно, однако, наблюдать, как с некоторого времени — с того, собственно говоря, как известно стало, что Бог мертв — верующие эти пустились в двусмысленности. Ссылаясь на Бога диалектики, они пытаются создать своему пошатнувшемуся культу алиби. Как это ни парадоксально, но факел Эхнатона впервые в истории поставлен в наши дни на службу поклоняющимся Амону сектантам.
Говоря это, я не собираюсь принизить историческую роль Бога верующих, Бога иудео-христианской традиции. И если именно эта традиции донесла весть Эхнатонова бога до наших дней, то не напрасно оказался египетский Моисей спутан с Мо-исеем-мидианитом — тем, Вещь которого, та самая, что говорила с ним из неопалимой купины, не претендуя, обратите внимание, на звание единственного Бога, заявила о себе как о Боге особом, перед которым другие боги приниматься в расчет не могут. Я настаиваю на этом моменте ровно настолько, насколько для хода моих рассуждений мне это необходимо — не то чтобы других богов запрещено было почитать вообще, но делать это в присутствии Бога Израиля было недопустимо. Для историка это нюанс очень важный.
Пытаясь артикулировать мысль Фрейда и его опыт таким образом, чтобы выявить вполне их значения и последствия, мы приходим, в конечном итоге, к формуле, которая звучит так — если Бог-симптом, Бог тотема и табу, и заслуживает того, чтобы попытка выстроить вокруг него миф стала предметом нашего рассмотрения, то лишь постольку, поскольку он послужил для нас проводником истины. Именно через него явлена оказалась миру истина о Боге — истина, гласящая, что Бог действительно был людьми предан смерти, и что воспроизведением этой смерти первоначальное убийство было искуплено. Истина проложила себе путь через того, кого Писание, именующее его, конечно же, Словом, нарекло также Сыном Человеческим, свидетельствуя тем самым о человеческой природе Отца.
Фрейд отнюдь не обходит Имя-Отца стороной. Напротив, в Моисее и монотеизме он высказывается о нем вполне ясно, хотя те, кто принимает Тотем и табу не за то, чем этот текст в действительности является, то есть не сумел разглядеть в нем мифа, могут усмотреть в словах Фрейда противоречие. Суть же сказанного Фрейдом в Моисее и монотеизме состоит в том, что в истории человечества признание функции Отца является сублимацией — сублимацией, необходимой для выхода к новой духовности и поэтому представляющей собой новый шаг в восприятии реальности как таковой.
Но при этом Фрейд не обходит стороной и отца реального. Для него остается желательным, чтобы у субъекта во всех его жизненных перипетиях был налицо если не Отец в качестве Бога, то хотя бы просто хороший отец. Я зачитаю вам когда-нибудь один отрывок из Фрейда, где он почти с нежностью говорит о мужской идентификации, источником которой является любовь к отцу, и о роли этой идентификации в приведении желания к норме. Но процесс этот дает благоприятные результаты лишь при условии, что все в порядке со стороны Имени-Отца, то есть со стороны Бога — того самого, который, как мы сказали, не существует. Отсюда вытекает, что пресловутый хороший отец оказывается в положении крайне затруднительном — что-то в этом персонаже вечно хромает.
Нам это предостаточно известно из собственной практики, да и миф об Эдипе говорит, собственно, то же самое. Хотя одновременно и показывает, что причин этого самому субъекту лучше не знать. Теперь, однако, субъект их, эти причины, прекрасно знает, и отсюда вытекают в наше время в отношении этики кое-какие следствия.
Следствия эти извлекаются без всякого с нашей стороны участия. Они дают о себе знать не только в повседневной речи, но и в дискурсе психоанализа. И чтобы выполнить задачу, которую мы с вами в этом году перед собой ставим, следствия эти подобает артикулировать. Первым делом необходимо демистифицировать функцию Отца. Сам Фрейд, между прочим, тоже на роль хорошего отца не очень тянул. Я не хочу сегодня слишком много этому уделять внимания, но в его биографии это чувствуется и об этом можно написать отдельную главу. Нам здесь достаточно констатировать, что он был типичным буржуа и, как говорит его биограф и почитатель Джонс, любящим мужем, uxorious. Хорошо известно, что подобный тип не бывает образцовым отцом.
Но даже в той области, где он является поистине отцом, нашим с вами общим отцом, отцом психоанализа, разве он не оставил после себя свое детище в руках женщин и олухов? Что касается женщин, то мы от суждений воздержимся — это создания многообещающие, хотя бы потому, что обещания так и остаются покуда не выполнены. Ну, а олухи — это другое дело.
Поскольку такая тонкая проблема, как проблема этическая, неотделима в наши дни от того, что именуется идеологией, мне представляется уместным сделать некоторые уточнения относительно политического смысла того переворота в этике, за который мы, наследники Фрейда, несем ответственность.
Я только что говорил об олухах. Выражение это может показаться неуместным и даже несколько нарушающим чувство меры. Я хотел бы пояснить, что я, собственно, имел в виду.
Однажды, вы, может быть, помните, уже давно, вскоре после основания нашего Общества, у нас, при обсуждении платоновского Менона, зашел разговор об интеллектуалах. Я хотел бы высказать на этот счет несколько общих, но, на мой взгляд, проясняющих эту проблему соображений.
Как мы тогда отметили с вами, существуют, и притом уже давно, два разных явления — интеллектуал левый и интеллектуал правый. Я хотел бы предложить для тех и других определения, которые могут показаться поначалу резкими, но позволят лучше понять, в каком направлении двигаться.
Олух, или, иначе говоря, тормоз — очень симпатичное мне словечко, — лишь приблизительно описывают нечто такое, для чего английский язык и литература выработали, на мой взгляд — я к этому еще вернусь — означающее значительно более ценное. Целая традиция, начавшаяся с Чосером и достигшая своего расцвета в елизаветинском театре, выросла в них вокруг термина^ооД
Fool— это безобидный умственно отсталый, но устами его говорят истины, которые окружающими не просто терпятся, но и применяются порою на деле, так как foolэтот наделяется порою знаками шутовского достоинства. Эта блаженная сень, это лежащая в основе поведения foolery- вот что придает в моих глазах цену левому интеллектуалу.
Этому качеству я противопоставил бы то, для чего та же традиция предлагает современный этому последнему и употребляемый в паре с ним — я приведу вам, если у нас будет время, тексты, где примеры этого употребления, вполне недвусмысленные, встречаются в изобилии — термин knave.
В определенных случаях слово knaveпереводится как слуга, но этим его значение далеко не исчерпывается. Knave- это не циник, в котором есть все же что-то героическое. Это, скорее, тот, кого Стендаль именует продувным плутам, то есть, собственно говоря, господин Всякий-и-Каждый, только, разве что, посмелее других.
Любому известно, что часть идеологии правого интеллектуала состоит в том, что он выдает себя за того, кем, собственно, и является — за knave, человека, который не останавливается перед последствиями так называемого реального взгляда на вещи. Другими словами, он готов, когда это нужно, сознаться, что он — каналья.
Здесь интересны прежде всего результаты. В конце концов, каналья олуха стоит — он, по крайней мере, столь же забавен. Беда в том, что когда канальи сбиваются в стадо, они неизбежно превращаются в стадо олухов. Вот почему правая идеология приводит в политике к столь плачевным итогам.
Обратим, однако, внимание на одну не вполне очевидную вещь — я имею в виду своеобразный эффект хиазма, состоящий в том, что характеризующая стиль левого интеллектуала fooleryкончается коллективным канальством, групповым knavery.
То, что я предлагаю вам здесь как тему для размышления, является, не буду этого скрывать, признанием. Те среди вас, кто хорошо меня знают, имеют понятие о моем круге чтения и о том, какие периодические издания лежат на моем рабочем столе. Должен признаться, что больше всего радости мне доставляет невольно выдаваемое ими коллективное канальство, этакая беспринципность с невинной миной, спокойная наглость, позволяющая провозглашать столько героических истин, не неся за это ни малейшей личной ответственности. В результате то самое, что обличается на первой странице как служение Маммоне, на последней оборачивается нежным признанием к ней в любви.
Пускай Фрейд не был хорошим отцом, но он не был, во всяком случае, ни канальей, ни слабоумным. Вот почему о нем можно, хотя это и смущает на первый взгляд, сказать две взаимосвязанные и противоположные вещи — с одной стороны, он был человечен — кто усомнится в этом, прочтя его книги? — и мы должны, как бы ни было это слово скомпрометировано канальями справа, это осознавать, а с другой стороны, он не был олухом, так что прогрессистом, о чем, опять же, свидетельствуют его тексты, его тоже не назовешь.
Я сожалею, но это факт — прогрессистом Фрейд ни в каком отношении не был, и тому есть даже немало весьма скандальных свидетельств. Отсутствие проявлений оптимизма по поводу открывающихся перед массами перспектив под пером одного из властителей дум нашего времени выглядит обескураживающим, но если мы хотим знать правду, то не стоит закрывать на это глаза.
Вы убедитесь в дальнейшем, насколько полезными нам окажутся эти столь общие, на первый взгляд, замечания.
Один из моих друзей и пациентов видел однажды сон, носивший в себе явственные черты неудовлетворенности, оставшейся у него после моего семинара, в котором кто-то, имея в виду меня, воскликнул — почему не скажет он истину об истине?
Я упоминаю об этом сновидении, потому что нетерпение, о котором оно свидетельствует, снедает, я чувствую, и многих из вас, находя себе выход иными путями. Это, до известной степени, так и есть — истину об истине я, может быть, и вправду не говорю. Но разве не заметили вы, что попытки ее высказать, составляющие для так называемых метафизиков главное их занятие, приводят к тому, что от нее, истины, мало что остается? В этом как раз сомнительность таких претензий и дает себя знать. Они как раз и виной тому, что нас зачисляют по разряду каналий. И когда под личиной истинных высказываний об истине очередной современный трактат по метафизике протаскивает вещи, которые, на самом деле, совершенно недопустимы, нет ли в этом тоже определенного knavery, только на сей раз метафизического пошиба?
Лично я довольствуюсь тем, что говорю истину в первой степени и продвигаюсь на этом пути шаг за шагом. Когда я говорю, что Фрейд был человечен, но не являлся при этом прогрессистом, я говорю истинную правду. Попробуем, начав с этого, сделать в сторону истины еще один верный шаг.
Мы исходили с вами из истины, которую, если следовать анализу Фрейда, приходится признать истинной: все знают, что Бог мертв.
Вот только — это и есть наш следующий шаг — сам Бог об этом не знает. Больше того, он, в согласии с нашим предположением, никогда об этом и не узнает, ибо мертв был всегда. Сказав так, мы приходим, однако, к той самой проблеме, которую нам здесь предстоит разрешить; к тому, чем для нас вся эта история чревата и что подрывает самые основы этики. Проблема эта состоит в том, что наслаждение остается для нас запретным точно так же, как прежде — прежде, чем мы узнали о том, что Бог мертв.
Вот что говорит Фрейд. И это совершенная истина — если не истина об истинном, то уж, во всяком случае, истина о том, что говорит Фрейд.
А это значит, что следуя высказанным Фрейдом в Недовольстве культурой соображениям мы должны признать, что наслаждение представляет собою зло. Фрейд здесь буквально ведет нас, как поводырь, за руку — наслаждение представляет собою зло, потому что оно влечет за собой зло в отношении ближнего.
Это может шокировать, нарушать привычный ход мыслей, смущать покой живущих в Элизиуме теней, но ничего не поделаешь — именно так Фрейд и говорит. Весь психоаналитический опыт он основывает на этом. Он пишет Недовольство культурой специально для того, чтобы это нам сказать. Именно это заявляло о себе все громче, выходило на первый план и становилось все очевиднее по мере того, как обогащался психоаналитический опыт. У явления этого есть имя — это то, что находится по ту сторону принципа удовольствия. Воспринимается оно отнюдь не метафизически — обычно реакции колеблются где-то на грани между конечно нет, и возможно.
Те, кто предпочитает слушать детские сказки, прикидываются глухими, когда говоришь им о врожденной склонности человека к злобе, агрессии, разрушению, а следовательно, и к жестокости. Но это еще не все, на странице 47 французского текста читаем — Человек старается удовлетворить свою потребность в агрессии за счет своего ближнего, эксплуатировать безвозмездно его труд, использовать его без его согласия как сексуальный объект, присваивать себе его имущество, унижать его, причинять ему боль, мучить и убивать.
Если бы я не сказал вам заранее, откуда взят этот текст, мне ничего не стоило бы выдать его за отрывок из маркиза де Сада — следующее наше занятие и будет как раз посвящено освещению моральной проблемы с точки зрения садизма.
Покуда, однако, мы остаемся на уровне Фрейда. В Недовольстве культурой сделана попытка всерьез переосмыслить проблему зла с учетом того радикального изменения, которое произошло в ней в связи с отсутствием Бога. Моралисты всегда старательно обходили эту проблему, и способ, которым они это делали, способен вызвать у тех, кто подходит к опыту непредвзято, лишь отвращение.
Традиционный моралист, кем бы он ни был, обязательно пускается убеждать нас, что удовольствие это благо, что путь блага отмечен для нас удовольствием. Заблуждение поразительное, так как в нем есть парадоксальный аспект, придающий ему, с другой стороны, некоторую безапелляционность. В результате мы оказываемся в дураках дважды — заподозрив неладное и радуясь собственной проницательности, мы оказываемся заморочены еще больше, чем если бы ни о чем не догадывались. И это обычная ситуация, так как любому ясно, что в рассуждениях дежурного моралиста что-то хромает.
Что говорит на этот счет Фрейд? Уже задолго до появления предложенных им в работе По ту сторону принципа удовольствия крайних формулировок становится ясно, что первое же определение принципа удовольствия как принципа неудовольствия, или наименьшего страдания, хотя и предполагает, само собой, нечто лежащее по ту сторону, но призван исключительно к тому, чтобы удержать нас по эту. Благо, в конечном счете, используется лишь для того, чтобы держать нас на почтительном расстоянии от наслаждения.
Из перспективы клинического опыта все это представляется более чем очевидным. Трудно найти человека, который, сделав первый серьезный шаг в направлении наслаждения, тут же не дал бы, ссылаясь на принцип удовольствия, слабину. Это факт, в котором мы осязательно убеждаемся каждый день.
В свете этого становится понятно, почему в определенной философской традиции преобладающее значение в морали получил гедонизм. Традиция эта отныне не выглядит в наших глазах вполне незаинтересованной и непредвзятой.
На самом деле, однако, обжаловать традицию гедонизма мы собираемся вовсе не потому, что она обратила внимание на благотворные последствия удовольствия. Мы упрекаем ее лишь в неумении объяснить, в чем это благо, собственно, состоит. Именно в этом вопросе она передергивает карты.
Теперь становится ясно, почему пресловутая любовь к ближнему приводила Фрейда в такой ужас. Ближний по-немецки будет der Nдchste. Du sollst den Nдchsten lieben wie dich selbst — так звучит по-немецки заповедь возлюби ближнего, как самого себя. Невыполнимость ее Фрейд доказывает несколькими аргументами, которые сводятся, на самом деле, к одному и тому же.
Во-первых, ближний — это злобное существо, с подлинной природы которого Фрейд окончательно снимает покровы. Но это еще не все. Фрейд говорит также — посмеиваться над бережливостью, которая в этих словах сквозит, было бы неуместно — что любовь его представляет собой нечто драгоценное и он не собирается безоговорочно отдавать ее всякому, кто подвернется под руку просто потому, что случился рядом именно он.
Замечания Фрейда, как видим, весьма справедливы и даже трогательны, когда речь заходит о том, на кого может распространяться наша любовь. Так, он доказывает, что можно любить сына своего друга, так как, лишись друг сына, боль его от потери была бы невыносима. Перед нами человек, которому поистине ничто человеческое не чуждо и в котором все аристотелевские понятия о благе находят живое свое воплощение, когда он самым здравым и разумным образом рассуждает о том, с какого рода людьми тем благом, которое представляет собой наша любовь, стоит делиться. Умалчивает он при этом лишь об одном — о том, что как раз на этом пути наслаждение оказывается для нас недоступно.
Благо по природе своей обязывает нас к альтруизму. Но это вовсе не то же, что любовь к ближнему. Фрейд дает нам это почувствовать, хотя нигде не заявляет об этом прямо. Попробуем, оставаясь верными его точке зрения, сделать это вместо него.
Исходным моментом нам может послужить то, что каждый раз, когда Фрейд останавливается, словно в ужасе, перед последствиями заповеди о любви к ближнему, происходит это оттого, что перед мысленным взором его возникают картины живущей внутри ближнего злобы. Но ведь злоба эта живет, следовательно, и во мне самом. Что ближе мне, чем наслаждение, эта сердцевина моего существа — наслаждение, к которому я не решаюсь приблизиться? Ибо стоит мне приблизиться к нему — весь смысл Недовольства культурой именно в этом — как возникает во мне какая-то непостижимая агрессивность; агрессивность, перед которой я отступаю, которую обращаю против себя и которая, заступая место бесследно исчезнувшего Закона, становится сама тем, что мешает мне переступить последнюю пролегающую на пороге Вещи границу.
Пока речь идет о благе, проблемы не существует — и наше благо, и благо нашего ближнего Скроены из одного материала. Святого Мартина, который делится своим плащом с нищим, превозносят до небес, но ведь это, в конце концов, вопрос распределения, ткань и существует, собственно, для того, чтобы ее кроили, и принадлежит она другому в не меньшей степени, нежели мне. В данном случае мы, конечно, имеем дело с удовлетворением первейшей потребности, так как нищий в легенде наг. Но кто знает, быть может, кроме удовлетворения потребности в одежде, он просил Св. Мартина и о чем-то еще — о том, скажем, чтобы тот его убил, или трахнул. Какого ответа следует ожидать при встрече, когда в дело вмешивается не просто благотворительность, а любовь — это совсем иной вопрос.
Полезное по природе своей требует использования. Если я способен оказываюсь сделать что-то за меньшее время и с большей легкостью, чем кто-то другой из находящихся вокруг меня, то я, скорее всего, и буду делать это вместо него, чем и погублю себя, пренебрегая своими обязанностями по отношению к тому ближайшему из ближних, которого я имею в собственном своем лице. Я погублю себя, чтобы обеспечить тому, кому дело это будет стоит больше времени и усилий, что, собственно? — Комфорт, весь смысл которого состоит в том, что если бы комфорт этот, то есть не слишком большая обремененность работой, достался на мою долю, то я воспользовался бы этим досугом получше. Но то, что я сумею им воспользоваться получше, вовсе не факт, даже если в распоряжении моем окажутся все необходимые для этого средства. Не исключено, что я буду просто-напросто изнывать со скуки.
Не исключено поэтому, что давая эти средства другим, я тем самым всего лишь сбиваю их с истинного пути. Их трудности и страдания я вижу лишь в зеркале своих собственных. И дело, конечно, не в недостатке воображения — скорее, мне не хватает чувства, того самого, путь которого столь труден и которое как раз и заслуживает именоваться любовью к ближнему. Обратите внимание заодно и на то, каким образом попадает в ловушку того же самого парадокса дискурс морального утилитаризма.
Утилитаристы, с разговора о которых я, в качестве отступления, курс этого года начал, совершенно правы. Опровергнуть их было бы куда легче, не делай мы им тех возражений, которые мы обычно как раз и делаем. — Господин Бентам — говорим мы — мое благо не совпадает с благом другого, и ваш принцип наибольшего счастья для максимального количества людей наталкивается на требования моего эгоизма. И ошибаемся. Мой эгоизм прекрасно уживается с определенного рода альтруизмом — с альтруизмом, который располагается на уровне пользы. Именно под этим предлогом и избегаю я подходить к проблеме зла, которого желаю я и которого точно так же желает мой ближний. Именно таким образом я, разменивая свое время на звонкую монету в долларовой, рублевой или какой-то иной зоне, исключаю из своей жизни время своих ближних, удерживая всех их, ближних этих, на уровне, где собственное мое существование не так уж реально. Не удивительно в этих условиях, что мир поражен недугом, что человек чувствует себя в цивилизации, в культуре, не по себе.
Я говорю лишь то, что всем известно на опыте — то, чего я хочу, представляет собой благо другого, как я его, по образу своего собственного, представляю. Это не бог весть что. Я хочу блага другого, лишь бы оно оставалось скроено по образу моего. Скажу больше — это лишь бы оно было скроено по образу моего быстро вырождается в лишь бы оно зависело от моих собственных усилий. Мне нет нужды ходить далеко за примерами — желая счастья своей супруге я, разумеется, жертвую своим личным, но где гарантия, что вместе с этим последним не исчезнет бесследно и ее собственное?
Тут, возможно, понимание того, что представляет собой любовь к ближнему, как раз и способно меня правильно сориентировать. Необходимо посмотреть в лицо тому факту, что подлинной трудностью для моей любви является наслаждение ближнего, его злокачественное, патогенное наслаждение.
До крайностей, в которые впадали мистики, отсюда всего лишь шаг. К сожалению, однако, из тех связанных с ними историй, что особо запоминаются, многие отмечены, как мне кажется, печатью какого-то ребячества.
Именно с областью, потусторонней принципу удовольствия, с местом неизреченной Вещи и тем, что в нем происходит, имеем мы дело в рассказах о бросающих вызов нашему здравому смыслу поступках: о том, например, как Анджела из Фолиньо с наслаждением пила воду, в которой перед тем омывала ноги больных проказой — и я еще избавляю вас от деталей, кусочка кожи, застрявшего у нее в горле, и тому подобного — или о том, как Блаженная Мария Алакок поедала, вознаграждаемая за это излияниями духовных даров, экскременты больного. Убедительная сила этих, безусловно, поучительных фактов, без сомнения, несколько поколебалась бы в глазах верующих, принадлежи пресловутые экскременты, скажем, юной красавице, или зайди речь о поедании кучи, наложенной нападающим вашей любимой регбийной команды. Одним словом, эротическая составляющая в подобных рассказах завуалирована.
Вот почему мне придется начать относительно издалека. Мы вплотную подошли к изучению того, что представляло собой, по крайней мере, попытку взломать двери того ада, что находится внутри нас. Человек, сделавший эту попытку, притязал явно на большее, чем мы сами. На самом деле, сделать это призваны именно мы. Вот почему, стараясь шаг за шагом проследить формы, в которых проблема доступа к наслаждению нащупывала себе дорогу, я рассмотрю теперь с вами то, что высказал на этот счет человек по имени маркиз де Сад.
Чтобы поговорить о садизме подробно, мне наверняка понадобилось бы месяца два. Я не буду говорить с вами о Саде как эротике, потому что эротик он никудышный. Чтобы добиться наслаждения с женщиной вовсе не обязательно подвергать ее испытаниям, которые достались на долю бедной Жюстины. Зато в том, что касается этической проблематики, Сад, как мне кажется, высказал вещи необычайно важные, особенно в отношении той проблемы, которой занимаемся сейчас мы с вами.
Прежде, чем подойти на следующем занятии к этой теме, мне хотелось бы под конец дать вам почувствовать, о чем идет речь, на одном примере, принадлежащем — и не случайно — современнику Сада, философу Иммануилу Канту, с именем которого один из предыдущих шагов в моем рассуждении уже был связан.
Сам Кант считал, что пример этот демонстрирует силу закона, сформулированного им как постулат практического разума, как нечто такое, что имеет для нас принудительную силу исключительно в терминах разума, то есть независимо от любых патологических, как выражается он, аффектов, или, иными словами, независимо от мотивов, связанных с субъективной заинтересованностью. Рассматривая этот пример критически, мы подойдем вплотную к тому, что стоит в центре занимающей нас сегодня проблемы.
Пример, о котором я говорю, состоит из двух небольших историй. Первая их них — это история о персонаже, которому предоставляется возможность свидания с желанной для него дамой, на которую он не имеет законных прав — последнее обстоятельство опускать не стоит, так как все, даже самые незначительные детали этой истории представляют собой ловушки — при условии, однако, что выйдя от нее, он будет казнен. Другая история — это история о человеке, который, живя при дворе тирана, оказывается поставлен перед выбором — либо он приносит ложное свидетельство, в результате чего его жертва должна лишиться жизни, либо, в случае отказа, подвергается казни сам.
Относительно первого случая Кант, милый Кант со свойственным ему невинным плутовством, заявляет, что каждый здравомыслящий человек от подобного предложения откажется. Безумца, который согласился бы принять смерть ради ночи с красоткой просто не найдется — ведь речь идет не о поединке, скажем, а просто о верной смерти на виселице. Для Канта решение представляется однозначным.
Во втором случае, какие бы блага лжесвидетельство ни сулило, сколь бы жестокое наказание за отказ от него ни грозило, можно, по крайней мере, представить себе, что субъект задумается, что в нем завяжется внутренняя борьба. Не исключено даже, что субъект, вместо того, чтобы принести это лжесвидетельство, предпочтет встретить смерть — предпочтет во имя императива, именуемого категорическим. Ведь посягнуть на благо, жизнь и честь другого значило бы пойти против всеобщего правила, повергнув тем самым весь мир человека в хаос, отдав его во власть зла.
Не стоит ли нам остановиться на этом и сделать несколько возражений?
Убедительность первого примера зиждется на том, что проведенная с красавицей ночь предстает в нем парадоксальным образом как удовольствие — удовольствие, которое сравнивается с возможным страданием как чем-то ему вполне однородным. Речь, таким образом, идет просто-напросто о выборе между большей или меньшей величиной на шкале удовольствия. И это из кантов-ских примеров еще далеко не самый дурной — так, в "Опыте об отрицательных величинах" Кант рассуждает о чувствах спартанской матери, которая, узнав о гибели своего сына на поле брани, пускается в математические подсчеты и вычитает из удовольствия от славы, которой увенчал погибший свое семейство, боль от известия о его смерти, и что-то еще в том же фантастическом роде. Но обратите внимание — стоит нам мысленным усилием перевести проведенную с дамой ночь из разряда удовольствий в разряд наслаждений, как пример немедленно теряет силу, так как наслаждение как раз и предполагает, без всякого вмешательства со стороны сублимации, принятие смерти.
Другими словами, достаточно рассматривать наслаждение как зло, чтобы вещи обернулись к нам иной стороной и смысл морального закона в данном случае полностью изменился. Ведь любому не составит труда заметить, что если нравственный закон и играет здесь какую-то роль, то роль эта в том и состоит, чтобы послужить этому наслаждению опорой, чтобы грех стал, по слову апостола Павла, крайне грешен. Вот то, на что Кант в данном случае просто-напросто не обращает внимания.
Что касается другого примера, то и в нем, между нами говоря, можно найти логические изъяны. Условия выбора тут несколько иные. В первом случае, удовольствие и страдание предлагаются нам вместе, в одной упаковке, которую мы вольны взять или оставить, ничем не рискуя и отказываясь от наслаждения. Во втором же случае выбор делается между удовольствием и страданием. Подчеркнуть последнее обстоятельство немаловажно, так как выбор этот подается Кантом как аргумент afortiori, что от подлинного значения проблемы нас, в результате, только уводит.
О чем идет речь? О покушении на благо другого как подобного мне объекта применения всеобщего правила или о лжесвидетельстве самом по себе?
А если я, к примеру, ситуацию несколько изменю? Представим себе, что речь идет о свидетельстве правдивом, о моральной проблеме, которая возникает передо мной, когда мне предстоит обличить моего ближнего, моего брата, в деятельности, наносящей ущерб государственной безопасности? При такой постановке вопроса всеобщее правило явно отступает на задний план.
Я, к примеру, которому предстоит сейчас засвидетельствовать перед вами, что не существует закона блага, кроме как во зле и посредством зла, — должен ли я это свидетельство приносить?
Закон, о котором я говорю, делает наслаждение моего ближнего той осью, вокруг которой колеблется, в ситуации такого свидетельства, стрелка компаса моего долга. Следует ли мне руководиться долгом говорить истину, поскольку именно он, долг этот,
246
сохраняет истинное место моего наслаждения, несмотря на то, что место это остается пустым? Или следует мне все же пойти на обман, который вынудит меня, подменив так или иначе принцип моего наслаждения благом, служить и вашим и нашим, так что неважно, воздержусь ли я от предательства моего ближнего ради того, чтобы пощадить себе подобного, или укроюсь за спиной себе подобного, чтобы отказаться от собственного своего наслаждения?
23 марта I960 года.
XV Наслаждение трансгрессии
Преграда наслаждению.
Уважение к образу другого.
Сад, его фантазия и его учение.
Metipsemus
Расчлененный и неистребимый.
Я предупредил вас, что буду говорить о Саде.
Я начинаю сегодня разговор на эту тему. Несмотря на то, что впереди нас ждут довольно продолжительные каникулы.
Мне хотелось бы, по меньшей мере, рассеять на предстоящем занятии скрытое недоразумение, связанное с тем, что могло создаться впечатление, будто именно обращение к Саду делает нас, чисто внешним образом, первопроходцами, нарушителями границ. Можно подумать, будто испытывать границы — это наша с вами роль, наша профессиональная обязанность, и Сад, в этом смысле, является нашим предшественником, первопроходцем, указавшим путь к тупикам, заблуждениям и апориям, который нам, уж коли мы взялись в этом году за исследование этической области, не грех — почему бы и нет — вслед за ним проделать.
Рассеять подобное заблуждение тем более необходимо, что с ним связан и ряд других, с которыми я, как мореплаватель со встречным ветром, пытаюсь бороться.
Область, которую мы в этом году изучаем, не является чем-то, что представляет для нас чисто внешний интерес. Предположу даже, что сама скука, которую этот предмет вам, при всей вашей верности и терпении, может внушать, имеет свой смысл. Конечно, говоря с вами, я стараюсь вас заинтересовать, это специфика жанра, но сам по себе способ нашего с вами общения не гарантирует непременно избавление от того, чего искусство преподавателя позволяет как правило избежать. Сравнивая две разные аудитории, должен сказать, что если мне удалось заинтересовать своих слушателей в Брюсселе — что ж, тем лучше, но интерес их к моим словам совсем не чета вашей в них заинтересованности.
Зная о реальных, чувствительных и веских факторах, которые на не просто молодого аналитика, а аналитика, который открывает практику и начинает свою профессиональную деятельность, оказывают влияние, я вполне допускаю, поставив себя на мгновение на его место, что моя попытка говорить о вещах, объединенных мною под рубрикой этики психоанализа, тоже столкнулась бы с комплексом представлений, который я назвал бы психоаналитической пасторалью.
И это еще имя вполне приличное, достойное увековечения. Куда менее лестное имя придумал этому явлению один из самых отталкивающих авторов нашего времени, и имя это — интеллектуальный комфорт.
Вопрос "как быть?" действительно способен породить нетерпение, и даже разочарование, при столкновении с тем фактом, что с вещами приходится иметь дело на уровне, не имеющим, на первый взгляд, ничего общего с нашей техникой, то есть с тем самым, что позволяет — обещает, во всяком случае — многим проблемам найти решение. Что ж, многим, конечно, но далеко не всем. И если техника эта настораживает нас перед чем-то таким, что может обернуться для нее тупиком или, паче, крушением, нам вовсе не обязательно на эти вещи закрывать глаза, даже если наше вмешательство действительно ни к чему другому не привело.
Для молодого начинающего аналитика вещи эти будут своего рода скелетом — именно благодаря им вмешательство его никогда не будет чем-то бесхребетным, не выльется во множество всегда готовых обрушиться на него же и замкнуться в порочный круг форм, чей облик некоторые новейшие исследования помогли выявить.
Недурно будет поэтому вытравить здесь обманчивый призрак уверенности, той небесполезной, надо сказать, в профессиональной деятельности сентиментальной уверенности, под влиянием которой аналитик этот, находящийся на распутье, может легко оказаться в плену того самодовольства, что явится впоследствии источником внутреннего разочарования и скрытых притязаний.
Вот чему призвано противостоять то этическое видение задач и целей психоанализа, которое я пытаюсь вам дать. Перспектива, в которой мы их рассматриваем, не окончательная, но именно с ней имеем мы сейчас дело.
1
Ход наших рассуждений привел нас покуда к тому, что я назвал бы парадоксом наслаждения.
Парадокс наслаждения вступает со своей проблематикой в ту диалектику счастья, которою мы, аналитики — проявив, кто знает, неосторожность — попытались распутать. Рассмотрели мы ее с величайшей подробностью, благо дело с ней в нашем опыте имеем мы повседневно. Но для того, чтобы ввести в нее вас и ее в сеть наших рассуждений вплести, я обратился к загадке ее взаимосвязи с Законом — загадки, особенно выпукло выступающей в связи с тем, что само существование этого Закона, берущего, как я давно уже объяснил вам, свое начало в Другом, представляется нам чем-то чуждым.
Нам нужно следовать в этом вопросе за Фрейдом, не как за человеком, который открыто исповедовал атеизм, а как за человеком, который первым дал право гражданства и подлинное достоинство мифу, предлагающему нашей мысли разгадку факта, который с огромной убедительностью и размахом безотчетно овладел в нашу эпоху умами, — того отмеченного прежде наиболее ясновидящими мыслителями, а затем проникшего в массовое сознание факта, что Бог мертв.
Итак, вот круг проблем, из которого мы исходим. Здесь-то и обнаруживает свое значение предложенный мною в графе желания символ S(-k). Занимая известное вам место в левом верхнем углу графа, он выступает как окончательный ответ на требуемую нами от Другого гарантию смысла артикулированного в недрах бессознательного Закона. Если на этом месте обнаруживается только нехватка, то Другой оказывается несостоятелен и означающее это становится означающим Его смерти.
Именно в связи с позицией этой, которая сама связана с парадоксом Закона, и возникает тот парадокс наслаждения, который мы пытаемся теперь артикулировать.
Обратим внимание на то обстоятельство, что одно лишь христианство сообщает истине, которую называем мы смертью Бога, его полное, в драме Страстей представленное содержание. Представленное с натуральностью, перед которой гладиаторские бои кажутся жалким подобием, христианство предлагает нам драму, в которой смерть Бога воплощена буквально. Больше того, именно христианство сделало эту смерть оборотной стороной того, что произошло с Законом, когда, не нарушая закона, а заменяя его собой, итожа его, подхватывая его тем же движением, что его отменяет, оно — первый случай в истории, когда выступает вполне значение немецкого термина Aufhebung, означающего сохранение уничтоженного на другом уровне — провозгласило впредь единственной заповедью возлюби ближнего, как самого себя.
Именно таким предстают нам эти вещи в Евангелии и с этого нам предстоит начинать. Оба термина — смерть Бога и любовь к ближнему — составляют исторически единое целое и нельзя проигнорировать этот факт, не обратив все историческое содержание иудео-христианской традиции в набор случайностей.
Я прекрасно знаю, что вера предрекает нам грядущее воскресение, но это всего лишь обетование. К этому потустороннему нам предстоит еще проложить путь. Так что перед тесниной этой, перед узким этим проходом подобает несколько задержаться — недаром сам Фрейд остановился перед ним, не решаясь по вполне понятным причинам двигаться дальше. Дело в том, что заповедь эта — возлюби ближнего, как самого себя — представляется ему чем-то бесчеловечным.
Именно к этому все возражения против нее и сводятся. Именно во имя вполне оправданной в любых отношениях эвдемонии — о чем и свидетельствуют приводимые им примеры — Фрейд, взвешивая внимательно то, что этой заповедью подразумевается, останавливается и делает законный вывод о том, что зрелище истории человечества, провозгласившего эту заповедь своим идеалом, не внушает в отношении ее выполнения ни малейшего оптимизма.
Я уже говорил вам о том, с чем связан ужас, который Фрейд, сам будучи глубоко порядочным человеком, испытывает, — он связан с той злобой, которая, как он, не колеблясь, демонстрирует нам, в глубине сердца всякого человека заложена.
Мне нет нужды указывать вам лишний раз на ту точку, где две нити, что я плету, стягиваются в один узел. Речь идет о том, что человек, всякий человек,/ейетгдаот, восстает против этой заповеди ровно постольку, поскольку он стремится к счастью. Истина, гласящая, что человек ищет счастья, остается правдой. Сопротивление заповеди возлюби ближнего, как самого себя и сопротивление, препятствующее человеку в получении доступа к наслаждению, суть одно.
Сформулированное таким образом, утверждение это может показаться очередным парадоксом, произвольным и необоснованным заявлением. Но разве не узнается в нем то самое, на что привычно ссылаемся мы всякий раз, когда субъект пасует на наших глазах перед собственным наслаждением? Что мы в этом обычно усматриваем, как не заключенную в этом наслаждении бессознательную агрессивность, неустранимое ядро того destrudo, с которым мы, какую бы мину мы при этом не строили, постоянно в аналитическом опыте сталкиваемся?
Неважно при этом, списываем мы это явление на счет какой-то природной предрасположенности, или нет — в любом случае, суть учения Фрейда в этом вопросе состоит в том, что постольку, поскольку человек обращает эту агрессивность против себя самого, она становится источником энергии так называемого Сверх-Я.
При этом Фрейд предусмотрительно замечает, что как только субъект вступил на этот путь, как только этот процесс пошел, пределов никаких он не знает — по отношению к Я (moi) он порождает агрессию все более жесткую. Порождает в предельном случае, то есть тогда, когда отсутствует опосредование, осуществляемое Законом — Законом, поскольку он происходил бы извне. Причем из такого извне, где не оказалось бы того, кто за него отвечает, кто служит ему гарантом — где нет, одним словом, Бога.
Таким образом, утверждая, что неприятие заповеди возлюби ближнего, как самого себя — это та же преграда, положенная наслаждению, а вовсе не противоположность ее, мы ничего нового не говорим.
Я отступаю перед этой заповедью любви к ближнему потому, что на горизонте ее маячит что-то такое, в чем есть некая невыносимая жестокость. И любовь к ближнему предстает в этой перспективе как путь едва ли не самый жестокий из всех возможных.
Таково отточенное лезвие парадокса, который я сегодня вашему вниманию предлагаю. Чтобы представить истинные его масштабы, следовало бы, конечно, двигаться постепенно, чтобы, шаг за шагом постигая тот способ, которым дает знать о себе эта линия внутреннего раздела, если не предвидеть заранее, то хотя бы предчувствовать неожиданности, которые поджидают нас на этом пути.
Наслаждение от трансгрессии мы научились, конечно, в нашем опыте распознавать давно. Но хотя указать на него мы в силах, до понимания подлинной его природы нам еще далеко. Мы оказываемся на сей счет в положении, прямо скажем, двусмысленном. Всем известно, что мы вернули извращению его право гражданства, назвав его частичным влечением. Молчаливо подразумевая тем самым, что оно может быть органично вписано в целое, мы бросили тень сомнения на исследования, в прошлом веке выглядевшие революционными, — на Крафта-Эббинга с его монументальной Psychopatiasexualis, равно как и на работы, скажем, Хэвелока Эллиса.
Я не собираюсь походя давать последнему пинка, которого, по-моему, он заслуживает. В его работах можно найти поразительные примеры систематической беспомощности — не слабости используемого метода, а беспомощности в его выборе. Пресловутая научная объективность, выставляемая напоказ в его книгах и сводящаяся на деле к некритическому собранию фактов, представляет собой живой пример сочетания fooleryс knavery, этим принципиальным канальством, характерным, как я в прошлый раз говорил — относительно вкраплений его в иных областях никакого предположения не высказывая — для так называемого левого политического мышления. Поэтому если чтение этого автора и можно рекомендовать, то лишь постольку, поскольку из него ясна становится разница — не в результатах, а в самом тоне — между его бесплодным подходом, с одной стороны, и тем, что внесли в эту область мысль Фрейда и руководствующаяся ею практика, с другой. Имя этой разнице — ответственность.
Итак, о наслаждении от трансгрессии нам известно. Но в чем оно, это наслаждение, состоит? Так ли уж очевидно, что попрание священных законов, которые, вдобавок, субъект сознательно подвергает сомнению, уже само по себе вызывает какое-то несказанное наслаждение? Мы, безусловно, все время оказываемся свидетелями того, как субъекты совершают поступки, представляющие собой своего рода вызов безличному жребию, своего рода риск, идя на который и выйдя из этого приключения невредимым, человек чувствует в этом в дальнейшем гарантию своей силы. Не играет ли Закон, которому брошен вызов, в данном случае роль пути, средства, позволяющего рискнуть? Но если путь этот необходим, то в чем заключается риск? К какой цели устремлено наслаждение, если для достижения этой цели ему не обойтись без трансгрессии?
Я оставляю покуда эти вопросы открытыми и продолжаю ход своих рассуждений. Итак, если субъект дает обратный ход, чем сопровождается такой разворот? На этот вопрос анализ дает нам вполне обоснованный ответ — в предельный момент того или иного искушения, отвечает он, происходит идентификация с другим.
Говоря о предельном моменте, я не имею в виду момент, когда искушение особенно сильно, я имею в виду момент осознания нами его последствий.
Перед чем мы, собственно, отступаем? Мы отступаем перед посягательством на образ другого, так как это тот самый образ, по которому наше собственное Я сформировано. В этом секрет убедительности альтруизма. В этом же, с другой стороны, секрет той нивелирующей власти, которую имеет над нами определенный закон равенства — тот самый, с которым мы имеем дело в понятии коллективного волеизъявления. Закон, представляющий собой, несомненно, общий знаменатель уважения к определенным правам, именуемым, почему-то, элементарными, но проявляющий в то же время тенденцию выводить за свои границы и, соответственно, лишать своего покровительства все то, что в его регистры не вписывается.
В этом же причина распространения наклонностей, охарактеризованных мною в прошлый раз как утилитаристские. На достигнутом уровне однородности закон пользы, предполагая охват как можно большего количества индивидуумов, действует как нечто само собой разумеющееся, принимая форму, являющуюся, по существу, новаторской. Распространение это является поистине впечатляющим, и хотя мы, аналитики, и обличаем его смехотворность, навешивая на него ярлык филантропии, оно ставит перед нами вполне серьезный вопрос о естественных основаниях чувства жалости — чувства, на которое всегда стремилось опереться нравственное воспитание.
Мы неизменно испытываем чувство солидарности со всем тем, что построено на образе другого как подобного нам самим, на подобии нашем с собственным Я и со всем тем, что укореняет нас в регистре Воображаемого. Но если очевидно, что основание заповеди возлюби ближнего, как самого себя надо искать здесь, в чем состоит то новое, что привношу я своим вопросом?
Ведь речь идет о том же самом другом. Достаточно, однако, присмотреться внимательнее, чтобы бросились в глаза очевидные практические противоречия, как индивидуального, интимного, так и социального плана, являющиеся следствием идеализации, которая проявляется в том, о чем я говорил — в почтении, которое образу другого оказывается. Идеализация эта несет в себе целый взаимосвязанный ряд неблагоприятных для религиозного закона последствий, заявляющих о себе в истории парадоксами его крайних форм, форм святости, и приводящих к крушению его в социальном плане, к неспособности осуществить, принести на землю то окончательное примирение, которое им, как-никак, обещано.
Чтобы расставить окончательно точки над i, я напомню сейчас о том, что вступает, казалось бы, с обличением образа в наиболее серьезное противоречие — с библейским утверждением, встречаемым обыкновенно ропотом более или менее недоверчивого одобрения, что Бог, мол, создал человека по своему образу. Тем самым религиозная традиция очередной раз демонстрирует в умении указать истину куда больше хитрой смекалки, нежели ориентированная на психологию философия.
От утверждения этого не отделаться ссылкой на то, что человек мол, как-никак, образ этот Богу вернул. Дело в том, что слова эти являются неотторжимой частью той же священной книги, которая излагает запрет на изображение Бога. Если запрет этот имеет какой-то смысл, то приходится заключить, что образы обманчивы.
Но почему, собственно? Подойдем к этому с самой простой стороны: если образы Бога прекрасны — а религиозные изображения, Бог свидетель, всегда соответствуют, по определению, представлениям их современников о прекрасном — полость в них не всегда бывает заметна. Но ведь и человек, в качестве образа, интересен прежде всего той полостью, которую образ этот оставляет пустой — тем, что в образе разглядеть нельзя, тем, что находится по ту сторону образа, Божественной пустотой, которую за ним предстоит открыть. В этом, может быть, полнота человека, но именно здесь Бог оставляет его в пустоте.
Итак, Бог — это сама способность его в эту пустоту устремляться. И это позволяет нам наглядно представить себе устройство той области, где признание другого обретает измерение приключения. Слово признание получает здесь то значение, которое имеет оно обычно, когда речь идет о предмете исследования, окрашиваясь воинственностью и ностальгией, которые способны мы в это исследование привнести.
Место де Сада именно на этой границе.
Да, место Сада на этой границе, и именно он, воображающий, будто перешагнул ее и лелеющий ее в своих мрачных фантазиях — к словам этим я позже еще вернусь — может показать нам, где эта граница проходит. Разыгрывая этот предел в своем воображении, он демонстрирует нам его воображаемую структуру. Но в то же время он границу эту переступает. Переступает, конечно же, не в фантазии, что как раз и делает ее такой утомительной, а в теории, в учении, ключевыми словами которого являются, в различные периоды его творчества, наслаждение разрушением; добродетель, заключенная в преступлении; зло, творимое ради него самого; и, наконец, то, о чем говорит его герой Сен-Фон, провозглашающий в Истории Жюльетты свою веру, обновленную, конечно, но далеко не новую, в Бога, именуемого им Верховным-во-Зле-Существом.
Теория эта носит, в этой же книге, название "Системы папы Пия VI" — папы, являющегося одним из персонажей романа. Идя еще дальше, герой разворачивает перед нами свое видение природы как огромной системы привлечения и отталкивания одного зла другим. Этическое поведение состоит в том, чтобы до конца приобщиться к абсолютному злу, благодаря чему соединение со злой в своей основе природой выльется в своего рода гармонию наизнанку.
Я лишь указываю здесь на то, что предстает нам не последовательными этапами мысли в поисках парадоксальной формулировки, а, скорее, крушением, последней вспышкой ее, освещающей путь, по существу своему, тупиковый.
Нельзя ли сказать, однако, что урок, который дает нам Сад, поскольку мы являемся участниками символической игры, состоит в попытке преодолеть границу и открыть законы, действующие в пространстве ближнего как таковом? Речь идет о пространстве, которое открывается по мере того, как мы начинаем иметь дело уже не с тем, подобным нам самим, из которого мы так легко делаем наше собственное отражение и который неизбежно разделяет то непризнание, что является уделом собственного нашего Я, а о том поистине ближайшем к нам ближнем, которого случается нам порой заключить в объятия, хотя бы любовные. И здесь я говорб не об идеальной любви, но о занятиях любовью.
Нам хорошо известно, насколько образы собственного Я могут нашему продвижению в это пространство препятствовать. И разве нечему нам поучиться относительно законов этого пространства, куда заманивает нас воображаемая плененность образом себе подобного, у человека, чей дискурс жестко, жестоко в него вторгается?
Вы видите уже, к чему я клоню. В этом конкретном пункте, где я ход наших рассуждений приостанавливаю, вопрос о том, что другой собой представляет, мною ни в коем случае не предрешается. Я лишь подчеркиваю обманчивость подобного, так как именно из этого подобия как такового и берут начало недоразумения, которые задают мою определенность в качестве собственного Я. И я предложу вам сейчас маленькую апологию, в которой вы без труда узнаете характерные для меня черты.
Я уже говорил вам однажды о горшочке для горчицы. Рисуя на доске три горшочка, я хочу показать, что перед вами целый набор — от горчицы до варенья. Они выстроены на полке в количестве, достаточном для удовлетворения вашего аппетита к созерцанию. Обратите внимание, что в силу идентичности своей горшочки как раз и несводимы друг к другу. Мы сталкиваемся на этом уровне с чем-то таким, что предваряет собой любую дальнейшую индиви-дуацию. Проблема распознавания разрешается обыкновенно указанием на то, что это, мол, тот самый, поскольку он не вон тот.
Я понимаю, конечно же, что этот логический фокус-покус является чистой воды софизмом. Попробуйте, однако, увидеть истину, которая в нем, как и во всяком софизме, кроется. Этимология термина mкme, сам — не знаю, заметили вы это или нет — восходит к латинскому metipsemus, что делает это mкme в выражении moi-mкme, я сам, в каком-то смысле избыточным. Metipsemus оказалось фонетически преобразовано в mкme — самое мое меня самого, то, что лежит одновременно в сердцевине меня самого, и в то же время по ту сторону меня самого, так как мое я не покидает уровня стенок сосудов, на которые можно поместить этикетки. Не стенки эти, а внутренность, пустота, о которой мне не известно уже, принадлежит ли она мне самому или никому — вот что обозначает — во французском, во всяком случае, понятие сам.
Вот что хотел сказать я своим софизмом, напоминая о том, что в ближнем действительно заложено все то зло, которое приписывает ему Фрейд, но зло это не иное, чем то, перед которым отступаю я в самом себе. Любить ближнего, любить его как самого себя, необходимо означает для меня в то же время приближаться к некой жестокости. Его или моей собственной? — спросите вы, возражая мне, но я ведь только что объяснил вам, что ничто не говорит нам, будто они различны. Похоже, скорее, что это действительно одна и та же жестокость — тогда, во всяком случае, когда преодолены оказываются те границы, которые вынуждают меня предстоять другому как мне подобному.
Здесь, однако, я хочу внести в дело ясность, Опьянение, свойственное религии Пана, священные оргии, самобичевания в культе Аттиса, неистовство вакханок в трагедии Еврипида, весь тот ушедший необратимо в прошлое дионисизм, одним словом, который поднимается с девятнадцатого века на щит в попытке воскресить, пойдя дальше Гегеля, Киркегора и Ницше, дошедшие до нас остатки мирочувствия великого Пана, вернув ему тот апологетический, утопический, апокалиптический пафос, которому Киркегор, а за ним, не менее эффективно, Ницше вынесли окончательный приговор, — все это вовсе не то, что я имею в виду, когда говорю вам о то-же-самости меня и другого. Вот, кстати, почему завершил я позапрошлое свое занятие упоминанием о событии, соотносящимся с разодранной завесой Иерусалимского храма, — о том, что великий Пан умер.
Сегодня я об этом больше говорить не стану. Дело не только в том, что и я, в свою очередь, пророчествую — я просто еще вернусь к этой теме, когда необходимо будет попытаться доказать, почему, и в каком смысле, великий Пан умер, притом именно в тот момент, о котором говорит нам легенда.
Речь здесь пойдет о том, что предпринял Сад, указав нам на доступ в пространство ближнего посредством того, что я, перефразируя заглавие одной из его книг, которая называется Идеи о романах, охарактеризовал бы как идею техники, направленной на сексуальное наслаждение в несублимированном его виде.
Идея эта сразу получает, как обнаруживается, несколько направлений, оказываясь не из легких. Отсюда необходимость разобраться в том, какое значение имеет литературное произведение как таковое. Отступление это нас несколько задержит — что ж, в медлительности меня обвиняли не раз.
Чтобы разделаться с этими тонкостями быстрее, необходимо, все-таки обозначить прежде несколько углов зрения, под которыми произведения Сада можно рассматривать — хотя бы лишь для того, чтобы выбрать из них нужный именно нам.
Является ли это творчество свидетельским документом? И если да, то считать ли это свидетельство сознательным, или бессознательным? Не стоит думать, будто я говорю здесь о бессознательном в аналитическом смысле: говоря о бессознательном свидетельстве я лишь имею ввиду, что субъект по имени Сад не отдает себе полностью отчет в том, что вписывает его в условия, уготованные дворянину его эпохи накануне революции и позднее, в период террора, через который он благополучно проходит, чтобы кончить свои дни узником Шарантонской лечебницы, куда он был заключен, по слухам, приказом Первого консула.
На самом деле, у нас создается впечатление, что Сад прекрасно понимал связь собственного творчества со своим положением человека, которого я назвал бы человекам удовольствия. Человек удовольствия как таковой свидетельствует в его лице против самого себя, публично признавая крайности, до которых доходит этот последний. Исторические примеры подобного беспредела, о которых он с радостью напоминает, ясно свидетельствуют о том, на что бывает способен, в любые времена, господин, когда он не склоняет голову перед бытием Бога.
Речь не идет о том, чтобы затушевать реализм описанных Садом зверств. Они настолько навязчивы, подробно разработаны и лишены меры, что это бросается в глаза и самим вызывающим неправдоподобием своим способствует возникновению законных подозрений в ироничности этого дискурса. Впрочем, все описанное у Сада, можно в изобилии найти у Светония, Диона Кассия и некоторых других. Прочтите Воспоминания о золотых днях Овер-ни Эспри Флешье и вы узнаете, что мог знатный сеньор позволить себе на заре семнадцатого века в отношении своих крестьян.
Мы были бы не правы, если бы под влиянием сдержанности, навязанной нашей слабости владеющим нами воображением, полагали, будто в определенных ситуациях люди не способны, не зная, что они делают, эти границы перешагнуть.
Сам Фрейд, со свойственным ему абсолютным отсутствием недомолвок и knaveryв любом ее виде, протягивает нам в данном случае руку, когда в Недовольстве культурой не колеблясь заявляет, что не существует никакой общей меры между удовлетворением, которое приносит наслаждение в первичном его виде, с одной стороны, и тем, что сообщает оно в тех отклоненных от своего предмета, сублимированных формах, в которые отливает ее культура, с другой.
В другом месте Фрейд не скрывает, что думает он по поводу того факта, что наслаждения, которые общепринятая мораль воспрещает, оказываются тем не менее вполне разрешенными и доступными, в силу самих условий их жизни, для тех, на кого он прямо указывает, для так называемых "богачей" — и эти последние, несмотря на имеющиеся к тому препятствия, такие наслаждения, бесспорно, порой вкушают.
Желая высказаться до конца, я воспользуюсь нашей темой, чтобы позволить себе мимоходом одно замечание, вторящее ряду замечаний, сделанных на эту же тему Фрейдом — замечаний, которые зачастую не принимают во внимание и игнорируют. Безнаказанность наслаждения богатых в наше время сильно возросла в связи с тем, что я назвал бы всеобщим трудовым законодательством. Представьте только себе, что представляли собой в прошлом социальные войны. Попытайтесь составить себе о них представление по тому, что происходит сегодня если не внутри наших обществ, то уж, во всяком случае, на их границах.
Теперь несколько слов о том, можно ли рассматривать произведения Сада как свидетельство о реальности. Можно ли рассматривать их в качестве сублимации? Если говорить о сублимации в той наиболее распространенной и, я сказал бы, наиболее игровой и циничной форме, в которой, явно забавляясь, преподносит ее нам Фрейд — то есть в виде преобразования сексуальных устремлений в произведение, знакомясь с которым, каждый, кто узнает в нем собственные позывы и чаяния, вознаградит художника за принесенное ему удовлетворение, гарантируя ему тем самым достойную и счастливую жизнь и давая ему тем самым доступ к удовлетворению тех устремлений, с которых все начиналось, — то, рассмотренное под этим утлом, творчество Сада, скорее, не удалось.
Действительно не удалось, если прикинуть, сколько лет своей жизни провел злосчастный маркиз в тюрьме и в лечебницах для душевнобольных. Что касается его творчества, то хотя при жизни оно пользовалось — во всяком случае, что касается Новой Жю-стины и последовавшей за ней Историей Жюлъетты — немалым успехом, впоследствии ему суждена была известность теневая, подпольная, сопряженная с осуждением. Но мы не будем на этом настаивать. Мы говорим об этом лишь для того, чтобы бросить некоторый свет на лица, которые заслуживают этого освещения в первую очередь.
Посмотрим теперь, какое место принадлежит творчеству Сада. Творчество непревзойденное, как утверждают, в том смысле, что самое невыносимое, что только может быть высказано в слове относительно трансгрессии, выхода за границы всего человеческого, нашло в нем свое выражение. И надо признать, что ни в одной литературе ни одной эпохи не найти ничего более скандального. Нет человека, который в большей мере оскорбил бы человеческие чувства и мысли. И даже сегодня, когда произведения Генри Миллера повергают нас в дрожь, найдется ли человек, который осмелился бы соперничать в откровенности с Садом? Похоже, что перед нами действительно самые скандальные произведения из всех когда-либо написанных. Разве это не повод ими заняться? — делает отсюда вывод Морис Бланшо.
Что как раз мы и собираемся теперь сделать. Я настоятельно советую вам потрудиться прочесть книгу, в которую вошли две статьи только что упомянутого автора — о Лотреамоне и о Саде. Это один из документов, которые нелишне приобщить к нашему с вами досье.
За этой характеристикой стоит, конечно, немало. Нет, похоже, такой мыслимой жестокости, которой в каталоге этом нельзя было бы обнаружить. Творчество это несет в себе вызов нашей чувствительности, достигающий поистине ошеломляющего эффекта — возникает чувство как у велосипедиста, чьи ноги соскочили с педалей. Рассматривая произведения Сада с этой точки зрения, можно даже сказать, что эффект этот достигается совершенно безыскусно, без всякой заботы об экономии художественных средств, путем простого накопления деталей и поворотов сюжета, с обильной начинкой из поучений и оправданий, содержащих противоречия, которые нас очень интересуют и которые мы проследим в деталях.
Только лишь грубые умы сочтут эти поучения простой приправой к эротическим потачкам для публики. Даже люди более тонкие, не чета тем грубым умам, о которых я говорю, упрекали автора в том, что поучения эти снижают, якобы, силу внушения, которой обладают его произведения в том плане, где пресловутые тонкие умы — я имею в виду Жоржа Батая — как раз и усматривают его ценность, состоящую, по их мнению, в способности дать нам доступ к принятию бытия путем приведения в расстройство всяческого порядка.
Но это ошибка. Скука, с которой мы имеем здесь дело, представляет собою нечто другое. Это всего лишь ответ существа — неважно, читателя или автора — на сближение с той нитью накала, или, если хотите, с абсолютным нулем, где психике уже нечем дышать. То, что книга выпадает у нас из рук, доказывает, наверное, что она художественно небеспорочна, но сама литературная порочность ее и является здесь, возможно, гарантом той самой порочности — слово, распространенное во времена Сада, — которая составляет предмет нашего с вами исследования. Произведения Сада позволительно в этом случае рассматривать в рамках того, что я назвал бы экспериментальной литературой. Произведение литературы такого рода представляет собой эксперимент, в ходе которого субъект рвет все удерживающие его психосоциальные связи — или, говоря более определенно, порывает со всеми психосоциальными оценками сублимации, о которых шла у нас речь.
Вряд ли можно найти лучший пример подобного произведения, нежели то, с которым по крайней мере некоторые из вас водили знакомство — я говорю о знакомстве в том смысле, в котором можно спросить собеседника: "А вы водили когда-нибудь знакомство с опиумом?" — с "Песнями Мальдорора" Лотреамона. И не случайно Морис Бланшо сопрягает между собой перспективы, в которых творчество этих авторов им рассматривается.
У Сада, однако, оглядка на социальное сохраняется, и он явно претендует на положительную социальную оценку своей экстравагантной системы, откуда и вытекают его удивительные признания, которые несмотря на впечатление бессвязности, которые они производят, и на многочисленные противоречия между ними не следует просто-напросто списывать со счетов как абсурдные. Абсурдное стало с некоторых пор категорией необычайно удобной. О мертвых плохо не говорят, но нельзя не отметить все же того, как подыграла всяческим разговорчикам на эту тему Нобелевская премия — это чудесное универсальное вознаграждение за knavery, список лауреатов которой отмечен клеймом чего-то омерзительного, что нашей культуре присуще.
Я выделю, заканчивая, два ключевых представления, которые дадут вам понять, в каком направлении наши рассуждения пойдут дальше.
По мере того, как мы продвигаемся в направлении лежащей в центре пустоты — ибо именно в этом виде представлялся нам до сих пор доступ к наслаждению, — тело ближнего расчленяется. Преподнося закон наслаждения в качестве основания некоей идеальной утопической общественной системы, Сад пишет — слова эти в изданной недавно заново, и весьма добросовестно, у Повера "Жюльетте", книге, которую и сегодня читают из-под полы, выделены курсивом — буквально следующее: — Предоставьте мне ту часть вашего тела, которая может в этот момент доставить мне удовлетворение, и пользуйтесь, если желаете, той частью моего, которая придется по вкусу вам.
В этой формулировке фундаментального закона, в котором система Сада хочет представить себя в качестве социально приемлемой, заключено первое ясно артикулированное понятие о том, что мы, аналитики, назвали, столкнувшись с ним, частичным объектом.
Но говоря о частичном объекте, мы подразумеваем, обыкновенно, что единственное, что этому объекту требуется, это оказаться включенным в другой объект, объект, обладающий для нас ценностью, объект нашей любви и нежности, объект, соединяющий и примиряющий в себе все достоинства, имеющие значение в пресловутой генитальной фазе. На эту проблему следует, однако, посмотреть с другой стороны, обратив внимание на то, что объект этот непременно находится в том поле, которое мы согласились считать центральным, занимая в этом поле независимое положение. Тотальный объект, наш ближний, вырисовывается в этом поле отделенной от нас фигурой, восстающей, подобно персонажу на картине Карпаччо в Сан Джорджо делли Скьявоне в Венеции, из груды праха.
Второе ключевое представление, которое мы у Сада находим, это представление о том, что является в его фантазиях как Другой, не подверженный разрушению — фантазм, воплощенный в его произведениях в фигуре жертвы.
Возьмем ли мы "Жюстину", или те или иные позднейшие и не последние, безусловно, побеги садовского творчества — я имею в виду те эротические, даже порнографические его побеги, что расцвели пышным цветом в недавно опубликованной "Истории О", — во всех них жертва не только благополучно переживает дурное с ней обращение, но даже не теряет нисколько своей чувственной привлекательности, к которой авторское перо, как во всяком описании такого рода, неизменно вновь и вновь возвращается, отмечая ее самые прекрасные в мире глаза, трогательные и жалобные черты. Настойчивость, с которой автор наделяет своих героев столь стереотипными характеристиками, сама по себе наводит на размышления.
Создается впечатление, что ничто происходящее с жертвой не способно исказить этот образ, какими бы долгими испытания ни были. Но Сад, человек другого закала, чем те, что нас забавляют сегодня, идет еще дальше, ибо на горизонте его мысли ясно вырисовывается идея вечных мучений. Я еще вернусь к этой теме, так как идея вечной муки выступает странной непоследовательностью со стороны автора, который выражал пожелание, чтобы от него не сохранилось ровно ничего, чтобы даже могила его заросла тернием и была для людей недоступна. Не означает ли это как раз, что содержанием его фантазма является в данном случае то самое близкое ему самому, которое мы и называем ближним, или metipsemus?
Указанием на эту деталь я сегодня свое занятие и закончу. Какими лежащими на глубине связями обусловлен тот факт, что в определенном отношении к Другому, которое мы называем садистским, явственно прослеживается его родственная близость психологии страдающего неврозом навязчивости? — Тем неврозом, защитные механизмы которого напоминают железную арматуру, оправу, корсет, где субъект останавливается и замыкается, чтобы не допустить своего сближения с тем, что Фрейд называет где-то неведомым самому себе ужасом.
30 марта I960 года.
ОТСТУПЛЕНИЕ Понятие влечения к смерти у Бернфельда
Продолжения того, о чем я говорил в прошлый раз, вы сегодня не услышите. Не услышите по причинам личного для меня ха-рактера.
В истекшие каникулы я был занят редактированием своей статьи для очередного сборника нашего журнала, посвященного структуре, и работа эта заставила меня вернуться к предыдущему этапу моих построений. Это обстоятельство и подрезало мне несколько крылья в выполнении той задачи, которой посвятил я себя в этом году — задачи раскрыть перед вами то более глубокое измерение в аналитической мысли, работе и технике, которое я именую этикой.
Я перечел то, что говорил вам в прошлый раз и, поверьте мне, это звучит не так плохо. И для того, чтобы вновь выйти на этот уровень, я почел за благо отложить продолжение до следующего раза.
Мы стоим сейчас у того барьера, за которым находится аналитическая вещь, где берут свое начало все процессы торможения, где обеспечивается недоступность объекта в качестве объекта наслаждения. Именно здесь, одним словом, располагается поле битвы психоаналитического опыта. Этот решающий пункт является в то же время тем новым, что анализ приносит, хотя в области этики путь к нему никогда не был заказан.
Чтобы эту недоступность компенсировать, любая индивидуальная сублимация, равно как и сублимации, представляющие собой системы познания и — почему бы и нет — аналитического познания в том числе, оказываются спроецированы по ту сторону этого барьера.
И в следующий раз мне придется, наверное, объяснить вам вот что — в каком отношении последнее слово фрейдовского учения, в особенности в отношении влечения к смерти, предстает в области аналитической мысли как сублимация.
Именно в этой перспективе мне показалось небесполезным познакомить вас в качестве отступления с тем фоном, на котором моя мысль может быть сформулирована, попросив г-на Кауфмана, как обычно на семинарах и делается, изложить нам то, что такие представители целого поколения аналитиков, как Бернфельд и его сотрудник Файтенберг, думали о смысле влечения, пытаясь целиком уложить его в тот современный им научный контекст, куда он должен был, по их мнению, вписываться.
В этом плане, перед вами откроется сегодня страница истории аналитической мысли. Вы знаете, насколько важными представляются мне такие моменты — недаром я часто тешу себя надеждой, что научил вас в самих апориях их различать водоразделы осваиваемой нами местности.
Вы сами увидите, с какими трудностями сталкивается Бернфельд, когда пытается ввести влечение к смерти в энергетическую картину влечений — картину, которая, безусловно, уже устарела, но неотделима, с другой стороны, от того контекста, в котором работал сам Фрейд. Г-н Кауфман сделал в связи с этим немало полезных наблюдений, исследовав общий фон научных представлений, из которого Фрейд заимствовал ряд своих терминов — терминов, место и значение которых остается нам непонятно, пока мы не задумываясь берем их у Фрейда как они есть, удовлетворяясь ходом собственных его рассуждений. Конечно, значение этих терминов обусловлено существующей между ними внутренней связью, но знать, из каких дискурсов своей эпохи они заимствованы, так или иначе не лишне. [Следует доклад г-на Кауфмана]
Я от всей души благодарю, как только могу, г-на Кауфмана, который столь любезно помог нам разобраться в хитросплетениях мысли Бернфельда, изложенной в трех его основных статьях.
Хотя для некоторых — надеюсь, что таковых найдется немного — выступление это могло показаться лишь отклонением от общего плана, на самом деле оно имеет, конечно, прямое отношение к теме. Хотя Бернфельд и возражает Фрейду, уверяя нас, будто понятие влечение к смерти ничего нового о внутреннем содержании явления не дает, вы сами увидите, как много оно дает для понимания самого пространственного измерения, которое мысль Фрейда исследует. Вы достаточно уже об этом слышали, чтобы сразу понять, что измерение, о котором я говорю — это измерение субъекта. Наличие этого измерения является необходимым условием для того, чтобы естественное явление направления энтропии воспроизводилось на уровне личности и могло принять форму направленного устремления, характерного для системы, целиком располагающейся на уровне этики.
Не стоит этому удивляться, так как в противном случае то не была бы уже методика, терапия и аскетика нашего, психоаналитического опыта.
27 марта I960 года.
XVI Влечение к смерти
Маркс и прогрессисты.
Наслаждение, удовлетворение влечения.
Система папы Пия VI.
Креационизм и эволюционизм.
Женщина как ex nihilo.
Я не хотел бы начинать сегодняшнее занятие, не изложив вам вкратце то, что не имел возможности сказать вам вчера, на ученом собрании нашего Общества.
Мы присутствовали с вами на замечательном докладе, сделанном человеком, явно не намеренным произвести переворот в исследовании истерии и не способным поделиться с нами каким-то богатым и особенно оригинальным опытом, поскольку в психоанализе он пока является новичком. И несмотря на все это, сообщение его, отличавшееся полнотой и, по отзывам, излишней даже насыщенностью, выстроено было чрезвычайно четко.
Я не хочу сказать, что в нем не к чему было придраться, и пожелай я после несколько преждевременного перерыва в дискуссии критически на это выступление отозваться, я мог бы, конечно, поправить докладчика в нескольких пунктах, касающихся отношений страдающего истерией с идеалом Я и с идеальным Я, указав, в частности, на недостаточно четко проведенную между двумя этими функциями границу.
Но важны не эти огрехи — важно, что сообщение этого рода показывает, в какой мере работают те категории, которые я годами пытаюсь в ваше сознание внедрить, насколько точно позволяют они описать положение дел. Они вносят в проблематику ту ясность, которая нашему опыту так пристала, и сколь бы спорными отдельные детали ни были, вы сами видите, как теоретические понятия начинают оживать изнутри и как хорошо данные нашего опыта в них укладываются.
Говорилось об отношениях страдающего истерией с означающим. На существование таких отношений мы можем в клиническом опыте в любой момент буквально указать пальцем, и вчерашний доклад рисовал вам как бы работающую машину, оживавшую на ваших глазах. Все это, конечно, лишь опытные данные, и как таковые они подлежат критической оценке, но в совокупности своей они дают осязаемо почувствовать совпадение выработанных мною теоретических понятий со структурой, с которой мы имеем дело, — структурой, в основе которой лежит тот факт, что место субъекта, которое нам предстоит отыскать, находится в означающем. Перед нами воочию нечто говорится {зaparle).
Представление об этом говорится, имеющее теоретическое происхождение, совпадало с данными повседневного клинического опыта.
Мы сумели, наконец, увидеть жизнь истерического больного в собственной ее стихии, не связывая ее с неравномерно распределенными в пространстве — причем пространстве неоднородном — силами темного происхождения, как делает это обычно пресловутый аналитический дискурс. Пресловутым я называю его постольку, поскольку он теряет свою специфику, прибегая где только можно к помощи различных наук, вполне компетентных в своей области, но нужных зачастую теоретику психоанализа лишь для того, чтобы не выдать свою беспомощность в области своей собственной.
То, что вы услышали, это не только дань уважения к проделанной докладчиком работе, не просто вступление к дежурной теме, а напоминание о том, что я в этом году, используя средства, которые в моем распоряжении есть, то есть просто-напросто собственный аналитический опыт, пытаюсь перед вами раскрыть — о присутствующем в психоанализе этическом измерении.
1
То, что я хочу сказать вам в этом году, является лишь продолжением тех мыслей, которые я последовательно развиваю на этом семинаре уже несколько лет, начиная с первых разработок относительно языка и речи и кончая прошлогодней попыткой уточнить функцию желания в икономии нашего опыта — опыта, путеводной нитью которого является теория Фрейда.
Комментируя Фрейда, я не выступаю в роли преподавателя. Мысль тех, кому случалось в прошлом чему-то научить нас, преподаватели имеют обыкновение перетолковывать таким образом, что она оборачивается наиболее узкой, ограниченной своей стороной. Поэтому при обращении к оригинальным текстам — я имею в виду тексты, к которым обращаться имеет смысл — возникает чувство, будто можно, наконец, свободно дышать.
Декарта, Канта, Маркса, Гегеля и некоторых других — мыслителей, каждый из которых положил начало новому направлению поиска, новому подходу к истине — превзойти нельзя. Как нельзя превзойти и Фрейда. Его мысль не подлежит взвешиванию или окончательной оценке — к чему это? Ею просто пользуются. Внутри нее прокладывают ходы. В ней ищут себе ориентиры. То, что я сейчас делаю — это попытка артикулировать суть нашего опыта в заданных Фрейдом координатах. Это ни в коем случае не попытка заключить Фрейда в рамки, подытожить его.
Этическое измерение — это наш опыт и есть, и разве нет тому подтверждения в подспудных этических погрешениях, о которых свидетельствуют те объективирующие, якобы, понятия, что успели за все периоды жизни аналитической мысли в ней отложиться? Разве не отложилось такое подспудное этическое представление, например, в понятии жертвенности, которое мне так часто случалось перед вами подвергать критике? А те не сформулированные, едва признанные, но часто вполне эксплицитные цели, что выстраиваются вокруг представления о переделке собственного Я субъекта, о реформации субъекта в анализе, или, чтобы слова реформация избежать, об исправлении его, во всех смыслах, которые анализ в это слово имплицитно вкладывает, — разве в них этическое измерение не присутствует? Я просто-напросто хотел показать вам, что этика эта неадекватна, что она не отвечает нашему опыту, не соответствует тем реальным координатам, в которых этическая проблематика в нем предстает. Указания на это у Фрейда заключаются в самой природе обнаруженной им точки зрения.
Поэтому вступив с вами в этом году на почву этики психоанализа, я подвел вас к определенной границе, продемонстрированной мной сопоставлением, по видимости парадоксальным, в котором одна сторона рельефно оттеняет другую — сопоставлением Канта и Сада. В результате мы пришли с вами к той апокалиптической точке, где открывается перед нами нечто такое, имя чему — трансгрессия.
Момент трансгрессии осязаемо связан с тем, о чем мы, задаваясь этическими вопросами, ведем речь, — со смыслом желания. Того самого желания, которое я в течение предыдущих лет научил вас при рассмотрении фрейдовского опыта, что является повседневным и для нас с вами, строго отграничивать от потребности.
Свести функцию желания на нет, представив его как порождение, эманацию, измерения потребности, невозможно. Таковы рамки, в которых движется наше исследование.
Я возвращаюсь к теме, которая по отношению к главному предмету моих занятий едва ли не случайна. На одном из занятий я, отвлекшись в сторону, сделал парадоксальный, несколько фантастический экскурс, посвященный двум типам, которые я друг другу противопоставил — типам интеллектуала левого и интеллектуала правого.
Вам могло показаться, что рассуждая об этих типах и засчитывая, в определенном регистре, между ними ничью, я проявил неосторожность, поощряя безразличие в вопросах политики. Иными словами, несмотря на то, что выражения я подбирал очень тщательно, я подал повод для упрека в настоятельном отрицании за Фрейдом звания прогрессиста, хотя, подчеркнув, что этическая позиция Фрейда в Недовольстве культурой является гуманитарной, я достаточно дал понять, что реакционером он тоже не был.
Рассуждения эти, уместность которых никто, кстати сказать, не оспаривал, показались некоторым слишком опасными, чтобы излишне их акцентировать. Я удивлен, что мне подобные вещи приходится слышать, да еще от людей, которые разделяют совершенно определенную политическую ориентацию. Что касается тех, кто, в свою очередь, удивлен тем, что говорю я, то я настоятельно посоветую им — вещь небесполезная для тех, кто желал бы свои непосредственные реакции контролировать — познакомиться с вопросом поближе, прочтя несколько небольших текстов.
Один из них я даже принес с собой. Это первый том "Философских работ" Карла Маркса, переведенных Молитором и опубликованных в издательстве Альфреда Коста. Я посоветовал бы прочесть, скажем, Введение в критику гегелевской философии права, или хотя бы маленькую но любопытную работу под заглавием Еврейский вопрос. Может быть они приобретут таким образом более правильное представление о прогрессизме, представляющем собой определенный стиль распространенной, скажем так, среди нашей буржуазии и носящей весьма благородное обличье идеологии. Оценка, данная ей Марксом, покажется всем, кто пожелает к этим источникам обратиться, здравым и добротным мерилом интеллектуальной честности.
Так что говоря, что Фрейд прогрессистом не был, я вовсе не утверждал, к примеру, будто марксистский опыт его совершенно не интересовал. Но факт есть факт — Фрейд прогрессистом не был. В моих устах это вовсе не звучит политическим обвинением — просто он не разделял буржуазных предрассудков определенного рода.
Но нужно признать и другой факт — марксистом Фрейд тоже не был. На этом факте я внимания не заострял, так как не вижу в этом, по правде говоря, ни интереса, ни смысла. О том, что может заинтересовать марксиста в измерении, обнаруженном Фрейдом, я скажу позже. Найти подход к этой теме будет труднее, так как до сих пор марксистской — если они еще есть, марксисты — стороне осмысления исследуемого Фрейдом опыта достаточного внимания не уделяли.
Маркс отправляется от воззрений, воплощенных в труде, который и послужил как раз предметом наиболее проницательных его наблюдений. Я говорю о Философии права Гегеля — работе, где формулируются вещи, касающиеся того, с чем, насколько я знаю, мы живем и сейчас, где формулируются основы государства, буржуазного государства, задающего правила организации человеческого сообщества, основанного на разуме и потребностях. Маркс выявляет частичный, предвзятый, неудовлетворительный характер предложенного в этих рамках решения, показывая, что пресловутая гармония разума и потребностей является на этом уровне решением абстрактным и неустойчивым.
Потребность и разум оказываются в гармонии лишь на уровне права, но каждый из нас остается при этом жертвой диктуемого индивидуальными потребностями эгоизма, материализма, анархии. Маркс надеется, что возможно государство, где эмансипация человека совершится не только, как он говорит, политически, но и реально, где организация отношений между людьми не будет от человека отчуждена.
Вы знаете, однако, что несмотря на возможности, открытые историей для развития в указанном Марксом направлении, нам, похоже, так и не удалось сделать идею интегрального человека реальностью. Фрейд, следуя этим путем — и в этом отношении он не пошел дальше Маркса, — показывает нам, что как бы далеко ни ушла классическая философская традиция в увязывании друг с другом разума и потребности, двух этих понятий явно недостаточно для правильной оценки области, которую мы имеем в виду, говоря о человеческой реализации. Именно в самой структуре заложена здесь определенная трудность. И заключается эта трудность в функции желания — в том виде, в котором я ее на наших занятиях артикулирую.
Как это ни парадоксально, ни удивительно, но разум, дискурс, означающая артикуляция как таковая налицо в психоаналитическом опыте изначально, ab ovo-, налицо в бессознательном состоянии еще до возникновения чего бы то ни было, к человеческому опыту относящегося; налицо в виде потаенном, скрытом, неузнанном, неизвестном и неподвластном тому, кто является их носителем, — в противном случае опыт этот вообще регистрации не поддавался бы. Укорененность человека в поле бессознательного носит фундаментальный, изначальный характер. Но поле это, с самого начала имеющее логическую организацию, несет в себе трещину, Spaltung, которая в ходе всего дальнейшего его развития сохраняется — именно по отношению к этой Spaltung и должно артикулироваться в своем функционировании желание как таковое. Желание это имеет, таким образом, свои переломные пункты и свой камень преткновения, и представление о направлении, в котором происходит интеграция человека, оказывается в связи с этим во фрейдовском опыте усложненным.
Проблема наслаждения состоит в том, что оно видится нам словно сокрытым в некой центральной области, отмеченной чертами недоступности, темноты, непроницаемости, в области, окруженной преградой, делающей доступ к нему для субъекта более чем трудным, а то и вовсе невозможным — невозможным постольку, поскольку наслаждение предстает нам не только и не просто как удовлетворение потребности, а как удовлетворение влечения, в том смысле, в каком это понятие обязывает к его сложному представлению, которое я и стараюсь здесь представить.
Как я уже говорил в прошлый раз, для любого, кто подходит к влечению серьезно, пытаясь понять, что под ним разумеет Фрейд, оно представляется чем-то необыкновенно сложным. Оно отнюдь не сводится к совокупности в самом широком, энергетическом, смысле понятых устремлений. Оно включает историческое измерение, подлинное значение которого нам с вами предстоит уяснить.
Измерение это нетрудно заметить благодаря той настоятельности, с которой оно о себе заявляет, — ведь оно соотносится с чем-то памятным, а памятным может быть то, что некогда оказалось запомнено. В том, что именуют человеческой психикой, припоминание, историзация коэкстенсивны функционированию влечения. И здесь же регистрирует свое появление, входя в регистр опыта, разрушение.
Именно это я попробую проиллюстрировать, воспользовавшись тем, что я назвал бы не мифом, нет, потому что термин этот здесь, по-моему, неуместен, а притчей — притчей маркиза де Сада.
В "Жюльетте", а точнее, на странице 78 четвертого тома издания Жан-Жака Повера, самого для вас доступного, Сад излагает "Систему папы Пия VI", так как именно этому папе приписываются теории, о которых здесь идет речь.
Сад набрасывает теорию, согласно которой именно с помощью преступления может человек сотрудничать с природой в деле творения. Мысль Сада состоит в том, что творческий порыв природы тормозится ее собственными формами, что три природных царства застывшими формами своими заключают природу в некий ограниченный цикл — и цикл, к тому же, как явствует из хаоса, невнятицы, конфликтов и беспорядка в отношениях между ними, явно несовершенный. Поэтому основная — то есть сокрытая в самой глубине, сиречь Природе — забота, которую можно психическому субъекту вменить, это расчистка местности, которая позволила бы ему все начать заново, отдаться новому творческому порыву.
Все это соображения чисто литературного свойства — научно они совершенно необоснованны и носят, скорее, поэтический характер. Время от времени в эту сластолюбивую дребедень врывается, однако, что-то такое, что покажется многим занудными отступлениями, хотя вы увидите, что они, отступления эти, помогают в то же время процессу чтения. Прекрасно зная, насколько цитирование рассеивает внимание, отрывок из этой системы я вам, все-таки, зачитаю.
Где нет уничтожения, там нет и питания на земле и, следовательно, невозможно человеку в таком случае размножаться. Судьбоносная истина, ибо из нее неопровержимо следует, что пороки и добродетели, признаваемые таковыми в существующей социальной системе, ничего не стоят, более того, что пороки нужнее добродетелей, ибо они представляют собой творческое начало, в то время как добродетели всего лишь сотворены, или, если угодно, потому что пороки представляют собой причину, а добродетели — всего лишь следствие их них… что слишком совершенная гармония была бы куда неудобнее беспорядка и что если бы война, раздор и преступления были с лица земли изгнаны, то власть трех царств, окрепнув сверх меры, уничтожила бы, в свою очередь, все прочие законы природы. Небесные тела остановились бы, влияние их было бы приостановлено чрезмерной властью одного из них, не стало бы более ни притяжения, ни движения. И только человеческие преступления, внося во влияние трех царств разлад, мешают этому влиянию достичь высшей степени, которая исключила бы все другие, и поддерживают тем самым во вселенной то совершенное равновесие, которое именуется у Горация rerum concordia discors. Преступление, следовательно, миру необходимо. И самыми полезными из них являются, без сомнения, те, которые вносят наибольший разлад — таковы отказ от размножения и уничтожение; все прочие ничего не стоят и только эти последние достойны названия преступлений — они-то, следовательно, и есть те преступления, что необходимы для законов царств, а равно и законов Природы. Один древний философ называл войну матерью всех вещей. Существование убийц так же необходимо, как это бедствие; не будь их, все смешалось бы во вселенной. (…) это разложение природе необходимо, так как именно из полученных в результате частей она творит вновь. Итак, всякое изменение, вносимое человеком в организованную материю, скорее служит природе, нежели противоречит ей. Увы, однако, что я говорю? Чтобы поистине служить ей, нужны преступления нужны разрушения куда более тотальные… куда более окончательные, нежели те, что по силам нам; в преступлениях ей требуется жестокость, требуется размах; чем более разрушения, производимые нами, близятся к этому идеалу, тем более они ей по нраву. Чтобы лучше услужить ей, противостать нужно и тому возрождению, которым чреват предаваемый земле труп. Убийство отнимает у человека, которому мы наносим смертельный удар, всего одну жизнь, а для того, чтобы быть природе полезным, нужно суметь лишить его и второй, так как природа хочет полного уничтожения: мы бессильны, увы, придать убийствам требуемый ею размах.
Вы поняли, я полагаю, что это последнее заявление по сути своей означает. Оно водит нас в самое средоточие того, что я в последний раз, говоря о влечении к смерти, охарактеризовал как место расщепления между принципом Нирваны, который — в силу связи своей с фундаментальным законом, допускающим, в принципе, идентификацию с тем, что преподносится нам энергетической теорией как тенденция к возвращению в состояние если не абсолютного покоя, то, по крайней мере, всеобщего равновесия, — является также принципом уничтожения, с одной стороны, и влечением к смерти, с другой.
Место влечения к смерти следует искать в исторической области, так как артикулируется оно на уровне, определить который можно лишь исходя из означающей цепочки, то есть постольку, поскольку функционирование природы может быть соотнесено с неким ориентиром — ориентиром, устанавливающим определенный порядок. Необходимо что-то такое, что лежало бы по ту сторону природы — там, откуда она могла бы быть крепко схвачена силой памяти — схвачена таким образом, что все могло бы быть предпринято вновь, предпринято именно исходя из первоначального намерения, а не как звено в череде бесконечных метаморфоз.
Я схематически излагаю здесь то, о чем вы слышали в прошлый раз в очень полном и удачном резюме работы Бернфельда и Фай-тельберга, сделанном г-ном Кауфманном, продемонстрировавшим нам три уровня, на которых ставится вопрос о влечении к смерти. На уровне материальных систем — рассматриваемых в качестве неодушевленных и включающих в себя, таким образом, и все то, что наличествует в качестве материальной организации внутри живых организмов — функционирование необратимой тенденции, направленной к достижению окончательного состояния равновесия, как раз и представляет собой, собственно говоря, то, что в энергетической модели именуется энтропией. Вот первый смысл, который можно фрейдовскому понятию влечения к смерти придать. Об этом ли идет у нас речь?
Текст Бернфельда и Файтельберга удачно дополняет Фрейда, указывая на особенности, имеющие место в одушевленной структуре. В неодушевленных физических системах учитываемые энергетической формулой измерения интенсивности и экстенсивности являются однородными. Одушевленную организацию отличает от неодушевленной, согласно Бернфельду, элемент структуры — в смысле структуры организма, по Гольдштейну, — в силу которого части, полюсы уравнения становятся разнородными. Это верно как для отношений между ядром и цитоплазмой на элементарном уровне, так и, на уровне высших организмов, для отношений между неврологическим аппаратом и прочими структурными составляющими. Разнородность эта приводит к тому, что на уровне одушевленной структуры возникает конфликт.
Здесь то и заявляет Бернфельд — Я дальше этого не иду. По его мнению, сформулированное Фрейдом понятие влечение к смерти имеет в виду свойственное всем системам, которые могут быть описаны энергетическим уравнением, стремление — стремление к возвращению в состояние равновесия. Стремлением это можно назвать, но это вовсе не то, что, как выражается один из наиболее ортодоксальных последователей Фрейда, мы, аналитики, можем в нашем, аналитическом, регистре рассматривать как влечение.
Влечение как таковое, являясь в этом случае влечением к разрушению, должно лежать по ту сторону стремления к возвращению в неодушевленное состояние. Чем может оно тогда вообще быть, как не прямой волей к разрушению — если позволено будет мне, чтобы проиллюстрировать, о чем идет речь, так выразиться?
Акцентировать слово воля не стоит. Сколь бы ни были интересны отклики, которые могло вызвать у Фрейда чтение Шопенгауэра, ни о чем хотя бы отдаленное отношение имеющее к шопенгауэровской основополагающий воле у него речь не идет, и если я сейчас вообще об этом напоминаю, то лишь имея в виду лишний раз подчеркнуть, что мы находимся в ином регистре, нежели пресловутое влечение к равновесию. Воля к разрушению. Воля начать все заново. Воля к Другой вещи, ибо опираясь на функцию означающего можно поставить под сомнение всё.
Рассматривать всё, что имплицитно и имманентно в цепи естественных событий присутствует, как влечение к смерти, можно лишь постольку, поскольку налицо имеется другая цепь — цепь означающих. На этом этапе фрейдовской мысли как раз и требуется, чтобы то, о чем идет речь, могло предстать в качестве влечения к разрушению — влечения, которое ставит все существующее под вопрос. Но влечение это есть в то же самое время и воля к творению из ничего, воля к возобновлению.
Измерение, о котором мы говорим, заявляет о себе тогда, когда историческую цепочку становится возможным вьщелить и когда история предстает в результате в качестве чего-то памятного, того, что оказалось, во фрейдовском смысле, запомнено, чего-то такого, что зарегистрировано в означающей цепочке и зависит от существования этой последней.
Именно это я и собирался проиллюстрировать, зачитав отрывок из Сада. Не то что бы понятие влечение к смерти в том виде, в котором его преподносит Фрейд, научного обоснования не допускает, неверно, но понятие это относится к тому же разряду, что и система Пия VI. Как и у Сада, понятие влечение к смерти является сублимацией креационистского толка, связанной с тем структурным элементом, в силу которого стоит нам начать иметь в этом мире дело с чем то таким, что предстает нам в виде цепочки означающих, как тут же где-то, но только, разумеется, вне природного мира, налицо оказывается нечто этой цепочке потустороннее, то ex nihilo, на основе которого она как таковая, собственно, и артикулируется.
Я не собираюсь отрицать, что понятие влечение к смерти у Фрейда является чем-то весьма подозрительным — столь же подозрительным и едва ли не столь же смехотворным, как идея Сада. Можно ли, скажите на милость, вообразить себе что-то более жалкое и убогое, нежели мысль о том, будто человеческие преступления могут участвовать в поддержании, будь то во благо или во зло, космического согласия, rerum concordia discors?
Идея эта даже вдвойне подозрительна, поскольку оборачивается, в конечном счете — именно так понимаем мы По ту сторону принципа удовольствия — подменой Природы субъектом. Как бы мы субъект этот ни конструировали, опорой этой конструкции окажется субъект в качестве знающего, в данном случае — сам Фрейд, поскольку именно он то, что лежит по ту сторону принципа удовольствия и открыл. Но ведь в то же самое время сам Фрейд вполне последовательно указывает на наличие, на горизонте нашего опыта, некоего поля, где субъект, если он вообще сохраняется, является, несомненно, субъектом постольку лишь, поскольку он не знает, то есть находится в позиции предельного, если не абсолютного, незнания. Вот где лежит сердцевина всего фрейдовского исследования.
Я не утверждаю также, что на этом уровне спекуляции вещи вообще сохраняют какой-то смысл. Я просто хочу сказать, что артикуляция Фрейдом влечения к смерти не является ни истинной, ни ложной. Она подозрительна — это все, что я говорю. Вполне достаточно того, что она показалась Фрейду необходимой, что она привела его к краю той пропасти, которая в принципе представляет собой проблему, поскольку именно она выявляет структуру всего поля в целом. Она указывает на тот самый порог, который я, в свою очередь, назвал непреодолимым, на порог Вещи. Здесь, на этом пороге, и выстраивает Фрейд сублимацию, имеющую дело с инстинктом смерти, поскольку она, сублимация эта, является по сути своей креационистской.
Существо предупреждения, которое я многократно перед вами озвучивал, именно в этом — не доверяйте способу мышления, который я называю эволюционизмом. Не доверяйте по двум причинам — то, что я скажу вам на этот счет, покажется вам, наверное, догматичным, но это только на первый взгляд.
Первая причина состоит в том, что несмотря на принадлежность эволюционизма и мысли Фрейда к одному времени и исторические черты родственности между ними, гипотезы эволюционизма принципиально с этой мыслью несовместимы. Я уже продемонстрировал вам необходимость момента творения ех nihilo — момента, в котором берет начало то, что является во влечении историческим. В начале было Слово, то есть — означающее. Не будь в начале означающего, невозможно было бы артикулировать влечение в качестве исторического. Одного этого соображения довольно, чтобы включить ex nihilo в структуру психоаналитического поля.
Вторая причина покажется вам, быть может, парадоксальной, но она, на самом деле, не менее существенна — дело в том, что креационизм является единственной перспективой, в которой возможно становится радикальное устранение Бога.
Как ни странно, но только в креационистской перспективе можно рассчитывать на избавление от непрестанно возрождающегося представления о творческом замысле, носителем которого является личность. В эволюционистском мышлении Бог, хотя и не упоминаемый нигде прямо, оказывается поистине вездесущим. Эволюционизм, ставящий себе задачей представить непрерывный процесс как движение, восходящее к вершинам мышления и сознания, предполагает волей-неволей наличие этого сознания и этой мысли в самом начале. И только в перспективе абсолютного начала, где означающая цепочка возникает в качестве независимого порядка, обособляющего памятное и запечатленное в памяти в качестве особого измерения, перестаем мы непрерывно в сущем имплицитно подразумевать существо — импликация, как раз и лежащая в основе эволюционистского мышления.
Вывести из эволюции материи то, что называют обычно мыслью, когда мысль отождествляют с сознанием, не представляет труда. Что действительно трудно из эволюции материи вывести, так это так называемого homofaber, производство и производителя.
Производство представляет собой совершенно оригинальную область, область творения ex nihilo, поскольку вводит в природный мир организацию, обусловленную означающим. И поскольку это так, обнаружить мысль — мысль не в идеалистическом смысле, а в смысле способа, которым она в мире присутствует — возможно, на самом деле, лишь в промежутках означающего.
То поле, которое я именую полем Вещи; поле, куда проецируется что-то лежащее по ту сторону цепи означающих, у истоков ее; место, где любое вместилище бытия оказывается проблематичным; привилегированное место той сублимации, ярчайший пример которой мы находим у Фрейда, — откуда возникает у нас представление о нем, каким образом формируется в отношении его точка зрения?
Помимо всего прочего, это также и место, где поведение человека по отношению к плоду его творчества становится, как это ни удивительно, куртуазным, почему и заимствовал я первый пример из области куртуазной любви. Согласитесь, что поместить на это место такое творение, как женщину — идея поистине невероятная.
Успокойтесь, пожалуйста, я вовсе не собирался высказываться об этих существах в уничижительном смысле. В нашем культурном контексте они ничем не рискуют, когда оказываются по ту сторону принципа удовольствия в качестве абсолютного объекта. Так что лучше пускай они занимаются своими проблемами, которые вполне под стать нашим собственным, одним словом — не из легких. Вопрос состоит в другом.
Если невероятная идея поместить женщину на место бытия смогла все-таки прийти людям в головы, то ее самой как женщины это не касается — это касается ее исключительно в качестве объекта желания. Отсюда и проистекают все парадоксы пресловутой куртуазной любви — парадоксы, над которыми люди ломают головы, привнося в нее все требования любви, которая явным образом не имеет с этой ставшей достоянием истории сублимацией ничего общего.
Историки или поэты, которые пытались проблему куртуазной любви решить, не могли представить себе, каким образом лихорадочный жар, сопутствующий переживанию желания, которое, как произведения куртуазной поэзии неопровержимо свидетельствуют, ничего платонического в себе не несло, сопрягается с тем совершенно очевидным фактом, что существо, к которому обращено желание, не обладает иным бытием, кроме того, что свойственно означающему. Нечеловеческие черты предмета куртуазной любви бросаются, на самом деле, в глаза. Эта любовь, способная, как оказалось, толкнуть некоторых людей на действия, близкие к безумию, обращена была на существа живые, которых мы знаем по именам, но которые тем не менее были для нее, любви этой, не историческими персонажами из плоти и крови, а — различие, согласитесь, немаловажное — существами, чей способ бытия оказывается каждый раз способом бытия разума, означающего.
Именно это, кстати сказать, придает смысл удивительным строфам Арно Даниеля, которого я вам здесь цитировал. В его поэме пастушка, в кои-то веки раз, дает пастуху ответ — вместо того, чтобы поэту, в самый разгар его мольбы к означающему, подыграть, женщина предостерегает его, указывая на то, чем она может в качестве означающего обернуться. Я не что иное — говорит она, — как та пустота, что ты обнаружишь в моей клоаке, чтобы не сказать хуже. Подуйте туда, и посмотрите, насколько вашей сублимации хватит.
Это не значит, что на поле вещи нельзя взглянуть под другим углом зрения. Этот другой угол зрения — исторически точно датированный и обнаруженный, как ни странно, в эпоху, которая не так уж сильно отличалась от той, к которой обращался я перед этим — будет, пожалуй, несколько посерьезнее. И обнаруживает он то, что называется у Сада Верховным-во-зле-существом.
Я говорю о Саде, потому что предпочитаю близкие и живые примеры ссылкам на вещи малоизвестные, но существо это вовсе не является изобретением Сада. Представление о нем имеет долгую историческую традицию, восходящую по меньшей мере к манихейству, на которое я ссылался уже, говоря о куртуазной любви.
Уже тогда, в эпоху куртуазной любви, существовали люди, о которых я бегло упоминал, именовавшиеся катарами. Люди эти не сомневались в том, что князь мира сего был как раз чем-то наподобие этого Верховного-во-зле-существа. Grimmigkeit, свойственная Богу Якоба Бёме, его представление о фундаментальном зле как одном из измерений Божественной жизни, свидетельствует о том, что измерение это не было исключительным достоянием антирелигиозного свободомыслия.
Гностиками катары не были и все говорит, скорее, о том, что они являлись добрыми христианами. Единственное практиковавшееся ими таинство, так называемое consolamentum, служит достаточным тому подтверждением. Их представление о спасении, ничем не отличающееся по сути от христианского благовестия, состояло в том, что существует спасительное слово, и consolamentum их было ничем иным, как передачей благословения посредством этого слова от субъекта к субъекту. То были люди, чья единственная надежда состояла в пришествии слова — люди, которые, собственно говоря, принимали благовестие христианства всерьез.
Досада, однако, в том, что для того, чтобы слово это было не просто действенным, а жизнеспособным, его надо вырвать из дискурса. А нет ничего труднее, чем вырвать слово из дискурса. Вы возлагаете веру на слово, несущее спасение, но едва вы оказались на этом уровне, как дискурс на вас набрасывается. Что не могли не заметить катары, когда церковные власти, явившись в качестве слова, несущего зло, дали им понять, что как бы чист ты ни был, надо, все-таки, объясниться. А любому известно, что когда дискурс, пусть даже церковный, примется вас на этот предмет допрашивать, выход остается только один — раз и навсегда замолчать.
Итак, мы вновь дошли до порога того поля, где открывается доступ к тому, что мы имеем в виду, говоря о желании. Как можно к нему приблизиться? С какой стороны к нему подступить? Что происходит, когда мы не проецируем на это поле сублимированные в наших сновидениях темы — участь равно и людей ученых, и простецов, и даже самых степенных, не миновавшая, в частности, и хорошо вам известного мелкого буржуа из Вены? Что случается каждый раз, когда бьет для нас час желания?
Так вот, к полю этому предпочитают не приближаться — пин то есть причины.
Это станет предметом нашего следующего занятия: не приближаются к этому полю по тем самым причинам, которые формируют область блага — блага в традиционном смысле, то есть увязанного, целой традицией этической мысли, с получением удовольствия. Но вовсе не Фрейд совершил в бытующих со времен античности представлениях о благе как том, что может быть выведено из переживания удовольствия, радикальный переворот. Я постараюсь в следующий раз показать вам, как во времена Фрейда с этими представлениями обстояли дела — исторический перекресток, на который я приведу вас, отмечен словом полезность.
В следующий раз я надеюсь детально установить с вами, какое место занимает этический регистр утилитаризма во фрейдовской перспективе. Фрейд позволяет себе решительно за границы этого регистра перешагнуть, показывая нам то, что составляет основополагающую его ценность и в то же время замыкает его в тесные пределы, которые Фрейд осязаемо дает нам почувствовать.
Я постараюсь в следующий раз раскрыть перед вами перспективу не просто поступательного движения мысли, а исторической эволюции. Целью моей будет при этом демистификация платонических и аристотелианских воззрений на благо, в том числе Верховное Благо, и сведение их к уровню икономии благ. Поместив эту икономию во фрейдовскую перспективу принципа удовольствия и принципа реальности, мы попробуем, исходя из этого, составить представление о том новом, что Фрейд в области этики внес.
За ним, этим промежуточным хранилищем, образованным цепью и замкнутым контуром благ, перед нами открывается еще одна область, позволяющая к интересующему нас центральному полю подойти ближе. Благо не является единственной настоящей преградой, которая нас от поля этого отделяет.
Что же представляет собой эта вторая преграда? Я скажу об этом уже сейчас, и мысль, которую я выскажу, покажется вам, возможно, вполне естественной, хотя на самом деле она вовсе не так уж, в конечном счете, и очевидна. Речь идет об области, по отношению к которой Фрейд высказывался исключительно сдержанно и которую, что действительно интересно, так и не сумел опознать. Подлинной преградой, останавливающей субъекта перед неизреченной областью радикального желания, областью абсолютного уничтожения, уничтожения по ту сторону разложения, является, собственно говоря, эстетический феномен, характеризуемый переживанием встречи с прекрасным — прекрасным в ореоле окружающего его сияния; тем прекрасным, о котором сказано было, что оно является блеском истины. Оно и понятно — вид истины не слишком радует и сияние служит ему если не ореолом, то, по крайней мере, прикрытием.
Я покажу вам, другими словами, на следующем этапе нашего с вами пути, что если благо является на лестнице, ведущей нас к центральному полю желания, первым препятствием, то прекрасное представляет собой второе и лежит к цели ближе. Но, останавливая нас, оно в то же время указывает, в каком направлении поле уничтожения надо искать.
То обстоятельство, что в этом смысле прекрасное, устремленное к центру нравственного опыта, лежит ближе ко злу, чем ко благу, вас, я надеюсь, слишком не удивит. Давно было сказано — лучшее враг хорошего.
4 мая I960 года.
XVII Функция блага
Блаженный Августин и маркиз де Сад. Память, прокладка путей, ритуал. Субъект, выпадение означающего. Апология текстиля. Польза и наслаждение.
Теперь, когда мы подошли к ограде желания, пришел черед, как обещал я вам в прошлый раз, поговорить о благе. Место блага всегда, так или иначе, было где-то на этой преграде. Сегодня мы с вами посмотрим, каким образом позволяет анализ с точностью это место определить.
Итак, я поговорю с вами сегодня о благе, и не исключено, что говорить я буду плохо, имея в виду, что для разговора о благе испытывал в жизни слишком мало блаженства. Получится у меня не слишком хорошо еще и потому, что я сегодня недостаточно хорошо себя чувствую, чтобы быть на высоте своего предмета. Но сама идея природы, после всего, что я тут сказал о ней, не позволяет мне счесть это стечение обстоятельств препятствием. Я заранее прошу извинения, на случай если сказанное мной не вполне вас удовлетворит.
Вопрос о благе нашей практике как нельзя близок. Все операции обмена между людьми, а тем более психоаналитическое лечение, происходят обычно под эгидой и во имя блага — поистине возвышенное зрелище, чтобы не сказать сублимированное. Так вот, сублимация эта, мы можем определить ее, с определенной точки зрения, как мнение, в платоновском смысле слова, то есть мнение, построенное таким образом, что позволяет уловить то, что могло бы быть объектом науки, хотя для самой науки объект этот, там, где он находится, на данный момент недоступен. Любую сублимацию, вплоть до такой универсальной, как благо, можно условно рассматривать на какой-то момент как поддельную науку.
В психоаналитическом опыте все наводит на мысль о проблематичности представления о благе как конечной цели. Какое благо преследуете вы, предаваясь со страстью вашему ремеслу? В нашей деятельности вопрос этот всегда стоит на повестке дня. Ведь нам приходится каждый момент спрашивать себя, какую роль играет для нас желание творить благо, желание исцелять. Нам приходится принимать это желание в расчет в качестве того, что по самой природе своей способно мгновенно сбить нас с правильного пути. Скажу больше — можно было бы парадоксальным, пожалуй даже излишне резким образом, определить наше желание, желание аналитиков, как нежелание исцелять. Смысл этой формулировки единственно в том, чтобы предостеречь нас от торных и заманчиво легких путей вульгарных благодеяний, против шулерской благотворительности под маркой того, что мы, мол, желаем субъекту только хорошего.
Но от чего, собственно, собираетесь вы субъект исцелить? Весь наш опыт, наш путь вдохновляется, несомненно, той мыслью, что исцелить его мы должны от иллюзий, стоящих на пути его желания. Но до какого предела позволительно нам в этом направлении двигаться? В конце концов, мало того, чтобы в самих по себе иллюзиях этих ничего достойного уважения не было — надо еще, чтобы субъект пожелал их оставить. Пределы сопротивления — являются ли они в данном случае чем-то индивидуальным?
Здесь-то и возникает вопрос о месте, которое занимают блага по отношению к желанию. Благ, которые искушают Субъекта, великое множество, и вы сами знаете, как неосторожно было бы с нашей стороны стать в его глазах тем, что открывает ему доступ к ним всем — пресловутый американский путь именно таков. Однако именно перспектива получить к земным благам доступ побуждает, в какой-то степени, к анализу — анализу на американский манер — прибегать, побуждает прийти к психоаналитику и сформулировать свое требование.
Но прежде чем проблемой блага заняться, я хотел бы дать вам какое-то представление об иллюзиях, которые на пути желания поджидают. Разбить эти иллюзии должна наука — наука добра и зла. Место этой науки находится в том центральном поле, в неизбывности и неизбежности которого для нашего опыта я стараюсь вас убедить. Поле это связано с тем запретом, с тем внутренним ограничением, которое мы с вами специально исследовали в прошлом году, когда я говорил с вами о желании и его истолковании. Я указал тогда, в качестве характерной черты этого поля, на то он не знал, в имперфекте, что стоит на страже поля акта высказывания как такового, то есть области наиболее тесных отношений субъекта с означающей артикуляцией. Другими словами, субъект является не агентом высказывания, а носителем, ипостасью его, поскольку последствий высказывания он даже приблизительно оценить не способен. Именно в отношениях с означающей артикуляцией он сам как таковой и возникает в качестве следствия из нее.
Вернемся теперь к фантазиям, приведенным мною в качестве примера того центрального поля, с которым желание имеет дело — не забудьте, читая текст Сада, обратить внимание на те моменты в его фантазиях, где он с дьявольской радостью, делающей чтение порою невыносимым, дает понять, что наивысшая жестокость заключается в том, что судьба субъекта обсуждается у того на глазах, причем так, что он это знает. Злые умыслы, касающиеся этого несчастного, от него не скрываются. Смысл этого фантазма в том, чтобы завязать само существование субъекта на радикальное вопрошание, на то последнее il ne savait pas, он не знал, сама имперфектная форма которого говорит о том, что поставленный субъектом вопрос неразрешим для него. Я прошу в связи с этим обратить внимание на двусмысленность употребления перфекта во французском языке. Когда мы говорим: un instant plus tard, la bombe йclatait, еще минута — и взрыв, то это может означать две совершенно противоположные вещи — либо что бомба действительно взорвалась, либо что вмешались какие-то обстоятельства, предотвратившие этот взрыв.
Итак, мы возвращаемся к благу. Над предметом этим начали размышлять не вчера, и должен сказать, что мыслители эпохи, интересы которой, по понятным причинам, не кажутся уже нам столь актуальными, высказывали на сей счет время от времени очень любопытные вещи. Какими бы странными они нам вне своего контекста ни показались, я не премину к ним обратиться — их абстрактность не должна нас отпугивать. И когда Блаженный Августин в двенадцатой главе седьмой книги Исповеди говорит вещи, которые я вам сейчас процитирую, одной снисходительной улыбкой вам от них, по-моему, не отделаться.
О ТОМ, ЧТО ВСЕ СУЩЕЕ, БУДУЧИ ТВОРЕНИЕМ БОЖИИМ, ЯВЛЯЕТСЯ И БЛАГИМ.
Мне стало ясно, что только благое может стать хуже. Если бы это было абсолютное благо, или вовсе не было бы благом, то оно не могло бы стать хуже. Абсолютное благо не может стать хуже, а в том, в чем вовсе нет блага, нечему стать хуже. Ухудшение наносит вред; если бы оно не уменьшало благого, оно бы вреда не наносило.
Но соль аргументации (я воспользовался переводом Гарнье) заключается в следующем:
Итак: илиухудшение не наносит вреда — чего быть не может — или — и это совершенно ясно — все ухудшающееся лишается благого. Если оно совсем лишится благого, оно вообще перестанет быть. Если же останется и не сможет более ухудшиться, то станет лучше, чем прежде, ибо пребудет неухудшающимся.
Суть аргументации и заключенную в ней иронию вы наверняка уловили, равно как и то, что речь здесь идет о том самом вопросе, который занимает и нас. Если открытие того, что из сердцевины вещей изъято все, что было в них доброго и благого, невыносимо, то что можно сказать о том, что остается и что-то представляет собой, пусть даже что-то совершенно другое? Вопрос этот люди задавали себе, в контексте самого разного опыта, столетиями. Находим мы его и в "Жюльетте", где он сопряжен, как и следовало ожидать, и притом весьма причудливым образом, с проблемой Закона. Я хотел бы на эту причудливость особо обратить внимание, так как она неотъемлема от самой структуры, о которой здесь идет речь. Сад пишет:
Тиранов никогда не рождает анархия. Они возрастают на ваших глазах под сенью законов, у них заимствуя свое оправдание. Царство законов, таким образом, порочно, оно ниже царства анархии. Главным доказателъствоммоих слов служит то, что когда правительство желает изменить конституцию, оно не может само не погрузиться в анархию. Чтобы упразднить старые законы, ему приходится установить революционный режим, для которого законов нет. Внутри этого режима и рождаются постепенно новые законы, но это второе состояние по необходимости менее чисто, нежели первое, так как оно является из этого последнего производным, так как нужно было прибегнуть к первому благу, анархии, чтобы прийти ко второму — государственной конституции.
Я привожу этот пример в качестве того, на что можем мы опереться. Аналогичная аргументация, выдвинутая мыслителями весьма отличными друг от друга по роду занятий, ясно указывает на наличие некоторой необходимости в том, чтобы перед вступлением на тот или иной путь возникало некоторое логическое замешательство.
Для нас с вами вопрос о благе с самого начала предстоит увязанным так или иначе с Законом. С другой стороны, нет ничего более соблазнительного, чем уйти от проблемы блага, скрыв ее путем молчаливого предположении о существовании некоего естественного блага, некой гармонии, которую нам, выясняя пути желания, предстоит открыть. Повседневный опыт преподносит нам, однако, в форме так называемых "защитных реакций субъекта" неоспоримое свидетельство того, что поиски блага постоянно и, можно сказать, изначально оборачиваются поисками субъектом своего алиби. Весь аналитический опыт представляет собою не что иное, как призыв к обнаружению своего желания и в корне меняет те примитивные представления об отношении субъекта к благу, которые были сформулированы философами прежде. Конечно, к опыту этому надо присмотреться внимательнее, так как на первый взгляд кажется, будто ничего не изменилось и что Фрейд неизменно ориентируется на регистр удовольствия.
Я настаивал в течение целого года на том, что с первых шагов моралистической мысли, с тех пор, как термин этика впервые получил смысл, любые размышления о человеческом благе, любые попытки человека осмыслить условия своего бытия и рассчитать направления своего действия неизменно протекали под знаком удовольствия. Все, утверждаю я, начиная с Платона, и уже точно с Аристотеля, включая стоиков, эпикурейцев и даже христианскую мысль в том виде, в котором мы находим ее у Святого Фомы. В отношении определения этих благ, рассуждения их отличаются особой ясностью там, где они углубляются в по сути своей гедонистическую проблематику. Понятно, что на этом пути их встречают немалые трудности — трудности, с которыми все мы в жизненном опыте сталкиваемся — и для того, чтобы выпутаться из них, философы вынуждены проводить различие не между истинными и ложными удовольствиями, так как подобное различие провести нельзя, а между теми истинными и лживыми благами, на которые удовольствия эти указывают.
Что мы выиграем от того, как сформулировал принцип удовольствия Фрейд, сумел ли он внести ясность в этот вопрос, дать нам на этот счет какое-то знание?
Не является ли его формулировка принципиально отличной от всего того, что придавало до сих пор слову удовольствие смысл?
Прежде всего я хочу привлечь ваше внимание к тому обстоятельству, что концепция принципа удовольствия неотделима от концепции принципа реальности, находясь с этой последней в диалектической взаимосвязи. Начать с чего-то мне надо, и я начну просто-напросто с напоминания о том, что именно Фрейд на этот счет говорит.
Давайте понаблюдаем за тем, как артикулирует он принцип удовольствия начиная с работы "Entwurf, о которой мы говорили в начале этого года, и кончая последними формулировками в работе По ту сторону принципа удовольствия. В свете конца становится понятно начало. И уже в "Entwurf вы можете разглядеть тот нерв Фрейдовой мысли, на котором я хотел бы сегодня несколько задержаться.
Ясно, что функция удовольствия организует в человеческой психике целевые реакции, ясно, что удовольствие строится на предпосылках удовлетворения, и что именно подталкиваемый нехваткой в виде неудовлетворенной потребности попадает субъект в его сети, вплоть до того, что сам порождает восприятие, идентичное тому, которое некогда, в первый раз, доставило ему удовлетворение. Самую общую ссылку на принцип реальности можно найти в месте, где Фрейд говорит, что удовлетворение всегда находят на тех путях, на которых его ранее уже получали. Но давайте присмотримся повнимательнее — неужели это все, что говорит Фрейд? Конечно же, нет. Оригинальность "Наброска" состоит в понятии пролагание пути, посредством чего осуществляется распределение либидинальных нагрузок таким образом, чтобы не оказался превышен определенный уровень, начиная с которого возбуждение становится для субъекта невыносимым.
Введение функции пролагания пути предвосхищает тему, которая по мере развития мысли Фрейда занимает в ней все большее и большее место, поскольку мысль Фрейда — это продолжение его опыта.
Мне ставили в упрек мои слова о том, что образцовая ценность нашего опыта происходит, с точки зрения этики, из того, что он полностью игнорирует то измерение привычки, в котором рассматривают обыкновенно человеческое поведение, имея в виду совершенствование его путем, в сущности, дрессировки. В связи с этим мне как раз и противопоставили фрейдовское понятие пролагание пути. Я это возражение отвергаю — это фрейдовское понятие не имеет ничего общего с функцией привычки в том виде, в котором задействуется она в процессе обучения. Речь у Фрейда идет не об отпечатке творческого характера, а об удовольствии, порожденном тем, как эти "пролагания" функционируют. Жизненный нерв принципа удовольствия располагается на уровне субъективности. Пролагание пути не является чисто механическим эффектом — его задействуют ввиду удовольствия от легкости, а вновь обращаются к нему в связи с удовольствием, доставляемым повторением. Повторение потребности является во фрейдовской психологии, как кто-то удачно выразился, всего лишь поводом к возникновению потребности в повторении, точнее — в побуждении к повторению. Жизненный нерв фрейдовской мысли в том виде, в котором мы, аналитики, ею, независимо от того, посещаем мы настоящий семинар или нет, пользуемся, заключается в его представлении о том, что функция памяти, припоминания, выступает — по меньшей мере — соперником тех способов удовлетворения, которые она призвана обеспечить. Она, функция эта, имеет собственное свое измерение, простирающееся гораздо дальше удовлетворения от достижения цели. Тирания памяти — вот что вырабатывается внутри того, что мы привыкли называть структурой.
Таков тот шаг, тот разрыв по отношению к прошлому, на который нельзя не обратить внимание, если мы хотим ясно отдать себе отчет в том новом, что фрейдовская мысль в наше понятие о функционировании человеческого существа привнесла. Тому, кто попытается его взгляды с традиционными примирить, всегда останется возможность указать на то, что для природы характерны возвращения, характерна цикличность. Я не стану подобными возражениями возмущаться, а просто проясню некоторые понятия, позволив тем самым достойно на них ответить.
Может быть, природный цикл действительно имманентен всему сущему. К тому же он включает множество разнообразных уровней и регистров. Но я прошу вас обратить внимание на тот разрыв, который вводится в предполагаемый этим циклом порядок манифестации реального одним тем обстоятельством, что человек является носителем языка.
Достаточно будет взаимоотношений его с любой парой означающих — возьмем, к примеру, следуя традиции, очень условной, инь и янь, каждое из которых, появляясь или возвращаясь, заслоняет другое (я вовсе не настаиваю именно на этой паре, с таким же успехом можно было бы взять синус и косинус). Другими словами, структура, порожденная памятью, не должна заслонять от вас в нашей работе структуру самой памяти, структуру, представляющую собой означающую артикуляцию. Упустив из виду эту последнюю, вы не сможете удержать этот важнейший для артикуляции нашего опыта регистр, то есть автономию и господство инстанции памяти, на уровне — не реального, нет: на уровне функционирования принципа удовольствия.
Речь не идет о каких-то ненужных, византийских тонкостях, и если где-то мы создаем разрыв, открываем бездну, то где-то в другом месте, наоборот, заполняем то, что представлялось разрывом и бездной там. Именно здесь становится видно, где происходит рождение субъекта как такового — субъекта, для возникновения которого в другом месте никаких оснований нет.
Как я уже говорил, целенаправленная эволюция материи по направлению к сознанию являет собою представление мистическое, необъяснимое и, собственно говоря, исторически не подтверждаемое. Нет оснований полагать, что возникновение предварительных, частичных, подготовительных по отношению к сознанию и предвосхищающих его феноменов имеет что-то общее, по роду своему, с естественным порядком вещей, потому что сознание, исходя из теперешнего его состояния, представляется явлением, распределение которого в природе носит блуждающий и, я бы даже сказал, разбросанный характер. Пятно, мазок сознания, появляется на самых разных уровнях нашего сцепления с нашим собственным Реальным, причем в самом сознании нет при этом ни преемственности, ни однородности. Фрейд неоднократно останавливался на этом факте, всегда подчеркивая невозможность приписать феномену сознания какую-то функцию.
Зато наш субъект занимает по отношению к означающей цепи место вполне солидное и едва ли не прослеживаемое исторически. Что касается субъекта в момент его появления, первоначального субъекта, субъекта, чье возникновение в цепи явлений может быть наблюдением обнаружено, то в отношении его мы предлагаем совершенно новую формулу, допускающую объективную проверку. То, что субъект первоначально представляет собой, сводится к следующему — он может забыть. Он в этом определении надо стереть — субъект при возникновении своем есть, буквально, не что иное, как элизия, опущение означающего, означающего, являющегося в цепочке пропавшим звеном.
Таково первое место, первое лицо. Именно здесь появление субъекта находит себе выражение как таковое, осязаемо давая почувствовать, почему и в каком отношении понятие бессознательного стоит в центре нашего опыта.
Исходя из этого, вы найдете объяснение многим вещам — столь удивительному, в частности, историческому явлению, как ритуалы. Я имею в виду ритуалы, которыми люди, принадлежавшие к так называемым первобытным культурам, считали нужным сопровождать такие самые что ни на есть естественные в мире вещи, как возвращения сезонных циклов. Если император Китая не проложит в определенный день весны первую борозду, ритм времен года будет нарушен. Если в королевском доме нарушен порядок, море вторгнется во владения земли. Отголоски этих верований слышны еще в конце шестнадцатого века, у Шекспира. Что здесь перед нами, как не те нити, что связывают субъекта со значениями и поставляют его в центре как ответственного за забвение? Какая связь может быть между человеком и восходом солнца, если человек этот не поддерживает, в качестве говорящего, прямой связи с означающим? Воспользовавшись мифическим образом, можно сказать, что первоначально отношение человека к природе точно то же, что у Шантеклера — тема, привнесенная небольшим поэтом, к которому можно было бы найти более интересный подход, не начни я уже в другом семинаре чернить фигуру Сирано де Бержерака, низводя его к шутовской суете, не имеющей ничего общего с монументальной структурой персонажа.
Итак, нам предстоит рассмотреть на этом уровне вопрос о благе.
Вопрос о благе покоится на принципе удовольствия, с одной стороны, и на принципе реальности с другой. Если мы исходим из этого, у нас нет ни малейшего шанса избежать конфликта, учитывая, что равновесие между этими принципами регулярно нарушалось.
Нельзя не обратить внимание на тот в самой фрейдовской концепции недостаточно отчетливо выступающий факт, что реальность не является простым диалектическим коррелятивом принципа удовольствия. Точнее, реальность нужна исключительно для того, чтобы нам было обо что расшибить себе лоб, когда мы встаем, под действием принципа удовольствия, на ложный путь. На самом деле, мы создаем реальность, пользуясь удовольствием.
Это понятие имеет принципиальный характер. Оно целиком укладывается в понятие практики — в том двойном смысле, который слово это исторически получило, обозначая, с одной стороны, в этическом измерении, действие в качестве чего-то такого, что не просто имеет целью еруоу, но также вписывается в иvйpyeia; а с другой стороны — и изготовление, производство, творение ех nihilo, о котором у нас шла речь в прошлый раз. Совсем не случайно оба эти смысла соединены в одном слове.
Мы должны сразу же отдать себе отчет в том, насколько грубым является представление, будто в области самой этики все может быть сведено, как авторы-аналитики в своих теоретических изысканиях слишком часто предполагали, к социальному принуждению, как если бы способ, которым это последнее формируется, сам по себе не представлял собой для людей, живущих в сфере нашего опыта, проблему. Во имя чего социальное принуждение, по мнению этих авторов, осуществляется? Во имя коллективной склонности? Тогда почему, по прошествии столь длительного времени, социальному принуждению этому так и не удалось выработать пути, наиболее подходящие для удовлетворения желаний индивидуумов? Нужно ли мне еще говорить об этом перед собранием аналитиков — кому, как не им, дано почувствовать дистанцию между организацией желаний, с одной стороны, и организацией потребностей, с другой?
Но кто знает, быть может, нужно, в конце концов, проявить настойчивость?
Не исключено, что меня лучше поняли бы в школьной аудитории. Они-то, по крайней мере, сразу почувствовали бы, что школьные порядки не обеспечивают идеальных условий для занятия онанизмом. Я полагаю, однако, что именно аналитический взгляд лучше других расшифрует то, что происходит в определенном поле мечты, именуемом, что характерно, утопией. Возьмите, к примеру, Фурье — забавнее чтения, вы, кстати говоря, не найдете. Оставляемое его текстами впечатление шутовства должно быть для нас поучительно. Здесь ясно видна та дистанция, что отделяет социальный прогресс от того, что видится в перспективе даже не открытия всех шлюзов, а хотя бы некоего общественного устройства, которое было бы направлено на удовлетворение желаний. Вопрос в данный момент в том, способны ли мы, аналитики, разглядеть это лучше других.
Мы не первые, кто на эту дорогу вступил. Что касается меня, то в этой аудитории присутствует немало марксистов и мне кажется, что слушатели из их числа смогут заметить глубокую, интимную, затрагивающую саму ткань предмета связь между тем, что я здесь излагаю, с одной стороны, и основополагающими дискуссиями Маркса по поводу отношений между человеком и объектом производства, с другой. Одним словом, чтобы перейти к сути дела, я вернусь туда, где оставил вас после очередного, сделанного на позапрошлой лекции отступления — к Святому Мартину, разрезающему мечом большой кусок ткани, в которую он был облачен на пути в Каваллу.
Рассмотрим дело с точки зрения блага и зададимся сначала вопросом о том, что она, ткань эта, собой представляет.
Поскольку из ткани можно скроить одежду, она представляет собой потребительскую ценность, на чем многие до нас уже останавливались. Но вы напрасно полагали бы, что отношения между человеком и предметом его производства в истоках своих прояснены до конца, даже у Маркса, который зашел в изучении этого вопроса достаточно далеко.
Я не собираюсь заниматься здесь критикой экономических построений. Однако мне вспомнилось сейчас одно очень неплохое, из тех, что я люблю, так как они позволяют осмыслить измерение, которое, несмотря на то, что его можно буквально коснуться рукой, всегда оказывается более или мене мистифицировано — я уже ссылался, по-моему, на последнем моем занятии на соответствующую главу из последней книги Сартра Критика диалектического разума. Она мне очень понравилась, и я воспользуюсь ей теперь же, только на сей раз речь пойдет о тридцати страницах, которые я впервые прочел в прошлое воскресенье.
Я не знаю, что вам сказать о работе в целом, так как я только эти тридцать страниц и прочел, но они, должен признать, неплохи. Речь в них как раз и идет о первоначальных взаимоотношениях человека с объектом его потребностей. Мне кажется, что именно в этом регистре Сартр намеревается договорить вещи до конца, и если он действительно это предпринял, если ему удастся свой предмет исчерпать, то труд его, разумеется, не пройдет даром.
Сартр определяет эти фундаментальные отношения, руководствуясь понятием нехватки, редкости (raretй), — как то, чем человек в своем бытии обусловлен, как то, что соделывает его как человека в отношениях с собственными потребностями. Для мысли, которая ставит себе целью полную диалектическую прозрачность, это в качестве последнего слова звучит темновато. Мы, со своей стороны, подув легонько на нашу ткань, будь она редкая или нет, развернули ее, так что теперь, на ветру, она позволит сквозь себя кое-что разглядеть.
Аналитики уже присматривались к этой ткани, пытаясь понять, что она символизирует, и говоря нам, что она одновременно показывает и скрывает и что символика одежды вполне действительна, хотя из слов их так и не понятно, что с этой тканью-фаллосом делать — призвана ли она обнаруживать или прятать. Глубокая двусмысленность, которой отмечены все аналитические разработки в области символики одежды, служит хорошим показателем того, в какой мере понятие символа, как им до сих пор в психоанализе пользовались, является тупиковым. Если вам попадет в руки толстый номер Международного психоаналитического журнала, посвященный пятидесятилетию Джонса, где вы найдете статью Флю-геля о символике одежды, то и там вы обнаружите, в еще более яркой, почти карикатурно преувеличенной форме, те тупики, которые статье последнего номера нашего журнала были выявлены мной в представлениях Джонса о символизме.
Но как бы то ни было, все глупости, которые о символике говорят, так или иначе служат на пользу. Что-то там, за тканью, все-таки кроется, и это, похоже, все тот же проклятый фаллос. Мы вновь пришли к чему-то такому, о чем, казалось бы, следовало подумать с самого начала, то есть к отношениям между тканью и отсутствующим волосяным покровом — впрочем, отсутствующим отнюдь не везде. Нашелся даже автор-психоаналитик, утверждавший, что любая ткань представляет собой не что иное, как экстраполяцию, модификацию лобковых волос женщины, скрывающих, что этого у нее нет. Такого рода откровения о бессознательном всегда получают оттенок комизма. Однако это, все-таки, не полная чушь, и в качестве басни это мне даже нравится.
Может быть, есть в этом какое-то феноменологическое наблюдение относительно природы наготы. Является ли нагота феноменом чисто естественным? Вся аналитическая мысль согласно свидетельствует, что это не так. Особенно восхитительно, однако, в ней то, что, будучи означающим, она скрывает нечто лежащее по ту ее сторону. Но заниматься феноменологией нам нет нужды — я предпочитаю притчи.
В соответствующей этому случаю притче на сцене оказываются Адам и Ева, с тем, однако, условием, что налицо, наряду с ними, и измерение означающего, представленного в данном случае благожелательными наставлениями Отца — Адам, дай имена всему, что вокруг тебя. Итак, вот Адам, а вот и пресловутые волоски его Евы, которая, мы надеемся, на высоте в смысле той красоты, на которую намекает его первый жест — Адам вырывает у нее волосок. Все, что я попытаюсь вам показать сегодня, вращается вокруг этого маленького, "лягушачьего" волоска. Адам вырывает волосок у той, что дана ему в качестве единственной, ожидаемой им от века, супруги, а на следующий день, глядь — она является к нему в норковой шубке.
Вот где надо искать истоки самой природы ткани. Если нам приходится обращаться за подсказкой ко всему, что веками человек производит, то вовсе не оттого, что шкура у него не такая густая, как у других зверей. Если верить лингвистам, то проблема блага ставится внутри того, что представляет собой структуру. В начале все, что бы мы ни взяли, будь то связанная из волосков ниточка, артикулируется в качестве означающего.
Текстиль — это, в первую очередь, текст. Налицо ткань, и — здесь я сошлюсь на мыслителя из самых строгих, на Маркса — невозможно, разве что в порядке психологической притчи, предположить, что у истоков ее лежит некое сотрудничество производителей. У истоков ее лежит производительное изобретение, то есть тот факт, что человек — а может быть, и не только он — принимается что-то плести, плести что-то такое, что не служит оболочкой или коконом собственному его телу, а будет затем свободно гулять по свету в качестве ткани, будет циркулировать. Почему? Да потому что ткань эта являет собой ценность времени.
Вот что отличает ее от любого естественного производства. Можно, конечно, сопоставлять ее с тем, что производится в животном мире, но она, в отличие от всего этого, изготовлена, к ней приложимы категории моды, древности, новизны, у нее есть потребительская и временная ценность, она представляет собой источник потребностей, хотя налицо она независимо от того, имеется в ней потребность в данный момент, или нет, и именно вокруг нее, этой ткани, разворачивается вся диалектика соперничества и дележа — диалектика, внутри которой и складываются как раз потребности.
Чтобы лучше понять это, бросьте взгляд на дальний горизонт, где противостоят этой функции евангельские слова, которыми Мессия объясняет людям, что ожидает тех из них, кто доверится воле Отца — Они не ткут, не прядут — говорит Он — они предлагают людям подражать в этом лилиям и птицам с их оперением. Поразительный пример упразднения текста словом. В прошлый раз я уже отмечал, что для слова этого характерно: для того, чтобы поверить в него, необходимо вырвать его из текста. Но история человечества разыгрывается в тексте, а текст — это не что иное, как ткань. Первоначальный смысл жеста Святого Мартина в том, что человек как он есть, человек с его правами, начинает приобретать индивидуальные черты постольку, поскольку в ткани этой проделываются дыры, куда он может просунуть голову, а затем и руки — дыры, благодаря которым он начинает фигурировать как одетый, то есть испытывающий потребности, которые были удовлетворены. Что же может он, несмотря на это — я говорю несмотря на это, потому что начиная с этого момента нам становится известно об этом все меньше, — что же может он продолжать желать?
И вот здесь то и оказываемся мы на распутье утилитаризма.
Учение Иеремии Бентама не является простым продолжением гносеологических разработок, знаменующих собой окончание долгой традиции сведения на нет трансцендентного, сверхъестественного элемента прогресса — прогресса, свет на который должно, якобы, пролить знание. Судя по его Теории фикций, работе, значение которой в его наследии лишь недавно было оценено по достоинству, Бентам был человеком, подходившим к вопросу на уровне означающего.
Исследуя различные установления с точки зрения того фиктивного, по сути своей вербального, что в них имеется, он отнюдь не стремится свести на нет изобилие несвязных и противоречащих друг другу прав, пример которых английская юриспруденция ему преподносит, — задача, которую он перед собой ставит, напротив, состоит в том, чтобы исходя из символической искусственности этих понятий, также создающих тексты, отыскать во всем этом то, что может где-то понадобиться, то есть может как раз стать предметом дележа. Долгие исторические дискуссии вокруг проблемы блага сосредоточились в конечном счете на представлении о том, каким образом блага создаются, причем под благом понимается не то, что организуется вокруг так называемых природных и заранее предопределенных потребностей, а то, что обеспечивает материал для разделения, по отношению к которому и артикулируется диалектика блага, получая тем самым для человека реальный смысл.
Потребности человека лежат в области полезного. Это заимствование из символического текста того, что может приносить какую-то пользу. На этой стадии проблемы нет: максимум пользы для наибольшего числа людей — таков закон, согласно которому решается на этом уровне проблема функционирования благ. На этом уровне мы еще не прошли через тот момент, когда субъект продел голову в отверстие ткани. Ткань для того и сделана, чтобы как можно больше субъектов могли просунуть в ее отверстия свои ноги и головы.
Но все наши речи здесь не имели бы смысла, не начни вещи функционировать совершенно иначе. Дело в том, что в вещи этой, редкой или же нет, неважно, в этом богатстве, в конечном счете, какая бы бедность ему на другом полюсе ни соответствовала, налицо с самого начала, наряду с потребительской ценностью, нечто иное — налицо использование его для получения наслаждения.
Благо артикулируется в этом случае совершенно иным образом. Благо не лежит более на уровне пользования тканью. Благо лежит на уровне, где субъект может тканью распоряжаться.
Область блага — это место рождения власти. Понятие распоряжения благом носит принципиальный характер, и, выдвинув его на первый план, мы сразу увидим, что означают претензии человека, получившего себя, в какой-то момент истории, в собственное распоряжение.
Не я, а Фрейд взялся показать, чем это в истории фактически обернулось. Всякому известно, что распоряжение своими благами не обходится без определенного беспорядка, что и обнаруживает его, этого распоряжения, подлинную природу — распоряжаться благами значит иметь право лишать этих благ других.
Бесполезно и говорить, что судьбы истории именно вокруг этого и разыгрываются. Вопрос лишь в том, как узнать, когда процесс предположительно придет к своему концу. Ибо процесс, который порождает эта функция блага, диалектичен. Я хочу сказать, что возможность лишать блага других представляет собой очень крепкое связующее звено, из которого другой как таковой как раз и возникнет.
Вспомните, что говорил я вам о функции лишения, которая у некоторых из вас вызывает недоумение до сих пор. Вы поняли теперь, что я ничего вам не говорю случайно.
Противопоставляя лишение фрустрации и кастрации, я говорил вам, что оно представляет собою функцию, установленную в регистре символического — то, что ничто ничего не лишено, не мешает благу, которого мы лишены, быть реальным. Важно понять, однако, что фигура того, кто лишает — это функция воображаемая. Это другой с маленькой буквы, нам подобный, тот, с кем имеем мы дело в наполовину укорененных в природной стихии отношениях стадии зеркала — только предстает он на этот раз там, где вещи артикулируются на уровне символического. Существует подтвержденный на опыте факт, о котором все вы должны в анализе постоянно помнить — то, что называется стоять на страже своих благ есть не что иное, как запрещать самому себе ими наслаждаться.
Измерение блага воздвигает на пути нашего желания нерушимую стену. Это, собственно, первая из тех стен, с которыми мы ежеминутно и всякий раз сталкиваемся.
Можно ли представить себе, что мы эту стену преодолели? Это то, о чем я поговорю в следующий раз, в надежде показать вам, что если вы хотите увидеть, в каком направлении нашему опыту надлежит развиваться, с определенным идеалом блага необходимо радикально порвать.
/1 мая I960 года.
XVIII Функция прекрасного
Двойственность блага.
О потлаче.
Дискурс науки ничего не забывает.
Оскорбление и боль.
Мне показалось этим утром, что не будет излишним начать занятие со следующего вопроса — не перешли ли мы черту?
Речь идет не о том, чем мы с вами занимаемся здесь, а о том, что происходит в мире, где мы живем. Но то, что провозглашаемое за этими стенами звучит довольно вульгарно, вовсе не повод для нас к этому не прислушиваться.
Сейчас, когда я говорю с вами о парадоксе желания и о том, как блага маскируют его, снаружи доносятся до нас отвратительные речи власти. Трудно сказать, искренни эти речи, или же лицемерны, хотят ли они мира, или рассчитывают степени риска. Впечатление, которое в такой момент преобладает, это впечатление, будто все это может сойти за некое предписанное свыше благо — беспомощная толпа повинуется зову информации, которая выдается ей как хмельное пойло — отведав его, она в одурении идет на бойню. Невольно спрашиваешь себя, возможно ли вскрыть этот нарыв, не заставив прежде эти голоса замолчать.
Что может быть удивительнее, чем то эхо, которым отзываются в маленьких аппаратах, у нас имеющихся, так называемые пресс-конференции? То есть эти бессмысленно повторяемые вопросы, на которые политический руководитель отвечает с фальшивой непринужденностью, призывая задавать вопросы более интересные и позволяя себе время от времени отпускать шуточки?
Вчера была как раз одна такая пресс-конференция, не помню, где, в Париже или Брюсселе, где нам говорилось о разочарованиях, которые несет завтрашний день, — клянусь, это было забавно. Не кажется ли вам, что единственный способ приспособить наш слух к тому, что там прозвучало, это задаться вопросом — а к чему, собственно, это говорится? Чем это для нас обернется? Каждый, тем не менее, предпочитает дремать на мягкой подушечке под названием — нет, этого не может быть. В то время как на самом деле ничего возможнее этого быть не может, более того — именно это, по преимуществу, и возможно. Возможно потому, что возможное — это то, что может ответить требованию человека, и потому что человек сам не знает, какие силы он своим требованием приводит в движение.
Устрашающая неизвестность по ту сторону черты — это то, что мы, в человеке, зовем бессознательным, то есть памятью о том, что им запамятовано. А запамятовал он — вы сами видите, в каком направлении происходит забвение — то, о чем все нарочито не позволяет ему подумать — запамятовал он отверстую бездну зловонного разложения, ибо жизнь — это гниение.
А с некоторого времени еще и кое-что худшее, ибо анархия форм, второе уничтожение, о котором говорит Сад в процитированном мною отрывке — уничтожение, чье подрывное влияние простиралось бы по ту сторону цикла порождения и разложения — стоит у нас на повестке дня. С угрозой хромосомной анархии, способной внести хаос в сложившиеся формы жизни, возможность второго разрушения неожиданно стала для нас осязаемой реальностью. Недаром те, последние в восемнадцатом веке, кто придавал еще слову Природа какой-то смысл, были одержимы мыслью о разного рода чудищах. Мы-то уже давно не придаем значения коровам о шести копытах или детям о двух головах, которые, между прочим, того и гляди расплодятся тысячами.
Вот почему, когда мы задаемся сегодня вопросом о том, что находится за преградой, у которой структура мира благ несет стражу, и где находится пункт, который заставляет мир благ вращаться вокруг себя, пока тот не увлечет в свой гибельный вихрь всех нас, вопрос наш, не лишним будет напомнить, приобретает смысл ужасающе актуальный.
Что лежит по ту сторону этой преграды? Не забывайте, что мы знаем только о том, что существует барьер и что по ту его сторону что-то есть, но о том, что там есть, нам ровно ничего не известно.
Было бы заблуждением сказать, как некоторые пытались, исходя из данных аналитического опыта, это сделать, что по ту сторону лежит мир страха. Ставить в центр нашей жизни, и даже нашего культа, в качестве их краеугольного камня, страх, было бы ошибкой. Ведь страх со всеми его призраками сам является всего лишь занимающей определенное место защитой — оборонительным рубежом против чего-то такого, что лежит там, по ту сторону, и чего как раз мы и не знаем.
Именно теперь, в момент, когда вещи представляются возможными и в то же время окружены своего рода воспрещающим подход запретом, уместно было бы обратить ваше внимание на дистанцию и, одновременно, близость, которые связывают эту возможность с экстравагантными текстами, вокруг которых я в этом году некоторые из своих доказательств выстраиваю — с текстами Сада.
Это скопление ужасов рождает у нас — не скажу даже, что со временем, а просто как правило — чувство недоверия и отвращения, и лишь изредка, подобно вспышке, появление того или иного образа вызывает у нас ту странную дрожь, что называют извращенным желанием — извращенным, поскольку в нем открывается нам оборотная сторона природного Эроса.
В конечном счете, любые воображаемые и даже реальные отношения, возникающие в процессе исканий, диктуемых извращенным желанием, лишний раз подтверждают бессилие желания естественного, желания, связанного по своей природе с чувствами, пойти в этом направлении дальше. На этом пути такое желание быстро сникает, сникает первым. То, что мысль современного человека ищет здесь след и начаток самопознания, ведущую к нему тропинку, ключ к тайне желания — это, конечно же, в порядке вещей. С другой стороны, однако, завораживающее влияние, оказанное этим начатком на ученых и литераторов — о котором потуги небесталанного автора Сексуса, Плексуса и Нексуса неопровержимо свидетельствуют, — терпят неудачу, исчерпываясь бесплодным смакованием темы. И если все, что наука и литература в этом направлении измыслила, оказалось заранее превзойдено и отодвинуто в тень измышлениями провинциального мелкопоместного дворянина, социальным продуктом разложения дворянства, последовавшего за упразднением его привилегий, то это может значить только одно — что во всех усилиях этих путеводная нить метода напрочь отсутствовала.
И все же это чудовищное нагромождение ужасов, выходящих за рамки не только человеческих чувств и возможностей, но даже воображения, не идет ни в какое сравнение с тем, что произойдет с человеческим сообществом, если сильнейший реальный кризис, который нам угрожает, действительно разразится. Единственная разница между кошмарными картинами, которые рисует Сад, и этой катастрофой, состоит в том, что никакая мотивация, связанная с наслаждением, в последнем случае не имеет места. Катастрофу развяжут не извращенцы, а бюрократы, причем мы даже не сможем узнать, с благим или дурными намерениями они это сделали. Развязана она будет по приказу, и произойдет это, повинуясь правилам функционирования механизма, колесиками и инстанциями которого послужит множество человеческих воль, сломленных, порабощенных и поставленных на службу задаче, которая потеряет по ходу дела свой смысл. Задачей этой будет восполнение бездонной утраты, которая предстает нам здесь в качестве глубочайшего и непременного измерения человеческой жизни.
Не забудем, кстати сказать, что измерение это испокон веку остается одним из тех, в которых дает о себе знать явление, названное одним кротким мечтателем очеловечиванием планеты. Что касается того, как руку человека, оставленный им след узнать, то это дело нехитрое — где обнаружатся колоссальные нагромождения устричных раковин, там, несомненно, без человека не обошлось. Где беспорядок и кучи отходов, там ступала нога человека. Геологические эпохи тоже оставили после себя отложения, но в них обнаруживается определенный порядок. Куча отбросов — это одна из сторон человеческой цивилизации, которую не стоит недооценивать.
Отметив на горизонте политики блага, общего блага, блага общественного, этот курган, продолжим наш путь с того места, где мы в прошлый раз с вами остановились.
Что можем мы разглядеть на горизонте поисков блага теперь, когда демистифицировано оказалось ошибочное суждение, пример которого мы обнаружили с вами у Блаженного Августина? Его аргументация, суть которой сводится к тому, что путем ментальной процедуры вычитания блага из блага можно, ссылаясь на то, что последний остаток окажется в результате более совершенным, чем то, что было до вычитания, прийти к отрицанию в бытии существования чего бы то ни было, кроме блага — аргументация эта настолько удивительна, что поневоле спрашиваешь себя, что вообще может появление в истории подобного образа мышления означать. Но этот вопрос я оставляю открытым.
В последний раз мы определили благо в символическом творении как тот initium, где берет свое начало получающая объяснение в означающем человеческая судьба. Подлинная природа блага, глубокая его двойственность, связана с тем, что оно является не благом чисто природным, ответом на потребность, а потенциальной властью, способностью доставить удовлетворение. Поэтому все отношения человека с реальной стороной благ организуются по отношению к власти другого, другого воображаемого, его этих благ лишить.
Вернемся к терминам, вокруг которых я выстроил на первом году Семинара, когда комментировал работы Фрейда по технике психоанализа, понятия идеального Я и идеала собственного Я — понятия, которые я использовал затем в своем графе. Большим / (Я) обозначена в этом графе идентификация с означающим всемогущества, с идеалом Я. С другой стороны, будучи образом другого, оно являет собою Urbild собственного Я, ту первичную форму, исходя из которой Я себя моделирует, ставит себя в положение ложного господства. Теперь мы определим идеал собственного Я субъекта как то, что предстает нам как власть его творить благо — благо, в котором обнаруживается, однако, оборотная сторона, которая нас сегодня как раз и занимает: почему с момента, когда все организуется вокруг власти творить благо, нам предстает, сказываясь непрерывно в собственных наших поступках, нечто совершенно загадочное — предстает в форме растущей угрозы возникновения в нас самих какой-то нужды, удовлетворение которой несет с собой непредсказуемые последствия? Что касается идеального Я, того воображаемого другого, с которым мы на этом уровне имеем дело, то в нем воплощается фигура того, от кого мы претерпеваем лишение.
Что перед нами на этих двух структурных полюсах мира благ вырисовывается?
С одной стороны, с момента разоблачения, к которому привели откровения классической философии, то есть с момента, когда Гегель был, по известному выражению, поставлен с головы на ноги, красной нитью, дающей смысл известному нам фрагменту истории, в классическом смысле этого слова, оказалась общественная борьба.
С другой стороны, на другом полюсе, возникает нечто такое, в чем видится нам вопрос — вопрос, подающий повод надеяться.
Научные исследования, осуществляемые на почве того, что проблематическим образом называют "человеческим", показали, что уже давно, вне рамок истории в классическом смысле слова, люди доисторических обществ прибегали, судя по всему, к практике, выполнявшей, как считалось, в общении между субъектами общества оздоровительную функцию. Факт этот подобен в наших глазах магическому кристаллу, в котором мы видим, что в необходимую диалектику борьбы за блага, конфликта между благами и порождаемой этими конфликтами катастрофой вовлечено далеко не все и что в мире, который нам предстоит исследовать, существуют следы, наглядно показывающие, что истребление благ как таковых могло рассматриваться как функция, имеющая ценность откровения.
Я полагаю, что вы — люди достаточно осведомленные, и о том, что такое потлач, напоминать вам не надо. Скажу вкратце, что речь идет о религиозных церемониалах, включающих масштабное истребление различного рода благ — потребительских благ, а также предметов роскоши и предметов, имеющих представительскую ценность. Практика эта распространена была в обществах, являющихся в наши дни остатками, реликтами того способа человеческого существования, который в результате распространения нашего образа жизни будет окончательно упразднен. Потлач свидетельствует об отступлении человека от благ, помогавшем ему поддерживать и дисциплинировать, так сказать, свое желание, поскольку именно с этим, с откровенным истреблением всех благ, будь то индивидуальных или же коллективных, имеет он дело, когда речь идет о его судьбе. Именно вокруг этого возникает драматическая проблема икономии блага со всеми косвенными ее отголосками и последствиями.
Однако заполучив этот ключ в свои руки, мы немедленно обнаруживаем, что перед нами вовсе не привилегия примитивных сообществ. Мне не удалось, к сожалению, найти сегодня карточку, на которой у меня отмечено было, что в начале двенадцатого века, когда с появлением куртуазной любви проблематика желания как такового выходит в европейской культуре на первый план, в одном из феодальных ритуалов обнаруживается нечто очень похожее — речь идет о проходившем где-то недалеко от Нарбон-ны празднестве, своего рода съезде местных баронов, во время которого истребление принимало не только форму непосредственного потребления в виде грандиозного пиршества, но и уничтожения большого количества лошадей и сбруи. Все выглядит так, словно выдвижение проблематики желания на первый план обязательно влекло за собой в качестве коррелята потребность в актах истребления, которые, будучи добровольными, связывались с представлениями о престиже. Члены сообщества, претендовавшие на привилегированное положение, на господство, заявляли об этом при помощи этого церемониала, соперничая друг с другом в том, кто сможет истребить больше.
Таков, на другом полюсе, единственный известный нам пример истребления, осуществляемого сознательно и подконтрольно, то есть способом, разительно отличающимся от тех чудовищных разрушений, свидетелями которых все мы, принадлежащие к поколениям, заставшим еще эти события, недавно были. Разрушения эти, которые кажутся нам нелепой случайностью, рецидивом варварства, необходимо связаны, на самом деле, с передовой позицией нашего дискурса.
Здесь встает новая проблема — проблема, которая даже для Гегеля была неясна. В Феноменологии духа Гегель сделал масштабную попытку артикулировать трагедию человеческой истории в терминах столкновения дискурсов. Особенно привлекала его в связи с этим трагедия Антигоны, поскольку он видел в ней ясное противопоставление дискурса семьи дискурсу государства. Но для нас все в этой трагедии далеко не так ясно.
С нашей точки зрения, в дискурсе сообщества, в дискурсе общего блага мы имеем дело с эффектами дискурса науки — дискурса, где впервые выступает в открытом виде могущество означающего как такового. Вопрос этот, собственно, должны разрешить именно мы, ибо он молчаливо предполагается самим способом нашего мышления — тем самым, которому я стараюсь здесь следовать.
Неожиданное и чудесное свидетельство могущества означающего, полученное от дискурса, начало которому положили употребляемые в математических выкладках буковки — дискурса, не похожего на все те, что имели место ранее, — становится дополнительным фактором отчуждения. Почему? Да потому, что это дискурс, который, в силу самой структуры своей, ничего не забывает. Именно этим и отличается он от дискурса первичного запоминания, который продолжается в нас без нашего ведома, от дискурса бессознательной памяти, чей центр отсутствует, а место определяется пресловутым он не знал, представляющим собой знак того фундаментального опущения, где гнездится субъект. В один прекрасный момент человек научился вводить в мир и в Реальное дискурс математики — дискурс, который может оставаться в обращении лишь при условии, что ничего не оказывается забыто. Стоит только маленькой означающей цепочке начать функционировать по этому принципу, как тут же оказывается, что все происходит так, словно вещи функционируют совершенно самостоятельно. Так что мы не в силах сказать, к примеру, приведет ли порожденный всемогуществом означающего дискурс физики к интеграции Природы, или к ее дезинтеграции.
Все это делает проблему нашего желания чрезвычайно сложной — хотя и является, несомненно, всего-навсего очередной ее фазой. Для того, кто сейчас обращается к вам, именно это открыло глаза на решающий и своеобразный характер места, которое желание, располагаясь внутри отношений между человеком и означающим, занимает. Грозят ли эти отношения ему гибелью?
Вы, я думаю, помните, что в сделанном на этом семинаре докладе, посвященном взглядам одного из учеников Фрейда, человека тонкого, открытого, образованного, хотя и без искры гениальности, прозвучала мысль, что вопрос о смысле понятия влечение к смерти сводится как раз к этому. Проблема возникает именно постольку, поскольку в вопросе этом есть историческая сторона. Вопрос этот актуален не ad aeternum, a здесь и сейчас. Появление фрейдовского понятия влечения к смерти приобретает для нас смысл потому, что желание наше вот-вот перейдет рубеж, за которым завеса с него спадет. Вопрос ставится на уровне взаимоотношений человеческого существа с означающим как таковым, ибо на уровне означающего целый цикл сущего, включая жизнь с ее круговращением утрат и возвратов, может оказаться поставленным под вопрос.
Это как раз и придает новый, не менее трагический, смысл тому, носителями чего мы, аналитики, являемся. Бессознательное со своей собственной, свойственной ему цикличностью, выступает для нас сейчас и опознается нами как область не-знания. И все же в области этой, с которой мы ежедневно имеем дело, есть нечто такое, что очевидно будет даже ребенку.
Желание благонамеренного человека состоит в том, чтобы поступать хорошо, чтобы творить добро, и тот, кто приходит к вам, делает это для того, чтобы быть хорошего мнения о самом себе, чтобы обрести согласие с самим собой, чтобы соответствовать, следовать определенной норме. Однако вы знаете, с чем сталкиваемся мы на полях, а точнее, на горизонте того, что представляется нам диалектическим процессом знакомства с бессознательным. На полях, равно как и на горизонте, своего блага субъект встречается с так и не разгаданной никогда до конца тайной — тайной собственного желания.
Когда мы видим — а видим мы это, слава Богу, по несколько раз на дню — как субъект кивает нам на другого, который, мол, сохраняет душевное равновесие, живет счастливее его самого, не терзает себя вопросами и спит, по крайней мере, спокойно, то эти ссылки его на другого, кто бы он ни был, вызывают улыбку. Нам нет нужды укладывать этого другого, сколь бы солидным и уверенным в себе тот ни выглядел, на нашу кушетку, чтобы убедиться лишний раз, что мираж этот, эта ориентация диалектики блага на нечто потустороннее, что я, поясняя свою мысль, назвал бы неприкосновенным благом, служит канвою в нашей с вами работе.
Скажу больше, этот регистр наслаждения как того, что доступно только другому, является единственным измерением, в котором может располагаться то странное недомогание, которому, если я не ошибаюсь, как и другим психологическим нюансам зияния, которое человек представляет собой, лишь немецкий язык нашел подходящее имя — имя Lebensneid.
То не обычная зависть, то зависть, которая рождается в субъекте в его взаимоотношениях с другим тем подозрением, что этот другой, будто бы, причастен к некоей форме наслаждения, жизненной полноты, о которой, как ему кажется, никакое собственное аффективное движение, даже самое элементарное, не способно дать ему представление. Не кажется ли вам странным, поистине удивительным, что некто готов признать, что завидует другому, вплоть до ненависти к нему, вплоть до желания его погубить, в том, о чем сам он никакого, даже чисто интуитивного, представления составить не в силах? Достаточно, чтобы другой появился, хотя бы чисто умозрительно, на его горизонте, чтобы вызвать у него появление этого недовольства — не надо быть аналитиками, чтобы заметить, как распространяются от этого источника возбуждения волны беспокойства.
Итак, мы стоим с вами на самой границе. Что поможет нам эту границу преодолеть?
Есть на ней еще один пограничный пункт, который позволит нам точно определить по крайней мере один участок лежащего по ту сторону принципа блага поля. Имя ему — прекрасное.
Сегодня я ограничусь лишь первым знакомством с возникающей здесь проблематикой. Для начала следует ее сформулировать.
Фрейд проявлял в этой области крайнюю осторожность. О природе того творческого, что в прекрасном о себе заявляет, аналитикам, по его мнению, сказать нечего. В зашифрованной для нас области ценности произведения искусства мы находимся в положении даже не школьников, а подбирающих крохи нищих. Но этим дело далеко не исчерпывается и вопрос этот исследован у Фрейда чрезвычайно слабо. Определение, которое он дает сублимации, имеющей место в художественном творчестве, затрагивает лишь последствия, отдачу, сказал бы я, того, что происходит на уровне сублимации влечения, — отдачу, которая возникает тогда, когда результат творчества, произведение того, кто творит прекрасное, возвращается в область благ, то есть становится, иными словами, товаром. То, как резюмирует Фрейд суть карьеры художника, создает, надо признать, едва ли не гротескное впечатление — художник, по его словам, придает запретному желанию красивую форму, чтобы каждый, кто покупает его работу, мог таким образом вознаградить и санкционировать проявленную им смелость. Это, конечно же, просто-напросто уход от вопроса. Фрейд, впрочем, прекрасно сознает положенные им для себя границы, особенно заметные, если обратить внимание на проблему, которую он отметает как к аналитическому опыту отношения не имеющую, — проблему творчества.
Итак, мы снова вынуждены оказываемся вернуться к педантичным рассуждениям о прекрасном, которым вот уже столетия не видно конца.
Любому известно, что не существует другой области, где те, которым в отношении ее есть, что сказать — в данном случае, творцы прекрасного — с большим правом оставались бы не удовлетворены учеными формулами, которые были на этот счет выработаны. Существует, однако, мысль, которая высказывалась едва ли не всеми, во всяком случае, лучшими из них, и которая на уровне обычного художественного опыта себя вполне подтверждает — мысль о том, что прекрасное стоит в какой-то связи с желанием.
Связь эта носит характер своеобразный и двусмысленный. С одной стороны, создается впечатление, что горизонт желания можно из регистра прекрасного исключить. С другой стороны, однако, не менее очевидно — античные мыслители единодушны здесь со Святым Фомой, у которого можно на этот счет найти формулировки необычайно ценные, — что прекрасное способствует приглушению желания, торможению его, и его, я сказал бы, обезоруживанию. Явление прекрасного запугивает желание, налагает на него прещение.
Это не значит, что прекрасное не может в тот или момент с желанием сочетаться, но происходить это может, как ни странно, лишь в форме, для которой я не могу найти лучшего имени, нежели то, чья смысловая структура подразумевает преодоление некоего невидимого рубежа — имени оскорбления. В остальном же, мне кажется, что прекрасному по природе своей свойственно оставаться, как говорится, нечувствительным к оскорблению и что в структуре его это составляющая немалозначна.
Я покажу это, в частности, детально на данных аналитического опыта, пользуясь ориентирами, которые не позволят прекрасному обмануть во время сеанса анализа вашу бдительность и пройти незамеченным. Вы сможете определить его с надежностью счетчика Гейгера по тем намекам на регистр эстетического, которые в ассоциациях пациента, в несвязном и отрывистом монологе его, дадут о себе знать в форме цитат или ученых реминисценций. Вы, разумеется, не всегда имеете дело с творческими людьми, но с областью прекрасного в самом ходовом, так сказать, понимании этого слова, так или иначе соприкасаются все. Если намеки эти спорадически появляются и на фоне речей пациента выделяются достаточно резко, то вы можете с уверенностью утверждать, что они соответствуют чему-то вполне определенному, что в этот момент о себе заявляет и принадлежит, как правило, к регистру деструктивного влечения. Именно в тот момент, когда явственно возникнет у пациента в рассказе о сновидении, например, мысль, выражающая агрессивное отношение к одному из полюсов, вокруг которых конфигурация его субъективного мира выстраивается, он выдаст вам, в зависимости от национальности своей, скажем, цитату из Библии, ссылку на классического автора или на тот или иной музыкальный мотив. Я специально обращаю на это ваше внимание, чтобы у вас не создалось впечатление, будто мы от области нашего опыта отдаляемся.
В отличие от функции блага, прекрасное не обманывает нас относительно необычной связи своей с желанием. Обманчивое по структуре, оно, однако, предупреждает нас о желании и даже, пожалуй, приноравливает к нему.
Вы видите уже тот фантазм, по которому это место можно узнать. По аналогии с неприкосновенным благом, о котором я вам только что говорил, фантазм, возникающий в структуре этой загадочной области, представляет собой неприкосновенное прекрасное.
Первой каймою этого поля является, как мы знаем с вами, та самая, которая, наряду с принципом удовольствия, не позволяет нам на него проникнуть, — это защитная полоса боли.
Что конституирует это поле — вот о чем нужно нам себя спросить. Влечение к смерти — говорит Фрейд, — первичный мазохизм. Не является ли, однако, этот ответ чересчур упрощенным? Разве сводится содержание этого поля к боли, которая служит ему защитой? Разве являются мазохистами все, в ком позывы этого поля настойчиво о себе заявляют? Сразу скажу вам, что я лично так не думаю.
В мазохизме, явлении достаточно маргинальном, есть нечто карикатурное, что моралисты конца девятнадцатого века в своих исследованиях неплохо подметили. Икономия мазохистской боли очень напоминает икономию благ. Речь идет о том, чтобы разделить боль точно так же, как делятся все прочие блага, и в разделе этом дело тоже едва не доходит до драки.
Не имеем ли мы здесь дело с чем-то таким, что оборачивается паническим возвратом к диалектике благ? По правде говоря, в поведении мазохиста — я имею в виду мазохизм как извращение — все указывает на то, что возврат этот является для него структурным моментом. Почитайте Захер-Мазоха, автора чрезвычайно поучительного, хотя и не таких масштабов, как Сад, и вы сами увидите, что в конечном счете позиция мазохиста-извращенца сводится на самом деле к желанию уподобиться ничтожеству блага, вещи, с которой обращаются как с неодушевленным предметом, рабу, которого можно обменять и которым позволительно поделиться.
Не следует, однако, спешить от удачных омонимии поскорее отделаться. Сам факт, что мазохизм продолжает даже в психоанализе носить это имя, заставляет предположить, что на то есть свои причины. Единство всех явлений, которым аналитическая мысль наклеила ярлык мазохизма, связано с тем, что во всех этих случаях боль наделяется чертами блага.
На следующем занятии мы будем отталкиваться в своих рассуждениях от одного документа.
Документ это не особенно новый. Многие столетия оттачивали об него краснобаи свои зубы и когти. Текст этот возник там, где выработана была мораль счастья, и дает представление о базисе этой морали. Впрочем, для греков не существовало области, чей горизонт замыкался бы на ее базисе. Именно в этом тексте базис этот наиболее очевиден, именно здесь выступает он наиболее выпукло на поверхность. Я говорю о тексте, вокруг которого веками, от Аристотеля до Гегеля и Гёте, ведется более всего споров, о трагедии, которую Гегель, хотя и на ложных основаниях, считал наиболее совершенной — я говорю вам об "Антигоне".
Позиция Антигоны — это позиция по отношению к преступному благу. Только современные авторы со свойственной им опрометчивостью и прямолинейностью могли, набросившись, если можно так выразиться, на этот сюжет, уделить главное внимание фигуре тирана.
Мы обратимся поэтому ко всей трагедии в целом, что позволит нам выделить в ней самый существенный ее момент, обеспечив тем самым себе в исследовании того, что человек хочет и от чего защищается, надежный ориентир — мы увидим с вами, в чем состоит абсолютный выбор, выбор, не мотивированный никаким благом.
18 мая I960 года.
Сущность трагедии. Комментарий к Антигоне Софокла
XIX Блистательная Антигона
Смысл катарсиса. Слабое место Гегеля. Функция хора. Пожелание Гёте.
Я сказал вам, что буду говорить сегодня об "Антигоне".
Не мы первые решились представить "Антигону" в качестве поворотного пункта этической мысли. Это известно давно, и даже те, кто сами не задумывались над этим, знают про себя, что где-то, в ученых кругах, бытует такое мнение. И кто из нас, оказавшись в конфликте с законом, претендующим во имя общества на звание справедливого, не вспомнит, часом, об "Антигоне"?
Что думать о вкладе в эту тему наших ученых предшественников? Что думать о них теперь, когда мы весь этот путь для себя и для тех, к кому мы обращаемся, прошли заново?
Пытаясь не упустить ничего важного из того, что было по поводу этого произведения высказано, и не лишить тем самым себя и вас помощи, которую можно было бы из долгой истории этого вопроса извлечь, я часто в последнее время испытывал чувство, что блуждаю в закоулках какого-то лабиринта. Ибо мнения, которые величайшими людьми были в течение столетий на сей счет высказаны, представляются нам весьма странными.
1
Антигона представляет собой трагедию, а трагедия всегда присутствует в психоаналитическом опыте на первом плане — недаром Фрейд, привлеченный богатством их мифического содержания, нашел в Эдипе, равно как и в других трагедиях, опору своим воззрениям. И то, что об Антигоне он прямо не говорит, не помешает нам здесь, на распутье, где мы находимся, именно ее выдвинуть на первый план. Она представляется для нас тем же, чем была уже в глазах Гегеля, но несколько в другом смысле — трагедией Софокла, занимающей, пожалуй, в его творчестве несколько особое место.
Но трагедия лежит в самом корне нашего опыта не только благодаря образу эдипова комплекса, но и в гораздо более тесном смысле, как свидетельствует о том ключевое, осевое для нас и для нее слово — слово катарсис.
Для вашего слуха это слово, наверняка, более или менее тесно ассоциируется с термином отреагирование. Предполагается, что понятие отреагирования оставило позади проблему, поставленную Фрейдом в его основополагающей работе, написанной в соавторстве с Брейером — проблему разрядки, разрядки действием, двигательной разрядки чего-то такого, что определить оказывается не так то просто и что остается, надо признать, и по сей день до конца не понято — разрядки эмоции, оставшейся в состоянии задержки. Речь идет о том, что та или иная эмоция или травма могут оставить после себя в субъекте нечто такое, что будет сохраняться в нем в задержанном состоянии — оставаться до тех пор, пока не обретено будет заново некое внутреннее согласие. Понятия неудовлетворенности вполне довольно, чтобы создать видимость понятности, которая в данном случае требуется.
Перечтите первые страницы Брейера и Фрейда, памятуя о тех пластах, которые я попытался для вас в нашем опыте выделить, и вы сами убедитесь насколько немыслимо сейчас довольствоваться принятым здесь словом удовлетворение и утверждать вместе с Фрейдом, будто действие может разрешиться артикулирующей его речью.
Понятие катарсиса, связанное в этом тексте с проблемой отреагирования и откровенно в нем на заднем плане уже присутствующее, имеет античное происхождение. У истоков его стоит определение Аристотеля, данное им в начале шестой главы Поэтики, где он долго рассуждает о том, какие жанровые признаки необходимы для того, чтобы назвать произведение трагедией.
Отрывок, о котором я говорю, достаточно длинный, и нам придется в дальнейшем к нему вернуться. Речь в нем идет о характеристиках трагедии, о ее композиции, о том, что отличает ее, к примеру, от эпоса. То, что написано у меня на доске — это всего лишь вывод, последние слова отрывка, где Аристотель формулирует последнюю цель трагедии — то, что составляет, в терминах причинности, ее τέλος. Онговоритследующее — δί йXйov και φόβου rrepalvovaa την των τοιούτον παθημάτον κάθαρσιν, совершаемоепосредствомсостраданияистрахаочищениеподобныхстрастей.
Слова эти, простые на первый взгляд, породили на протяжении истекших столетий такое великое множество комментариев, что познакомить вас с ними — дело заведомо безнадежное. В связи с этим результаты моих собственных изысканий на этот счет, которыми я с вами здесь поделюсь, будут, по необходимости, выборочными и фрагментарными. Как правило, слово катарсис мы переводим как, например, очищение. Для нас — для нас-медиков, в особенности — слово это еще со школьной скамьи, на которой так или иначе каждому довелось протирать штаны, слово это несет в себе мольеровские семантические отголоски, то есть напоминает о почтенной медицинской процедуре, состоявшей, на языке самого Мольера, в очищении тела от вредоносной влаги.
Это не так уж далеко от того, что действительно призван вызывать в воображении этот термин, только акцент его будет в нашем случае несколько другой. Чтобы позволить вам лучше его почувствовать, я могу с успехом воспользоваться тем, с чем я недавно познакомил вас по ходу наших занятий — я имею в виду катаров.
Кто они, эти катары? Это, собственно, чистые. Καθαρός — значит, чистый. И в первоначальных смысловых резонансах своих слово это означает не просвещение, или разрядку, освобождение, а именно очищение.
В античной традиции слово это уже использовалось в медицинской традиции, у Гиппократа, к примеру, в чисто медицинском смысле, в смысле выброса, исключения из организма чего-то чуждого, возвращения его к норме. С другой стороны, в других контекстах, оно связано с очищением и, в частности, с очищением ритуальным. Откуда и проистекает его двусмысленность, на которую, как вы понимаете, не мы первые обратили внимание. Переходя к именам, начну с того, что в шестнадцатом столетии некто Дени Ламбен выдвигает, вслед за Аристотелем, на первый план ритуальную функцию трагедии, делая упор на церемониальный смысл очищения. Речь идет не о том, прав он или не прав, а о том, чтобы наметить координаты, в которых данная проблема ставилась.
Не будем забывать, в самом деле, что в Поэтике, откуда мы термин катарсис почерпнули, он остается в поразительной изоляции. Не то чтобы он далее не разрабатывался и не комментировался, но пока не откроют новый какой-нибудь папирус, мы, уверяю вас, об этом понятии так ничего не узнаем — ровно ничего. Вы ведь знаете, я полагаю, что от "Поэтики" сохранилась только одна часть, по объему примерно около половины всего трактата. И в этой, сохранившейся, половине, нигде, кроме упомянутого мною отрывка, катарсис не упоминается. Известно, что в трактате о нем было сказано что-то еще, так как в восьмой, если пользоваться принятой в классическом издании Дидо нумерацией, книге Политики Аристотель упоминает "катарсис, о котором в сочинении о поэтике я сказал яснее". Речь в этой книге идет о катарсисе в связи с музыкой, и так получилось, что именно здесь мы узнаем о нем больше всего.
Катарсис здесь — это умиротворение, доставляемое определенным родом музыки, от которой Аристотель ждет не столько того или иного этического и практического воздействия, эффекта, сколько энтузиастического возбуждения. Речь, следовательно, идет о музыке, которая его современников беспокоила, будоражила, погружала, наподобие современного hotjazzили рок-н-ролла, в экстатическое состояние — именно о такой музыке спорили мудрецы античности, сомневаясь в дозволенности ее исполнения.
Так вот, согласно Аристотелю, миновав вызванное такой музыкой состояние возбуждения, дионисического исступления, человек обретает большее спокойствие. Вот что имеется в виду под катарсисом в восьмой книге Политики.
Но хотя все люди состоянию энтузиазма более или менее подвержены, приходят в это состояние далеко не все. Существует другой род людей, который Аристотель, противопоставляя их παθη€τικοί, называет ίνθουσιασηκοί. Этот род людей легко поддается другим страстям, а именно страху и жалости. Так вот, и им тоже определенная музыка, та самая, надо полагать, которая используется в определенных целях в трагедии, приносит катарсис, умиротворение — посредством удовольствия, добавляет здесь Аристотель, давая нам повод лишний раз задуматься над тем, что, собственно, удовольствие означает, и почему, на каком уровне, оно в данном случае упоминается. Каково оно, то удовольствие, к которому возвращается человек после кризиса, происходящего в другом измерении — измерении, несущем в себе опасность, ибо мы знаем, до каких крайностей способна энтузиастическая музыка людей довести? Здесь как раз топология, которую мы наметили, топология удовольствия как закона, которому повинуется то, что находится по эту сторону засасывающего нас грозного механизма желания, позволяет нам подойти к аристотелевской интуиции как никогда близко.
Как бы то ни было, прежде чем перейти к описанию центра притяжения, лежащего по ту сторону этого механизма, я хотел бы по ходу дела бегло обозначить то, что в современной литературе легло в основу использования термина катарсис в его медицинском значении.
Медицинское понимание аристотелевского катарсиса является, на самом деле, более или менее общепринятым в области, далеко выходящей за пределы компетенции наших собратьев, под которыми я разумею литераторов, критиков и теоретиков литературы. Попытавшись, однако, определить тот момент, когда это представление о катарсисе решительно возобладало, мы обнаружим начальную дату, ранее которой дискуссия была, напротив, очень широкой, так что вовсе не очевидно, что медицинская коннотация слова катарсис его значение тогда целиком исчерпывала.
Преобладание этой коннотации ведет свое начало от работы, заслуживающей небольшого ученого экскурса — это труд Якоба Бернайса, опубликованный в 1857 году в Бреслау в одном из журналов. Почему именно в Бреслау, я не могу сказать, потому что биографических документов о Якобе Бернайсе было в моем распоряжении недостаточно. Если верить книге Джонса, то он принадлежал к семье — вы, наверное, вспомнили — из которой Фрейд выбрал себе жену, к почтенной еврейской буржуазной семье, то есть семье, давно уже заслужившей себе почетное место в немецкой культуре. Джонс упоминает Микаэля Бернайса, мюнхенского профессора, которому семья долго не могла простить политического отступничества, обращения в христианство по карьерным соображениям. Что касается Якоба Бернайса, то, если верить лицу, которое любезно за меня справочную работу проделало, он упоминается исключительно в качестве именитого латиниста и эллиниста. Более подробных сведений о нем нет, не считая того, что аналогичной цены за свою университетскую карьеру ему платить не пришлось.
Передо мною перепечатка, сделанная в 1880 году в Берлине, двух вкладов Бернайса в аристотелевскую теорию драмы. Они превосходны. Редко испытываешь подобное удовлетворение от чтения работы университетского ученого вообще и уж тем более представителя немецкого университета. Они кристально ясны. Не случайно именно с датой их публикации связано едва ли не всеобщее признание медицинской версии понятия катарсис.
Достойно сожаления, что Джонс, отличавшийся выдающейся эрудицией, не счел, однако, нужным воздать должное труду и личности Якоба Бернайса, не придавая им, похоже, никакого значения. Между тем трудно представить себе, чтобы Фрейд, для которого заслуги семейства Бернайс были, очевидно, небезразличны, об этой работе не слышал. А если это так, то использование Фрейдом понятия катарсис могло бы найти здесь свое наилучшее объяснение.
Теперь, сказав это, мы можем с чистой совестью вернуться к тому, о чем пойдет речь в нашем комментарии кАнтигоне — о сущности трагедии.
Трагедия, говорят нам — и нам трудно не принять во внимание определение, возникшее менее чем через столетие после того, как трагедия появилась на свет — имеет своей целью катарсис, очищение от παθήματα, страстей, а именно страстей страха и жалости.
Как понимать эту формулу? Мы подходим к этой проблеме под углом зрения того, что мы попытались уже сформулировать касательно места, принадлежащего желанию в икономии фрейдовской Вещи. Позволит ли нам это сделать следующий шаг — шаг, которого это историческое прозрение с необходимостью требует?
Если эта формулировка кажется на первый взгляд столь непрозрачной, то дело здесь в том, что часть этой работы Аристотеля была утрачена, а также в том, что мысль его была ограничена определенными условиями. Но сколь бы непрозрачной она ни была, теперь, когда два года работы в этом направлении позволили нам сделать в области этики новый шаг, дело начинает потихонечку проясняться. То, к чему мы пришли, в частности, говоря о желании, позволит нам привнести в понимание смысла трагедии новый элемент, причем отправной точкой для этого послужит нам — хотя есть, конечно, и более короткий путь — показательная в этом отношении функция катарсиса.
Антигона позволяет нам увидеть то средоточие цели, которое, собственно, и определяет собой желание.
В средоточии этом находится образ, окруженный некоей тайной, которая оставалась до сих пор неизреченной, ибо взглянуть на нее не зажмурив глаза человек был не в силах. Образ этот находится, однако, в центре трагедии, ибо это не что иное, как завораживающий образ самой героини ее, Антигоны. Ибо мы прекрасно знаем, что помимо диалогов драмы, помимо семьи, родины, помимо рассуждений на моральные темы, завораживает нас именно она — завораживает исходящим от нее нестерпимым блеском, чем-то таким, что сдерживает и в то же время озадачивает нас, внушая нам робость, что сбивает нас в этом страшном и добровольном жертвоприношении с толку.
Именно в этой притягательности и следует нам искать подлинный смысл, подлинную тайну, подлинное значение этой трагедии, в том волнении, которое она вызывает в нас, и в страстях, разумеется, в тех своеобразных страстях, имя которым жалость и страх, ибо как раз ими, страхом и жалостью, δι iXйov και φόβου, освобождаемся мы, очищаемся от всего, что к этому роду принадлежит. А что к этому роду относится, мы теперь с вами знаем — относится к нему, собственно говоря, регистр воображаемого. И очищаемся мы от него посредством того, что само является образом.
Вот здесь-то и возникает вопрос о том, что дает этому центральному образу такое могущество, что дает ему власть рассеять другие образы, которые в присутствии его умаляются, исчезают? То, как действие трагедии разворачивается, подсказывает ответ. Ответ этот лежит в красоте Антигоны, и это отнюдь не мой домысел — я покажу вам отрывок из песни хора, где о красоте этой говорится прямо, и докажу, что это поворотный пункт всей трагедии, пункт, занимающий место между двумя символически дифференцированными областями. Именно из этого места исходит окружающий ее блеск — тот блеск, который все, достойно говорившие о красоте, не могли не включить в само определение ее.
Его-то, место это, мы и пытаемся, как вы понимаете, очертить. Мы уже приблизились было к нему на прошлых занятиях и попытались впервые подойти к нему путем рисовавшейся воображению героев Сада второй смерти — смерти, к которой взывают они как к той точке, где сам цикл естественных преобразований аннигилируется, приходит к концу. Место ее, этой точки — той самой, где ложные метафоры сущего отслаиваются от позиции бытия как такового — находим мы в Антигоне, где она выступает в чистом виде, в качестве предела, буквально повсюду, в речах всех персонажей, и Тиресия в том числе. Но как не разглядеть ее и в самом действии? Недаром же центральным моментом пьесы является сцена, которая разворачивается вокруг Антигоны, которую ведут на казнь — сцена мольбы, споров, стенаний и комментариев. Но в чем, однако, состоит эта казнь? А состоит она в заключении в гробницу заживо.
Треть пьесы, причем центральная ее треть, состоит в детальном раскрытии того, что представляет собой жизнь, течение и исход которой совпадает с предвосхищением верной смерти, смерти, посягающей на область жизни, и жизни, вступающей во владения смерти.
Поразительно, что такие выдающиеся мастера диалектики и эстетики как Гегель и Гёте не сочли нужным учесть этот фактор в своей оценке воздействия, которое трагедия эта оказывает на зрителя.
Измерение это не является характерным лишь для Антигоны. Оглянитесь по сторонам, и вы увидите, что в поисках чего-то подобного не нужно ходить далеко. Определяемая таким образом зона играет в трагическом действии особую роль.
Пересекая эту зону, луч желания отражается и преломляется одновременно, оказывая тем самым то удивительное, совершенно особое действие, которое и есть воздействие прекрасного на желание.
В результате желание в дальнейшем как бы удваиваивается. Нельзя ведь сказать, что вследствие восприятия красоты желание гаснет — нет, оно продолжает следовать своей дорогой, но тут-то и рождается в нем как раз чувство, что оно попало в ловушку — ловушку, воплощенную той зоной сияния и блеска, в которую оно позволило себя увлечь. С другой стороны, ему прекрасно известно, что реальнее всего вызванное им возбуждение переживается там, где оно оказалось не преломлено, а отражено, отторгнуто. Но там-то как раз никакого объекта нет.
Откуда и берут начало два лика желания. С одной стороны, то угасание или усмирение желание под действием красоты, на котором так настаивал Св. Фома, цитированный мной здесь на прошлом занятии. С другой, тот разрыв с объектами, на котором настаивал в Критике способности суждения Кант.
Я только что говорил вам о возбуждении, и по этому поводу мне хочется обратить ваше внимание на то, как неуместно это французское слово, йmoi, обыкновенно используют, переводя фрейдовское Triebregung как возбуждение влечения, йmoi pulsionel. На самом деле слово это ни с эмоцией, ни с тем, что трогает, ничего общего не имеет. Французское слово йmoi происходит от старинного глагола йmoyer, или esmayer, означавшего, собственно говоря, кого-то чего-то лишить, я бы сказал — лишить его средств, ses moyens, но это, к сожалению, не более чем игра слов. Esmayer родственно готскому magnan и современному немецкому mцgen. Слово явно вписывается в отношения власти, имея в виду то, что способно ее вас лишить.
Теперь нам предстоит, наконец, приступить к тексту Антигоны в поисках чего-то такого, что к моральному уроку не сводится.
Один автор, к нашим вопросам подходящий совершенно безответственно, написал недавно, что перед соблазнами гегелевской диалектики я совершенно беззащитен. Упрек этот прозвучал как раз в тот момент, когда я начал на наших занятиях излагать диалектику желания в терминах, которых с тех пор придерживаюсь, и я не знаю, право, был ли он тогда заслуженным, но не могу сказать, что упомянутый автор отличался в этом отношении особым чутьем. Но как бы то ни было, не существует, по-моему, у Гегеля места слабее, чем его поэтика, в частности — рассуждения его по поводу Антигоны.
Согласно ему, мы имеем здесь дело с конфликтом дискурсов, в том смысле, что именно в них все главное заключается и что, более того, они движутся в направлении некоего примирения. Хотелось бы узнать, о каком примирении может идти речь в конце Антигоны. И не без удивления читаем мы далее, что примирение это, ко всему прочему, носит еще и субъективный характер.
В Эдипе в Колоне — последней, помните, пьесе Софокла — Эдип проклинает своих сыновей — оно-то, проклятие это, и порождает ту череду трагических катастроф, в которую вписывается Антигона. Пьеса завершается последним проклятием Эдипа — О, если бы не родиться..! О каком примирении может в таких обстоя — телььствах идти речь!
Я не склонен гордиться своим возмущением по этому поводу — на это до меня обращали внимание и другие. Подозревал что-то похожее уже Гёте, а также Эрвин Роде. Листая недавно его Психею, сослужившую мне службу в качестве собрания сведений о представлениях древних относительно бессмертия души, я имел удовольствие найти в этом в высшей степени достойном прочтения, замечательном тексте, признание автора в его удивлении общепринятому толкованию Эдипа в Колоне.
Попробуем, выбросив из головы ходячие истины по поводу Антигоны, присмотреться сами к тому, что в ней происходит.
Итак, что находим мы в Антигоне? Прежде всего, саму Антигону.
Вы заметили, наверное, что на протяжении всей пьесы ее иначе, как ή παις, девчонкой, не называют. Я говорю это, чтобы расставить все на свои места и настроить ваше восприятие на стиль этой вещи. Во-вторых, перед нами разворачивается действие.
Вопрос о действии в трагедии вообще очень важен. Я не знаю почему один автор, которого я не слишком жалую, потому, наверное, что мне все время тычут им в нос, по имени Лабрюйер сказал, что мы явились в мир слишком поздно, когда он состарился и все уже было сказано раньше нас. Я лично ничего подобного не замечал. По-моему, о действии трагедии еще много есть что сказать. Здесь до сих пор немало неясного.
Возвращаясь к Эрвину Роде, которому я только что выставил высший балл, я должен сказать, что с удивлением обнаружил в одной из следующих глав объяснения его в отношении любопытного конфликта между автором-трагиком, с одной стороны, и его сюжетом, с другой — конфликта, состоящего в том, что законы этого жанра заставляют его предпочесть прекрасное действие действию мифическому. Я думаю, что делается это ради того, чтобы зрители чувствовали себя с героями заодно. Ведь действие должно перекликаться с обстановкой, характерами, проблемами, персонажами, и прочими реалиями своего времени. Если это так, то Ануй был прав, выведя перед нами свою маленькую Антигону-фашистку. Конфликт, возникающий из спора поэта с собственным сюжетом, порождает — говорит Роде — конфликт действия и мысли, в связи с которым Роде довольно уместно, откликаясь на многое сказанное задолго до нас, упоминает о Гамлете.
Это забавно, конечно, но вас, для которых то, что я в прошлом году говорил о Гамлете, не прошло, надеюсь, бесследно, на этой мякине не проведешь. Гамлет вовсе не является драмой бессилия мысли в ее столкновении с действием. Отчего бы вдруг на пороге нового времени появиться пьесе, свидетельствующей о немощи человека будущего перед лицом действия? Я не смотрю на вещи так мрачно, и ничто нас к этому не обязывает — разве лишь декадентские клише, которые сказываются и в мышлении самого Фрейда, когда он прослеживает, как по разному относятся к желанию Эдип и Гамлет.
Я не думаю, что драма Гамлета и проблема угасания в нем желания с подобным расхождением мысли и действия как-то связаны. Я попытался, напротив, показать вам, что удивительная апатия Гамлета связана с пружинами самого действия, что мотивы ее нужно искать в самом выбранном автором мифе, что истоки ее лежат в том, что связывает Гамлета с желанием матери и со знанием отца о собственной смерти. Теперь, делая еще один шаг, я покажу вам, в чем наш анализ Гамлета пересекается с тем, который нас занимает теперь, с анализом второй смерти.
Обращаю ваше внимание на один момент, где топология, на которую я указываю, легко узнаваема. Когда Гамлет не решается убить Клавдия, мысли его занимает то самое, что я пытаюсь как-то очертить — дело в том, что убить Клавдия ему недостаточно, ему нужно отправить его на вечные мучения в ад. Неужели то, что нам с вами до ада уже нет дела, послужит нам поводом постесняться учесть этот фактор в анализе текста? Даже если сам Гамлет в ад верит не больше нас, даже если его представления о загробной жизни — умереть, уснуть… — не слишком ясны, факт есть факт — Гамлет не идет на убийство именно потому, что хотел бы отправить Клавдия в ад.
Не желая следовать скрупулезно тексту, предпочитая оставаться в рамках того, что представляется нам допустимым, то есть в шорах собственных предрассудков, мы, шествуя своими тропами, всякий раз теряем возможность обнаружить границы и пункты их перехода. Не привей я вам ничего, кроме навыка неуклонного толкования означающих, одно это — я надеюсь, по крайней мере — сослужило бы вам свою службу. Более того, я надеюсь, что ничего другого вам, собствено, и не понадобится. Если то, чему я учу вас, названия обучения вообще заслуживает, то я не оставлю после себя ни одной из тех зацепок, которые позволили бы в дальнейшем плодить различные — измы. Другими словами, термины, которые я один за другим здесь ввожу, и ни один из которых, будь то Символическое, означающее или желание, судя по вашему замешательству, так и не показался вам до сих пор, к счастью, чем-то таким, без чего нельзя обойтись — термины эти никому не послужат, с моей подачи, чем-то вроде интеллектуального амулета.
Далее, в трагедии есть хор. Что представляет собой хор? Это вы сами — ответят вам. Или, наоборот — Это не вы. Дело вовсе не в этом. Речь идет о ресурсах, эмоциональных ресурсах. Я бы сказал так — хор, это люди, взволнованные происходящим.
Подумайте поэтому хорошенько, прежде чем говорить, что пресловутое очищение имеет в виду ваши собственные эмоции. Они вообще участвуют в происходящем лишь постольку, поскольку в искусном, искусственном умиротворении нуждаются не только они. Но о прямом участии их говорить не приходится. Без них, разумеется, не обходится, ведь вы, в качестве материала, налицо
— материала, готового испытать воздействие, но, с другой стороны, совершенно к происходящему безразличного. Идя вечером в театр, вы озабочены повседневными мелочами — потерянной днем ручкой, необходимостью на следующий день подписать чек
— так что не слишком на себя рассчитывайте. Ваши эмоции сценически предусмотрены. Их берет на себя хор. Эмоциональный комментарий к пьесе готов заранее. В том, что он готов, и состоит для античной трагедии самый большой шанс выжить. Он в меру глуп, в меру тверд — одним словом, он вполне человечен.
Итак, вам заботиться не о чем — даже, если вы сами ничего не чувствуете, за вас все почувствует хор. И почему бы даже не вообразить напоследок, что впечатление, пусть в маленькой дозе, трагедия произвела и на вас, пусть даже вы не слишком переживали. По правде говоря, я не уверен, что зритель трагедии так уж сильно переживает. А вот за то, что образ Антигоны его завораживает, я могу поручиться.
Да, он — зритель, но я еще раз вас спрашиваю: зритель чего? Образ чего видит он в Антигоне? Вот в чем вопрос.
Не будем путать отношение его к центральному образу с впечатлением от спектакля в целом. Термин спектакль, которым, обсуждая воздействие трагедии, обычно пользуются, представляется мне сомнительным, если не ограничить область, в которой он применяется.
На уровне того, что происходит в Реальном, наш зритель является, скорее, слушателем. И в этом я счастлив найти себе союзника в лице Аристотеля, для которого все развитие театрального искусства происходит на уровне слушания, в то время как сам спектакль остается чем-то побочным. Техника игры что-то, разумеется, для него значит, но это, подобно произнесению речи в риторике, не самое главное. Спектакль представляет собой средство чисто вторичное. Это сображение указывает постановке, которой в наше время столько уделяют внимания, ее настоящее место. Роль постановки велика, и я ей, будь то в театре или в кино, воздаю должное, но не будем забывать, что важна она лишь постольку, поскольку — простите мне вольное выражение — наш третий глаз не встает и его приходится, этой самою постановкой, немножечко подрочить.
Не подумайте, будто я тешу себя, сетуя, вопреки тому, о чем только что говорил, на деградацию зрителя. Ни во что подобное я не верю. Публика всегда оставалась, в определенном смысле, одной и той же. Subspecieaeternitatisодно не лучше другого, все остается как было — вот только не всегда на том же самом месте.
По ходу дела замечу, однако, что поистине нужно быть слушателем моего семинара, поистине нужно открыть, в особом смысле, глаза, чтобы найти что-то в зрелище небезызвестной DolceVita.
Я, признаюсь, в восторге от гула удовольствия, вызванного у большого числа участников нашего собрания этим названием. Готов поверить, что эффект этот обязан своим возникновением мгновенной иллюзии, вызванной к жизни тем фактом, что вещи, которые я говорю, позволяют подобающим образом оценить тот единственный, возможно, мираж, к которому эта череда кинематографических образов нас подводит. Но обнаруживается он лишь в один-единственный момент фильма — в момент, когда, ранним утром, на берегу моря, среди молодых сосен, наши прожигатели жизни, неподвижные и почти невидимые в солнечном мареве, встают и направляются по направлению к той неясной цели, которая многих, узнавших в ней пресловутую Вещь, так порадовала, к невообразимой мерзости, что запуталсь в вытащенных из моря сетях. Но в момент, о котором я говорю, они это, слава Богу, еще не увидили. Они еще только встали, только двинулись к морю и остаются почти невидимы, подобно статуям, которые представляешь себе идущими в написанном Учелло лесу. Это особый, не сравнимый ни с чем момент. Да, нужно, чтобы и те, кто пока не удосужился это сделать, сходили и посмотрели на то, о чем я на этом семинаре говорю. Речь идет об эпизоде в самом конце, так что вы не опоздаете занять свои места в кинозале — если, конечно, места останутся.
Итак, мы вплотную подошли к Антигоне.
Вот она, наша Антигона, готовая вступить на путь действия, где нам предстоит сопровождать ее до конца.
Что еще вам сегодня сказать? Мне трудно решить. Занятие подходит к концу. Мне хотелось рассмотреть этот текст от начала до конца, чтобы дать вам почувствовать его внутренние пружины.
Есть, однако, кое-что, что вы могли бы сделать к следующему разу сами — вы могли бы его прочесть. Зная ваше обыкновенное усердие, я не думаю, что после того, как я вас предупредил в прошлый раз, что речь пойдет об Антигоне, вы удосужились ее хотя бы, на худой конец, пролистать. И было бы совсем неплохо с вашей стороны сделать это к следующему разу.
Есть множество способов это сделать. Прежде всего, можно обратиться к критическому изданию Роберта Пинара. Тем, кто знаком с греческим, я порекомендовал бы подстрочный перевод, и я смогу показать вам, что наши ключевые понятия артикулированы означающими этого текста настолько точно, что мне не приходится подыскивать их с трудом здесь и там. Находи я время от времени слово, вторящее моим рассуждениям, выводы мои казались бы произвольными. Я же, напротив, продемонстрирую вам, что слова, которые вы от меня слышите, проходят красной нитью через весь текст от начала до конца и составляют, на самом деле, самый костяк этой пьесы.
Есть еще кое-что, о чем мне хочется вам сказать.
Однажды Гёте, беседуя с Эккерманом, позволил себе поразмышлять вслух о литературе. За несколько дней до этого, он высказал идею постройки Суэцкого и Панамского каналов. Должен сказать, что тогда, в 1827 году, нужно было обладать блестящим умом, чтобы представить себе историческую роль этих сооружений настолько ясно. И вот, несколько дней спустя, он открывает вышедший незадолго до того и совершено забытый в наши дни томик одного ирландского автора — автора, известного мне только благодаря Гёте — содержащий любопытные комментарии к Антигоне.
Я не вижу, чем этот комментарий отличается от гегелевского, разве что поглупее, но есть в нем и кое-что занимательное. Те, кто время от времени ставят Гегелю в упрек трудность его способа выражаться, смогут восторжествовать, подкрепив свои насмешки авторитетом Гёте. Он действительно справедливо поправляет Гегеля, который противопоставляет друг другу Антигону и Кре-онта как два закона, два дискурса. Конфликт, таким образом, оказывается заложен в самой их структуре. Гёте же показывает, напротив, что Креонт, движимый своим желанием, явно покидает свои пределы и пытается перейти преграду, преследуя своего врага Полиника там, куда ему не позволено за ним следовать — а желает он не что иное, как подвергнуть Полиника той второй смерти, причинить которую он не имеет ни малейшего права. Именно к этому ведет он все свои речи, устремляясь тем самым навстречу собственной гибели.
Все это не высказано у Гёте прямо, но он, конечно же, это подразумевает и об этом догадывается. Речь идет не о праве, которое противостоит другому праву, а о неправоте, которая противостоит — чему? Чему-то другому, чьим воплощением и является Антигона. Об этом я скажу позже — это не просто защита священых прав семьи и смерти, и не то, что стремились порою представить как ее, Антигоны, святость. Антигоной движет страсть. Какая именно — это мы с вами и попробуем выяснить.
Удивительное дело — Гёте признается, что есть в речах Антигоны момент, который его задел, шокировал. Когда арест Антигоны, вызов, брошенный ею Креонту, ее осуждение и самые ее жалобы уже позади, когда она стоит на краю гробницы, на вершине гол-гофского пути, которым мы за ней следовали, она останавливается, чтобы оправдаться в своем поступке. Уже поддавшись было слабости, уже пройдя через своего рода "Отче, почему ты меня оставил?", она вновь берет себя в руки. Знайте — говорит она — я никогда не пошла бы против гражданских законов, если бы в погребении было отказано моему мужу или ребенку, потому что, потеряй я таким образом мужа, я могла бы в подобных обстоятельствах взять другого, а потеряв вместе с мужем и ребенка, могла бы от следующего мужа родить еще одного. Но речь идет о моем брате, αυτά?>€λφος, рожденного от моей матери и моего отца. Этот греческий термин, в котором слово я сам сливается со словом сестра или брат, проходит красной нитью через всю пьесу, появляясь уже в первых стихах ее, в беседе Антигоны с Исменой. Теперь, когда отец и мать сошли в царство Аида, шанса на рождение другого брата у нее нет.
Μητρός δ'έν "Αώου και πατρός κ€Κ€υθότοιν
ουκ έ'στ' αδελφός όστις αν βλαστοί ττοτί
Мудрец из Веймара находит это смешным. И не он один. Столетие за столетием оправдание это приводило читателей в недоумение. Даже в самые мудрые речи вкрадывается безумие, и Гёте не может удержаться, чтобы не высказать пожелания — я хотел бы, говорит он, чтобы однажды какой-нибудь эрудит доказал нам, что здесь перед нами позднейшее добавление.
Это мнение человека осторожного, знающего цену тексту, человека, умеющего воздерживаться от скоропалительных суждений — он-то знает, насколько они рискованны — и когда такой человек высказывает подобное пожелание, велика вероятность того, что оно рано или поздно сбудется. Увы, но в девятнадцатом веке нашлось по крайней мере пять или шесть эрудитов, заверивших нас, что пожелание это безосновательно.
Указывают иногда на аналогичную, якобы, историю у Геродота, в третьей книге. На самом деле общего между ними не так уж много, не считая того, что и здесь, и там речь идет о жизни и смерти, а персонажами являются брат, отец, супруг и ребенок. Геродот рассказывает о женщине, оплакивающей участь своей семьи, которая, как это водилось при персидском дворе, была целиком осуждена на смерть. Ей предлагается помиловать одного из членов семьи по ее выбору, и она объясняет, почему предпочла мужу брата. Но даже если истории эти были бы схожи, это еще не повод предполагать, будто одна из них обязательно послужила источником для другой. И зачем могло бы понадобиться такое заимстовование? Апокрифичность этого отрывка тем более маловероятна, что примерно восемьдесят лет спустя Аристотель цитирует его в третьей книге Риторики, где речь как раз и идет о том, как действиям героини дать объяснение. Трудно предположить, чтобы кто-нибудь из живших на восемьдесят лет позже Софокла процитировал бы в качестве литературного примера слова, имевшие скандальную, в смысле их подлинности, репутацию. Все это делает предположение об интерполяции более чем сомнительным.
В конечном счете, именно скандальный характер этого отрывка и останавливает на нем, пожалуй, наше внимание. Вы уже догадываетесь, наверное, что мы обратились к нему в поисках лишней подсказки в вопросе, которому следующее занятие будет посвящено — в вопросе о том, на что воля Антигоны нацелена.
25 мая I960 года.
XX Строение пьесы
Я хотел бы сегодня поговорить с вами об Антигоне, пьесе Софокла, написанной в 441 году до н. э., и прежде всего о внутреннем устроении этой пьесы.
Когда речь идет о прекрасном, лишь пример — утверждает Кант — способен что-то, по мере того, как это возможно и требуется, передать. Именно эту роль, роль примера, и сыграет для нас, так или иначе, текст Антигоны.
Вы знаете, с другой стороны, что вопрос о функции прекрасного связывается нами с тем, к чему пытаемся подойти — с целью, к которой устремлено желание. В итоге функция прекрасного может предстать перед нами в новом свете. Таковы на данный момент исходные наши позиции.
Но это лишь промежуточный этап на нашем пути. Не удивляйся тому, как долог наш путь — говорит Платон где-то в Федре, диалоге, который как раз прекрасному и посвящен, — не удивляйся, что мы движемся к цели в обход, потому что без кружного пути нам не обойтись.
Итак, продолжим сегодня комментировать Антигону.
Прочтите этот поистине восхитительный текст — это невероятная вершина поразительной строгости мысли, не имеющая в творчестве Софокла ничего равного, кроме, разве что, последней его трагедии, Эдипа в Колоне, написанной в 401 году.
Я попытаюсь познакомить вас с этим текстом поближе, чтобы вы лучше оценили лежащую на нем печать мастерства.
1
Итак, мы начали в прошлый раз с того, что в пьесе есть сама Антигона, есть происходящие события и есть, наконец, хор.
С другой стороны, говоря о природе трагедии, я привел вам заключение фразы Аристотеля о страхе и жалости, посредством которых осуществляется очищение от этого рода страстей — тот знаменитый катарсис, подлинный смысл которого мы попытаемся, наконец, понять. Гёте, как ни странно, считал, что страх и жалость определяют само действии трагедии, которое, якобы, представляет нам модель равновесия между ними. Но это, безусловно, совсем не то, что имел в виду Аристотель, мысль которого так и остается для нас за семью печатями — остается волей судьбы, оставившей нам, в связи с утратой некоторых его текстов, так мало подсказок.
Но я сразу же сделаю одно замечание. Судя по первому впечатлению, Креонт и Антигона — имейте в виду, что я говорю о первом впечатлении — похоже, не знают ни страха, ни жалости. Если вы в этом сомневаетесь, значит, вы просто не прочли Антигону, и поскольку мы читаем ее вместе, я думаю, что помогу вам осязательно убедиться в этом.
При дальнейшем чтении, однако, уже не похоже, а совершенно точно, что по крайней мере один из протагонистов до самого конца ни страха, ни жалости не испытывает — это Антигона. Именно поэтому она и является среди всех прочих подлинной героиней. В то время, как Креонт в конце поддается страху, и это является если не причиной его гибели, то по крайней мере ее предвестием.
Начнем теперь с начала.
Первое слово в пьесе принадлежит отнюдь не Креонту. По замыслу Софокла, она открывается сценой, где Антигона в разговоре с Исменой сразу же посвящает нас в свой замысел и его причины. Креонт отсутствует, даже в качестве партнера, и появляется лишь вторым чередом. Тем не менее, в нашем разборе пьесы ему принадлежит немаловажная роль.
Креонт призван проиллюстрировать функцию, принадлежащую, как мы увидим, самой структуре трагической этики. Это функция психоанализа — он хочет добра. В этом, в конце концов, заключается его роль. Вождь — это тот, кто ведет сообщество за собой. Он занимает свое место во имя блага для всех.
В чем его вина? Аристотель говорит об этом, используя термин, который представляется ему для определения истоков трагического действия основным — αμαρτία. Его не очень просто перевести. Заблуждение, ошибка, погрешение — интерпретируя же его в этическом преломлении: ошибка, пли погрешность, в суждении. Все это, возможно, не так уж просто.
Как я вам в последний раз уже говорил, больше столетия отделяет эпоху создания великой трагедии от первого толкования, которого удостоила ее философия. Минерва не пробуждается, как говорил уже Гегель, кроме как в сумерках. В справедливости этого я лично не так уж уверен, но этот часто цитируемый афоризм напомнит нам о существовании временной дистанции между учением, заключенным в трагических ритуалах как таковых, и последующей интерпретацией этих учений в области этики, выступающей у Аристотеля как наука счастья.
И все же мы можем кое-какие наблюдения сделать. Мне не составило бы труда найти слово αμαρτία в других трагедиях Софокла — оно там имеется, это бесспорно. Слова αμαρτάνζιν и αμαρτήματα встречаются в речи самого Креонта, когда удары судьбы, наконец, сражают его. Но αμαρτία характеризует не истинную героиню, но Креонта, героя уровнем ниже.
Погрешность его суждения — которую мы можем здесь разглядеть ближе, чем это когда-либо удавалось сделать мысли мудрецов — состоит в желании блага для всех — я говорю не о Верховном Благе, так как не стоит забывать о том, что мы находимся в 441 году, когда друг наш Платон еще не успел для нас этот мираж создать, а лишь о благе в смысле закона, закона суверенного без границ, закона, выходящего за собственные пределы. Креонт даже не замечает, что он переступает тот пресловутый предел, говоря о котором, ограничиваются, обыкновенно, указанием на то, что Антигона его защищает, что речь идет о неписаных законах Δίκη. Сказав, что в законах этих воплощена Справедливость, Приговор богов, этим, как правило, и довольствуются, хотя на деле сказано этим не так уж много. Так или иначе, речь идет о другой области, в которую Креонт, ничего не подозревая, вступает.
Обратите внимание, что язык его превосходно соответствует тому, что именуется у Канта понятием, Begriff, блага. Это язык практического разума. Отказывая Полинику, изменнику, врагу родины, в погребении, он обосновывает это тем, что нельзя воздавать равные почести тем, кто защищал родину, и тем, кто нападал на нее. С точки зрения Канта, это вполне сойдет за максиму, которая может быть установлена в качестве разумного правила, имеющего всеобщую значимость. Итак, уже здесь, предвосхищая путь этики от Аристотеля к Канту, ведущий к признанию глубинного тождества закона и разума, не воплощает ли собой трагическое зрелище первое этому выводу возражение? Благо не сможет восторжествовать окончательно, не вызвав к жизни эксцесс, о фатальных последствиях которого нас и предупреждает трагедия.
Что же оно представляет собой, это поле, границы которого нужно остерегаться переступать? Там — отвечают нам — царствуют неписаные законы, воля, а точнее Δίκη, богов. Но помилуйте, ведь о богах этих мы давно уже и думать забыли! Надо помнить, что мы давно уже живем под сенью христианских законов, и чтобы вспомнить, что эти боги собой представляли, нам впору заняться этнографией. Прочтите Федра, о котором я недавно упоминал — диалог, развивающий мысль о природе любви, — и вы увидите, что слова, которыми служат нам, чтобы о ней говорить, вступают в нем в совсем иной хоровод.
Что она представляет собой, эта любовь? Быть может, перед нами то самое, что впоследствии, когда совершится христианством произведенная революция, мы назвали любовью возвышенной? Это и вправду нечто ей очень близкое, но достигнутое другими путями. Может быть, это желание? Может, это и есть то самое, что я, как полагают иные, идентифицирую с центральной областью некоего врожденного человеку зла? Или то, что Креонт где-то именует анархией? Но как бы то ни было, вы увидите в Фед-ре, что в любви люди ведут себя в соответствии с эпоптией (epoptia), с посвящением, которое они получили — посвящением в том смысле, который имело это слово в античном мире, где оно означало совершенно конкретные ритуалы, во время которых происходили те самые явления, которые имели место тысячелетиями и существуют, только на других географических широтах, и по сей день. Я имею в виду феномены транса и одержимости, где божество заявляет о себе устами тех, кто оказывает ему, если можно так выразиться, сотрудничество.
Платон уверяет нас, что те, кто получил посвящение от Зевса, ведут себя в любви иначе, нежели получившие его от Ареса. Замените эти имена теми, что где-нибудь в глухих бразильских провинциях служат прозваниями духов земли, войны, или верховного божества, и вы увидите, не углубляясь в экзотику, что речь идет ровно о том же самом.
Другими словами, область эта доступна нам теперь исключительно с точки зрения внешнего, объективного наблюдателя, с точки зрения науки, она не является для нас, христиан, сформированных христианством людей, частью текста, в котором мы свои проблемы для себя формулируем. Это область богов — мы, христиане вымели ее прочь, и вопрос теперь, в свете психоанализа, состоит в том, что, собственно, поставили мы на ее место. Что остается в наши дни пределом, ограждением этой области — ограждением, которое существовало, конечно, всегда, но которое одно по-прежнему стоит нерушимо, отмечая своим присутствием границы этого оставленного нами, христианами, поля. Вот вопрос, который осмеливаюсь я здесь поставить.
Ограждение это, порождающее, если взглянуть на него под правильным углом зрения, феномен отражения, который я в первом приближении называю явлением Прекрасного, и есть то самое, чему я подыскивал определение, говоря о границе второй смерти.
Я уже указал вам на эту смерть у Сада, где она призвана поразить природу в самих истоках ее формотворческого могущества, регулирующего чередование порождения и разложения. По ту сторону этого порядка, который сам по себе не так уж легко помыслить и уложить в форму знания — по ту сторону, говорит Сад, выступающий здесь как веха в развитии христианской мысли, есть что-то еще. И границу, нас от него отделяющую, можно переступить. Именно это и называет Сад преступлением.
Преступление по сути своей представляет собой, как я вам уже показал, всего лишь ничтожный фантазм, но речь идет о том, что за этой мыслью у Сада кроется. Преступление для него — это то, что идет против естественного порядка. Сад доходит до той поистине неслыханной мысли — мысли, по-видимому, действительно небывалой, так как до него ее никто в таком виде не формулировал, хотя кто знает, конечно, какие представления могли иметь хождение задолго до этого в мистических сектах, — что человек способен разрешить природу от уз собственных ее законов. Ибо ее собственные законы служат ей узами. Воспроизводство форм, в кругу которых гаснут, зайдя в тупик, сталкивающиеся в ней возможности, гармонические и непримиримые одновременно, — вот что следует устранить с пути, чтобы заставить ее, если можно так выразиться, начать с нуля. Такова цель, которую ставит перед собой преступление. Не случайно именно преступление является в нашем исследовании желания крайней чертой и именно исходя из первоначального преступления попытался Фрейд сконструировать генеалогию закона. Граница, где происходит творение из ничего, ex nihilo — вот за что держится, как я с первых шагов наших занятий в этом году твержу, всякая мысль, претендующая на то, чтобы быть последовательно атеистической. Последовательно атеистическая мысль выстраивается в перспективе креационизма, и ни в какой другой.
Чтобы показать, что мысль Сада располагается именно на этой границе, удобнее всего воспользоваться тем основополагающим для него фантазмом, илюстрацией которому и служит у него бесконечная галерея образов, в которых находит желание свои проявления. Это — фантазм вечных мук.
Страдание в типично садистском сценарии не приводит к уничтожению жертвы, ее полной аннигиляции. Похоже, напротив, что объект пыток неразрушим и призван их выносить бесконечно. Анализ ясно показывает, что субъект выделяет из себя своего двойника, и делает его недоступным уничтожению, заставляя его переносить то, что в данном случае, воспользовавшись заимствованным из области эстетики выражением, можно назвать играми боли. Ибо речь идет о той самой области, где разыгрываются определенные эстетические явления, о некой свободной области. Здесь-то и кроется как раз связь между играми боли и явлением красоты — связь, на которую никогда не обращают внимания, словно наложено на нее какое-то непонятное табу, какой то запрет, напоминающей хорошо вам известные трудности, которые испытывают пациенты с признанием в том, что относится к области их фантазий.
У Сада это настолько явно, что никто этого уже и не замечает. Жертва всегда наделена у него не только красотой, но и особым цветом венчающей ее прелести. Как объяснить необходимость в этом, не показав предварительно, что она кроется здесь так или иначе, с какой бы стороны нам к этому явлению ни подойти — поведем ли мы речь о трогательной беззащитности жертвы, или об уязвимости, хрупкости любой совершенной красоты, поражающей человека ужасом перед образом маячащей на заднем плане угрозы? Но угрозы чего? — вот в чем вопрос. Ибо не об уничтожении здесь идет речь.
Это настолько важный момент, что я хотел бы попросить вас перечитать страницы кантовской Критики способности суждения, посвященные природе красоты, — страницы, где мысль его отличается необыкновенной строгостью. Я не буду сейчас пересказывать их и сделаю всего одно замечание. Формы, в которых осуществляется познание — говорит Кант, — налицо и в феномене прекрасного, но таким образом, что объект ими не затрагивается. Разве не очевидна здесь аналогия с садовским фантазмом, где объект налицо лишь в качестве способности испытывать страдание, сводящееся, в свою очередь, к означающему некого предела? Страдание выступает здесь чем-то статичным, свидетельствующим собой, что сущее не может вернуться в небытие, из которого оно вышло.
Здесь-то и пролегает рубеж, воздвигнутый христианством на месте всех прочих богов в форме единственного центрального образа, все нити нашего желания исподволь к себе притягивающего — образа распятия. Решившись не то, чтобы взглянуть этому образу прямо в лицо — с тех пор, как в его созерцание погружаются мистики, это занятие людям не внове — а говорить о нем без обиняков, что гораздо сложнее, не позволительно ли будет сказать, что перед нами нечто такое, что можно называть буквально апофеозом садизма, то есть обожествление, иными словами, всего того, что в области, о которой я говорю, еще остается, того предела, где бытие сохраняется в страдании, так как сохраниться иначе может оно только в понятии — понятии, которое воплощает в себе, к тому же, совершенное исключение всех понятий вообще, понятии ex nihьol
Достаточно будет напомнить вам то, в чем вы, аналитики, убеждаетесь повседневно — о том, до какой степени фантазии, в которых находят себе выражение желания женщины, от мечтаний невинных девушек до картин совокупления, которые рисуются матерям семейства, буквально отравлены бывают выступающим на первый план образом распятого Христа. Да будет мне позволено пойти дальше и утверждать, что вокруг этого образа христианство свято распинает человека веками. Свято.
Последнее время мы обнаруживаем, что администраторы, те, кто распоряжается нами, теперь святые. Нельзя ли, однако, предположить и обратное, то есть что, поскольку воздействие христианства на человека продолжается на коллективном уровне, сами святые суть своего рода администраторы, распорядители доступа к желанию? Боги, умершие в сердце христиан, изгоняются ныне христианской миссией из самых отдаленных уголков мира. Центральный образ христианского божества поглотил все остальные образы человеческого желания, и это не осталось для людей без последствий. Это и есть, возможно, тот исторический рубеж, который на языке администраторов нашего времени описывается выражением культурные проблемы слаборазвитых стран.
Я не собираюсь сулить вам в дальнейшем сюрпризов, будь то хороших или дурных. Но удивление, как говорится в Антигоне, вас не минует.
Вернемся же к Антигоне.
Антигона — героиня этой трагедии. Именно она является глашатаем богов. Она из тех, как говорит греческий текст, кто создан более для любви, чем для ненависти. Короче, если верить отдающим ароматной водицей комментариям в духе благонамеренных авторов, перед нами нежная и очаровательная пай-девочка.
Я хотел бы в начале, чтобы лучше вас с ней познакомить, сделать несколько замечаний и сразу, без околичностей, назвать вам то слово, вокруг которого вся драма Антигоны сосредоточена, слово, которое повторяется в пьесе двадцать раз, что в тексте таком коротком звучит на все сорок, но что не мешает ему остаться порой при чтении незамеченым — слово ατη.
Слово это незаменимо. Оно означает предел, за которым, преодолев его, человеческая жизнь не способна остаться надолго. Голос хора здесь многозначителен и настойчив — ектод οίτα?. По ту сторону Aie можно продержаться лишь очень короткое время, и именно туда Антигона стремится. Экспедиция эта — не повод для умиления. Свидетельство о том, в каком состоянии находится Антигона, вы слышите из ее уст — она, в буквальном смысле, не может больше так жить. Ее жизнь никчемна. Она живет памятью о злосчастной судьбе того, от кого ведет свое начало ее род, пресекшийся только что с гибелью двух ее братьев. Сама Антигона ютится в доме Креонта и должна быть послушна его закону — и с этим она не может смириться.
Смириться с тем, скажете вы, с зависимостью от того, кого она презирает. Но почему, собственно? У нее есть пища и кров, и никто не собирается насильно женить ее, как Электру у Жироду. Не думайте, кстати, что Жироду придумал этот мотив — он принадлежит Еврипиду, только у Еврипида ее не выдают за садовника. Но так или иначе, Антигона не может с этим смириться, и это объясняет во многом то решение, о котором мы узнаем с самого начала из разговора ее с Исменой.
Разговор этот поражает своей жестокостью. Послушай — говорит Антигоне Йемена — в нашем положении мы и так в себе не слишком вольны, давай не станем доводить дело до крайности. Со стороны Антигоны сразу же следует взрывная реакция: не возвращайся к этому больше — отвечает она сестре — я не нуждаюсь в твоей помощи, даже если бы ты предложила ее сама. И тут же срывается с ее уст слово «χορα, ненависть — именно это чувство испытывает она к сестре и именно с ним столкнется та в преисподней, встретив там покойного брата. Та самая, которая скажет о себе позже "делить любовь — удел мой, не вражду", появляется перед нами со словом ненависть на устах.
В дальнейшем, когда сестра вернется к ней, чтобы разделить ее участь, хотя и не нарушив запрета, Антигона вновь оттолкнет ее — оттолкнет с жестокостью и презрением, изощренность которых переходит все мыслимые пределы. Оставайся с Креонтом, которого ты так любишь — скажет она сестре.
Вот она, загадка, которую нам задает Антигона, — загадка существа, лишенного всего человеческого. Не назовем, однако, мы ее и чудовищем — такой подход нам вряд ли что-нибудь даст. Он хорош для хора, который следит за всеми перипетиями этой истории и восклицает однажды, в ответ на одну из тех фраз Антигоны, от которых перехватывает дыхание — она ώμόσΐ Слово это переводят худо-бедно как несгибаемая. Буквально оно означает что-то необработанное, сырое — лучше всего подходит слово дикарь, в том смысле, в котором используют его, говоря о людях, едящих сырое мясо. Это мнение хора, который ничего в этом деле не понимает. Она ώμόσ, как и ее отец — вот что говорит хор.
Что означает для нас тот факт, что Антигона переходит границы человеческого? — Что желание ее устремлено туда, по ту сторону Atи.
То же слово, Atи, используется для обозначения чудовищного, нестерпимого злодеяния. Именно об этом идет речь, и именно это слово с механической настойчивостью повторяет в соответствующем месте хор. К Atи не подходят близко, а если все-таки приближаются, то сближение это с чем-то связано, в данном случае — с чередой постигших семью Лабдакидов несчастий и ее, этой череды, началом. Стоило приблизиться к ней, как несчастья покатились нарастающим снежным комом, и в основе того, что во всех поколениях этого рода случается, лежит, как говорит нам текст, μέριμνα, что значит примерно то же, что μνήμη, но с оттенком злопамятства. Однако переводить его этим словом будет неправильно, потому что злопамятство является категорией психологической, в то время как μέριμνα представляет собой одно из тех двусмысленных, колеблющихся между объективным и субъективным значением слов, которые и задают, собственно, означающей артикуляции ее термины, μέριμνα Лабдакидов является тем самым, что толкает Антигону к границам Atи.
Можно, конечно, перевести Atи словом несчастье, но на самом деле несчастье тут не при чем. Речь идет о том, что возложили на нее, как сказала бы, безусловно, она сама, неумолимые боги и что лишило ее чувств страха и жалости. Речь идет о том, что диктует поэту, который желает показать свою героиню в момент, когда она совершает вменяемый ей проступок, завораживающую картину того, как она, прокравшись — в первый раз это было в сумерках — к телу своего брата, покрывает его тонким слоем песка, достаточным, чтобы скрыть его от человеческих взоров. Ибо нельзя, говорится в тексте, оставить разлагающийся труп на глазах у всех, позволив псами и стервятникам терзать его на куски и нести их в город, на алтари, сея вокруг ужас и скверну.
Таков первый жест Антигоны — то, что выходит за определенный предел, не должно быть явлено взору. Вестник рассказывает Креонту о происшедшем, уверяя его, что на месте преступления не было обнаружено ни следа, что найти преступника нет возможности. Ему дается приказ вновь смести с тела скрывающий его прах. На этот раз Антигона позволяет себя схватить. Вестник, явившийся рассказать Креонту о происшедшем, докладывает ему, что они очистили труп от покрова пыли и расположились с наветренной стороны, чтобы избежать исходившего от него тлетворного запаха. Но тут подул сильный ветер, взметая пыль и наполняя ей атмосферу и даже, как говорится в тексте, бесконечный эфир. Вот тут-то, когда стражники попрятались было, закрывая лица руками и ища убежища перед лицом изменчивой стихии и наступающей тьмы и ненастья, появляется перед ними маленькая Антигона — появляется, жалобно плача, по словам Софокла, подобно птице, не нашедшей в гнезде своих птенцов.
Образ, единственный в своем роде. Тем более единственный, что он был повторен много раз, причем повторен у классических авторов. Я нашел в Финикиянках Еврипида четыре стиха, где героиня тоже сравнивается с птицей, испускающей жалобные крики при виде своего разоренного гнезда. На этих примерах хорошо видно, что символизирует в античной поэзии упоминание птицы. Не будем забывать о том, сколько языческих мифов построено на мотиве метаморфозы — возьмите хотя бы превращение Филемона и Бавкиды. Здесь же и соловей, фигурирующий у Еврипида как образ, который принимает, жалуясь, человеческое существо. Предел, к которому мы здесь подходим, это тот самый предел, за которым лежит возможность метаморфозы. Тайно пронесенный через века поэмой Овидия, он вновь обретает активность и разрушительную энергию в поворотный момент европейского мировосприятия, именуемый Возрождением, явившись, наконец, в драмах Шекспира в подлинном своем обличье. Вот что являет собой Антигона.
Теперь вам понятно, к какой кульминации движется действие пьесы.
Мне нужно теперь привести изложенное в какой-то порядок, но я не могу прежде не указать по ходу дела на кое-какие вложенные автором в уста Антигоны строки. Я имею в виду стихи 48, 70 и 73, где проявляется свойственная речи героини особенность, которая заключается в перестановке предлога μ«τά в конец фразы.
μ€τά означает вместе, а также после. Предлоги выполняют в греческом несколько иную функцию, нежели во французском, точно так же, как частицы играют в английском роль, им во французском не свойственную, μετά, собственно, имеет в виду наметить некий разрыв. Так, по поводу указа Креонта, Антигона замечает, что тот не имеет отношения с тем, что ее заботит. Она же, в другом месте, говорит сестре, что пожелай та теперь совершить это святое дело вместе с ней, она бы не приняла ее помощи. И далее, обращаясь к покойному брату, она говорит ему — я возлягу, о любящий друг, почти возлюбленный мой, рядом с тобой. μ€τά ставится ею каждый раз в конец фразы, что является инверсией, поскольку в греческом предлог этот ставится обыкновенно, как и французское avec, перед значащим словом. Эта черта показательна, говоря о резкости, с которой вторгается речь Антигоны в ткань пьесы.
Я не стану касаться деталей ее разговора с Исменой. Комментировать его можно бесконечно, это заняло бы у меня целый год. Мне жаль, что границы семинара не позволяют продемонстрировать вам саму материю стиля, его ритмическое членение. Я иду дальше. После завязки действия, когда становится ясно, что жребий брошен, вступает хор. Это чередование действия и хора происходит в драме, если не ошибаюсь, раз пять.
Однако, внимание. Трагедия, уверяют нас, это действие. Но какое именно — άγ€ΐν? Или, может быть, πράττει? На самом деле, здесь прихолится выбирать. Означающее вводит в мир два порядка — истины и события. И если мы хотим удерживать его на уровне отношений человека с измерением истины, то нам не удастся одновременно использовать его для упорядочения события. В трагедии, любой трагедии, никакого подлинного события нет. Герой и его окружение занимают определенные позиции по отношению к точке, к которой устремлено желание. Происходящее же представляет собой обрушение, перемешивание различных пластов присутствия героев во времени. Именно это и остается в итоге неопределенным — когда карточный домик, который представляет собой трагедия, рушится, различные вещи могут сгрудиться вместе, и картина, в конечном счете, может получиться самая разная.
Приведу пример. Раструбив по всему свету, что ничто не заставит его отступить от позиций, продиктованных ему ответственностью, Креонт, когда старик Тиресий немного прочистил ему мозги, начинает идти на попятную. А может быть, не стоит так поступать? — обращается он к хору. Может, лучше все-таки уступить? И говорит он это в выражениях, которые развиваемой здесь мной точке зрения в точности соответствуют — слово Atи приходится здесь как нельзя кстати. В этот момент становится ясно, что приди он к гробнице прежде, чем отдать запоздалый приказ отдать непогребенному телу почести, на что требуется, как-никак, какое-то время, худшего можно было бы избежать.
Дело, однако, в том, что с тела начал он не случайно — он хочет прежде всего, очиститься, как говорится, перед своей совестью. Это то самое, поверьте мне, что человека, стремящегося загладить свою вину, неизменно губит. Это лишь небольшой пример, ибо в каждый момент развития драмы вопрос темпоральности, того, каким образом насущные сюжетные линии сойдутся в одно, остается главным, решающим. Но это как раз и похоже не столько на действие, сколько на то, что я только что назвал обрушением, нагромождением посылок.
Итак, за первым разговором Антигоны с Исменой следует музыка, вступление хора, песнь освобождения. Фивы избежали нашествия тех, кого можно по справедливости назвать варварами. Хор, в свойственном ему поэтическом стиле, любопытно описывает войска Полиника и его тень в образе парящего над градом орла. Картина наших современных войн, где угроза парит над нашими головами, предвосхищается поэтом, как видим, уже в 441 году до н. э.
По завершении этого музыкального номера — здесь явно ощущается со стороны автора некоторая ирония — все, казалось бы, уже кончено. Другими словами — тут-то все только и начинается.
Креонт произносит длинную речь в свое оправдание, но выслушивает его, на самом деле, лишь послушный, благостно вторящий ему хор. Следует диалог между Креонтом и хором. Хор, может быть, и чувствует про себя, что в словах Креонта заключена некоторая крайность, но единственный раз, когда он решается сказать об этом открыто, то есть когда вестник является и рассказывает о происшедшем, его тут же бесцеремонно, прямо скажу, ставят на место.
Персонаж вестника в этой трагедии колоритен необычайно. Со всевозможными языковыми и телесными выкрутасами описывет он то, как колебался он на своем пути, сколько раз готов он был повернуть и бежать прочь сломя голову, и каким долгим показался ему короткий путь. Говорить он необыкновенный мастер. Мне больно видеть — говорит он, к примеру, Креонту, — что ты мнишь, будто не мнителен. Что на меня, другими словами, пало подозрение в подозрительности. Эта манера ВокеТ πσευ&ή δοκειν находит соответствия в речах софистов — недаром Креонт возражает ему, говоря, что ты, мол, слишком много рассуждаешь о 8όξα. Короче говоря, в течение всей этой почти комической сцены вестник пускается в праздные разговоры о том, что произошло, об опасениях за собственную судьбу, повергших стражников в такую панику, что дело было готово дойти до драки, когда они решили, наконец, кинув жребий, послать того, кому он выпадет, вестником. Выложив все это, несчастный выслушивает угрозы Креонта, власть имущего, который, проявляя недальновидность, обещает ему, что стражникам предстоят очень неприятные четверть часа, если виновный немедленно не будет найден. После чего вестник поспешно уносит ноги со словами, что я, мол, хорошо выкрутился уже потому, что меня сразу же не повесили на первом суку. Теперь ждите меня не скоро — добавляет он в заключение.
Сцена эта, конечно, представляет собой своего рода клоунаду. Но он не так прост, этот вестник, недаром, обращаясь к Креонту, он с необыкновенной тонкостью спрашивает царя, что болит у него, слух или сердце. Слова эти заставляют Креонта поневоле прислушаться к нему, и он поясняет: если это сердце — говорит он — то оскорбил его совершивший самый поступок, мои же речи оскорбили только твой слух. Несмотря на чудовищность ситуации, это нас забавляет.
Что же за этим следует? Хвала человеку. Хор поет ни больше, ни меньше, как хвалу человеку. Время поджимает меня, я не могу на этом задерживаться и вернусь к этой хвалебной песне в следующий раз.
И сразу же после этой хвалы, представляющей собой не что иное, как грандиозную мистификацию, появляется, вопреки всякому правдоподобию — я имею в виду правдоподобие чисто временное, — влекущий Антигону стражник. Стражник сияет от радости — еще бы, ведь ему представился редкий случай снять с себя ответственность, вовремя представив виновного. Хор исполняет песнь об отношениях человека cAtи — к песни этой мы тоже в следующий раз вернемся.
Является и Гемон, сын Креонта и жених Антигоны — он пришел поговорить с отцом. Уже одно это столкновение отца с сыном обнаруживает в отношениях человека к своему благу то измерение, о котором я уже начал вам говорить — колебания, слабость. Эта сцена очень важна, так как она позволяет увидеть подлинное лицо Креонта — мы убедимся впоследствии, что он, как и все тираны и палачи, сохраняет толику человечности. Только мученики не испытывают ни страха, ни жалости. Поверьте мне, день торжества мучеников станет днем мирового пожара. Пьеса Софокла показывает это как нельзя лучше.
Но с Креонта еще не сошла его спесь, и он бросает вслед уходящему сыну еще более страшные угрозы. И кто вступает в этот момент? Хор, конечно, и с чем? С пением "Ερως άνίκατε μάχαν, Эрот непобедимый в битве. Думаю, что даже те, кто не знаком с греческим, слышали хотя бы однажды эти три слова, дошедшие до нас через века в ореоле множества рожденных ими мелодий. Раздается эта песнь в тот момент, когда Креонт объявляет назначенную им Антигоне казнь — ей предстоит сойти в гробницу живой. Невеселая перспектива, и уверяю вас, что даже у Сада она является для героев седьмой или восьмой степенью испытания — чтобы вы осознали, насколько это серьезно, ссылка эта, конечно, не помешает. И как раз в этот момент хор, вступая, говорит буквально следующее — эта история нас сводит с ума, у нас опускаются руки, мы теряем голову, и дитя это заставило нас испытать то, что в тексте описывается выражением, уместность которого в данном случае мне особенно хочется подчеркнуть — Ίμερος εναργής.
"Ιμερος — это то самое слово, которым в Федре описывается то, что я пытаюсь здесь уловить, отсвет желания, связывающего даже богов. Именно это слово использует Зевс, говоря о своих отношениях с Ганимедом. "Ιμερος εναργής — это, буквально, желание, ставшее видимым. И произносятся эти слова в момент, когда начинается долгая сцена ведения на казнь.
Вслед за речью Антигоны, откуда, как раз, и взяты те слова, не пришедшиеся по вкусу Гёте, о которых я в прошлый раз вам рассказывал, хор вновь запевает песнь мифологического содержания, в трех строфах которой повествуется о трех особенно драматических судьбах, связанных единой темой порога жизни и смерти, живого трупа. Из уст самой Антигоны мы слышим, в свою очередь, об участи, постигшей Ниобу, которая, став пленницей скалы, навеки обречена сносить удары стихий. Везде перед нами образ предела — образ, являющийся стержнем этой трагедии.
Но вот в момент, когда Антигона близится к вершинам некоего божественного умоисступления, на сцене появляется слепец Тире-сий. То, что он говорит, не является простым предсказанием, ибо сам факт пророчества способствет тому, чтобы предсказанное сбылось. Разговаривая с Креонтом, он отказывается поначалу открыть то, что ему известно, пока тот, будучи по образу мыслей своих человеком, для которого все сводится к политике, а проще говоря — к выгоде, не высказывает в его адрес вещи столь оскорбительные, что Тиресий оглашает свое пророчество. Значение, придаваемое речам, внушаемым свыше, традиционно столь велико, что сопротивление Креонта оказывается сломлено и он соглашается отменить свои прежние повеления, что и привело к катастрофе.
Здесь трагедия берет самую высокую ноту. Предпоследнее вступление хора представляет собой гимн верховному, сокрытому богу — Дионису. Слушатели полагают, что гимн этот является очередной песнью освобождения, и чувствуют облегчение, полагая, что все устроится. Для тех же, кому известно, что появление Диониса с его свирепой свитой действительно означает, гимн этот, напротив, служит знаком того, что мы вступили в границы поля, охваченного огнем.
После этого следует последняя перипетия, на которую у меня больше не остается времени — та, где введенный в заблуждение
Креонт колотится отчаянно в двери гробницы, за которыми висит в петле труп Антигоны. Обнимающий ее тело Гемон испускает последний, предсмертный вопль, причем о том, что тут в действительности произошло, мы так ничего и не знаем, как не знаем мы, что произошло в гробнице, куда спускается Гамлет, ибо Антигона как-никак была замурована, находилась у границ Atи, и нам остается лишь недоумевать о том, когда Гемон проник внутрь — и, как в Эдипе в Колоне, где спутники Эдипа в момент его исчезновения отворачиваются, о совершившемся здесь не знает никто. Но как бы то ни было, Гемон покидает гробницу одержимый божественной μανία. Он явно находится вне себя — бросается на отца и, когда удар его приходится мимо, убивает себя. Возвратившись, вслед за опередившим его вестником, во дворец, Креонт застает свою жену мертвой.
В этот момент текст пьесы, в выражениях, более чем подходящих, чтобы напомнить нам, где пролегает граница, рисует Кре-онта окончательно сломленным, требующим, чтобы его увели. Уведите мои ноги прочь — буквально говорит он. На что корифей, находя в себе силы на каламбур, отвечает ему — ты прав, ведь несчастья, которые у нас под ногами, еще не самые худшие, ибо самые краткие.
Софокл — не школьный педант, но именно школьные педанты его, к сожалению, переводят. Как бы то ни было, но здесь коррида окончена. Разровняйте арену граблями, оттащите с нее быка и отрежьте от него, что хотите, если достанется. Таков уж закон жанра — дорога ему под веселое позвякивание колокольчиков в мясную лавку.
Именно так, примерно в этих выражениях, можно передать содержание Антигоны. В следующий раз я посвящу какое-то время разбору нескольких существенных моментов, которые покажут вам, насколько строго соответствует моя интерпретация тем выражениям, которые находим мы у самого Софокла.
Я надеюсь, что на это уйдет у меня половина занятия и что я успею затем рассказать вам о том, что в отношении прекрасного формулирует Кант.
/ июня I960 года.
XXI Антигона между двумя смертями
Изнеможение. Антигуманизм Софокла. Закон ex nihilo. Иллюстрация влечения к смерти. Дополнение.
Тем кто достаточно хорошо знает греческий, чтобы с текстом этим самостоятельно разобраться, я посоветовал было воспользоваться изданием с подстрочным переводом, но найти его оказалось невозможно. Обратитесь к переводу Гарнье — он совсем не плох.
Я отсылаю вас к следующим стихам: 4–7, 323–325, 332–333, 360–375,450-470, 559–560, 581–584,611-614,620–625,648-650, 780–805, 839–841, 852–862, 875, 916–924, 1259–1260.
Стихи 559–560 характеризуют позицию Антигоны по отношению к жизни — она говорит, что душа ее давно мертва, что предназначение ее в том, чтобы прийти на помощь, софеХем — то же самое слово, на которое мы обращали когда-то внимание в связи с Офелией — на помощь мертвым.
В стихах 611–614 и 620–625 хор говорит о пороге Беды,/1ге, вокруг которого разыгрывается вся интрига желания Антигоны.
Выражение, которым заканчиваются оба эти отрывка — ίκτος aras — необычайно важно, на что в прошлый раз я вам уже указывал. Έκτος означает вне и характеризует то, что происходит, когда порог Atи оказывается преодолен. Так, например, стражник, принесший весть о событии, подрывающем авторитет Креонта, говорит под конец о себе, что он έκτος ελπίδος, по ту сторону надежды, что он потерял всякую надежду на спасение. Έκτος ατας означает в тексте переход границы — именно эта мысль и развивается здесь в песнопении хора. От хора мы слышим также, что человек направляется προς αταν, то есть к Atи, — вся греческая система предлогов задействована здесь необычайно живо и выразительно. Антигона направляется προς αταν потому, что человек принимает зло за добро, потому, что за пределом Atи нашлось что-то такое, что стало для Антигоны собственным ее благом — благом, которое другие не разделяют.
Чтобы подойти к этой проблеме способом, который позволил бы свести мои замечания воедино, мне необходимо вернуться к простому, непредвзятому, остраненному взгляду на героиню трагедии — ту, что сейчас перед нами, на Антигону.
1
Есть черта, на которую обратил-таки внимание один комментатор Софокла — я говорю в единственном числе, ибо только у автора недавно вышедшей книги о Софокле, Карла Рейнхарта, обнаружил я очень важное указание на свойственное героям Софокла особого рода одиночество, μονούμΐνοι, или, как еще прекрасно выразился Софокл, αφιλοι, а также фрегод οίοβώται, что означает отводящие свои мысли пастись в стороне. Понятно, однако, что речь идет не об этом, так как герой трагедии всегда, в конечном счете, подвергается изоляции, всегда выходит из границ, всегда опережает других и уже поэтому всегда оказывается так или иначе вырванным из структуры.
Забавно, однако, что исследователи проходят мимо ясных и очевидных вещей. Посмотрим на те семь пьес Софокла, которые дошли до нас из тех примерно ста двадцати, что он успел написать за девяносто лет своей жизни — из которых шестьдесят он посвятил трагедии. Это Аякс, Антигона, Электра, Эдип-царь, Тра-хинянки, Филокпгет и Эдип в Колоне.
Некоторые из этих пьес живы для нас и до сих пор, другие… вы не представляете себе, наверное, насколько забавно воспринимается сейчас Аякс Начинается эта трагедия избиением греческих стад Аяксом, который, происками невзлюбившей его Афины, ведет себя как безумный. Он уверен, что истребляет греческое войско, хотя на самом деле это всего лишь стадо. Очнувшись, охваченный стыдом герой уходит, чтобы в сторонке тихо покончить с собой. Больше в пьесе абсолютно ничего нет. Это, согласитесь, забавно. Как я вам однажды уже говорил, перипетия как таковая здесь напрочь отсутствует. Все дано с самого начала, и все сюжетные построения нагромождаются как попало.
Оставим Антигону в стороне, поскольку она является для нас главной темой.
Электра тоже представляет собой у Софокла кое-что любопытное. У Эсхила, в его Хоэфорах и Эвменидах, убийство Агамемнона порождает всю цепь последующих событий. После того, как убийство отомщено, Оресту предстоит улаживать отношения с мстительными божествами, защищающими материнскую кровь. Ничего подобного у Софокла мы не находим. Электра с определ-нной точки зрения предстает настоящим двойником Антигоны: живой мертвец — говорит она, — я уже для всего мертва. В другом месте, в кульминационный момент трагедии, Орест, склоняя Эгис-фа к последнему шагу, говорит ему — понимаешь ли ты, что говоришь с людьми, которые подобны мертвым? Ты не говоришь сейчас с живыми. Это чрезвычайно интересная нота, и на этом все обрывается. Ни намека на то, что за этим может что-то последовать… Все заканчивается самым приземленным образом. Конец Электры — это самая настоящая казнь, в самом прямом смысле слова.
Эдипа-царя мы оставим здесь в стороне, так как для наших целей он ничего не дает. К тому же мы не претендуем на то, чтобы вывести какой-то общий закон, поскольку большая часть написанного Софоклом для нас потеряна.
Трахинянки — это трагедия о смерти Геракла. Труды Геракла подошли к завершению, о чем он знает и сам. Ему говорят, что все кончено и он может отдыхать спокойно. К несчастью, однако, совершая последний подвиг, Геракл неосторожно дал волю чувствам по отношению к своей пленнице и жена его отправила супругу — из любви к нему — драгоценную тунику, которую давно на случай приберегала, чтобы воспользоваться ей, как оружием, в подходящий момент. Итак, она посылает ему тунику и вы знаете, чем это кончилось — весь конец пьесы зритель выслушивает стенания и рык Геркулеса, пожираемого отравленной тканью.
Затем следует Филоктет. Филоктет — это человек, которого оставили одного на острове. Он прожил там в одиночестве десять лет, и вот теперь к нему являются с просьбой оказать общине очередную услугу. На этом фоне происходит множество вещей — разыгрывается, в частности, трогательная драма мук совести юного Нео-птолема, которому предназначено послужить герою приманкой. И вот, наконец, Эдип в Колоне.
Не замечали ли вы следующее: общим для всех дошедших до нас, кроме Эдипа-царя, трагедий Софокла является то, что герои их стоят у последней черты. Все они находятся на пределе, который одиночеством этих людей в обществе ближних далеко не исчерпывается. Речь идет совсем о другом — все они с самого начала находятся в пограничной зоне, в зоне между жизнью и смертью. Тема пребывания между жизнью и смертью формулируется в тексте и прямо, но при этом она разыгрывается во множестве ситуаций.
Можно даже показать, что укладывается в эти обшие рамки и Эдип-царь. Героя характеризует то — уникальная и парадоксальная по сранению с другими черта, — что в начале трагедии он пребывает на вершине блаженства, и Софокл показывает, как устремляется он к своей гибели, упрямо пытаясь разгадать тайну, то есть узнать истину. Все пытаются его удержать, в особенности Иокас-та, говорящая ему каждый раз — все, хватит, теперь мы знаем достаточно. Беда в том, что он хочет знать и он в конце концов узнает. Впрочем, я готов согласиться, что Эдип-царь составляет исключение и герой его не соответствует общему для персонажа Софокла правилу: не стоит, как мы попытались это в первом приближении сформулировать, у последней черты.
Вернемся теперь к нашей Антигоне, которая недвусмысленно к этой черте подошла.
На одном из занятий я показал вам анаморфозу — самую красивую, какую мне удалось найти, и в качестве примера подходящую выше всяческих ожиданий. Вспомните о цилиндре, вокруг которого возникает это удивительное явление. Собственно говоря, с оптической точки зрения нельзя сказать, что тут налицо какой-то образ. Не углубляясь в соответствующие оптические определения, можно сказать, что лишь постольку, поскольку на каждой вертикали цилиндра возникает бесконечно малый фрагмент образа, происходит на наших глазах то наложение ряда черт, в силу которого является по ту сторону зеркала чудесная иллюзия, прекрасный образ Страстей Христовых, в то время как вокруг ничего, кроме безобразного хаоса линий, не разглядеть.
С чем-то подобным имеем мы дело и здесь. Какова та поверхность, что позволила возникнуть образу Антигоны как образу страсти — недаром упоминал я на одном из наших занятий о евангельском "Отче, почему ты меня оставил?", буквально звучащем в одном из стихов трагедии. Трагедия — то, что разворачивается на первом плане, чтобы произвести этот образ. В анализе процесс движется в обратном направлении — мы рассматриваем, как следовало выстроить образ, чтобы произвести известный эффект. Итак, начнем.
Я уже обращал ваше внимание на ту неумолимость, не знающую ни страха, ни жалости, что сказывается у Антигоны ежеминутно. В одном месте, в стихе 875, хор называет Антигону, явно сожалея о ней, αντόγνωτος. В слове этом важно расслышать отголоски γνώθι aeavTovдельфийского оракула — смысл совершенного познания себя, которое ей приписывают, станет тогда невозможно проигнорировать.
Уже когда в начале пьесы Антигона доверяет свой замысел Йемене, речь ее, как я уже говорил, необычайно сурова. — Понимаешь ли ты, что сейчас происходит? — говорит она. Креонт только что ввел в силу κήρυγμα — термин, играющий, кстати сказать, важную роль в современном протестанстком богословии, означая в нем измерение, в котором существует религиозное высказывание. Антигона изъясняется следующим образом: Так приказал Креонт — говорит она — тебе и мне. О да, и мне — с живостью прибавляет она. И заявляет Йемене, что именно она, Антигона, предаст погребению тело брата.
Посмотрим, что это в устах ее означает.
Действие развивается быстро. Приходит стражник с вестью о том, что брат похоронен. Здесь я хочу обратить ваше внимание на нечто такое, что говорит о значении, которое имеет творчество Софокла сегодня.
Находились исследователи, заявлявшие — мне кажется даже, что мысль эта запечатлена в заглавии одной из многочисленных работ, которые я разбирал — будто Софокл являет собой гуманизм. Его называют гуманистом, так как он нашел, якобы, подлинно человеческую меру, лежащую между укорененностью в архаических идеалах, еще свойственной Эсхилу, и склонностью к пафосу, сентиментальности, критике и софизмам, которую уже Аристотель ставил в упрек Еврипиду.
Что Софокл занимает среднюю между ними позицию — с этим я готов согласиться, но чтобы говорить о родственности этой позиции гуманизму нужно придавать этому слову совсем новый смысл. Что касается нас, аналитиков, то мы чувствуем, что жила темы так называемого гуманизма выработана до конца. Человек для нас разделяется, словно под действием спектрального анализа, на составляющие, пример чего я даю вам, исследуя сочленение Воображаемого и Символического, тот узел, где прослеживается связь человека с означающим и расщепление, splitting, которое в результате этой связи в нем возникает. В том же направлении движется и Леви-Стросс, когда пытается формализовать переход от природы к культуре, а точнее — существующий между ними разрыв.
Занятно наблюдать, как на заре гуманизма именно здесь, в анализе, бездонно глубоком, последних пределов, вблизи от последней черты, возникают образы, которые по своей завораживающей силе за весь прошедший под знаком гуманизма период истории не имеют равных.
Поразительным кажется мне, например, момент, отраженный в строках 360–365, где сразу же после ухода вестника, разыгравшего, как вы помните, целое клоунское представление, чтобы объявить новость, которая может дорого ему обойтись, вступает хор. Поистине ужасно, говорит хор, видеть человека, который упрямо не хочет верить, что верит. Верить, что верит во что? В то, что никто в данный момент не вправе вообразить себе — вот она, игра Sokйо δοκεΐν. Вот на что хотел я обратить ваше внимание в этом стихе, равно как и в реплике Креонта, говорящего стражнику, что тот, мол, строит из себя умника, рассуждая о δόξα. Здесь слышен явный намек на современные Софоклу философские словопрения вокруг этой темы. Сцена вообще призводит довольно жалкое впечатление, поскольку нас мало интересует, понесет ли стражник за дурную весть наказание, или выкрутится из положения, как это, на самом деле, и происходит.
И вот сразу после этой сцены и начинается, со стиха 332, песня хора, представляющая собой то, что я назвал ранее хвалой человеку. Начинается он словами Πολλά та δείνα к' ovhevανθρώπου δεινότερον ττέλει·
что означает буквально: много поразительных вещей на свете, но нет нет ничего поразительнее человека.
Для Леви-Стросса то, что хор говорит здесь о человеке, является в полном смысле слова определением культуры путем противопоставления ее природе — человек культивирует речь и возвышенные знания, он умеет зимой сохранить свое жилище от снега и спасти его от грозы, он знает, как защититься от влаги. И все же есть здесь и некоторое скольжение смысла — так, несомненная ирония видится мне в последующих за стихом ЗбО строках, в пресловутом παντοπόρος άπορος, подавшем повод для споров в отношении пунктуации. Общепринятая сечас пунктуация, насколько я помню, следующая — ποντοπόρος άπορος έπ' ουδέν έρχεται то μέλλον, παντοπόρος означает тот, кто знает кучу разных вещей. Что ж, у человека этого поистине не отнимешь, άπορος говорят, напротив, о том, кто оказался перед лицом чего-то беспомощным и бессильным. Термин апория вам, конечно, знаком, άπορος, одним словом, — это когда делать нечего. Как говорит гаитянская пословица, для человека нет ничего невозможного, что ему не по силам, за то он не берется. Такой уж у него обычай.
Перейдем теперь к έπ' ουδέν έρχεται το μέλλον.
έρχεται означает он идет. иV ουδέν означает не имея перед собой ничего, το μέλλον можно перевести, ничтоже сумняшеся, как будущее, то есть то, что должно прийти, однако в других случаях μέλλζιν может означать задерживаться, запаздывать, так что выражение то μέλλον открывает семантическое поле, определить которое сколь-нибудь строго в терминах современного французского языка не так уж легко. Обычно выходят из этого положения, переводя в таком духе: поскольку он чрезвычайно находчив, ему не составит труда в любой ситуации найти выход. На мой вкус, это звучит слишком уж в духе Прюдома. Непохоже, чтобы поэт имел здесь в виду что-то до такой степени тривиальное.
Прежде всего, мне кажется неправильным разделять два слова, которыми начинается фраза, παντοπόρος άπορος. Обратите внимание, что несколько ниже, в стихе 370, таким же образом сопряжены другие два слова, ύφίπολις απολις, то есть тот, кто находится над полисом и одновременно вне его, характеристика персонажа, в котором обыкновенно видят отступившего от правых путей Креонта. Во-вторых, я далеко не уверен, что слова άπορος лV ουδέν έρχεται действительно можно передать как потому что он ни к чему не идет, не будучи на это готовым. Такое понимание противоречит здесь самому духу греческого языка. έρχετα^ΒΗΟ привлекает έπ' ουδέν к себе, иV хорошо согласуется с έρχεται, а вовсе не с άπορος. Это мы видим здесь эдакого мастера на все руки, тогда как на самом деле речь идет вот о чем — из того, что с человеком в действительности может произойти, сам он не готов ни к чему. Что бы ни приключилось с ним, он, παντοπόρος, находчивый, всегда оказывается άπορος, беспомощным. Он не пропускает к этому ни одного случая. Он всегда придумывает все на свою же голову.
Перед нами поворот мысли очень в духе Превера. И этому у меня в запасе еще одно подтверждение. Сразу после цитированного мною стиха идет выражение "Αι8α μόνον φεΰξιν ουκ επάγεται, что значит: существует лишь одна ситуация, из которой ему не выкрутиться — это необходимость отправляться в Аид. Со смертью, одним словом, человеку не сладить. Важно, однако, то, что за этим следует — νόσων 8'άμηχάνον φυγάς. Сказав, что существует нечто, с чем человеку справиться не удалось, и это — смерть, хор добавляет, что он придумал совершенно великолепную штуку, а именно — я перевожу здесь буквально — бегство в невозможные болезни. Иначе, как я это делаю, фразу эту истолковать невозможно. Переводы обычно передают это в том духе, что, мол, с болезнями он еще кое-как уживается, но это совершенно не то. Он не сумел справиться со смертью, но придумал великолепную штуку — болезни, созданные им самим. Поразительно, что в 441 году до н. э. находится человек, сумевший разглядеть здесь одно из главных измерений человеческого бытия. Переводить это как бегство от болезней бессмысленно. Речь идет о болезни особого рода, μηχανόΐν — болезни, представляющей собой его собственное изобретение. Подите-ка, разберитесь в этом!
К тому же, мысль о том, что человек оказался бессилен против Аида, хор повторяет дважды, после чего и переходит непосредственно к μηχανο€ν. Есть в этом μηχανο€ν нечто от σοφόν, термина далеко не простого. Вспомните о хайдеггеровском анализе, в тексте, преведенном мною самим для первого номера журнала "Психоанализ", значения у Гераклита слов σοφόν, мудрый, и o^oXeyeоv, говорить то же самое. Это σοφόν еще дышит у него своей первоначальной свежестью. В механизме, опер έλπίΒ' 'έχων, есть нечто со-фийное. Есть в нем нечто такое, что ΰπερ иXmS' 4'χων, идет дальше надежды, и что 'йpnei. Именно это склоняет человека то ко злу, то к добру. Это значит, что власть эта, полномочия (mandat) — именно так перевел я sophos в статье, о которой идет у нас речь — возложенные на него этим благом, имеют характер крайне двусмысленный.
Далее следует отрывок, начинающийся с νόμους — παράρων и ел., знаменующий то, вокруг чего все дальнейшее действие пьесы выстроено. Ибо παρείρων означает здесь, безусловно, сочетая вкривь и вкось, сплетая вкривь и вкось, смешивая как попало законы. Χθονός — это земля, веем τ 'ένορκον οΊκαν — то, что сформулировано, сказано в законе. Именно к этому призываем мы анализируемого пациента, когда он молчит — мы не говорим ему: говорите, не говорим: высказывайтесь, или: рассказывайте, мы говорим: скажите! И этого-то как раз делать не следует. Δίκη играет здесь очень важную роль, как и то измерение, в котором существует она как высказывание — ведь она 'ένορκον, подтверждена данной богами клятвой.
Итак, перед нами два четко очерченных и друг от друга отграниченных измерения — с одной стороны, законы земли, с другой — повеления богов. Но их можно перепутать. Однако они суть вещи разного порядка, и если их смешивать, дело будет плохо. Настолько плохо, что даже хор, который, несмотря на постоянные колебания, все же старается придерживаться какой-то определенной линии, говорит — в любом случае, с этим человеком нам не по пути. Потому что упорствовать в этом направлении, собственно говоря, некрасиво, то μη καλόν — а вовсе не нехорошо, как это выражение, находя его слишком смелым, по обыкновению переводят. И хор не желает иметь этого человека в качестве παρίστιος, спутника или сидящего рядом у домашнего очага. Он не желает пребывать с ним в центральном поле, о котором мы говорим. Он предпочитает не поддерживать с ним близких отношений, и не разделять с ним ϊσον φρονών, его желания. От этого желания, желания другого, он свое собственное желание отделяет. Я не думаю, что совершаю натяжку, находя здесь отголоски некоторых из предложенных мною формул.
Действительно ли Креонт смешивает νόμους χθονός с Δίκη богов? Классическое истолкование ясно — Креонт является представителем законов страны и отождествляет эти законы с божественными установлениями. Но последнее не столь уж и очевидно, так как нельзя отрицать, что эти хтонические законы, эти законы земли, и есть то самое, на что опирается Антигона. Ведь именно ради своего брата, перешедшего — я неустанно это подчеркиваю — в подземный мир, во имя нерушимых хтонических связей, которые представляют собой узы крови, противостает она κήρυγμα, повелению Креонта. Это она, таким образом, оказывается на стороне божественной Δίκη. В любом случае, двусмысленность налицо. И этому мы сейчас найдем подтверждение.
Я уже показал вам, как хор, после осуждения Антигоны, упирает на то, что она ищет на себя Беду, Жё. Когда Электре, в похожей ситуации, говорят — Почему ты волнуешься, почему вечно переживаешь постигшую этот домЛ/и, почему упрямо стараешься напомнить Эгисфу и своей матери о роковом убийстве? Разве не ты сама навлекаешь тем самым на свою голову все следующие отсюда несчастья? — то слышат в ответ — Что ж, я согласна, но не могу иначе.
Как раз потому, что Антигона идет не только навстречу этой Atи, но и далее, έκτος aras, преодолевая ее порог, представляет она интерес для хора. Перед нами та — говорит он, — что желанием своим нарушила пределы Atи. Вот о чем говорят указанные мною стихи, в особенности те из них, что завершаются формулой ίκτός ατας, знаменующей переход за пределы Atи. Помните: Atи — это вовсе не αμαρτία, заблуждение или ошибка, перейти пределы ее вовсе не значит совершить глупость.
Когда в конце пьесы Креонт возвращается, неся что-то, как говорит нам хор, на руках, и оказывается, что это не что иное, как тело сына его, покончившего с собой, то хор, в стихах 1259–1260, замечает, что речь не идет, если можно так выразиться, о чужой ему вине, но о αυτός άμαρτων, плоде собственного его заблуждения. Вмешавшись в это дело, он совершил глупость — αμαρτία, заблуждение, оплошность.
Именно на таком понимании настаивает Аристотель, и он, на мой взгляд, неправ, ибо вовсе не это влечет трагического героя к гибели. Это верно лишь для Креонта, антигероя, героя второго плана, который действительно стал жертвой заблуждения, άμαρτων. В момент, когда Эвридика кончает с собой, вестник тоже произносит то же самое слово, άμαρτάνειν. Он надеется, слышим мы, что она не сделает глупости. И он, и корифей, естественно, стоят к происходящему спиной, так как до них не доносится никакого шума. Это дурной знак — говорит корифей. Смертельный плод, который принесло упрямство Креонта и его неразумные повеления — это мертвое тело сына у него на руках. Он был в заб-лужении, άμαρτων, он совершил ошибку. Речь не идет об αλλότρια ατη. Atи, которая коренится в Другом, в поле Другого, далека от Креонта. Но это как раз то место, где находится Антигона.
Итак, самое время перейти к Антигоне.
Является ли она, если верить классическому толкованию, служительницей священного порядка вещей, воплощающей в себе почитание всего живого? Или воплощением милости? Быть может, если слово милость понимать очень грубо. Так или иначе, от страсти до прославления Антигоне предстоит долгий путь.
Объясняя свой поступок Креонту, Антигона оправдывается простым это так, потому что это так, как бы предъявляя ему свою абсолютную индивидуальность. Во имя чего она это делает? А главное, на что опирается? Мне снова нужно обратиться к текстам.
Антигона ясно говорит — ты сам установил законы. И дальше смысл от переводчиков вновь ускользает. Буквально, Антигона говорит следующее — ибо ни в коем случае не Зевс был тем, кто возвестилмне об этом. Переводчики, естественно, понимают, что она имеет в виду — помните, я всегда говорил вам, что если вы хотите сказанное понять, важно не понимать его — и передают это в том духе, что, мол, вовсе не Зевс дал тебе право так говорить. Но говорит она вовсе не это. Она отвергает предположения о том, что совершить содеянное ей повелел Зевс. Но и Δίκ-η, спутница и союзница богов преисподней, к ее деянию причастна не больше. Она прямо отмежовывается от нее. Ты все путаешь как попало — говорит она Креонту. Возможно даже, что ты не прав, когда пытаешься Δίκη подобным образом избежать. Что до меня, то со всеми этими подземными божествами, установившими среди людей свои законы, я не имею никакого дела, ώρισαν, ορίζω, ορός — все это и есть как раз образ горизонта, предела. Речь идет не о чем ином, как о пределе, на котором она разбила свой лагерь и чувствует себя неприступной, пределе, где ничто не позволит смертному ύπ^ρδραμείν, преступить, νόμιμα, законы. Но это уже не законы как таковые, νόμος, а некая узаконенность, следующая из законов: αγραπτα — слово, переводимое обыкновенно как неписаные, так как именно это оно буквально и означает — законов божественного происхождения. Антигона ссылается здесь на что-то такое, что действительно относится к разряду законов, но не развернуто при этом ни в какой означающей цепочке, ни в чем вообще.
Речь идет о горизонте, заданном структурными отношениями: не существуя вне состоящего из слов языка, он демонстрирует то следствие из него, с которым ничего поделать нельзя. С момента, когда слова, язык и означающее вступают в игру, существует возможность, что будет сказано нечто звучащее приблизительно так — Мой брат может быть кем угодно, пусть он преступник, пусть он замыслил разрушить стены родного города и отдать его жителей в рабство, пусть он привел врага на родную землю, но он, как бы то ни было, есть то, что он есть, и речь идет о том, чтобы отдать ему погребальные почести. Он не равен, конечно, в правах другому брату, но сколько бы вы ни твердили мне, что один, мол, герой и друг своего народа, а другой его недруг, я отвечу вам, что мне нет дела до их достоинств перед земным судом. Порядок, который вы мне навязываете, я вменяю в ничто, ибо для меня, в любом случае, брат мой останется моим братом.
Вот парадокс, на котором мысль Гёте потерпела крушение. Мой брат — это мой брат — именно потому, что он есть то, что он есть, и кроме него быть им не может никто, и направляюсь я к роковому пределу. Окажись на его месте кто-то другой, то какие бы человеческие отношения меня с ним ни связывали, будь то муж мой, или один из моих детей, ему можно было бы найти замену, но этот брат, αθαπτος, с которым единит меня происхождение из одной материнской утробы — сама этимология слова άίκλφός на утробу, кстати сказать, указывает — и от одного отца — преступного отца, последствия преступления которого Антигона готова смыть — брат этот является единственным и незаменимым, и только это заставляет меня вашим повелениям противостать. Антигона, таким образом, не ссылается ни на какое право, кроме од-ного-единственного — того, что возникает в языке вследствие непреложного характера того, что есть — непреложного с того момента, когда возникшее означающее останавливает, фиксирует его в потоке любых мыслимых изменений. То что есть — есть, и именно здесь, на этой поверхности, занимает Антигона свою неприступную, несгибаемую позицию.
Все прочее она от себя отталкивает. Эта позиция у последней черты нигде не воплощена с такой полнотой, и все, что вокруг этого было сказано, суть лишь разные способы размыть, обойти молчанием абсолютную радикальность, с которой эта проблема в тексте поставлена.
Между прочим, есть в пьесе и осторожное упоминание того факта, что гробница представляет собой изобретение человека. С человеческим существом нельзя обращаться после смерти как с дохлым псом. Нельзя бросить его останки на произвол судьбы, забывая о том, что регистр бытия того, кто носил имя при жизни, должен быть сохранен актом погребения после смерти.
На это, безусловно, накладывается еще многое. Сгущаются тучи воображения и чувствуется незримое влияние призраков, собирающихся при приближении смерти. Но лежащее в глубине выходит на поверхность тогда, когда телу Полиника отказывают в погребении. Теперь, когда он отдан на растерзание псам и стервятникам, так что осквернены будут его земные останки и воссмердят к небу растерзанные его члены, мы ясно видим, что поведение Антигоны знаменует собой тот крайний рубеж, на котором оно — независимо от любых фактов, от того, что благого и дурного мог Полиник в жизни своей совершить, от всего, что могло быть ему вменено — стоит на страже уникальной ценности его бытия.
Суть этой ценности надо искать в языке. Вне языка о ней не могло бы быть речи, и бытие того, кто прожил свою жизнь, невозможно было бы отделить от добра и зла, совершенного им, от его судьбы, от последствий его поступков для окружающих, от его чувств по отношению к самому себе. И вот чистота эта, это отделение бытия в чистом виде от всех характеристик прожитой им исторической драмы и есть как раз тот рубеж, то ex nihilo, на котором твердо стоит Антигона. Это не что иное, как разрез, рана, которую наносит человеческой жизни само присутствие языка.
Разрез этот заявляет о себе постоянно тем, что во все, что в жизненном течении происходит, язык вносит определенное ритмическое членение, αυτόνομο? называет Антигону хор, говоря ей — ты идешь к смерти, не зная своего собственного закона. Антигона знает, на что она осуждена — она знает, что ей суждено, так сказать, сыграть партию, результат которой заведомо известен. Все это действительно обставлено Креонтом наподобие игры. Антигона приговорена к заключению в замурованную гробницу, где ей предстоит узнать, придут ли к ней на выручку подземные боги. Казнь представлена Креонтом как ордалия, испытание. Посмотрим — говорит он, — какую службу сослужит тебе верность твоя богам преисподней. Ты будешь получать пищу, которую получают обычно мертвые в качестве приношения, и мы поглядим, как долго ты на этом протянешь.
Вот здесь то и происходит в трагедии резкое изменение освещения. Знаменует его κομμός, жалоба, плач Антигоны и очень показательно, что некоторых комментаторов место это сильно смущает.
Когда начинается эта жалоба? А начинается она тогда, когда Антигона переступает порог той зоны между жизнью и смертью, где принимает действительный облик то, что она с самого начала о себе говорила. Ведь о пребывании своем в царстве смерти она говорила уже давно, но только теперь это и вправду сбылось. Казнь ее и состоит как раз в том, что она заключена в пограничную зону между жизнью и смертью. Не будучи еще мертвой, она вычеркнута из мира живых. Отсюда и жалобы ее, отсюда плач ее о собственной жизни.
Несмотря на то, что она заживо заточена в гробнице, Антигона долго плачется о том, что уходит άταφος, непогребенной, не имеющей местопребывания, не оплаканной ни одним другом. Ее исключение из мира живых переживается ею как сожаление, горькое расставание со всем тем, в чем было ей отказано в жизни. Упоминает она и о том, что не узнает брачной постели и уз Гименея, что не суждено ей иметь детей. Все это продолжается в пьесе довольно долго.
Кому-то может прийти в голову, поставить законность этой сцены трагедии под сомнение, поскольку она якобы нарушает цельность характера Антигоны, идет в разрез с ее холодностью и непреклонностью. Термин φυχρόν действительно указывает на фригидность и холощность. Морозом веет от таких объятий — так отзывается о ней Креонт в разговоре с сыном, в стихе 650, убеждая его, что он ничего не теряет, лишаясь ее. Противопоставляя характеру Антигоны исходящую от нее жалобу, некоторые комментаторы подчеркивают неправдоподобность ее, пытаясь снять с поэта ответственность за ее авторство.
Все это лишь безумная бессмыслица, ибо Антигона подступает к жизни, переживает ее и размышляет о ней лишь оттуда, из-за того рубежа, за которым жизнь для нее потеряна, где она уже непричастна ей — только оттуда способна она видеть жизнь, переживая ее в виде того, что для нее утрачено безвозвратно.
И именно оттуда является нам образ Антигоны в том виде, в котором он буквально заставляет хор, по его собственному признанию, потерять голову, обращает праведных в неправедных, вынуждает его, этот хор, самого перешагнуть все пределы и отбросить прочь уважение, которое питает он к законам полиса. Нет ничего трогательнее этого ίμερος εναργής, этого зримого желания, сияющего из-под век юной героини трагедии.
Это резкое освещение, это свечение красоты, совпадают с моментом преодоления, осуществления Антигоной ее Atи — они-то и составляют как раз ту черту, которой придал я такое первостепенное значение и которая открыла нам глаза на решающую роль, которую может проблема Антигоны сыграть в установлении функций определенного рода явлений. Именно посредством ее вступаем мы в определенные взаимоотношения с потусторонней центральной областью, но именно она явлется в то же самое время тем, что мешает нам разглядеть ее, этой области, подлинную природу, что ослепляет нас, заслоняя собой подлинную функцию этой области. Присущая красоте трогательность заставляет поколебаться любое критическое суждение, останавливает анализ, погружает многообразие форм в слепящий хаос.
Эффект красоты — это эффект ослепления. По ту ее сторону происходит нечто недоступное взору. Я мертва и я хочу смерти — с самого начала заявила о себе Антигона. С чем иным отождествляет себя Антигона, представляя себя обращающейся в камень Ниобой, как не с неодушевленной субстанцией, представляющей собой, по учению Фрейда, ту форму, в которой заявляет о себе инстинкт смерти? Иллюстрация инстинкта смерти — вот с чем имеем мы в данном случае дело.
В тот самый момент, когда Антигона вспоминает о Ниобе, корифей хора превозглашает ей похвалу. Тогда ты полубогиня — говорит он. — Это насмешка, ты глумишься надо мной — слышим мы от Антигоны, отнюдь не полубогини, в ответ. В стихе 840 раздается из уст ее слово υβρίζεις, о принципиальной связи которого с моментом перехода я вам уже говорил, — здесь оно как раз употребляется в собственной своей форме, точно совпадающей с термином, означающим преодоление, переход; оскорбление означает в данном случае отказ от неотъемлемого права человека не придавать происходящим бедам слишком большого значения — отказ, за которым следуют несчастья гораздо худшие, υβρίζεις — вот слово, которое бросает Антигона здесь в упрек хору. Вы не знаете сами, что говорите, вы оскорбляете меня — говорит она. Но фигура ее не теряет от этого в своих масштабах и сразу же за этими словами следует κομμός Антигоны, долгая ее жалоба.
Затем хор загадочным образом упоминает три не связянных между собой мифологических эпизода. Во-первых, историю о Данае, заключенной в чертог из меди. Во-вторых, Ликурга, сына Дриада, царя Эдонии, в безумии своем покаравшего служителей Диониса, подвергшего преследованию, угрозам и насилию женщин и выбросившего самого бога Диониса в море. Это первое упоминание дионисийского начала в трагедии. Во второй песне "Илиады" Дионис, которого мы видим мертвым, мстит Ликургу, поражая его безумием. Существуют разные изводы этого мифа. По одной версии — он был заточен, по другой — истребил собственных
362
сыновей, приняв их за отсохшие лозы винограда, по третьей — отсек собственные свои члены, но все это не имеет значения, поскольку в тексте трагедии упоминается лишь о мести бога Диониса. Третий, еще более загадочный эпизод — это история героя Финея, вокруг которого выросло множество легенд, исключительно противоречивых и с трудом согласующихся друг с другом. Так, известно изображение этого героя на кубке, где он является предметом столкновения между преследующими его Гарпиями и защищающими его Бореадами, дочерьми ветра Борея, в то время как вдали проносится, что интересно, свадебный кортеж Диониса и Ариадны.
Расшифровка упоминаемых здесь мифологических эпизодов, насколько таковая возможна, способна, разумеется, дать очень многое. Их видимая несогласованность и неуместность ложатся на плечи комментаторов тяжким бременем. Я не претендую на их разгадку, но именно для того, чтобы привлечь внимание моего друга Леви-Стросса к трудностям этого отрывка, пришлось мне недавно пробудить у него к этой трагедии интерес.
И все же есть в этой череде трагических эпизодов, упоминаемых хором в момент, когда Антигона находится на краю гибели, нечто такое, что может оказаться исполнено значения. Во всех случаях речь идет о взаимоотношениях смертных с богами. Да-ная заключена в гробницу в связи с любовью, которую питает к ней бог; Ликург терпит наказание за попытку учинить над богом насилие, а что касается Клеопатры, дочери Борея и отвергнутой спутницы Финея, то она тоже упоминается здесь в связи со своим происхождением от богов — недаром она носит прозвище щи-ππος, быстрая, как кони, и о ней говорится, что она скользит по твердому льду быстрее скаковых лошадей, то есть что она искусная конькобежка. Но и в кончине Антигоны поразительно как раз то, что она претерпевает несчастья, подобные тем, что выпали на долю всем, кто оказался замешан в жестокие игры богов. Видимая нами со стороны как άτράγωδόι, в центре анаморфического цилиндра трагедии она оборачивается жертвой. Но закланная, принесенная в жертву, она оказывается там вопреки своей воле.
Антигона предстает в трагедии как αυτόνομος, как чистое воплощение отношений человеческого существа с тем, носителем чего оно чудесным образом оказывается, с той означающей купюрой, надрезом, раной, что сообщает этому существу способность оставаться, вопреки всему, тем, что оно есть — способность, с которой ничего поделать нельзя.
В связи с этим действительно может быть упомянуто многое, и не случайно вспоминает хор в пятом акте о боге-спасителе.
Богом этим является Дионис — иначе зачем он здесь? Трудно представить себе что-нибудь менее дионисическое, нежели фигура Антигоны и ее поступок. Но дело в том, что Антигона идет до конца в осуществлении того, что можно назвать желанием в чистом виде, чистым и простым желанием смерти как таковой. Она его, это желание, собой воплощает.
Поразмыслите-ка над этим — что ее желание собой представляет? Не является ли оно желанием Другого, ответвлением желания ее матери? Именно желание матери, которое, кстати сказать, в тексте упоминается, является первоистоком всего. Из него произросло древо, давшее такие поразительные побеги, как Этеокл, Полиник, Антигона, Йемена, но оно, желание это, является в то же самое время преступным. Уже здесь, у самых истоков трагедии и гуманизма, возникает тупик, напоминающий тот, в котором оказался позднее Гамлет, но тупик, что удивительно, еще худший в своей безвыходности.
Кроме желания этого, с его радикально деструктивным характером, никакое иное опосредование немыслимо. Плодом этого кровосмесительного союза становятся два близнецах-брата, один из которых воплощает собой могущество власти, другой — преступление. И принять это преступление, действенность его, на себя, кроме как Антигоне, некому.
Оказавшись перед выбором между ними двумя, Антигона предпочитает стать чистой хранительницей самого бытия преступника. Конечно, все могло бы закончиться благополучно, пожелай община простить преступление, забыть о нем или оказать обоим братьям равные погребальные почести. И лишь в силу отказа сообщества пойти на это, приходится Антигоне принести свое собственное бытие в жертву ради того, главного, что воплощает в себе ее родовое Aie — вот тот главный мотив, тот подлинный стержень, вокруг которого действие трагедии разворачивается.
Антигона увековечивает это Atи, сообщает ему нетление и бессмертие.
8 июня I960 года.
Дополнение
Мне хотелось бы пояснить тот смысл, который имеет для меня подобный подход к изучению Антигоны.
Для многих из вас это могло показаться испытанием. Я неоднократно пользовался притчей о шляпе и кролике, говоря об известном способе извлекать из аналитического дискурса то, чего в нем нет, — я мог бы теперь сказать, что подвергаю вас испытанию, предлагая есть кроликов сырыми. Успокойтесь. Берите пример с удавов — подремлите немного и все уляжется. Когда вы проснетесь, окажется, что кое-что все-таки усвоено.
Именно таким образом, несколько жестким и неудобоваримым, конечно, вынуждающим вас продираться вместе со мной сквозь заросли текста, удастся вам вполне освоиться в сделанных мною выводах. Вы поймете задним числом, что даже если вы об этом не подозревали, образ Антигоны, в основе вашего мышления скрыто присутствующий, составляет, хотите вы того или нет, часть вашей морали. Вот почему так важно задаться вопросом о его смысле — подлинном, а не том, подслащенном, которым обыкновенно пользуются, чтобы преподнести урок нравственности.
Речь идет ни более, ни менее как о реинтерпретации того, что хотел нам сказать Софокл. Вы можете, разумеется, сопротивляться, не приемля предложенной мной для этого текста новой расстановки акцентов, но попробуйте снова перечитать Софокла, и пройденная нами дистанция станет для вас очевидна. Даже если выяснится, что в отдельных пунктах суждение мое было ошибочным — я не исключаю, что сам мог в каком-то случае погрешить против смысла, — мне удалось, я думаю, рассеять туман бессмысленности, который нагнетался вокруг Софокла стараниями определенной традиции.
Во время беседы с некоторыми из вас, возражавшими мне, ссылаясь на впечатления от чтения Эдипа в Колоне — впечатления, явно сложившиеся под влиянием школьной традиции, — я вспомнил одно виденное мною некогда постраничное примечание. Здесь есть, я знаю, любители постраничных примечаний. Я зачитаю вам одно из таких примечаний. Оно взято из книги, которую каждому аналитику хотя бы раз в жизни стоит прочесть — я имею в виду Psyche Эрвина Роде, существующую в прекрасном французском переводе.
В целом, о том, что оставило нам в наследство греческая цивилизация, вы узнаете из этой книги больше, и вещи более достоверные, чем из любой отечественной работы на эту тему. Самый остроумный народ на земле не всегда оказывается на высоте. Мало того, что наш отечественнный романтизм не поднялся выше уровня глупостей определенного рода — эрудиция наша тоже кое-где подкачала.
На странице 46 3 работы Эрвина Роде мы находим небольшое примечание по поводу Эдипа в Колоне, о котором я вам уже говорил, причем говорил в выражениях вполне соответствующих по своему духу тем мыслям, которые я развиваю теперь.
Достаточно непредвзято прочитать эту пьесу — говорит он — чтобы понять, что этот безжалостный, разнузданный, раздраженный старик, призывающий на головы своих детей ужасные проклятья — это так и есть, ибо за двадцать минут до окончания пьесы Эдип еще подолжает осыпать Полиника проклятьями — и заранее радующийся, как человек, охваченный жаждой мести, несчастьям, которые обрушатся на его родной город, всецело чужд тому глубокому божественному умиротворению, тому покаянному преображению, которые традиционная экзегеза в нем самодовольно усматривает. Поэт, не привыкший закрываъ глаза на жизненную действительность, ясно понимал, что несчастья и невзгоды не столько преображают человека, сколько подавляют его, лишают его врожденного благородства. Его Эдип благочестив. Он был таким с самого начала Царя-Эдипа, но от горя он одичал.
Вот свидетельство читателя, не занимавшегося проблемами трагедии специально, поскольку работа носит исторический характер и посвящена исследованию представлений греков о душе.
Что касается нас, то я пытаюсь показать вам, что уже в эпоху, предшествующую этическим построениям Сократа, Платона и Аристотеля, Софокл, демонстрируя человека, задается вопросом о его одиночестве и помещает героя в зону, где смерть вторгается во владения жизни, где человек встречается лицом к лицу с тем, что я назвал второй смертью. Эта встреча с бытием отодвигает все, что имеет отношение к трансформации, к циклу порождения и разложения, к истории даже, на второй план и переносит нас на уровень куда более радикальный, ибо напрямую связанный с языком.
Выражая все это в терминах Леви-Стросса — а я уверен, что упоминаю его здесь с полным правом, так как прочитав, по моему настоянию, Антигону, он выражался в разговоре со мной в этих самых терминах — Антигона противостоит Креонту как синхрония — диахронии.
Я не сказал вам и половины того, что по поводу этого текста хотел сказать. Исчерпать его в этом году, хотя бы по недостатку времени, у нас нет возможности, но ясно уже, что вопрос о том, что я назвал бы использованием Антигоны в божественном плане, наконец поставлен.
Говоря об этом, можно призвать на помощь много сопоставлений. Антигона, висящая в гробнице, наводит не только на мысль о самоубийстве — ведь существует множество мифов о повесившихся юных девушках. Такова, например, история Эригоны, связанная с установлением культа Диониса. Отец ее, которому Дионисий принес в дар вино, не умея правильно им воспользоваться, овладел ею, и когда он умер, дочь повесилась на его могиле. Миф этот служит объяснением целого ритуала, в котором возникают более или менее упрощенные, символические по характеру своему образы висящих на деревьях девушек. Существует, короче говоря, ритуальный и мифический задний план, готовый вернуться, чтобы внести в то, что предлагается нам на сцене, ноту религиозной гармонии. И все же в софокловской перспективе герой не испытывает в этом божественном плане ни малейшей нужды. Антигона — это существо, уже выбравшее дорогу к смерти. Призыв к богам, паразитирующий на этом стебле, ничего не меняет в брошенном человеком вызове.
На этом я сегодня остановлюсь. Теперь, когда с тем, что я должен был сказать вам о катарсисе, мы покончили, речь идет о явлении прекрасного. Явление прекрасного возникает как результат отношения героя к определенному пределу, заданному в данном случае некоей Atи. И здесь мне хотелось бы, чтобы семинар наш оправдывал свое название, передать слово одному из участников. Я не собираюсь, на самом деле, строить из себя эдакого самородка, взвалившего на себя задачу свести воедино все, самые разнородные, зоны того, что традиционная ученость нам на сей предмет завещала.
Существует, кстати сказать, зона в вашей среде — зона, в которой каждый из вас в какой-то момент своих размышлений находится, — где всему, что я говорю, оказывается сопротивление, принимающее форму благожелательных, хотя всегда более или менее двусмысленных отзывов по поводу широты моей так называемой эрудиции или, как еще говорят, культуры. Мне это совсем не по вкусу. Есть у таких похвал и обратная сторона — люди спрашивают себя, откуда он всего этого мог набраться. Вы забываете, что в земном существовании у меня перед вами немало лет форы. И хотя я не английская лужайка, которую стригут двести лет, но все же приближаюсь к этому состоянию — в любом случае, я ближе к нему, чем вы, и у меня было время не раз забыть то, о чем я вам рассказываю.
В том, что касается красоты, сегодня мне хотелось бы уступить слово человеку, который показался мне наиболее компетентным в отношении той области, того узлового момента, который представляется мне для дальнейшего развития моих мыслей наиболее важным — я имею в виду определение прекрасного и возвышенного в том виде, в котором оно было предложено Кантом.
Мы находим у Канта способ категориального анализа, во многом идущий навстречу моим собственным топологическим построениям. Сейчас самое время, мне кажется, напомнить о прозрениях Канта тем, кому случалось Критику способности суждения открывать, и изложить их для тех, кто сделать этого не успел. С этой целью я и предоставляю слово г-ну Кауфману.
В дальнейшем вы увидите, какую пользу сумеем мы извлечь из доклада, который он предложит сегодня вашему вниманию. [Следует доклад г-га Кауфмана].
Вы правы, конечно, когда утверждаете, что за опытом возвышенного стоит исчисление бесконечно малых. Надо отметить, что во времена Канта исчисление бесконечно малых еще скрывало в себе некую тайну означающего — тайну, от которой не осталось впоследствии ни следа.
Отрывок из Канта, который вы процитировали, написанный в 1764 году, обязательно стоит показать Леви-Строссу, потому что речь, произнесенная им при занятии кафедры в Коллеж де Франс целиком предзнаменована в нем — не то чтобы она вся содержалась в этом отрывкее, нет, но предвосхищение здесь достигает точности, которой у Руссо нигде не найти. По сути, Кант закладывает здесь основы этики этнографии.
Проделанная Вами работа дала нашей аудитории, разнородной по своему составу, представление о структурах, вокруг которых Кант одновременно выстраивает и разбирает идею прекрасного. На заднем плане его построений просматривается идея удовольствия у Аристотеля — замечательное определение удовольствия из его Риторики стоило бы здесь процитировать.
Сказанное послужит нам поворотным пунктом, откуда мы, как это в рассмотрении традиционных философских предметов и водится, вернемся к вопросу о воздействии трагедии на то самое место, где мы этот вопрос оставили. И хотя нам и кажется, что без ссылки на Аристотеля никак в таких случаях не обойтись, воздействие это представлением о моральном катарсисе далеко не исчерпывается.
15 июня I960 года.
Трагическое измерение психоаналитического опыта
XXII Требование счастья и обещания психоанализа
Желание и Страшный Суд Вторая смерть. Апология башмаков. Аид и Дионис. Желание аналитика.
Доклад "Направление лечения", сделанный мною в Руаомоне два года назад, должен появиться в ближайшем номере нашего журнала. Написан этот текст наскоро, поскольку работать над ним мне пришлось в промежутке между двумя занятиями нашего семинара. Я оставлю ему эту импровизированную форму, попытавшись, однако, дополнить и подправить некоторые из содержащихся там положений.
Я уже говорил где-то, что если аналитик хочет выполнять свои функции, ему приходится чем-то за это расплачиваться.
Расплачивается он словами — теми интерпретациями, которые он дает. Расплачивается личностью, которой в результате переноса в буквальном смысле лишается. Все современное развитие анализа ведет к забвению этого, но что бы сам аналитик на эту тему ни думал, и как бы в панике к так называемому theCounter-Transferenceни прибегал, через это ему все равно придется пройти. Тому, в отношении к которому взяты им на себя определенные обязательства, соприсутствует не только он.
Наконец, он расплачивается суждением, которое о своих действиях составляет. Это минимальное требование. Анализ — это суждение. Но оно ведь требуется везде, и если здесь это требование кажется столь скандальным, тому должна, по-видимому, быть причина. Состоит же эта причина в том, что психоаналитик в высшей степени сознает, что он не может знать, что он в ходе психоанализа делает. В его действиях есть сторона, которая от него самого остается скрытой.
Именно это обстоятельство и оправдывает тот путь, который проделали мы с вами в этом году — точнее, который я предложил вам проделать вместе со мной, — путь, на котором нам предстоит узнать, какие общие этические выводы следуют из открытого Фрейдом отношения к бессознательному.
Отклонение, которое, я признаю, нам пришлось сделать, имело в виду познакомить вас ближе с нашей этикой, этикой аналитиков. Прежде чем подвести вас непосредственно к практике и техническим проблемам анализа, необходимо было кое о чем напомнить. При нынешнем положении вещей без подобных напоминаний эти проблемы не разрешить.
Во-первых, разве то, чего от нас требуют, это окончание анализа? То, чего от нас требуют, называется одним простым словом — счастье. Я не говорю этим ничего нового — требование счастья, happiness, как называют это англоязычные авторы, вот о чем идет речь.
В своем докладе — о котором я только что упоминал и письменная редакция которого показалась мне теперь, когда ее надо публиковать, чересчур афористичной, так что придется, наверное, добавить туда сегодня немного воды, — в докладе своем, повторяю, я упоминаю об этом факте, не пускаясь в дальнейшие объяснения. Дело не облегчается тем, что пресловутое счастье стало фактором политическим. Я не стану развивать эту тему, но именно это обстоятельство побудило меня закончить свой доклад "Психоанализ и диалектика" — доклад, завершивший определенный период моей работы, когда я был связан с группой, с которой в дальнейшем расстался — следующими словами: Никто не может быть удовлетворен, пока неудовлетворены все.
Поставив в центр анализа диалектику, мы обнаружили, что цель наша отодвинулась в бесконечную даль. Не вина анализа в том, что вопрос о счастье не может в наши дни быть поставлен иначе. Это верно в той мере, в которой счастье стало, как говорил Сен-Жюст, делом политики. В силу вхождения счастья в политику, аристотелевское решение вопроса о счастье для нас уже невозможно и предварительный этап на пути к нему лежит на уровне удовлетворения потребностей всех людей. В то время как Аристотель, предлагая господину благ«, разборчиво указывает ему, какие именно достойны его внимания, как, скажем, созерцание, для нас диалектика господина обесценена, как я утверждаю, историческими факторами — факторами, которые действуют в текущий исторический момент и находят свое политическое выражение в формуле, о которой я говорил — никто не может быть удовлетворен, пока не удовлетворены все.
Именно в этом тексте появляется психоанализ — хотя чем обусловлено появление его именно в этом контексте мы, честно говоря, не знаем — и, появившись, заявляет о готовности своей — это факт — требование счастья выполнить.
Сказанное мною в этом году состояло в том, чтобы показать вам, выбирая выражения наиболее выпуклые, проделанный, скажем, со времен Аристотеля, путь и дать вам почувствовать, в какой степени по-другому мы смотрим теперь на вещи, насколько далеки мы в науке счастья от каких бы то ни было готовых формул.
У Аристотеля есть своего рода наука счастья. Он показывает дорогу, по которой готов вести каждого, кто готов войти в его проблематику и осуществлять функцию добродетели в каждой из сторон своей деятельности. Стяжается эта добродетель посредством μ.€σότης, что представляет собой не просто золотую середину, избежание крайностей, а принцип, позволяющий человеку выбрать для себя то, что позволит ему разумно осуществить себя в свойственном ему благе.
В психоанализе, обратите внимание, ничего подобного нет. Мы якобы способны, используя способы, которые любому слушателю Ликея покажутся невероятными, позволить субъекту занять такую позицию, в которой все вещи, таинственным и почти чудесным образом, оказываются ему во благо, то есть если он видит их хорошую сторону. Один Бог свидетель тому, какие глубины невежества таятся в обещаниях добиться восстановления гени-тальных отношений в своих правах или же, как неосторожно добавляют к этому, согласия с реальностью.
Единственное, что содержит в себе намек на возможность стремление благополучно удовлетворить — это понятие сублимации. Если обратиться к наиболее экзотерической формулировке Фрейда, то представляя сублимацию как нечто такое, что реализуется преимущественно в деятельности художника, он ее таким образом сводит, по сути дела, к возможности сделать свои желания разновидностью коммерческой деятельности, пуская их на продажу в форме продукта. Хотя откровенность, даже цинизм, подобной формулировки делают ее в моих глазах необычайно ценной, сути вопроса она не исчерпывает — мы по-прежнему не понимаем, как такое возможно.
Другая формулировка состоит в утверждении, что сублимация — это удовлетворение стремления путем смены объекта, то есть без вытеснения, — формулировка более глубокая, но порождающая, как мне кажется, проблематику, которая могла бы оказаться весьма щекотливой, если бы то, чему я вас учу, не позволяло разглядеть, где, в действительности, спрятан кролик.
На самом деле, тот кролик, которого надо извлечь из шляпы, находится уже там, в самом стремлении. И кролик в данном случае — это не новый объект, это смена объекта сама по себе. Стремление позволяет сменить объект лишь постольку, поскольку оно само помечено глубокой печатью артикуляции означающего. В предложенном мною графе желания стремление расположено на уровне бессознательной артикуляции означающего ряда и по этой причине конституируется как принципиальное отчуждение. И наоборот, в силу этой же самой причины каждое из означающих, составляющих этот типичный ряд, связано общим для них фактором.
В определении сублимации как удовлетворения без вытеснения предполагается, имплицитно или эксплицитно, переход от незнания к знанию, признание того, что желание представляет собой не что иное, как метонимию дискурса требования. Это само изменение как таковое. Я еще раз подчеркиваю: метонимическая связь одного означающего с другим, которую мы называем желанием, это не новый объект и не объект прошлый, это смена объекта как таковая.
Чтобы образно пояснить вам, что я под сублимацией имею в виду, приведу пример, который пришел мне в голову, когда я готовился к сегодняшнему занятию. Подумаем о том, как происходит переход от, скажем, глагола к тому, что именуется в грамматике его дополнением или, в грамматике более философской, детерминативом. Возьмем глагол, в эволюции фаз стремления наиболее радикальный, — глагол есть (manger). Есть, что поесть. Именно так во многих языках прежде всего предлагается глагол, и уже после определяется, о чем идет речь. Вторичный характер субъекта бросается здесь в глаза, так как в том, что у нас есть поесть, субъекта нет вовсе.
Есть, что съесть — но что же это? Конечно, книга.
О чем он, этот впечатляющий образ, который находим мы в Апокалипсисе, нам говорит? Да о том, что книга в нем воплощает собой усвоение, телесное усвоение означающего, становится носителем подлинно апокалиптического творения. Означающее становится в данном случае Богом, само будучи объектом телесного усвоения.
Решившись высказать идею о не оплаченном вытеснением удовлетворении, мы ставим тем самым в центр внимания, выдвигаем на первый план главную тему — а что такое желание? На этот счет я не могу не напомнить то, что я в свое время уже высказывал — говорить об осуществлении своего желания можно только в перспективе абсолютного условия. Поскольку требование всегда существует одновременно по ту и по эту сторону себя самого, поскольку оно, будучи артикулировано означающими, всегда требует чего-то другого, поскольку в процессе удовлетворения любой потребности ей всегда нужно что-то другое, поскольку само удовлетворение, будучи сформулировано, растягивается, располагаясь в заданных этим зиянием рамках, желание формируется в качестве чего-то такого, что служит этой метонимии опорой; как то, что сказывается в требовании по ту сторону того, что в нем сформулировано. Вот почему вопрос об осуществлении желания нельзя поставить иначе, как в перспективе Страшного Суда.
Попробуйте спросить себя, что слова осуществить свое желание могут значить, кроме как осуществить его, если можно так выразиться, в конце концов? Именно это вторжение смерти в область жизни и сообщает свою динамику любому вопросу, который у нас на предмет осуществления желания возникает. Сказанное сейчас можно проиллюстрировать следующим образом: если вопрос о желании поставить исходя из абсолютистской точки зрения Пар-менида, которая, как известно, все, что не есть бытие, исключает, то ответ наш прозвучит так — нет ничего из того, что не родилось на свет, и все существующее живет лишь нехваткою бытия.
Имеет ли жизнь что-то общее со смертью? Можно ли утверждать, что отношение к смерти напрягает, подобно тетиве лука, синусоиду подъема жизни и ее упадка? Право задаться этим вопросом нам дает хотя бы лишь то, что его счел возможным поставить, исходя из своего опыта, уже Фрейд, и все говорит о том, что опыт наш действительно позволяет эффективно его поставить.
Речь здесь идет, однако, не о смерти в обычном смысле этого снова, а о второй смерти, к которой, как показал я конкретно на тексте Сада, можно стремиться после того, как первая совершилась. В конце концов, человеческая традиция никогда не прекращала поддерживать представление об этой, второй, смерти, видя в ней конец страданиям; равно как в ней всегда жило представление о втором страдании, страдании после смерти, увековеченном невозможностью перешагнуть порог смерти второй. Вот почему традиционная идея ада оказалась такой живучей и присутствует даже у Сада в его фантазиях о бесконечном продлении мучений жертвы. Эта изобретательная фантазия приписана им одному из героев его романа, садисту, желающему убедиться в том, что жертву, спроваженную им из жизни, ждет вечное проклятие на том свете.
Поэтому, какое бы развитие метапсихологическая фантазия Фрейда, именуемая инстинктам смерти, в дальнейшем ни получила, имеет она под собой какие-то основания, или нет, вопрос, уже потому, что он фактически был поставлен, формулируется таким образом — как человек, то есть живое существо, может прийти к тому, чтобы об этом инстинкте смерти, то есть о своем подлинном отношении к смерти, узнать?
Ответ — в силу самого означающего, причем в его наиболее радикальной форме. Именно в означающем, именно артикулируя означающий ряд, субъект осязательно убеждается, что в ряду означающих того, что он есть, он может утратить себя самого.
На самом деле, это просто как дважды два. Не соглашаться с этим, не ставить эту формулировку не-знания как динамической ценности во главу угла, не признавать, что открытие бессознательного буквально здесь, в форме этого последнего слова, и фигурирует, — означает для аналитиков не понимать, что, собственно, они делают. Забвение этого фундаментального принципа и оборачивается как раз в аналитической теории настоящим потопом — льет словно кто поливает, как говорят в Шаранте — тропическим изобилием ссылок, невольно поражающих ощущением полной дезориентации, которым они пронизаны.
Разумеется, я прочитал, хотя и наскоро, вышедший недавно перевод последней работы Берглера. То, что он пишет, остроумно и не лишено интереса, но все в целом создает впечатление бредовой неразберихи понятий, над которыми полностью утрачен контроль.
Я хотел показать вам, что функция означающего в открытии для субъекта собственного отношения к смерти может быть продемонстрирована более осязательным образом, нежели в косвенной ссылке. Вот почему в ходе наших последних встреч я попытался преподнести ее вам в терминах эстетических, то есть в терминах чувственности, в форме прекрасного, поскольку роль прекрасного и состоит как раз в том, чтобы указывать нам то место, где открывается человеку его отношение к смерти — указывать, ослепляя.
В прошлый раз я попросил г-на Кауфмана напомнить те термины, в которых на заре нынешнего этапа в понимании человеком счастья Кант счел нужным определить отношения человека с прекрасным, после чего некоторые из вас жаловались, что выводы не были пояснены живыми примерами. Что ж, я попробую сейчас вам один такой пример привести.
Вспомните четыре аспекта красоты, о которых вам говорил докладчик. Я попытаюсь вам их постепенно проиллюстрировать. И первой ступенью послужит мне факт, заимствованный из собственного, самого что ни на есть повседневного опыта.
Опыт у меня невелик и я часто говорю себе, что у меня, пожалуй, нет к приобретению опыта подобающего для этого вкуса — вещи отнюдь не всегда действительно занимают меня. Но для того, чтобы образно представить то межеумное состояние, о котором я вам пытаюсь дать представление, кое-что у меня в запасе найдется.
Если глупость к числу моих достоинств не принадлежит, то кичиться этим я, в отличие от господина Теста, не собираюсь.
Итак, то, что я вам сейчас расскажу, это просто случай из повседневной жизни.
Мне случилось однажды быть в Лондоне, куда я был приглашен Институтом, занятым популяризацией за рубежом французской культуры. Поселили меня в своего рода, как они говорят, Ноте, расположенном в одном из очаровательных кварталов на окраине Лондона. Был конец октября, когда нередко еще стоит ясная погода. Маленькое, по-викториански комфортное здание дышало гостеприимством. Чудесный запах поджаренных тостов и крохотные порции несъедобных желе, которыми принято питаться на этом острове, придавали дому его особую атмосферу.
Я был там не один, со мной была спутница, пожелавшая меня в жизни сопровождать и отличавшаяся исключительным вниманием к неповторимому и уникальному. Утром спутница эта, моя супруга, неожиданно объявляет мне, что в гостинице остановился профессор Д", который когда-то был моим преподавателем в школе восточных языков. Час был очень ранний. Откуда вы знаете? — поинтересовался я, так как близким другом семьи профессор Д*, надо сказать, отнюдь не был. Я видела его обувь — ответила моя спутница.
Должен признаться что ответ этот вызвал у меня некоторый трепет, а также тень сомнения — индивидуальные черты оставленных у дверей башмаков не казались мне свидетельством достаточно убедительным, притом что никаких причин прибыть в Лондон у профессора Д*, насколько я знал, не было. Слова моей спутницы показались мне, скорее, забавными, и я не придал им никакого значения.
Я уже шел, забыв об этом разговоре, по коридору, когда увидел, в халате, из под которого виднелись при ходьбе длинные приличествующие преподавателю университета кальсоны — кого бы вы думали? Профессора Д* собственной персоной, выходящего, как ни в чем ни бывало, из своей комнаты.
Случай этот кажется мне весьма поучительным — именно с его помощью попытаюсь я пояснить вам, что представляет собой прекрасное.
Потребовалось ни больше, ни меньше, как событие, в котором оказались тесно сопряжены между собой универсальность свойственных профессорским башмакам черт с абсолютной уникальностью личности профессора Д*, чтобы перенестись мысленно к старым башмакам Ван-Гога — тем самым, что послужили для Хай-деггера замечательным образом того, что представляет собой произведение искусства.
Представьте себе вновь башмаки профессора Д", но уже ohne Begriff, не связывая их ни с вашим представлением об университетском преподавателе, ни с замечательным обликом самого профессора, и вы сразу увидите башмаки Ван-Гога в ином, несравненном качестве — в качестве прекрасного.
Вот они, здесь, эти башмаки, и они подают нам понимающий знак, знак, лежащий ровно на полпути между силой воображения, с одной стороны, и властью означающего, с другой. Означающее это не является уже здесь означающим долгой дороги, усталости, человеческой страсти и теплоты и чего бы то ни было еще в этом роде; оно остается означающим лишь того, что означает пара брошенных башмаков, то есть одновременно присутствия и отсутствия в чистом виде — перед нами вещь, так сказать, инертная, предназначенная для всех, но вещь, несмотря на всю свою немоту, говорящая, отпечаток чего-то органического, и в тоже время отброс, наводящий на мысль о новом, спонтанном зарождении жизни. То, что, словно по волшебству, превращает эти башмаки в своего рода аналог и оборотную сторону пары набухающих почек, показывает, что мы имеем здесь дело не с подражанием — что многих, писавших об этих башмаках авторов сбило с толку, — а с фиксированием на полотне чего-то такого, благодаря чему башмаки эти, будучи поставлены в определенные отношения со временем, стали зримым явлением прекрасного.
Если пример этот не кажется вам убедительным, поищите других. Дело в том, чтобы показать вам, что прекрасное не имеет ничего общего с тем, что называют идеалом прекрасного. И только разглядев красоту в моментальности перехода от жизни к смерти, можем мы попытаться восстановить красоту действительно идеальную, то есть ту функцию, которую может в определенных случаях взять на себя то, что предстает нам как идеал красоты, и в первую очередь, пресловутая форма человеческого тела.
Читая "Лаокоон" Лессинга — книгу поистине бесценную и богатую разного рода предчувствиями — вы увидите, что понятие о достоинстве изображаемого объекта он отвергает уже с порога. Впрочем, слава Богу, нельзя сказать, что от пресловутого представления о достоинстве объекта отказались в ходе исторического развития, так как, судя по всему, оно было отброшено с самого начала. Художественная деятельность греков не ограничивалась изображением божеств и, если верить Аристофану, они платили большие деньги за картины, на которых были написаны, скажем, луковицы. Так что вовсе не голландские художники первыми обратили внимание на то, что любой объект может стать означающим, способным породить тот дрожащий отблеск, тот мираж, то нестерпимое порою сияние, что мы именуем прекрасным.
Коль скоро я упомянул о голландцах, давайте вспомним о натюрморте. Вы обнаружите в них, но проделанный уже в обратном направлении, тот же переход, который совершили на наших глазах набухающие, как почки, старые башмаки. Как замечательно показал в своем очерке, посвященном голландской живописи, Клодель, натюрморт одновременно показывает и скрывает таящуюся в предметах угрозу распада, разложения, дезинтеграции, и именно поэтому прекрасное предстает в нем функцией временных отношений.
Далее нужно отметить, что вопрос о прекрасном, поскольку он касается понятия идеала, не может заявленному уровню соответствовать, не совершив своего рода перехода к пределу. Уже во времена Канта в качестве предела возможной красоты, в качестве ideale Erscheinung, преподносилась нам форма человеческого тела. Форма эта была — теперь это уже не так — формой божественной. Именно в нее облекаются всевозможные фантазии человеческого желания. Цветы желания находятся именно в этой вазе — вазе, очертания которой мы и пытаемся зафиксировать.
Это как раз и позволяет нам рассматривать тело — точнее, образ тела, в том виде, в котором я уже рассматривал его здесь, говоря о функции нарциссизма, — как то самое, что в отношении человека ко второй смерти выступает как означающее его желания, как желание, принявшее зримую форму.
ίμερος εναργής — вот он, тот центральный мираж, который, указывая местонахождение желания как желания ничто, как отношение человека к нехватке собственного бытия, не позволяет в то же самое время его увидеть.
Теперь мы можем этот вопрос продублировать. Неужто это та самая тень, которая предстает в форме тела, тот самый образ, что преграждает нам путь к Другому, лежащему по ту сторону?
Потустороннее не сводится к отношениям со второй смертью, то есть с человеком как существом, которого сам язык вынуждает отдать себе отчет в том, что его, человека, нет. Налицо еще либидо — то, что на краткий миг увлекает нас по ту сторону этого противостояния, заставляет забыть его. И Фрейд был первым, кто смело и решительно заявил, что единственный момент наслаждения, который человек знает, имеет место там, где возникают фантаз-мы — фантазмы, представляющие собой все туже преграду на пути к наслаждению, преграду, у которой все оказывается забыто.
Я хотел бы ввести здесь, параллельно функции прекрасного, еще одну, о которой не раз уже напоминал здесь, не заостряя на ней специально внимание, хотя рассмотреть ее, мне кажется, очень важно — функцию, которую мы назовем, если вы не возражаете, Α'ώώς, функцию стыда. Игнорирование этой преграды, препятствующей непосредственному восприятию того, что стоит в центре сексуального союза, является, по-моему, источником множества самых разных неразрешимых вопросов, касающихся, в частности, женской сексуальности, предмета, стоящего в современных исследованиях на повестке дня, хотя сам я не имею к этому ни малейшего отношения.
Последняя сцена Антигоны заслоняет собой кровавую картину жертвоприношения в виде мистического самоубийства ее героини. Все говорит о том, что происшедшее в гробнице было совершено ею в приступе μανία, в состоянии, подобном тому, в котором погибли Аякс и Геракл — кончину Эдипа я оставляю здесь в стороне.
Я не нашел к этому месту лучшего пояснения, чем гераклитов-ские афоризмы, сохранением которых мы обязаны обличительному пылу Св. Климента Александрийского, видевшего в них свидетельство омерзительных деяний, которые творили язычники. До нас дошел небольшой отрывок, который гласит следующее: et μη γαρ Διονύσω πομπήν ίττοίοϋντο και υμνζον άσμα, не твори они шествие в честь Диониса и не распевай гимны — и дальше начинается двусмысленность: άιδοίοισιν αναιδέστατα εϊργαστ' αν, что бы они делали, как не воздавали срамные почести тому, что постыдно. И — продолжает Гераклит — Аид и Дионис одно, поскольку и тот и другой μαίνονται, беснуются и ведут себя подобно гиенам — речь идет о вакхических процессиях, связанных с проявлениями различных форм транса.
Гераклит, как вы знаете, не сочувствовал крайностям в проявлении религиозности и к экстазу относился настороженно, хотя с настороженностью христианской или рационалистической отношение это не имело ничего общего. А тут он неожиданно подводит нас к мысли, что без памяти об Аиде и проявлений экстаза процессия была бы всего лишь постыдным фаллическим действом, способным вызвать лишь отвращение.
Верность этого перевода вызывает, однако, сомнения. Ведь здесь явно налицо игра слов между άιδοίοισιν αναιδέστατα и "Αι8ης, что означает также невидимый. Слово αιδοία означает, наряду со срамными частями, предмет уважения и почитания. Говорится во фразе и о песнопениях. То есть, в конечном счете, воспевая похвалы Дионису, сектанты не ведают, что творят, ибо разве Аид и Дионис не одно и то же?
Здесь-то как раз и возникает проблема, которая касается и нас тоже. Принадлежат ли фантазм фаллоса и красота образа одному и тому же уровню? Или, напротив, есть между ними незаметное различие, неустранимая дистанция? Вся фрейдовская затея нашла здесь свой камень преткновения. В конце одной из последних своих статей, Анализ конечный и бесконечный, Фрейд говорит нам, что устремления пациента наталкиваются, в конечном итоге, на непреодолимую ностальгию, вызванную тем фактом, что фаллосом он никогда быть не сможет, а обладать им, не будучи им сам, сможет лишь при условии Penisneid, для женщины, и кастрации, для мужчины.
Вот о чем надлежит помнить аналитику, отвечая пациенту, который требует от него счастья. Вопрос о Верховном Благе завещан человеку от предков, но для аналитика этот вопрос закрыт. Мало того, что Верховного Блага, которого от него требуют, у него нет, он точно знает, что такого блага просто не существует. Довести анализ до конца и означает как раз дойти до того порога, где вся проблематика желания как раз и возникает.
Что эта проблематика имеет для любой самореализации решающее значение, доказал впервые именно психоанализ. На пути вдоль этой линии тяготения субъект встретит, разумеется, немало благ, все блага, которые он в силах себе доставить, но не будем забывать одну прекрасно нам известную вещь, о которой мы ясно говорим каждый день — он встретит их лишь устраняя ежеминутно свою волю от ложных благ, лишь исчерпав до конца не только тщету своих требований, которые всегда оказываются на поверку анализом требованиями регрессивными, но и тщету того, что дарует другим сам.
Психоанализ связывает обычно осуществление счастья с половым актом. Но отсюда следует сделать выводы. Конечно, в акте этом на мгновение достигается нечто такое, благодаря чему одно существо занимает для другого место — одновременно живое и мертвое — самой Вещи. В этом акте он может, на один краткий миг, симулировать в своей плоти достижение состояния, когда его нет нигде. Но будучи центром человеческой жизни, ее средоточием, возможность эта не может, однако, рассматриваться иначе, как нечто единовременное, пунктирное.
То, что субъект завоевывает в анализе, не сводится к открытой возможности такого, пусть многократного, достижения, нет — он обнаруживает в процессе переноса нечто такое, что придает всему живущему его форму, он подсчитывает, так сказать, голоса, которыми был принят руководящий его жизнью закон. Познание этого закона означает, прежде всего, принятие чего-то такого, что начало артикулироваться в предшествующих ему поколениях и представляет собой, собственно говоря, его Atи. Не достигая всегда трагических высот Atи Антигоны, она всегда, тем не менее, чревато несчастьем.
В отличие от любовного партнера, аналитик может дать то, что самый прекрасный в мире супруг дать не способен — он может дать то, что имеет сам. А имеет он не что иное, как свое желание — как, собственно, и анализируемый субъект, только у аналитика это желание искушенное.
Что, собственно, такое желание, желание аналитика, может собой представлять? Мы способны, по крайней мере, сказать, что оно собой представлять не может. Оно не может желать невозможного.
В качестве примера я приведу вам определение, чрезвычайно сжатое, которое один автор успел, прежде чем уйти из жизни, дать функции, которая во взаимоотношениях внутри пара аналитик-пациент — взаимоотношениях, которые хотя и существуют (постольку, поскольку мы отвечаем на требование счастья), но суть анализа далеко не исчерпывают, — казалась ему наиболее важной. Функция эта, так называемая функция дистанции, определяется им следующим образом: это расстояние, отделяющее способ, которым субъект выражает свои инстинктуальные drives, от способа, которым он мог бы их выразить, если бы не вмешивался в дело процесс подбора средств выражения, их упорядочения.
После всего, чему я вас научил, легко почувствовать, насколько подобная формулировка ошибочна, насколько легко она заводит в тупик. Если стремление субъекта является следствием наложенного на его потребности означающим отпечатка, трансформацией этих потребностей под влиянием означающего в то раздробленное и безумное, что зовется нами влечением, то что подобное определение дистанции вообще значит?
Аналитик с его искушенным желанием не может поддаться заблуждению, вселяющему надежду на полное упразднение этой дистанции. Функция аналитика состоит, как объясняет нам этот же автор, в постепенном сближении. Мы имеем в данном случае дело с тем же фантазмом, что и фантазм поглощения, поедания фаллического образа — таким, каким он предстает в отношениях, не имеющих иных ориентиров, кроме воображаемых. При подобном подходе субъект не способен осуществить в себе ничего, кроме одной из форм, пусть слабо выраженных, психоза или перверсии — ведь сам термин сближение, поставленный этим автором в центр его аналитической диалектики, отражает лишь желание самого аналитика, природу которого тот, в силу недостаточной проработанности своей позиции, сам не осознает: желание сблизиться, вплоть до полного совпадения, с тем, за кого он взял на себя ответственность.
Можно лишь сожалеть о наивности такой позиции, удивляясь, что сформулирована она всерьез, а не в качестве предостережения о ждущем здесь тупике.
Вот и все, о чем я хотел вам сегодня напомнить, пытаясь разъяснить направление нашего исследования природы прекрасного и, добавлю, возвышенного (sublime). Что касается возвышенного, то мы еще не извлекли из кантовских определений весь содержащийся в них на этот счет материал. Связь этого термина с термином сублимация, по всей вероятности, не случайна и омонимией их отнюдь не исчерпывается.
К этому способу удовлетворения, единственному, которое аналитический опыт может нам обещать, мы с вами в следующий раз и вернемся.
22 июня I960 года.
XXIII Моральные цели психоанализа
Буржуазная мечта. Эдип, Лир и служение благу. Телесное усвоение сверх-Я. Три Отца. Непримиримый Эдип.
Теперь, когда пришел момент подвести черту под рискованной темой, с которой решился я вас в этом году познакомить, самое время обозначить конечную точку того пути, который нам с вами предстояло проделать.
В следующем году я попытаюсь увязать средства анализа с его целями — это не значит, впрочем, что семинар будет озаглавлен именно так. Сейчас же мне кажется важным остановиться хотя бы немного на том, что в так называемых моральных целях анализа остается неизменно завуалированным.
Ориентируя анализ на психологическую нормализацию, мы неизбежно впадаем в то, что я назвал бы моралистической рационализацией. К тому же мы не можем ставить себе целью завершение формирования генитальной фазы и созревание устремления и его объекта, рассчитывая сделать их мерой правильного отношения к реальности, не предполагая при этом определенных представлений о морали заранее.
Должна ли теоретическая и практическая перспектива наших действий сводиться к идеалу психологической гармонизации? Следует ли нам, в надежде открыть пациентам возможность достичь ничем не замутненного счастья, исходить из того, что антиномия, сформулированная Фрейдом столь категорично, может быть сведена на нет? Я имею в виду высказанное им в Недовольстве культурой утверждение, что конкретная форма, в которую моральная инстанция у человека вписывается — и которая якобы, если послушать его, имеет рациональный характер, — форма, названная Фрейдом сверх-Я, устроена так, что становится тем требовательнее, чем более ей приносится жертв.
Эта угроза, это заложенное в моральной природе человека противоречие — позволено ли нам его в нашем учении и в нашей аналитическои практике игнорировать? А ведь на самом деле именно это и происходит: мы слишком даже склонны об этом противоречии забывать — как в обещаниях, которые считаем себя вправе давать другим, так и в надеждах, которыми тешим сами себя в отношении возможного исхода проводимого нами лечения. Это имеет серьезные последствия — особенно серьезные, когда мы находимся в положении, позволяющем использовать возможности психоанализа в полной мере, то есть когда мы стоим перед лицом того результата, к которому может привести анализ, выполняющий, в полном смысле слова, дидактическую функцию.
Если считать, что анализ проходит до конца тот, кому предстоит в дальнейшем занять в отношении к анализу ответственную позицию, то есть стать аналитиком самому, то возникает вопрос — а призван ли он вообще, в принципе, открывать перед человеком ту перспективу комфорта, что так охотно принимает отмеченный мной за нею оттенок рационализирующей нравоучительности?
Теперь, после того, как мы, следуя магистральной линии фрейдовского опыта, разработали диалектику требования, потребности и желания, выдерживает ли критику попытка свести успех анализа к достижению индивидуального комфорта, связанного с той, безусловно, оправданной и законной функцией, которую мы можем назвать служением разного рода благам: как благам частного порядка — благу семьи, благу домашнего очага — так и прочим благам, требующим к себе внимания — каковы, например, блага профессиональные и гражданские, политические?
О каком "полисе" может в наши дни идти речь? Но дело не в этом. Как бы удачно ни удавалось нам отрегулировать ситуации тех, кто обращается к нам в этом обществе за помощью, остается более чем ясно, что в их устремлении к счастью всегда останется место обетованию, чуду, миражу прирожденной гениальности или свободы — я карикатурно сгущаю краски: для мужчины — обладать всеми женщинами на свете, для женщины — идеальным мужчиной. Выступить в роли гаранта того, что субъект сможет путем анализа стяжать подобное благо, было бы откровенным жульничеством.
Становиться гарантом буржуазной мечты у психоаналитика никакого резона нет. Чтобы встретиться с человеческим уделом лицом к лицу, требуется твердость и строгость несколько большая, почему и напомнил я вам в прошлый раз, что служение благам предъявляет определенные требования, что перевод поисков сча-
387
стья в плоскость политики имеет свои последствия. Движение, в которое вовлечен сегодня мир, где мы живем, движение, которое доводит до крайности служение благам, возведенное в ранг всеобщего миропорядка, предполагает своего рода ампутацию, требует жертв, формирует то пуританское отношение к желанию, которое в ходе истории и стало господствующим. Возводя служение благам в ранг универсального миропорядка, мы все равно не сможем решить проблему действительного отношения каждого человека — в краткий срок, отведенный ему между рождением и смертью — к собственному своему желанию: ведь не о счастье грядущих поколений идет здесь речь.
Как я уже, кажется, успел для области, очерченной мною в этом году, показать, функция желания так или иначе принципиально соотнесена со смертью. И тут я ставлю следующий вопрос: не должно ли окончание анализа — подлинное, то, что позволяет человеку стать аналитиком — поставить того, кто достиг его, лицом к лицу с реальностью человеческого удела? Говоря о тревоге, Фрейд, собственно, и видит тот фон, на котором ее сигнал возникает, именно в этом: в ситуации Hilflosigkeit, беспомощности, где человеку в той встрече с самим собой, что знаменуется собственной его смертью — в смысле той, второй смерти, о которой мы получили представление в этом году — не от кого ждать помощи.
В конце дидактического анализа субъект должен достичь той области и опытно ощутить себя на том уровне, где ему абсолютно не на что положиться; на уровне, где сама тревога оказывается уже защитой, пс Abwarten, a Erwartung. Ведь тревога, охватывая субъекта, позволяет ему ощутить опасность, тогда как на уровне переживания последней беспомощности, Hilflosigkeit, никакой опасности нет.
О тех окончательных терминах, в которых эта предельная ситуация для человека формулируется, я вам уже сказал — речь идет о прикосновении к границам того, что он есть и что он не есть. Вот почему именно здесь значение мифа об Эдипе выясняется до конца.
Сегодня нам предстоит еще раз в эту промежуточную область вернуться — вернуться в связи с тем значением, которое имеет в истории Эдипа период с момента его ослепления до его смерти — смерти необыкновенной, особой, и скрытой у Софокла, как я уже говорил вам, покровом тайны.
Надо помнить, что сам Эдип комплексом Эдипа отнюдь не страдал, и наказывает он себя за то, в чем вины на нем нет. Он просто-напросто убил человека, которого встретил на пути, не зная, что то был его отец — случилось это, следуя реалистической версии, в которую облечен здесь миф, во время бегства, в которое пустился Эдип, узнав о том, что ему в отношениях с отцом грозит. Уходя от тех, кого он считает своими родителями и желая таким образом избежать преступления, Эдип идет на деле ему навстречу.
Не знает он и того, что достигнув счастья в супружестве и став правителем процветающего государства, он делит ложе с собственной матерью. Но что означает тогда то, что он над собой проделывает? А что он проделывает? Он отказывается от того самого, что пленило его. Ведь он был разыгран, одурачен открывшейся для него дорогой к счастью. Он входит в зону, лежащую по ту сторону служения благам — и служения вполне успешного, — в зону, где ищет свое желание.
Посмотрите на настроение Эдипа — перед лицом смерти он держит себя спокойно и твердо. Ироническое французское выражение bon pied bon њil [букв: хорошая нога хороший глаз] не слишком к нему применимо, так как речь идет о человеке с отекшими ногами и вырванными глазами. Но это не мешает ему требовать для себя всего — все почести, полагающиеся ему по достоинству. Легенда вторит здесь самым современным этнографическим данным — когда после жертвоприношения Эдипу присылают бедро жертвы вместо лопатки, или наоборот, тот воспринимает это как непереносимое оскорбление, порывает отношения с сыновьями, которым передал власть над городом и разражается, напоследок, в их адрес страшным проклятием.
Необходимо задуматься над моментом, когда ясно становится, что, отказавшись от служения благам, Эдип ни на йоту не отступает от своего преимущественного по отношению к ним достоинства, когда в трагической свободе своей он имеет дело с последствиями того желания, которое подвигло его роковой рубеж перейти, — желания знать. Он уже знает и тем не менее хочет знать еще больше.
Стоит ли мне, чтобы лучше пояснить свою мысль, обратиться к другой трагической фигуре, нам, без сомнения, более близкой — фигуре короля Лира?
Я не стану говорить подробно о значении этой пьесы, я просто хочу дать вам понять, какой порог был Эдипом преодолен — понять, исходя из Короля Лира, где преодоление это принимает смехотворную форму.
Король Лир тоже отказывается от служения благу, от выполнения королевских обязанностей, — он, старый дурак, полагает, что создан, чтобы его любили. В результате он препоручает служение благу своим дочерям. Не стоит, однако, полагать, будто он тем самым от чего бы то ни было отрекается — для него это означает свободу, вечный праздник в кругу своих рыцарей и веселье в гостях, поочередно, у каждой из двух мегер, которым доверил он, не подумавши, бразды правления.
Между тем он оказывается в положении, когда единственной гарантией верности ему остается честное слово, ибо все, на что его власть опиралась, он уступил дочерям свободно. Великолепная шекспировская ирония показывает нам целый рой судеб, где люди пожирают друг друга, так как не только Лир, но и все добрые люди в пьесе обречены на несчастье как раз потому, что понадеялись на верность, на честное слово. Доказывать это мне нет нужды — откройте пьесу, и вы убедитесь сами.
Лир, как и Эдип, демонстрируют нам, что любой, кто в эту зону вступает — трагической ли дорогой Эдипа, или шутовским путем Лира, неважно, — вступает туда одиноким и преданным.
Последним словом Эдипа было, как вы помните, то μη φύναι, ο котором я вам столько раз уже говорил и в котором кроется все, о чем я вам в связи с отрицанием толковал. Подобный подход к отрицанию я показывал вам на примере французского не, затесавшегося в выражения типа я боюсь, как бы он не пришел, которое без частицы этой, болтающейся без дела между моим страхом и его появлением, могло бы, в принципе, обойтись. Единственная причина, по которой она тут оказывается, состоит в том, что она-то субъект и есть. Во французском языке это остаток того, что означает в греческом частица μη, которая не является отрицанием. Подтверждения можно найти буквально повсюду.
О том же говорят и другие тексты, как, например, то место из Антигоны, где стражник, говоря о преступнике, в котором не успели еще узнать Антигону, говорит — он ушел, не оставив следов. В чтении, которое предпочло использованное мною издание, он добавляет — ефеиуе μη eiSйvai. Что означает, в принципе — он избежал того, чтобы узнали, что это он, то μη etSйvat, как предлагает другое чтение. Но если, в первом чтении, оба отрицания понять буквально, то получится как раз, что он избежал того, чтобы не узнали, что это он. Частица μη служит здесь инструментом Spaltung, того расщепления между актом высказывания и его содержанием, о котором у нас с вами шла некогда речь. Слова μη φύναι означают скорее, не быть.
Вот нота предпочтения, которой заканчивается человеческое существование, жизнь Эдипа, прожитая настолько полно, что умирает он не случайной смертью, которая суждена всем, а смертью истинной, где бытие свое перечеркивает он сам. Перед нами добровольное проклятие, и постоянство его — это постоянство человеческого бытия, то самое, что заключается в вычеркивании себя из мирового порядка. Такое отношение к жизни прекрасно и, как поется в мадригале, вдвойне прекрасно оттого, что прекрасно.
Эдип показывает нам, где пролегают границы внутренней, предельной для нас зоны отношений с желанием. В человеческом опыте зона эта всегда вытесняется по ту сторону смерти, поскольку обычное человеческое существо старается строить свое поведение так, чтобы риск другой смерти свести к минимуму, то есть, просто-напросто, не сыграть в ящик. Primum vivere, a вопросы бытия откладываются уже на потом, хотя и продолжают, конечно, маячить на горизонте.
Вот те топологические понятия, без которых в опыте нашем невозможно сориентироваться и без которых даже умы выдающиеся вынуждены бывают беспомощно кружиться на одном месте. Возьмите, к примеру, замечательную во всех отношениях статью Джонса Ненависть, чувство вины и страх, где он показывает круговую, хотя и не абсолютную, взаимообусловленность трех этих переживаний. Я попрошу вас прочесть ее внимательно, с карандашом в руке, так как нам предстоит поговорить о ней в следующем году, — вы сами увидите, насколько те принципы, которые мы готовы уже сформулировать, способны многое в ее проблематике прояснить.
Вернемся к этим принципам на уровне обычного человека, с которым мы имеем дело, и попытаемся увидеть, что из них следует. Джонс, к примеру, пожалуй, лучше других сформулировал моральное алиби, названое им moralische Entgegenkommen, моральной предупредительностью. Он показывает, на самом деле, что за налагаемыми на себя человеком моральными обязательствами кроется зачастую всего лишь страх пойти на риск, который пренебрежение ими способно за собой повлечь. Надо называть вещи своими именами, и из того, что они окутаны здесь тройным аналитическим занавесом, вовсе не следует, что сказанное надо понимать как-то иначе — анализ действительно свидетельствует о том, что смириться с запретом оказывается, в конечном счете, для субъекта удобнее, нежели подвергнуться кастрации.
Попробуем поразмыслить еще немного. Прежде чем рассмотреть вопрос более глубоко, что означает, как правило, уйти от него, давайте разберемся в том, что имеет в виду Фрейд, утверждая, что сверх-Я возникает на спаде эдипова комплекса. С тех пор был сделан, разумеется, шаг вперед — так, если верить Мелани Кляйн, существует сверх-Я, развившееся ранее, в противовес садистским влечениям, хотя никто так и не смог доказать, что речь идет об одном и том же сверх-Я. Но будем держаться сверх-Я эдипова происхождения. Возникновение его на склоне «Эдипа» говорит о том, что субъект усваивает себе эту инстанцию.
Это соображение должно навести нас на верный путь. В знаменитой статье Скорбь и меланхолия Фрейд говорит также, что работа скорби бывает направлена на усвоенный себе объект — объект, к которому субъект по тем или иным причинам не слишком благоволит. Любимому существу, о котором мы с таким чувством скорбим, расточаем мы, однако, не одни похвалы — хотя бы лишь потому, что оно так подло бросило нас одних. И если мы настолько злы на себя, что усваиваем себе отца, то нам есть, наверное, в чем его упрекнуть.
Именно здесь различия, проведенные нами в предыдущие годы, могут прийти нам на помощь. Кастрация, фрустрация и лишение суть три разные вещи. Если фрустрация идет от символической матери, то за кастрацию ответственен, как мы читаем у Фрейда, реальный отец, в то время как на уровне лишения встречаемся мы с отцом воображаемым. Попробуем рассмотреть функцию той и другой из этих фигур на исходе «Эдипа» и в формировании сверх-Я. Может быть, это внесет в наши представления какую-ту ясность и нам не будет казаться, будто рассматривая отца, с одной стороны, в качестве кастратора, а с другой, в качестве источника сверх-Я, мы одновременно разыгрываем две записанные на одной и той же нотной строке мелодии. Различие это играет очень важную роль во всех формулировках Фрейда, а в первую очередь в тех из них, где речь идет о кастрации. Заметно это уже тогда, когда он только-только подходит к этому явлению, обращая внимание на поистине удивительные вещи, о которых никто до него даже не заикался.
Реальный отец, утверждает Фрейд, является кастратором. В чем эта его роль проявляется? В присутствии его в качестве реального отца, требующего внимания персонажа, из-за которого ребенок оказывается его соперником, — то есть матери. Так это в действительности или не так, но в теории по этому поводу нет никакого сомнения — реальный отец выступает как Большой Елдак, и притом вовсе не перед лицом Всевышнего, в котором здесь, поверьте мне, не нуждаются даже для того, чтобы вести счет. Но не заслоняется ли на склоне «Эдипа» фигура этого реального и мифического отца иной фигурой, которую ребенок к этому, как-никак уже пятилетнему, возрасту, возможно, открыл для себя, — фигурой отца воображаемого, отца, что так схалтурил, когда его, этого малыша, делал?
Не это ли самое теоретики аналитического опыта мямлят нам по складам? И не здесь ли кроются кое-какие нюансы? Разве не вокруг приобретенного ребенком — не в силу того, что он маленький, а в силу того, что он мужчина — опыта лишения, разве не вокруг того, что переживает он как лишение, возгревается и усиливается скорбь по воображаемому отцу — отцу, который бы действительно что-то собой представлял? Вечный упрек, который как раз в этот момент рождается и приобретает более или менее определенную и порой ярко выраженную форму, так и остается в структуре субъекта основополагающим. Именно этот, воображаемый отец, а вовсе не отец реальный, ложится в основу провиденциального образа Бога. А функция сверх-Я есть в конечном счете, в окончательной перспективе, не что иное, как ненависть к Богу, упрек к Богу за несовершенство созданного Им мира.
Такова, я полагаю, подлинная структура отношений эдипова комплекса. Теперь, когда мы распределили его составляющие таким образом, колебания и обходные маневры авторов, их попытки вслепую разобраться в его случайностях и деталях, станут для вас гораздо яснее. В частности, именно это даст вам ключ к тому, что имел в виду Джонс, говоря о ненависти, страхе и чувстве вины в связи с возникновением сверх-Я.
Возвращаясь к теме, взмолимся к небу, чтобы кровавая драма разыгралась на уровне кастрации и бедный малыш залил своей кровью, подобно Урану, оскопленному Кроносом, целый мир.
Всем известно, что кастрация маячит на горизонте всегда и, разумеется, никогда не имеет места. То, что в действительности происходит, связано с тем, что для органа этого, этого означающего, малыш оказывается носителем неважнецким — может даже показаться поначалу, что он его лишен вовсе. В этом он разделяет судьбу и переживания девочки, которая вписывается в эту же перспективу еще более четко.
Речь идет о том поворотном моменте, когда субъект обнаруживает, как любому известно, что его отец — идиот, или вор, или просто жалкий тип, или, как в случае Фрейда, старая развалина. Развалина, конечно, добрая и симпатичная, но поневоле попавшая, как и все отцы, в бурный круговорот так называемых противоречий капитализма: покинув Фрайбург, где ему нечего больше было делать, он поселился в Вене, а такие вещи, даже для ребенка в трехлетнем возрасте, незамеченными не проходят. Именно любовь к отцу и побуждала Фрейда возвращать тому его утраченный статус, раздув его до гигантской фигуры вождя первобытной орды.
Но не здесь надо искать решение основных вопросов и главная проблема, как показывает нам история Эдипа, состоит не в этом. Если Эдип представляет собой полный тип человека, если Эдип эдиповым комплексом не страдает, то дело тут в том, что в истории его никакого отца, собственно, и нет. Тот, кто воспитывал его, был ему приемным отцом. И в этом, дорогие друзья, мы нисколько не отличаемся от него, ибо paterisest quem justae nuptiae demonstrant, то есть отец — это тот, кто признал нас. Мы все находимся, по сути дела, в положении Эдипа, даже если того не знаем. Что до отца, которого Эдип узнал-таки, то им оказался, в полном согласии с фрейдовским мифом, никто иной, как отец уже мертвый.
В этом, как я сотни раз уже говорил вам, функция отца и есть. Единственная функция отца заключается, по-нашему, в том, чтобы быть мифом, Именем Отца и ничем иным, то есть, как объясняет в Тотеме и табу Фрейд, отцом мертвым. Конечно, чтобы это выяснилось вполне, необходимо, чтобы путь человека, пусть вчерне, был исследован до конца, чтобы изучена оказалась та зона, в которую вступает Эдип после того, как он вырвал себе глаза.
Человек встречается со своим желанием на опыте лишь тогда, когда преодолевает определенный порог, и преодоление это для него благотворно. Я не первый, кто утверждает это. То же самое имеет в виду Джонс, говоря об aphanisis, исчезновении, связанном с главным риском, риском отсутствия желания. Желание Эдипа — это желание узнать его, желания, последнее слово.
Когда я говорю вам, что желание человека — это желание Другого, в моей памяти звучат слова Поля Элюара о железном желании жить. Это и есть не что иное, как желание желать.
В силу того, что из скорби Эдипа берет начало сверх-Я, обычному человеку двойной порог — от реальной смерти, которой он рискует, до другой смерти, которую он усваивает, выбирает, до бытия-к-смерти — является прикровенно. Покров этот именуется у Джонса ненавистью. Отсюда ясно, почему именно в амбивалентности любви и ненависти всякий сознательный, так сказать, аналитик видит предел той психической реальности, с которой мы имеем дело.
Внешний порог, тот, что удерживает человека в рамках служения благу — это primum vivere. Это страх, объясняют нам, но вы сами знаете, насколько поверхностный характер носят его последствия.
Между тем и другим располагается для обычного человека область, где живет его чувство вины, отражение ненависти его к создателю, который для человека, который по сути своей является креационистом, может быть кем угодно, — создателю, сотворившему его столь слабым и несовершенным.
Но для героя, для того, кто действительно в эту зону вступил, для Эдипа, доходящего до μη φύναι подлинного бытия-к-смерти, до свободно принятого проклятия, до обручения с ничто, составляющего венец его устремлений — для такого человека подобный вздор значения не имеет. Окончательное, свидетелей не имеющее исчезновение — вот единственное, что здесь его ждет. Вступление в эту зону состоит для него в отказе от благ и власти, в том наказании, что на самом деле вовсе не наказание. И если он вырывает себе, чтобы вырваться из мира, глаза, то потому только, что узреть истину можно лишь отрешившись от видимости. Древние это знали — великий Гомер был слеп, как слеп был и прорицатель Тиресий.
Именно там, между этими двумя порогами, безраздельно царит для Эдипа его желание, о чем и свидетельствует как раз тот факт, что он предстает в трагедии непреклонным, требующим до конца все, что ему причитается, ни от чего не отказывающимся, непримиримым.
Эта топология, в данном случае выступающая как топология трагедии, теперь вам ясна. Я показал вам как лицевую, так и обратную, шутовскую ее сторону, свидетельствующую о ее иллюзорности и воплощенную в жалкой фигуре Лира, который ничего в ней не понял и оглашает море и землю своими воплями, пострадав от того, что пожелал войти в эту зону с согласия своих ближних и им на пользу. В последней сцене он, так и не поняв ничего, несет на руках мертвое тело той, что была, о чем он, конечно, и не догадывался, подлинным предметом его любви.
Очерченная таким образом область позволяет нам установить пределы, проливающие свет на ряд проблем, которые в нашей теории и в нашем практическом опыте возникают. Интериориза-ция закона — не устаем повторять мы — не имеет с законом ничего общего. Но важно еще понять, почему. Не исключено, что сверх-Я действительно служит моральному сознанию опорой, но не секрет, что наиболее принудительные его побуждения не имеют с этим последним ничего общего. То, чего оно от нас требует, не имеет ничего общего с тем, что мы вправе были бы сделать для наших поступков всеобщим правилом: для психоаналитика это азбучная истина. Но истину эту мало лишь констатировать, ее нужно объяснить.
Предложенная мною схема, способна, думаю, это сделать и если вы будете твердо ее держаться, она поможет вам в этом лабиринте не потеряться.
В следующий раз я подойду к тому, к чему, собственно, и вел дело — разговор пойдет о более верном понимании катарсиса и о последствиях отношения человека к желанию.
29 июня I960 года.
XXIV Парадоксы этики, или Действовал ли ты в согласии со своим желанием?
Измерение комического. Апология кассового аппарата. Желание и чувство вины. Поступиться своим желанием. Религия, наука, желание.
Вот и пришло время нашей последней встречи.
В заключение я предложу вам сегодня несколько замечаний. Одни из них подведут итог уже сказанному, другие, основанные на опыте, подскажут, возможно, дальнейший путь. Не удивляйтесь этому, так как дискурс наш не завершен, а когда требуется завершить разговор о предмете по сути своем эксцентричном, найти промежуточный регистр бывает непросто. Назовем то, о чем я сегодня собираюсь говорить с вами сборной солянкой.
1
Поскольку начинать всегда следует с определений, то скажем, что по существу этика состоит в суждении о наших поступках, с той оговоркой, впрочем, что приложима она лишь постольку, поскольку поступок, являющийся ее предметом, сам несет в себе, или предполагается, что несет, пусть имплицитное, но суждение. Наличие суждения с обоих сторон существенно для ее структуры.
Если этика психоанализа существует — а это еще вопрос, — то лишь постольку, поскольку анализ приносит, хотя бы в малой мере, что-то такое, что предстает — или пытается предстать — в качестве меры нашего поступка. При первом подходе может сложиться впечатление, что в качестве меры нашего поступка он предлагает возврат к инстинктам. Это уже момент давно пройденный, однако находятся еще порой какие-то люди, которым это внушает страх — так, мне самому приходилось в одном философском обществе выслушивать возражения именно такого рода, которые, как мне казалось, уже сорок лет, как никому не приходят в голову. На самом деле общественность сейчас на этот предмет спокойна — никто и не думает опасаться, что анализ может привести к такого рода моральному падению.
Я часто показывал вам, что берясь за выстраивание, так сказать, наших инстинктов и выдавая осуществление гармонии за природный закон, психоанализ начинает внушать тревогу, ибо превращается в своего рода алиби, моральную позу, опасный блеф. Для вас это общее место, так что я на этом задерживаться не стану.
Опираясь на то, что можно сформулировать уже сразу, что каждый из вас давно знает и что составляет самую скромную сторону нашей практики, скажем, что психоанализ движется к своей цели путем возвращения к смыслу поступка. Уже одно это доказывает, что, занимаясь анализом, мы находимся в моральном измерении. Фрейдовская гипотеза бессознательного предполагает, что поступок человека, будь то здорового или больного, нормального или страдающего патологией, имеет скрытый смысл, который можно найти. В этом измерении и возникает немедленно идея о катарсисе, представляющем собой очищение, осветление, выделение различных планов.
Это, по-моему, не столько даже открытие, сколько простейшая истина, которая, к счастью, ходячими представлениями о психоанализе не слишком искажена — дело в том, что во всем, что мы испытываем на уровне переживания, заложен какой-то более глубокий смысл, который направляет эти переживания, — смысл, который мы в силах найти, причем после отделения этих двух слоев друг от друга все не может не измениться.
Ничего особенного в этом покуда нет, это всего лишь эмбриональная форма старого доброго γνώθι aeavrov, разве что, очевидно, с тем особым акцентом, что характерен для слишком общих форм любого прогресса, который можно назвать внутренним. Уже этого, однако, довольно, чтобы выяснилось резкое отличие, привнесенное если не аналитическим опытом, то, во всяком случае, фрейдовской мыслью, — отличие, на котором я в этом году так настаивал.
В чем оно состоит? Отличие это выясняется, когда приходится дать ответ на вопрос, который обычные люди, как правило, задают и на который мы отвечаем более или менее прямо: а что потом, когда дело сделано, когда возвращение к смыслу совершилось, когда глубинный смысл высвобожден, то есть путем катарсиса отцежен, высветлен, — потом все происходит само собой? И чтобы поставить точки над г — неужели дальше только на благожелательность и остается рассчитывать?
Это возвращает нас к вопросу еще более старому. Некто по имени Менций — так звали Конфуция иезуиты — говорит нам, что судить о нем нужно следующим образом. Благожелательность заложена в человека природой, она подобна поросшей лесом горе. Беда лишь в том, что окрестные обитатели начинают лес вырубать. Благодетельница ночь вызывает из почвы молодые побеги, но утром приходит стадо и поедает их на корню, так что в конце концов на лысой вершине не остается и следа жизни.
Как видите, проблема возникла далеко не вчера. Надежды на пресловутую благожелательность осталось у нас так мало, что исходим мы в нашей практике из того, что обычно стыдливо именуют негативной терапевтической реакцией и что я, воспользовавшись литературным обобщением, благородно назвал в последний раз добровольно себе усвоенным, добровольно принятым на себя проклятием, эдиповым μη φνναι. Но это не значит, что проблема того, что решается по ту сторону возвращения к смыслу, не остается нерешенной.
Я пригласил вас в этом году принять участие в интеллектуальном эксперименте, experimentummentis, как говорил Галилей — вопреки тому, что вы думаете, таких экспериментов он поставил куда больше, нежели лабораторных, и без них решающего шага ему было бы просто не сделать. Experimentummentis, в котором я вам предлагаю с начала года участвовать, лежит на прямом продолжении того, на что наталкивает нас опыт, когда вместо того, чтобы сводить его к общему знаменателю, подгонять под общую мерку, вместо того, чтобы рассортировывать его по заранее готовым ящичкам, мы пытаемся артикулировать его в соответствии с собственной его топологией и структурой. Эксперимент этот состоит в том, чтобы рассматривать вещи в перспективе, как я выразился, Судного Дня, то есть при пересмотре этики, к которой нас приводит психоанализ, воспользоваться в качестве эталона отношением поступка к обитающему в нем желанию.
Чтобы это доходчивее вам объяснить, я решил опереться на трагедию — выбор неизбежный, если учесть, что именно его вынужден был сделать с первых шагов и сам Фрейд. Этика психоанализа не является спекулятивным устроением, упорядочиванием того, что я назвал здесь служением благу. Она включает в себя измерение, которое находит свое выражение в том, что называют трагическим переживанием жизни.
Именно в трагическое измерение вписываются наши поступки, именно в нем призваны мы осуществлять ценностную ориентацию. Равно как, впрочем, и в измерении комическом — не случайно, когда я начинал говорить с вами об образованиях бессознательного, на горизонте у меня всегда присутствовало комическое.
Скажем в первом приближении, что отношение поступка к обитающему в нем желанию тяготеет в трагическом измерении к торжеству смерти. К торжеству бытия-к-смерти — уточняю я, — к эдиповому μη φύναι, где фигурирует пресловутое μη, отрицание, идентичное обеспеченному означающим выходу на сцену субъекта как такового. В этом и состоит основополагающая черта всякого трагического поступка.
В комическом измерении речь идет — в первом приближении, — не столько о торжестве, сколько о жалких, бесплодных потугах видения. Как ни мало мне удавалось до сих пор теме комического уделять внимания, вы все же могли убедиться в том, что речь в нем тоже идет об отношении поступка к желанию, о принципиальной неспособности его желание это настичь.
Комическое измерение образуется наличием у него в центре скрытого означающего, которое в древней комедии выступает собственной персоной, — фаллоса. И неважно при этом, что в конце концов он пропадает у нас из под носа, нужно лишь помнить, что удовлетворяет нас в комедии, заставляет смеяться, вызывает у нас глубокий, затрагивающий все наше существо, и бессознательное в том числе, отклик: не столько торжество жизни, сколько ее ускользание, сколько тот факт, что жизнь скрывается, ускользает, утекает у нас между пальцев, что ее не способны удержать никакие преграды, в том числе самые главные — те, что ставятся ей инстанцией означающего.
Фаллос и есть не что иное, как означающее, означающее этого ускользания. Что бы ни случилось — жизнь торжествует, жизнь прокладывает себе дорогу. Какие бы беды на долю комического героя ни выпадали, курилка вновь, как ни в чем не бывало, оказывается жив.
Пафос этого измерения, как видите, прямо противоположен трагическому и служит ему дополнением. Несовместимыми они не являются — недаром же существует понятие трагикомического. Вот где заключено опытное содержание человеческого поступка; и лишь потому, что природу желания, лежащего в сердцевине этого опыта, мы знаем лучше наших предшественников, возможен для нас пересмотр этики заново, возможно для нас этическое суждение, исходящее из следующего, встающего в перспективе Судного Дня вопроса — поступал ли ты в соответствии с желанием, которое в тебе обитает?
Выдержать этот вопрос непросто. Я утверждаю, что нигде еще он не был поставлен так прямо и что только в аналитическом контексте подобная постановка стала возможна.
Этому полюсу, полюсу желания, противостоит традиционная этика — не вся, разумеется, так как в том, что человек пытается артикулировать, ничего нового нет, и в то же время все ново. Именно это я попытался дать вам почувствовать, указав в трагедии на пример антитезы трагическому герою, которой, тем не менее, тоже присущ характер в какой-то степени героический, — таков Креонт. Опираясь на этот образ, я говорил вам о служении благам, на котором основана традиционная этика. Умаление желания, скромность, умеренность — вот средний путь, который столь замечательно сформулирован Аристотелем, и нам важно знать, что на этом пути служит мерой и может ли эта мера быть обоснована.
Внимательное изучение показывает, что мера эта всегда отмечена глубокой двусмысленностью. Порядок вещей, в котором она ищет себе основание, опирается, в конечном счете, на власть, на человеческое — слишком человеческое — могущество. Мы не первые отмечаем, что Креонт не может сделать в обосновании своих поступков и шага, не наткнувшись немедленно на ограждение места, где, говоря нашим языком, буйствуют означающие, а говоря языком Аристотеля, царит произвол богов. Поистине на этом уровне боги и звери объединяются, чтобы обозначить сообща мир немыслимого.
Боги? Речь идет, конечно, не о перводвигателе, а о богах мифологии. Мы-то с вами знаем, как это буйство означающих укротить, но оттого, что мы сделали ставку почти целиком на Имя-Отца, проблема проще не стала. Мораль Аристотеля — познакомьтесь с ней хорошенько, она того стоит — целиком построена на порядке продуманном, идеальном, но соответствующем при этом политике своего времени, политическому устройству полиса. Мораль его — это мораль господина, рассчитанная на господские добродетели и связанная с организацией власти. Власть презирать не надо, мы не проповедуем анархизм, нужно просто-напросто иметь представление о ее пределах в подлежащей нашему изучению области.
В отношении того, о чем у нас идет речь, то есть всего, что имеет отношение к желанию, его приключениям и злоключениям, позиция власти, какова бы эта власть ни была, при любых обстоятельствах и во всех случаях, и раньше и сейчас, всегда оставалась одной и той же.
К чему призвал Александр вслед за занятием Персеполиса или Гитлер после оккупации им Парижа? Преамбула не имеет значения. Она гласит — я пришел вас освободить от… неважно чего. Важно то, что следует дальше. А дальше следует — продолжайте работать. Главное, чтобы работа не прекращалась. Что означает — имейте в виду, что происшедшее ни в коем случае не является поводом проявлять какие бы то ни было желания.
Мораль власти, мораль служения благам сводится к следующему — что касается желаний, то вы без них обойдетесь. Они подождут.
Здесь имеет смысл напомнить о демаркационной линии, очерчивающей для нас область этической проблематики и являющейся одновременно границей, которую не может в своих формулировках не принимать во внимание философия.
Кант — а речь идет именно о нем — оказывает нам огромную услугу, когда устанавливает топологическую межу, полагающую границу феномену морали, то есть области морального суждения как такового. Перед нами предельная категориальная оппозиция, чисто идеальная, разумеется, но важно уже то, что однажды нашелся человек, который сформулировал ее, очистив — катарсис — от всякого патологического интереса, патологического не в смысле интереса, связанного с умственными расстройствами, а в смысле любых интересов чисто человеческого, чувственного, витального характера. Чтобы речь шла о поле, которое могло бы быть оценено как собственно этическое, необходимо, чтобы сами мы в нем ни с какой стороны заинтересованы не были.
Порог тем самым оказывается пройден. Традиционная мораль помещалась в области того, что должно было делать, как говорится, по мере возможности — иначе, собственно, сказать и нельзя.
Разоблачить же, открыть взору, необходимо тот поворотный пункт, в котором она в эту позицию соскальзывала — и пункт этот не что иное, как невозможное, то невозможное, в котором узнаем мы топологию собственного желания. Кант своим положением о том, что соображения о возможности или невозможности на моральный императив никак не влияют, этот порог преодолел. Налагающее на нас необходимость практического разума обязательство свидетельствует о себе безусловным ты должен. Однако лежащая за порогом область обнаруживает, если применять к ней кантовское определение со всей строгостью, свою пустоту.
Место это, как мы, аналитики, способны понять, и есть то место, которое занимает желание. Опыт наш, переворачивая традиционную перспективу, ставит в центр ту несоизмеримую, бесконечную меру, что носит имя желание. Я уже показал вам, насколько легко на место кантовского ты должен встает садистский фантазм возведенного в императив наслаждения — чистый фантазм, конечно, причем довольно жалкий, но нисколько при этом не исключающий возможности быть возведенным в ранг всеобщего закона.
Остановимся здесь, чтобы посмотреть, что у нас остается на горизонте. Если бы Кант ограничился тем, что на этот решающий пункт указал, все было бы хорошо, но мы видим также, какие горизонты критика практического разума открывает — то уважение и восхищение, что внушает ей звездное небо над нами и моральный закон внутри нас. Можно задаться вопросом, почему? Ведь уважение и восхищение предполагают отношения личностного характера. Именно на этом у Канта, хотя и в демистифицированном уже виде, все держится. Здесь-то и становится ясно, насколько существенны мои сделанные на основе аналитического опыта замечания о наличии в означающем измерения, где обитает субъект. Позвольте мне наскоро это проиллюстрировать.
Кант полагает, что он нашел новое доказательство бессмертия души. Доказательство это основано на том, что ничто в этом мире не удовлетворяет требованиям морального поступка. И поскольку здесь душа остается ни с чем, ей необходима будущая жизнь, чтобы неполный аккорд нашел где-то в ином месте, неизвестно где именно, свое разрешение.
Что это означает? Уважение и восхищение по отношению к звездному небу успели к тому времени уже пошатнуться. Да существовали ли они еще во времена Канта? А что касается нас, то не создается ли у нас при взгляде на эту необъятную вселенную, скорее, впечатление, будто все небесные туманности представляют собой одну колоссальную строительную площадку, где наш с вами странный мирок наводит на мысль, как не раз уже говорили, о завалившихся в угол часах. Впрочем, нетрудно убедиться, обитаема ли она — достаточно придать тому, что может выглядеть в ней, как чье-то присутствие, правильный смысл; ведь мы знаем с вами, что говорить о божественном присутствии можно лишь в одном смысле — как о регистре означающего, как о том, что служит для субъекта критерием.
Философы могут спорить о Существе, в котором действие и познание совпадают, сколь угодно долго, но религиозная традиция здесь безошибочна — право на признание в качестве одного или нескольких божественных лиц имеет лишь то, что может быть артикулировано в качестве откровения. Единственное, что может убедить нас, будто на небесах обитает трансцендентное существо, это сигнал. Но какой сигнал? Вовсе не тот, который имеет в виду теория коммуникации, внушающая нам, будто блуждающие в космосе лучи можно истолковать как знаки. Расстояние в данном случае порождает мираж. Поскольку лучи эти приходят издалека, мы принимаем их за послания со звезд, находящихся в нескольких сотнях световых лет от нас, хотя на самом деле это такие же послания, как блики на поверхности стоящей рядом бутылки. Посланием это было бы лишь тогда, когда взрыву звезды, происходящему на расстоянии в миллиарды миль, соответствовало бы нечто такое, что вписывалось бы где-то в Великую Книгу — нечто такое, одним словом, что делало бы происходящее реальностью.
Многие из вас видели, наверное, фильм Жюля Дассена "Никогда в воскресенье". Я не был от него в восторге, но со временем мнение мое изменилось к лучшему, ибо в нем имеется-таки несколько замечательных моментов. Так, персонаж его, отличающийся непосредственностью в выражении своих, якобы примитивных, чувств, затевает в небольшом баре в Пирее драку, разбивая физиономии окружающим за их не соответствующие его моральным представлениям речи. Помимо этого, он имеет обыкновение, в приступе радостного энтузиазма, брать стакан и хватать его об пол. Каждый раз, когда раздается удар, тут же срабатывает кассовый аппарат. По-моему, это прекрасная деталь, практически гениальная. Этот кассовый аппарат точно описывает структуру, с которой нам приходится иметь дело.
Человеческое желание и вся соответствующая область обязаны своим существованием предположению, что все реальное, что где бы то ни было происходит, обязательно где-то учитывается. Кант сумел выделить область морального в чистом виде, но нужно еще, чтобы где-то в центре этого поля нашлось для пресловутого учета место. Бессмертие души, составляющее горизонт его мысли, означает именно это. Мало того, что желание успело опостылеть нам здесь, на земле, нужно, чтобы и в вечности нашлось место для ведения соответствующего учета. Фантазии эти представляют собой не что иное, как проекции структурных отношений, вписанных мною в граф в виде линии означающего. Именно потому, что субъект выстраивается и занимает свое место по отношению к означающему, возникает в нем тот разрыв, то разделение, та двусмысленность, на уровне которых напряжение, именуемое желанием, как раз и располагается.
Фильм, о котором я только что упоминал, и где, как я узнал лишь позднее, режиссер участвует сам — именно Дассен исполняет в нем роль американца, — представляет собой любопытную, неплохую модель явления, структура которого оказывается здесь на поверхности. Дассен, играющий американца, персонажа сатирического, выставленного на посмеяние, в качестве продюсера, создателя фильма, оказывается в положении американца куда более характерного, нежели те, кого он высмеивает, то есть американцы, выведенные в фильме.
Я поясню свою мысль. Американец в фильме Дассена пытается перевоспитать, спасти, так сказать, симпатичную проститутку и, выполняя эту благочестивую задачу, оказывается, по иронии сценариста, на жаловании у хозяина борделя, его, так сказать, Гроссмейстера. Суть этого персонажа выдают черные очки, скрывающие его лицо — это человек, чье лицо, как и следует ожидать, никто никогда не видел. Когда девушка узнает, что именно он, ее заклятый враг, все, собственно, и оплачивает, она выгоняет прекраснодушного американца прочь, оставляя его, вопреки великим надеждам, которые он питал, посрамленным.
Если и есть в символике фильма элементы социальной критики, если и проводится в нем мысль о том, что за борделем стоят, так сказать, силы порядка, то наивно было бы, вслед за сценаристом, питать надежду на то, что достаточно запретить бордели, что-бы вопрос взаимоотношений между добродетелью и желанием оказался решенным. Весь фильм пронизывает от конца девятнадцатого века идущее представление, будто античность была временем освобожденного желания. Нужно быть читателем Пьера Луиса, чтобы полагать, будто призрачные огни, окружающие очаровательную афинскую куртизанку, с изменением ее социального положения не погаснут. Иными словами, Дассену не следует путать искренний пыл своей героини с возвращением к аристотелевской морали, подробностями которой нас в фильме, к счастью, не пичкают.
Вернемся теперь на круги своя. Сказанное говорит о том, что на горизонте занимаюшего поле желания чувства вины всегда маячат колонки бухгалтерского учета — независимо от того, в какой именно форме этот учет происходит.
Часть современного мира решительно ориентирована на служение благам, отвергая напрочь все то, что касается отношения человека к желанию, — это так называемая постреволюционная перспектива. Единственное, что можно сказать в связи с этим, это что сторонники ее не отдают, похоже, себе отчета в том, что формулируя ситуацию таким образом, они всего-навсего продолжают вековую традицию власти с ее продолжайте трудиться, а без желания вы как-нибудь обойдетесь. Но это не так уж важно. В традиции этой горизонт коммунистов отличается от горизонта Кре-онта — горизонта полиса, в котором критерием при разделении на друзей и врагов является его, этого полиса, благо — лишь тем, что область блага, служению которому нас обязывают себя посвятить, может распространиться, в один прекрасный момент, на весь мир.
Другими словами, перспектива эта оправдана лишь постольку, поскольку на горизонте ее просматривается универсальное Государство. Ничто не свидетельствует, однако, о том, что по достижении этого предела проблема бесследно исчезнет — ведь в сознании тех, кто в этой перспективе живет, проблема эта никуда не уходит. Либо сторонники ее подразумевают, что все собственно государственные черты, такие, как правительство и полиция, перестанут существовать, либо им приходится вводить понятие конкретного универсального государства, что предполагает изменение вещей на молекулярном уровне, на уровне отношений, которыми характеризуется положение человека перед лицом благ, поскольку до сих пор желание его лежало не там.
Но какие бы формы эта перспектива ни принимала, со структурной точки зрения все в ней остается по-прежнему. Признаком этого является уже то, что хотя божественному присутствию в ней нет места, для учета в ней, безусловно, место находится, и что на место того неисчерпаемого, что обусловливает, в глазах Канта, бессмертие души, заступает четко сформулированное понятие объективной вины. Так или иначе, со структурной точки зрения, проблема остается не решена.
Противостояние центра, где живет желание, служению благам, обозначено мной, полагаю, достаточно. Перейдем теперь к сути дела.
Положения, которые я здесь высказываю, носят экспериментальный характер. Сформулируем их в качестве парадоксов. Посмотрим, как аналитики их воспримут.
Я утверждаю, что единственное, в чем человек, во всяком случае, в аналитической перспективе, может быть виновен, так это в том, что он поступился своим желанием.
Это положение, приемлемо оно в той или иной этике, или нет, довольно хорошо выражает то, в чем мы, аналитики, убеждаемся на своем опыте. То, в чем субъект действительно чувствует себя виновным, когда о своей вине заявляет, коренится в конечном итоге, независимо от того, что его духовник на этот счет думает, в поступательстве своим желанием.
Будем рассуждать дальше. Субъект часто поступался своим желанием по благим, наилучшим побуждениям. Это нас тоже нимало не должно удивлять. С тех пор, как понятие вины существует, было достаточно времени убедиться в том, что вопрос о благом побуждении, о добром намерении, заняв в историческом опыте немаловажное место и даже оказавшись, скажем, во времена Абеляра, на первом плане нравственно-богословских дискуссий, никакого заметного продвижения не принес. Вопрос, на горизонте, неизменно воспроизводится в прежнем виде. Вот почему христиане, соблюдающие обычные правила христианского общежития, никогда не чувствуют себя спокойно. Ведь если вещи следует делать во благо, то на практике всегда возникает вопрос: во чье именно? А если таким вопросом задаться, дальнейшее становится вовсе не очевидно.
Поступки, совершенные во имя блага, а тем более во имя блага другого, менее всего способны избавить нас не только от чувства виновности, но и от самого разного рода внутренних катастроф. Не избавляют они нас, в частности, и от неврозов и их последствий. Если анализ вообще имеет смысл, то желание представляет собой не что иное, как то, что служит бессознательной теме опорой, артикуляцию того, что волей-неволей укореняет нас в конкретной судьбе — судьбе, требующей, чтобы долги были выплачены. Оно повторяется, возвращается на круги своя, оно вновь и вновь приводит нас в один и тот же фарватер, в фарватер того, что касается непосредственно именно нас.
Когда в прошлый раз я противопоставил героя обычному человеку, кое-кого из вас это задело. Я не рассматриваю их как две различные породы людей — в каждом из нас есть путь, проложенный для героя, но проходя этот путь, он делает это именно в качестве такого же человека, как все.
Области, которые я в прошлый раз обозначил — внутренний круг, названный мною бытием-к-смерти, среда желаний, его окружающая, и отказ от вступления во внешний круг — вовсе не противопоставлены у меня тройному полю ненависти, вины и страха как топология героического — топологии заурядного. Дело обстоит совершенно иначе. Эта общая форма задана самой структурой, задана внутри и для обычного человека, но лишь постольку, поскольку герой, правильно в ней ориентируясь, проходит через все страсти, в которых обычный человек запутывается, так что страсти эти предстают у него в чистом виде и он пребывает в них целым и невредимым.
Топологию, которую я в этом году очертил, кое-кто из вас довольно удачно, и не без юмора, окрестил зоноймежду двумя смертями. Впереди каникулы, и у вас будет время подумать над тем, насколько строгость этого определения действительно идет на пользу. Я прошу вас к этой теме вернуться.
Вы увидите, что Креонт и Антигона исполняют у Софокла своего рода танец. Совершенно ясно, что герой, чье присутствие в этой зоне говорит о том, что нечто оформилось и получило свободу, вовлекает в этот танец своего партнера. В конце Антигоны и сам Креонт говорит о себе как о мертвом среди живых, так как и он потерял в этом деле все блага, что имел. Трагический поступок героя приносит свободу даже его противнику.
Нет оснований ограничивать исследование этого поля одной Антигоной. Возьмите Филоктета, и вам откроется много других аспектов трагического — вы поймете, например, что для того, чтобы быть героем, герою нет нужды в героизме. Филоктет — это, в сущности, жалкий тип. Он собрался было, исполненный рвения, умереть за родину под стенами Трои, но, увы, никому не понадобился. Его бросили одного на острове, потому что он чувствовал себя слишком скверно. На острове этом он провел, сгорая от ненависти, десять лет. Первому же, кто за ним явился, милому юноше Неоптолему, удается провести его, как ребенка, и в конце концов он отправляется-таки к берегам Трои, потому что Геракл, deusex machina, лично является предложить ему исцеление. Прием deus ex machina ни о чем не говорит — давно известно, что он служит лишь рамкой трагического действия и значения ему следует придавать не больше, чем стойкам для кулис.
Что делает Филоктета героем? А то лишь, что он с ожесточенным упорством питает свою ненависть до конца — до deus ex machina, играющего в пьесе роль занавеса. Это открывает нам глаза не только на то, что он предан и на счет этого не заблуждается, но и на то, что само предательство остается безнаказанным. Это последнее подчеркивается в пьесе тем фактом, что Неоптолем, исполненный сожаления в том, что он обманул героя, выказывает свое благородство и в знак раскаяния возвращает ему лук, играющий в трагическом действии важную роль, так как присутствует в трагедии как субъект — субъект, о котором говорят и к которому обращаются. Перед нами, таким образом, очередное измерение героя, и измерение не случайное.
То, что я называю поступиться своим желанием, всегда сопровождается в судьбе субъекта — это наблюдается, обратите внимание, в каждом случае — каким-то предательством. Либо субъект изменяет своему назначению, самому себе, и сам это чувствует. Либо, еще проще, он позволяет тому, с кем вместе посвятил себя какому-то делу, обмануть свои ожидания и не выполнить условия соглашения, которое они заключили, независимо от того, временное это соглашение, или постоянное, несет ли его выполнение счастье, или беду, идет ли речь о восстании, или о побеге.
Бывает, что предательство терпят, что при мысли о благе — благе того, кто предательство совершает — субъект умеряет свои притязания, говоря что ж, коль дело обстоит таким образом, окажемся от наших видов на будущее, так как оба мы, во всяком случае, я, лучшего не заслуживаем, так что пойдем лучше общим путем. Это и есть, имейте в виду, структура того, что я называю поступиться своим желанием.
Когда предел, где я представил вам связанными воедино презрение к другому и презрение к себе самому, оказывается пройден, обратного пути уже нет. Поправить дело можно, но отрешиться от содеянного нельзя. Разве не говорит этот усвоенный на опыте факт о том, что психоанализ служит буссолью, способной указать нам в поле этики верное направление?
Итак, я высказал три положения.
Во-первых, единственное, в чем можно быть виновным, это в том, что вы поступились своим желанием.
Во-вторых, мы дали определение героя — это тот, кого можно предать безнаказанно.
В-третьих, последнее свойство доступно не каждому — в нем-то как раз и заключается различие между обычным человеком и героем, различие куда более загадочное, чем полагают. Обычного человека предательство, без которого не обходится почти никогда, отбрасывает назад, обрекая на служение благу — при условии, конечно, что для него остается тайной, какую он в этом служении цель преследует.
Что касается области благ, то она, разумеется, существует, этого отрицать не приходится, но я все же осмелюсь предложить обратную перспективу и высказать следующее, четвертое положение — не существует иного блага, кроме того, что может послужить платой за доступ к желанию — ведь желание мы уже определили в другом месте как метонимию нашего бытия. Ручеек, где протекает желание, это не просто модуляция означающей цепочки, а то, что стелется под ней и является, собственно говоря, тем, что суть, и в то же время не суть, мы сами, собственным нашим бытием и не-бытием — тем, что в поступке нашем выступает как его означаемое и переходит, под всеми значениями, от одного означающего цепочки к другому.
Я вам уже объяснял это в последний раз на примере метонимии поедания книги. Метонимией этой я, правда, воспользовался по наитию, но присмотревшись к ней, вы убедитесь в том, что это ее, метонимии, крайний случай. Что и не удивительно — ведь принадлежит она Св. Иоанну, тому самому, что началом всему положил Слово. Перед нами, конечно, идея, родившаяся в голове писателя — Иоанн был действительно писателем до мозга костей, — но обратите внимание, что в поедании книги то самое, что Фрейд неосторожно считал не подлежащим замене или смещению, то есть голод, сталкивается с чем-то таким, что, вроде бы, не предназначено для съедения, то есть с книгой. В поедании книги нам воочию дано то, что как раз и имел в виду Фрейд, говоря о сублимации как смене не объекта, а цели. Ведь последнее вовсе не лежит на поверхности.
Голод, о котором идет речь, сублимированный голод, оказывается в промежутке между тем и другим, ибо желудок нам наполняет вовсе не книга. Съев книгу, я не стал от этого книгой сам, как не стала и книга моей собственной плотью. Книга становится, если можно так выразиться, мною. Но чтобы это происходило — а происходит это на наших глазах ежедневно — необходимо за это чем-то расплачиваться. В Недовольстве культурой Фрейд как раз и оценивает величину проигрыша. Сублимируйте что хотите, но за это придется кое-чем расплатиться. Именуется это кое-что наслаждением. За это мистическое действие я расплачиваюсь томом собственной плоти.
Вот он, тот объект, то благо, которым за удовлетворение желания платят. Вот то, к чему я вел дело, стремясь открыть вам глаза на нечто такое, что, имея существенное значение, проходит тем не менее незамеченным.
Именно на этом зиждется операция, которую совершает религия, — операция, проследить которую для нас всегда интересно. То благое, что приносится желанию в жертву — обратите внимание, что с тем же успехом можно сказать: часть желания, утраченная ради блага — книга плоти, иными словами, и есть то самое, что религия берется восстановить. Здесь перед нами единственная общая для всех религий черта, она распространяется на все религии без исключения, в этом смысл любой из них.
Я не могу здесь развивать эту мысль подробнее, но приведу вам две общие, но выразительные иллюстрации того, как это происходит на практике. Та плоть, что во время богослужения приносится в жертву на алтаре, принадлежит ли она животному или еще кому, попадает, в конечном счете, к членам религиозной общины, а чаще всего просто-напросто к самим жрецам, которые, собственно, и поглощают ее. Это очень показательная форма того, о чем у нас идет речь, но то же самое оказывается верно и для святого, целью которого является, собственно говоря, доступ к возвышенному желанию, не обязательно своему собственному, так как святой живет и расплачивается за других. Суть его святости состоит в потреблении того, что куплено ценой страдания на обоих границах — там, где звучат привычные насмешки над пирующими за алтарем мошенниками-жрецами, с одной стороны, и там, где имеют место высшие проявления религиозного героизма, с другой. Все тот же процесс восстановления мы находим и здесь.
Именно этим отличается грандиозное дело религии от того имеющего этическую природу катарсиса, что объединяет между собой по видимости столь разные явления, как психоанализ, с одной стороны, и трагическое зрелище древних греков, с другой. Не случайно нашли мы в этом последнем подходящую для нас меру. Смысл катарсиса состоит в очищении желания. Очищение это может произойти, как это ясно сказано у Аристотеля, лишь тогда, когда понятно станет, по меньшей мере, каким образом преодолеваются те два порога, имя которым жалость и страх.
Трагический эпос, не оставляя у зрителя сомнений в том, где находится полюс желания, показывает ему, что для доступа к этому полюсу нужно отбросить не только всякий страх, но и всякую жалость, что решимость героя ни перед чем, и, в особенности, перед благом другого, не дрогнет. Лишь по мере того, как зритель переживает все это в разворачивающейся во времени истории, о самом глубоком в себе ему становится известно чуть больше, чем прежде.
Длится это, для посетителя парижского или афинского театра, может самое неопределенное время. Но как бы то ни было, если формулы Аристотеля вообще что-нибудь означают, то они означают именно это. Прекрасно известно, чего движение в известном направлении стоит, и когда в этом направлении не идут, то, бог свидетель, прекрасно понимают, почему именно. Когда человек не отдает себе в своих желаниях вполне ясный отчет, то сразу чувствуется, что иначе он просто не смог, так как за продвижение на этом пути ему пришлось бы расплачиваться.
У зрителя открываются глаза на тот факт, что даже для идущего в своем желании до конца жизнь оказывается далеко не сладкой. Но одновременно с этим он узнает — что важно — цену благоразумию, которое желанию сопротивляется, и не заблуждается более относительно ценности тех благих побуждений, привязанностей и, говоря языком Канта, патологических интересов, которые могут его на этом рискованном пути сдерживать.
Предложенная здесь мною интерпретация трагедии и ее воздействия выглядит несколько прозаической, но какими бы яркими ни показались вам отдельные ее грани, мне не хотелось бы сводить ее к уровню, который дал бы вам повод думать, будто по сути своей, как я себе ее представляю, катарсис оказывает умиротворяющее воздействие. Умиротворяющим он оказывается далеко не для всех. Но интерпретация эта является самым непосредственным способом примирить то, в чем иные усматривают морализа-торский аспект трагедии, с тем фактом, что урок, который преподносит трагедия, не является моральным уроком в расхожем смысле этого слова.
Конечно, не каждый катарсис сводится к чему-то столь, если можно так выразиться, поверхностному, как топологическая демонстрация. Когда речь идет о практиках тех, кого греки именовали μαινόμψοι, тех, кем овладевает безумие религиозного транса, экстаза, страсти и тому подобного, достижение катарсиса предполагает, что субъект входит — более или менее управляемым или же, наоборот, стихийным образом — в описанную выше зону и возвращение его сопровождается тем, что называется одержимостью, или как то иначе, не важно, — всем тем, одним словом, что сам Платон не колебался, как вы знаете, с катартическими процедурами связывать. Перед нами здесь целая гамма, целый веер возможностей, перечисление которых потребовало бы года работы.
Нам же важно понять место этого явления в поле, границы которого я для вас очертил.
В заключение скажу следующее.
Поле, которое мы считаем нашим, поскольку мы его исследуем, является в каком-то смысле предметом науки. А входит ли — спросите вы — наука желания в рамки гуманитарных наук в целом?
Прежде чем с вами в этом году расстаться, мне хотелось бы хоть раз высказать свое мнение на этот счет. Я не думаю, что в среде, где формируются эти рамки и где они будут, уверяю вас, тщательно соблюдаться, результатом окажется систематическое и принципиальное заблуждение относительно всего, с чем мы с вами имеем дело, то есть всего, о чем я с вами здесь говорю. Программы, которые претендуют на то, чтобы гуманитарные науки ими руководствовались, не имеют, на мой взгляд, другой задачи, кроме как стать отраслью — выигрышной, конечно, хотя и вспомогательной — служения благам, то есть служения силам, положение которых стало более или менее шатким. А это влечет за собой, в любом случае, не менее систематическое заблуждение относительно многочисленных феноменов насилия, свидетельствующих о том, что блага отнюдь не приходят в мир как по маслу.
Другими словами, согласно формуле одного из немногих стоявших во главе Франции настоящих политиков, Мазарини, политика политикой, а любовь остается любовью.
Что касается того, что может в качестве науки претендовать на место, которое обозначено мною как место желания — то что это может быть? Так вот, не стоит в поисках далеко ходить. То, что занимает сегодня, на правах науки, место желания, есть не что иное, как то, что, собственно, и называют сегодня наукой — той самой наукой, что красуется в наши дни таким множеством открытий, именуемых обычно физическими.
Я полагаю, что в течение всего последнего исторического периода желание человека, которое так долго прощупывали, обезболивали, усыпляли моралисты, приручали деятели образования, предавали академии, просто-напросто укрылось, нашло себе убежище в самой тонкой, но и самой слепой, как показывает история Эдипа, страсти — страсти к знанию. Именно она, страсть эта, готова сегодня принять направление, у которого все еще впереди.
Одним из наиболее занимательных эпизодов истории науки является время, когда ученые и алхимики, начав потихоньку расправлять крылья, развернули перед лицом власть имущих рекламу собственной деятельности, говоря им —.Дайте нам денег, и вы даже представить себе не можете, сколько механизмов и других разных полезных штук предоставим мы к вашим услугам. Почему власти попались на эту удочку? Ответ нужно искать в крушении, до известной степени, традиционной мудрости. Фактом является то, что на удочку они попались-таки, что наука завоевала доверие, и нам сейчас предстоит за это расплачиваться. Поразительная вещь, но кому из тех, что находятся ныне на переднем крае науки, не довелось живо осознавать, что они приблизились вплотную к ненависти. Они сами потрясены бывают одолевающими их периодическими приступами тяжкого чувства вины. Но это не имеет значения, так как, по правде говоря, это не тот случай, когда муки совести г-на Оппенгеймера могут не сегодня-завтра что-нибудь изменить. И все же именно здесь лежит предназначенный будущему секрет проблемы желания.
Организованный социум оказывается перед проблемой, которая состоит в том, чтобы понять, что делать ему с этой наукой, в которой очевидно происходят процессы, природа которых от него ускользает. Наука, которая занимает место желания, если и может быть наукой желания, то разве лишь в форме гигантского вопросительного знака, и на то есть причины структурного характера. Другими словами, наука одушевляется неким таинственным желанием, но о том, что оно, это желание, имеет в виду, науке известно не больше, чем обо всем остальном, что в бессознательном пребывает. Это покажет будущее, и, как знать, может быть обнаружится ответ как раз в тех, кто, милостью Божьей, съел книгу не так давно, в тех самых, кто не поколебался написать книгу западной науки собственным потом и кровью — от чего она, книга эта, менее съедобной не стала?
Я уже говорил вам недавно о Менции. Высказав по поводу человеческой доброты соображения, счесть которые оптимистичными было бы с вашей стороны ошибкой, он прекрасно объясняет, отчего люди менее всего сведущи именно в законах небесного происхождения, тех самых, которым повинуется Антигона. Доказательство, приводимое им, отличается большой строгостью, но сейчас поздно уже его приводить. Законы неба, о которых у него идет речь, и суть как раз законы желания.
О том, кто съел книгу, а вместе и тайну, что с нею связана, можно, разумеется, поинтересоваться, добр ли он, или зол. Но ясно теперь, что вопрос этот не имеет значения. Важно знать не то, добр человек или зол изначально, важно знать, что даст ему книга, когда она окажется до конца съедена.
6 июля I960 года.

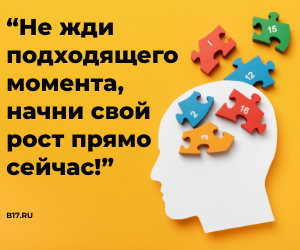

Комментарии к книге «Этика психоанализа (1959-60)», Жак Лакан
Всего 0 комментариев