Предисловие
Хотя экзистенциальное направление и является самым значительным из появившихся в европейской психологии и психиатрии на протяжении двух последних десятилетий в США, оно стало известно только несколько лет назад. С тех пор некоторые из нас обеспокоены тем, что оно может стать слишком популярным в некоторых сферах, особенно в национальных журналах. Но мы можем утешиться словами Ницше: "У первых приверженцев какого-либо движения не бывает аргументов против него".
Мы также можем успокоить себя замечанием о том, что в настоящее время есть две причины, побудившие интерес к экзистенциальной психологии и психиатрии в этой стране. Первая – стремление примкнуть к движению, имеющему шансы на успех, стремление всегда опасное и практически бесполезное и для познания истины, и для попыток понять человека и его отношения. Другое стремление – более спокойное, глубокое, выражается в мнении многих наших коллег, которые считают, что доминирующее сегодня в психологии и психиатрии представление о человеке неадекватно и не дает нам той основы, в которой мы нуждаемся для развития прикладной психотерапии и различных исследований.
Все, что есть в этой книге, исключая библиографию и некоторые отрывки, добавленные к первой главе, было представлено на симпозиуме по экзистенциальной психологии Американской психологической ассоциации в Цинциннати в сентябре 1959 года. Мы приняли предложение "Рэндом Хауз" издать эти статьи не только из-за большого интереса, проявленного к ним на симпозиуме, но и из-за нашего убеждения в том, что дальнейшие исследования в этой области являются абсолютно необходимыми. Мы надеемся, что эта книга сможет послужить стимулом для студентов, интересующихся данной проблемой, и сможет подсказать темы и вопросы, которыми следует заняться.
Таким образом, наша цель состоит не в том, чтобы дать систематическое представление об экзистенциальной психологии или ее характеристику – это пока не может быть сделано. Настолько, насколько это возможно, это осуществлено в первых трех главах сборника "Экзистенция" (17)[1],[2]. Эти статьи скорее пытаются показать, как и почему некоторые из тех, кто интересуется экзистенциальной психологией, "встали на этот путь". Некоторые из этих статей импрессионистские, такими они и были задуманы. Глава, написанная Маслоу, освежающе пряма: "Экзистенциальная психология – что в ней есть для нас?" Статья Фейфела иллюстрирует, как этот подход дает нам возможность психологического исследования такой значительной области, как отношение к смерти; отсутствие исследований этой проблемы в психологии давно бросается в глаза. Во второй главе я пытаюсь представить структурную основу психотерапии в русле экзистенциальной психологии. В статье Роджерса обсуждается в основном отношение экзистенциальной психологии к эмпирическим исследованиям, комментарии Олпорта относятся к некоторым общим выводам наших исследований. Мы надеемся, что библиография, составленная Лайонсом, будет полезной студентам, которые захотят прочесть что-нибудь еще о многочисленных проблемах в этой области.
Ролло Мэй
1. Ролло Мэй. ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ
В этом вступительном эссе я бы хотел рассказать о том, как появилась экзистенциальная психология, особенно на американской сцене. Затем я хотел бы обсудить некоторые "вечные" вопросы, которые в психологии задавали многие из нас, вопросы, взывающие, как нам кажется, именно к экзистенциальному подходу, и обозначить некоторые новые акценты, которые этот подход придает центральным проблемам психологии и психотерапии. Наконец, я хочу указать на некоторые трудности и нерешенные проблемы, перед лицом которых стоит экзистенциальная психология сегодня.
Отметим для начала любопытный парадокс: несмотря на враждебность и явное недоверие по отношению к экзистенциальной психологии в этой стране, в то же время имеет место глубокое сходство между данным подходом и американским характером и мышлением как в психологии, так и в других областях. Экзистенциальный подход очень близок, например, к мышлению Уильяма Джеймса. Возьмите, например, его акценты на непосредственность опыта и единство мышления и действия, акценты, которые были для Джеймса такими же важными, как и для Кьеркегора. "Для индивида истинно лишь то, что он лично воплотил в действии" – эти слова, провозглашенные Кьеркегором, хорошо знакомы многим из нас, воспитанным в духе американского прагматизма. Другим аспектом работ Уильяма Джеймса, выражающим тот же подход к реальности, что и экзистенциальные психологи, является важность решимости и включенности – его убежденность в том, что невозможно узнать истину, восседая в кресле, а желание и решимость являются предпосылками к открытию истины. Далее, его гуманистическая направленность и полнота его бытия как человека позволили ему включить в свою систему размышлений искусство и религию, не жертвуя научной целостностью, – это представляет собой другую параллель с экзистенциальной психологией.
Но эта удивительная параллель при ближайшем рассмотрении перестает казаться столь неожиданной, поскольку, когда Уильям Джеймс вернулся в Европу во второй половине XIX века, он, как Кьеркегор, который писал тремя десятилетиями ранее, подключился к наступлению на гегелевский панреализм, который отождествлял истину с абстрактными концепциями. Оба, и Джеймс, и Кьеркегор, посвятили себя переоткрытию человека как существа полного жизни, решимости и непосредственного опыта бытия. Пауль Тиллих писал:
"Как американские философы Уильям Джеймс и Джон Дьюи, так и философы-экзистенциалисты отказались от идеи о "рациональном" мышлении, отождествляющем Реальность с объектом мысли, с отношениями или "сущностями", в пользу такой Реальности, какой человек ее воспринимает непосредственно в своей действительной жизни. Следовательно, они заняли место рядом с теми, кто рассматривает непосредственный опыт человека как более полное открытие сущности и отдельных черт Реальности, чем познавательный опыт человека" (68).
Это объясняет, почему те, кто интересуется терапией, в большей степени готовы иметь дело с экзистенциальным подходом, чем те наши коллеги, которые заняты лабораторными исследованиями или созданием теорий. Нам по необходимости приходится иметь дело непосредственно с бытием человека, который страдает, борется, переживает различные конфликты. Этот "непосредственный опыт" становится нашим естественным окружением, и дает нам как повод, так и данные для нашего исследования. Нам приходится быть подлинно реалистичными и "практичными" в том отношении, что мы имеем дело с пациентами, чьи тревоги и страдания не будут излечены теориями, какими бы блестящими они ни были, или какими бы то ни было всеобъемлющими абстрактными законами. Но посредством взаимодействия в процессе психотерапии мы получаем такую информацию и достигаем такого понимания человеческого бытия, которого невозможно было бы достичь каким-либо другим путем; никому не откроются глубинные уровни его существа, скрывающие его страхи и надежды, иначе как через болезненный процесс исследования его конфликтов, благодаря которому он имеет некоторую надежду на преодоление барьеров и облегчение страданий.
Тиллих назвал Джеймса и Дьюи философами, но они, конечно же и психологи, – возможно, наши величайшие и наиболее влиятельные и во многом самые типичные американские мыслители. Взаимовлияние этих двух дисциплин указывает на другой аспект экзистенциального подхода: он имеет дело с психологическими категориями – "опыт", "тревога" и так далее, – но он интересуется пониманием этих аспектов человеческой жизни на более глубоком уровне, который Тиллих назвал онтологической реальностью. Было бы ошибкой думать об экзистенциальной психологии как о воскресении старой "философской психологии" девятнадцатого века. Экзистенциальный подход не представляет собой движения назад к кабинетным спекуляциям, но является попыткой понять человеческое поведение и опыт с помощью основополагающих структур, – структур, лежащих в основе нашей науки и нашего представления о человеке. Это попытка понять природу тех людей, которые получают опыт, и тех, с которыми это только случается.
Эдриан ван Каам в обзоре работ европейского психолога Линшотена описывал, как поиски Уильямом Джеймсом нового образа человека как более широкой основы для психологии привели его прямо к самому центру развития феноменологии. (О феноменологии как первой стадии развития экзистенциальной психологии мы расскажем далее.) Резюме ван Каама настолько близко к нашей теме, что мы процитируем его дословно:[3]
"Один из ведущих европейских экзистенциальных феноменологов Линшотен написал книгу "По направлению к феноменологии" ("Toward a Phenomenology") с подзаголовком "Психология Уильяма Джеймса". На первой странице была напечатана фраза из книги Уильяма Джеймса "Беседы с учителями": "Это неправда, что наш западный здравый смысл никогда не поверит в существование феноменологического мира". Во вступлении к этой книге Линшотен цитировал дневник Гуссерля, в котором отец европейской феноменологии отмечал влияние Джеймса, этого великого американца, на свои собственные взгляды".
Эта книга в хорошо документированной форме демонстрирует, что невыраженная идея Джеймса была реализована в прорыве нового экзистенциального культурного сознания. Джеймс пробирался на ощупь к новой, смутно угадываемой фазе в истории западного мира. Сложившийся как мыслитель в прежний культурный период, он благоволил психологии такой, какой она практиковалась, но он непрерывно выражал неудовольствие исключительной односторонностью "существования"[4] в мире. Линшотен приходит к выводу в своей заключительной главе, что Джеймс был на пути к феноменологической психологии раньше Бьютендика, Мерло-Понти и Страуса, и уже был впереди них в своей концепции интеграции объективизирующей психологии со структурой описательной психологии.
Гений Джеймса предвидел антропологическую фазу (проблема определения человека) нового культурного периода до того, как его современники осознали первые две фазы. Джеймс утверждал, что механистическая интерпретация мира может быть соединена с телеологической интерпретацией. Это возможно потому, что они являются различными образами существования в одном и том же "переживаемом мире". Каждый должен осознать, что "более существенные особенности реальности обнаруживаются только в воспринимаемом опыте", что различные способы проявления в мире должны обязательно привести к видению этого феномена в различных комбинациях, должны привести к различным вопросам, на которые могут быть получены различные ответы.
Недостатки систематизации в работе Джеймса основаны на представлении о том, что единство человека и мира не зависит ни от какого "рационального метода", но зависит от единства дорационального мира, мира переживаний, первоисточника разных ориентации вопросов, которые служат направлениям для различных наук и различных психологических подходов. Этот основной всеобщий источник обладает двумя аспектами: один является источником переживаний, а другой – переживаниями как таковыми. Таким образом, можно выбрать один из двух подходов: одни могут описывать и анализировать непосредственные переживания и тело как основной способ проявления в мире, как это и было сделано такими исследователями, как Мерло-Понти, Страус и Бьютендик; другие могут описывать и анализировать непосредственный опыт и тело во временно-пространственной связанности с переживаемой "реальностью", как это и было сделано такими исследователями, как Скиннер, Халл, Спенс. Первый путь ведет к тому, что называется описательной психологией, другой – к объяснительной психологии. Как только одна из них сочтет свою точку зрения абсолютной, они не смогут больше общаться одна с другой. Джеймс старался сохранить их взаимодополняющими. Это возможно только на основе теории человека как цельного источника непосредственных переживаний, теории его особенного способа существования, феноменологии переживаемого мира, которая подразумевалась Джеймсом[5].
Здесь мы остановимся, чтобы определить термины. Экзистенциализм означает сосредоточение на существовании личности; это акцент на человеческом бытии в том виде, в котором оно проявляется, становится. Слово "существование" ("existence") пришло от корня ex-sistere, означавшего буквально "выделяться, появляться". Традиционно в западной культуре "существование" противопоставляют "сущности", последняя подчеркивает принципы, истину, логические законы и т.д., которые предполагаются расположенными над любым данным существованием. Пытаясь разделить реальность на отдельные части и сформулировать абстрактные законы каждой из этих частей, западная наука все более и более становилась "сущностной" по своему характеру; математика – это основная, чистая форма этого сущностного подхода. В психологии попытки рассмотреть человеческое бытие в терминах сил, влечений, условных рефлексов и т.п. иллюстрируют сущностный подход.
Акцентирование сущности было доминирующим в западной мысли и науке – при небольшом числе ярких исключений, таких, как Сократ, Августин и Паскаль, – приблизительно до середины прошлого века. "Пик" был достигнут: наиболее систематическое и полное выражение "сущностный подход" получил в гегелевском панрационализме, который был попыткой объять всю реальность системой концепций, отождествляющих реальность с абстрактной мыслью. Как раз против Гегеля так энергично выступали Кьеркегор, а позднее – Ницше (читателю, который хочет проследить историческое развитие этой проблемы более детально, рекомендуем первую главу сборника "Экзистенция").
Но за несколько десятилетий, прошедших после второй мировой войны, статус экзистенциального подхода поднялся от "приемного ребенка" западной культуры до доминантной позиции в центре западного искусства, литературы, теологии и философии. Это было сделано параллельно с новым направлением развития в науке, особенно в физике Бора и Гейзенберга.
Крайняя степень выраженности экзистенциальной позиции обнаруживается в утверждении Ж.-П.Сартра о том, что только в той мере, в которой мы подтверждаем свое существование, мы обладаем какой-либо сущностью, т.е. "существование предшествует сущности". Это и есть основная причина, по которой Сартр настаивал на выводе: "Мы сами – наш выбор".
Моя личная позиция, как, впрочем, и позиция большинства психологов, признающих ценность экзистенциальной революции, не является такой крайней, как позиция Сартра. "Сущности" не должны быть исключены – они предполагаются в логических, математических формах, других взглядах на истину, независящих от индивидуальных решений и причуд. Но нельзя сказать, что вы сможете адекватно описать или понять бытие другого человека или любого другого живого организма на "сущностной" основе. Для бытия другого человека нет таких понятий, как истина и реальность без его участия в них, сознавания их и наличия какого-либо отношения к ним. В любой момент психотерапевтической работы можно продемонстрировать, что только истина, которая ожила, стала больше чем просто абстрактной идеей, которая "чувствуется на кончиках пальцев", только такая истина, которая подлинно переживается на всех уровнях бытия, включая то, что мы называем подсознательным и бессознательным и не забывая об элементах сознательного принятия решения и ответственности, – только такая истина имеет возможность изменить человеческое бытие.
Поэтому экзистенциальный подход в психологии не отрицает истинности подходов, основанных на обусловливании, формулировке влечений, изучении дискретных механизмов и так далее. Он только придерживается того взгляда, что на этой основе вы никогда не сможете объяснить и понять бытия живого человека. Когда образ человека, предположения о нем основываются исключительно на таких методах, это ни к чему хорошему не приводит. Вот этот "закон" в действии: чем более точно и всесторонне вы можете описать данный механизм, тем больше вы упускаете из виду существующую личность. Чем более четко и точно вы определите силы и влечения, тем больше вы будете говорить об абстракциях, а не о существовании, бытии живущего человека. В жизни человек (не загипнотизированный или ради эксперимента не введенный посредством наркотиков либо каким-либо иным способом в искусственное состояние в лабораторных условиях, при которых элементы принятия решения или ответственности за собственное существование временно аннулируются) всегда выходит за пределы данного механизма и всегда использует влечения и силы уникальным способом. Разница только в том, "рассматривать ли личность в терминах механизма" или "механизм в терминах личности". Экзистенциальный подход твердо выбирает последнее. И придерживается того мнения, что первый может быть включен в последний.
Правда, термин "экзистенциальный" в наши дни сомнителен и запутан и ассоциируется с движением битников как одна крайность и с изотерическими, непереводимыми немецкими философскими концепциями как другая. Правда также, что это движение собирает вокруг себя фанатиков, от которых не свободны ни экзистенциальная психология, ни психиатрия. Я часто спрашиваю себя, не стал ли этот термин настолько неопределенным, что его уже невозможно использовать. Но термин "экзистенция" действительно имеет важное историческое значение, обрисованное ранее, и, возможно, поэтому может и должен быть сохранен от искажающих интерпретаций.
В психологии и психиатрии этот термин означает установку, особый подход к человеческому бытию, а не специальную школу или группу. Сомневаюсь, имеет ли смысл говорить об "экзистенциальном психологе или психотерапевте" в противовес другим школам; это не система терапии, а установка по отношению к терапии; не набор новых техник, а интерес к пониманию структуры человеческого бытия и его переживаний, который должен предшествовать всем техникам. Поэтому имеет смысл сказать, если я буду правильно понят, что любой психотерапевт является экзистенциальным в той мере, в какой он хороший терапевт, т.е. насколько он оказывается способным воспринять пациента в его реальности и характеризуется способами понимания и присутствия, которые будут описаны ниже.
Я бы хотел, после всех комментариев по поводу определений, быть экзистенциалистом в этом эссе и говорить, исходя непосредственно из своего опыта, как личного, так и опыта практикующего психоаналитика и психотерапевта. Около 15 лет назад, когда я работал над своей книгой "Смысл тревоги" ("The Meaning of Anxiety"), я провел 1,5 года в туберкулезном санатории. У меня было очень много времени, чтобы обдумать значение тревоги – в первую очередь, ее проявления в себе и своих пациентах. В течение этого времени я изучил только две книги, написанные о тревоге к нашему времени: "Проблема тревоги" Фрейда и "Концепция страха" Кьеркегора. Я оценил формулировки Фрейда, а именно, его первую теорию о том, что тревога – это появление подавленного либидо, и вторую теорию о том, что тревога – это реакция эго на угрозу потери любимого объекта. Кьеркегор, напротив, описывал тревогу как борьбу бытия с небытием – которую я сам мог непосредственно пережить в санатории, борясь со смертью или с перспективой остаться инвалидом на всю жизнь. Он хотел обратить внимание на то, что настоящий ужас, проявляющийся в тревоге, – это не смерть как таковая, а тот факт, что каждый из нас находится одновременно по обе стороны баррикады, что "тревога – это болезнь, которой человек страшится", – писал он; таким образом, как "чужеродная сила, она держит человека в своих объятиях, и он никак не может вырваться".
Что меня сильно поразило, так это то, что Кьеркегор писал именно о том, через что прошел я и мои пациенты. А Фрейд нет; он писал на другом уровне, давал формулировки психическим механизмам, благодаря которым появляется тревога. Кьеркегор описывал именно переживания человека во время кризиса. В частности, это был кризис противостояния жизни и смерти, который полностью реален для нас, пациентов, но он писал о таком кризисе, который, я думаю, по сути своей не отличается от различных кризисов людей, пришедших на терапию, или даже от кризисов, которые все мы переживаем в далеко не минутной форме десятки раз в день, даже когда мы отталкиваем прочь мысль о грядущей перспективе смерти. Фрейд писал на техническом уровне, здесь его гений превзошел всех; возможно, больше, чем все люди его времени, он знал о тревоге. Кьеркегор – гений другого порядка, – писал на экзистенциальном, онтологическом уровне; он знал тревогу.
Это не ценностная дихотомия; очевидно, что оба подхода необходимы. Настоящая проблема, до некоторой степени, появляется благодаря культурно-исторической ситуации. Мы на Западе являемся наследниками четырех веков технических достижений в области власти над природой, а теперь и над нами самими; в этом наше величие и в то же время – самая большая опасность. Опасность не в том, что мы не учитываем какие-то технические моменты (что подтверждается, если необходимы, конечно, какие-то подтверждения, огромной популярностью Фрейда в этой стране). Скорее мы подавляем противоположное. Если позволите использовать термин, который я буду обсуждать и определять более полно позднее, то я бы сказал, что мы подавляем смысл бытия, онтологический смысл. Одним из следствий подавления смысла бытия является то, что у современного человека образ самого себя, его опыт и концепция самого себя как ответственного индивида также отделены друг от друга.
Я не буду извиняться за то, что, как уже было ясно, воспринимаю всерьез опасность дегуманизации в тенденции современной науки переделать человека до образа машины, до образа техник, при помощи которых мы его изучаем. Эта тенденция не является виной каких-либо "опасных людей" или "дефектных школ"; это, скорее, кризис воспитания в нашем особенном затруднительном историческом положении. Карл Ясперс, психиатр и экзистенциальный философ, считает, что мы действительно находимся в процессе потери самосознания и вполне можем оказаться на последнем этапе человеческой истории. Уильям Уайт в своей книге "Организация человека" предостерегает, что враги современного человека могут обернуться "хорошо выглядящей группой терапевтов, которые... сделают все, чтобы помочь вам". Он указывает здесь на тенденцию использовать социальные науки в поддержку социальной этики нашего исторического периода; и, таким образом, процесс помощи людям может действительно приспособить и направить в сторону деструкции индивидуальности. Мы не можем отбросить предостережения таких людей, как неинтеллектуальные или антинаучные; попытка поступить так может сделать нас обскурантистами. Это реальная возможность того, что мы можем помочь привести индивида в порядок и сделать его счастливым ценой потери его бытия.
Кто-нибудь может согласиться с моей точкой зрения, изложенной выше, хотя будет придерживаться мнения, что экзистенциальный подход с такими терминами, как "бытие" или "небытие", не может принести много пользы. Некоторые читатели сразу же решат, что их подозрения были оправданы, что так называемый экзистенциальный подход безнадежно неясен и ужасно запутан. Карл Роджерс отметит в последующей главе, что множество американских психологов должны найти эти термины отвратительными, потому что они звучат так обще, так философски, так непроверяемо. Роджерс, однако, продолжает указывать на то, что он не испытывал трудностей в переложении экзистенциальных принципов в терапии в эмпирически проверяемые гипотезы.
Но я должен продолжить и подтвердить, что без понятий "бытие" и "небытие" мы не сможем понять даже самые часто используемые психологические механизмы. Возьмем, например, такие, как подавление, сопротивление и трансформация. Обычные обсуждения этих терминов зависают в воздухе, они, как мне кажется, неубедительны и психологически нереальны, именно потому, что мы испытываем недостаток в низлежащих структурах, на которых они могут базироваться. Термин "подавление", например, очевидно относится к феномену, наблюдаемому нами постоянно, динамику которого Фрейд ясно и во многих проявлениях описал. Механизм в целом объясняется фразой, что ребенок подавляет определенные импульсы, такие, как половое влечение и враждебность, потому что культура в лице родителей их не одобряет, и ребенок должен обеспечить себе безопасность в общении с ними. Но культура, притворно не одобряющая эти импульсы, состоит из тех же людей, таким же образом их подавляющих. Поэтому не слишком ли большим упрощением будет говорить о культуре как полностью противопоставленной индивиду и стоящей над нами с палкой? Более того, откуда мы взяли идею о том, что дети или взрослые настолько беспокоятся о безопасности и удовлетворении либидо? И не переносится ли это от работы с невротичными, тревожными детьми и невротичными взрослыми?
Конечно, невротичные, тревожные дети вынуждены беспокоиться, например, о безопасности; и, конечно, взрослый невротик, и мы, изучающие его, привносим наши формулировки в голову ничего неподозревающего ребенка. Но не точно ли так же нормальный ребенок заинтересован в выхождении в мир, исследовании, подчиняясь любопытству и духу приключений, как и продолжает "учиться дрожать и трястись", как сказано в детском стишке? И если вы блокируете эти нужды ребенка, не вызываете ли вы у него такой же травматической реакции, как если вы лишаете его безопасности? Я, во-первых, думаю, мы сильно преувеличиваем связь человеческого бытия с безопасностью и инстинктом выживания, потому что она хорошо подходит для нашего причинно-следственного мышления. Мне кажется, Ницше и Кьеркегор были более правы, описывая человека как организм, который создает некие ценности – престиж, власть, нежность, любовь, – более важные, чем удовольствие, и даже более важные, чем собственное выживание[6].
Из приведенных выше аргументов следует, что мы в состоянии понять такие механизмы, как, например, подавление, только на более глубинном уровне возможностей значения человеческого бытия. В этом аспекте "бытие" должно быть определено как индивидуально-неповторимый рисунок возможностей. Эти возможности будут частично совпадать с возможностями других индивидуумов, но в любом случае они будут частью неповторимой структурры конкретной личности.
Поэтому мы должны задать следующие вопросы, если мы хотим понять подавление у данной личности: что представляет собой отношение личности к своим собственным возможностям; что происходит такого, что она выбирает или вынуждена выбирать загораживание сознания от чего-то, что она знает, или на другом уровне знает, что она знает? В моей психотерапевтической практике появляется все больше и больше доказательств того, что тревога в наши дни появляется не столько из боязни нехватки либидозного удовлетворения или безопасности, сколько из боязни пациента своих собственных сил и конфликтов, возникающих из этого страха. Это может быть отличительной особенностью "невротической личности нашего времени" – невротический стереотип современного "управляемого извне" общественного человека.
"Бессознательное", таким образом, не должно восприниматься как резервуар для импульсов, мыслей и желаний, неприемлемых в данной культуре. Я определяю его скорее как те возможности для узнавания или переживания, которые личность не может или не хочет воплощать в действительность. На этом уровне мы обнаружим, что простой механизм подавления, с которого мы так радостно начали, бесконечно более прост, чем кажется; что он включает в себя комплекс борьбы индивидуального бытия против возможности небытия; что он не может быть адекватно включен в понятия "эго" и "не-эго" или даже "самость" и "не-самость"; и что неизбежно возникает вопрос свободы человеческого бытия в отношении его собственных возможностей. Эта зона свободы должна учитываться, если кто-то имеет дело с реально существующей личностью. В этой зоне всегда имеет место ответственность за себя, которую даже терапевт не может устранить.
Таким образом, каждый механизм или динамика, каждая сила или побуждение, предполагает нижележащие структуры, которые являются бесконечно более значимыми, чем сами эти механизмы, побуждения или силы. И заметьте, что я не говорю, что это "общая сумма" механизмов и т.д. Это не "общая сумма", хотя она включает в себя все механизмы, побуждения и силы: это та более глубоко лежащая структура, от которой они получают свое значение. Эта структура представляет собой, используя наше определение, данное выше, рисунок возможностей отдельного живого человека, одним из проявлений которого является этот механизм; данный механизм оказывается одним из множества способов воплощения его возможностей в действительность. Конечно, вы можете абстрагировать любой данный механизм, такой, как "подавление" или "регрессия", для изучения и свести его к соотнесению сил и побуждений, которые кажутся действующими; но ваше исследование будет иметь смысл только в том случае, если вы на каждом этапе будете говорить себе: "Я выделяю из поведения то-то и то-то", – и если вы также будете ясно представлять на каждом этапе из чего вы выделяете эти механизмы, а именно, из живущего человека, имеющего данный опыт, человека, с которым все это случается.
С этим настроением я в течение нескольких лет, как практикующий терапевт и как человек, обучающий терапевтов, задумывался над одним и тем же вопросом: насколько часто интерес и стремление понять пациента в терминах механизмов, которыми управляется поведение, блокируют понимание того, что человек действительно переживает. Вот, например, пациентка миссис Хатчинс (вокруг которой будет сосредоточена часть моих заметок в главе 4), которая пришла ко мне в первый раз, жительница пригорода лет 35, старающаяся произвести впечатление уравновешенной и умудренной опытом. Но трудно не заметить в ее глазах какого-то ужаса испуганного животного или потерявшегося ребенка. Я знаю от специалистов по неврологии, обследовавших ее, что ее главной проблемой является истерическая напряженность гортани, вследствие которой она может говорить только с непрекращающейся хрипотой. По ее результатам, полученным с помощью теста Роршаха, я выдвинул гипотезу, что она всю свою жизнь ощущала то, что можно выразить следующей фразой: "Если я скажу, что я действительно чувствую, то буду отвергнута; в таких условиях лучше не говорить ничего". В течение первого часа работы с ней я также получил несколько намеков на то, почему развилась ее проблема, так как она рассказала мне об авторитарном отношении к ней ее матери и бабушки и о том, как она училась твердо избегать разглашения любых своих секретов.
Но если уж я терапевт, я буду в основном задумываться над тем, почему и как возникла эта проблема, я пойму все, кроме самого важного момента – существующей личности. Действительно, у меня будет все, кроме единственного настоящего источника данных, имеющихся у меня, а именно, – это бытие человека, эту сейчас возникающую, становящуюся, "строящую мир" личность, которую отметил бы экзистенциальный психолог, находясь в одной комнате со мной.
Как раз здесь феноменология – первая стадия в экзистенциально-психологическом движении – для многих из нас будет полезным прорывом. Феноменология пытается принимать феномен как данное. Это дисциплинирующая попытка очистить мысли от предположений, которые так часто являются причиной восприятия нами в пациенте только собственных теорий и догм собственных систем, попытка взамен этого испытать феномен в своей реальной целостности. Это установка открытости и готовности слушать – аспекты искусства слушать в психотерапии, которое считается обычно само собой разумеющимся и кажется очень простым, но является чрезвычайно сложным.
Заметьте, что мы написали пережить феномен, а не наблюдать; мы должны быть в состоянии понять настолько глубоко, насколько возможно то, что пациент общается на множестве разных уровней; это включает не только слова, которые он произносит, но и выражения его лица, жесты, расстояние от нас, на котором он находится, различные чувства, которые он будет испытывать, которые искусно обращены к терапевту и будут служить ему в качестве опорных точек, даже если пациент, в конце концов, не сможет их точно вербализовать. Всегда существует много сублимируемых коммуникаций на нижележащих уровнях, которые как пациент, так и терапевт могут осознать в данный момент. Эти идеи указывают на спорную область в терапии, в которой трудней всего чему-нибудь научить и что-либо сделать, но от нее нельзя спрятаться, и поэтому она так важна – это возвышенная, эмпатийная, "телепатическая" коммуникация. В эту область мы не будем углубляться; я хотел бы только сказать, что переживание коммуникаций пациента на множестве разных уровней одновременно является одним из аспектов того, что экзистенциальные психиатры, такие, как Бинсвангер, называют присутствием.
Феноменология нуждается в "установке дисциплинирующей наивности" – писал Роберт Мак-Леод. Комментируя эту фразу, Альберт Вэллек добавил свою: "способность критически испытать на опыте". По моему мнению, человек не может слушать какие-либо слова или даже обращать на что-то внимание без каких-то общих понятий, конструктов в собственной голове, посредством которых он слышит, благодаря которым он ориентирует сам себя в мире в данный момент. Важные для трудного приобретения объективности термины "дисциплинировать" в высказывании Мак-Леода и "критично" в комментарии Вэллека, которых я цитировал, – означают, что, пока у любого человека, для того чтобы слушать, должны быть конструкты, задача терапевта сделать свои собственные конструкты достаточно гибкими, чтобы он мог слушать в терминах пациента и слышать на языке пациента.
У феноменологии есть много комплексных ответвлений, особенно таких как разработанный Эдмундом Гуссерлем, который решительно повлиял не только на философов Кьеркегора и Сартра, но и на психиатров Минковского, Страуса и Бинсвангера, психологов Бьютендика, Мерло-Понти и других. (Студенты могут найти обзор психологической феноменологии в главе, написанной Элленбергером в книге "Экзистенция", и далее в книгах, о которых написано в библиографии в конце данной книги.)
Иногда феноменологические акценты в психиатрии используются для того, чтобы относиться с презрением к изучению техник, или как повод для того, чтобы не изучать проблемы диагностики и клинической динамики. Я думаю, что это ошибка. Важно, скорее, уяснить тот факт, что техники и диагностические концепции находятся на разных уровнях понимания того, что имеет место при непосредственной встрече в психотерапии. Ошибкой является путать их или позволять одному поглощать другое. Студенты и практические психологи должны держать курс между Сциллой, опасностью позволить знанию техник заменить непосредственное понимание пациента и общение с ним, и Харибдой, допущения того, будто он работает в редкой атмосфере клинической чистоты вообще без каких-либо конструктов.
Конечно, это правда, что студенты, изучающие терапию, часто бывают поглощены техниками; это сильнейший снимающий тревогу механизм, имеющийся у них в наличии, в переполненных суматохой встречах в процессе психотерапии. Действительно, одна из сильнейших мотиваций догматизма и ригидных формулировок среди психотерапевтических и аналитических школ подобного типа лежит именно здесь – технические догмы защищают психолога и психиатра от собственной тревоги. Но в той же степени техники защищают психолога и психиатра от понимания пациента; они отгораживают его от всего происходящего при встрече, что является основой понимания того, что вообще происходит. Один студент на случайном семинаре по экзистенциальной психотерапии выразил это кратко, когда отмечал, что главное, что он здесь выучил – "из знания динамики не следует понимание".
Существует, однако, опасность "необдуманного эклектизма" при феноменологическом и экзистенциальном подходе к терапии, когда они используются без строгих клинических исследований и размышлений, которые предшествуют любой опытности. Знание техник и строгое изучение динамики должно предполагаться в обучении психотерапевтов. Наша ситуация аналогична положению художника: многочисленные и квалифицированные уроки необходимы, но, если в момент написания картины художник озабочен техникой или техническими вопросами – каждый художник знает, что такая озабоченность появляется именно в те моменты, когда какая-то тревога захватывает его, – он может быть уверен, никакого творчества не получится. Диагностика – законная и необходимая функция, обычно используемая в начале терапии, но это функция отлична от терапии, как таковой, и требует другой установки и ориентации по отношению к пациенту.
Если эта дискуссия выглядит незаконченной и оставляет впечатление становления "техник", с одной стороны, и "понимания" – с другой, то это впечатление вполне корректное. Вся тема "технико-объективной" версии "понимающе-субъективного" отношения располагается на ошибочно дихотомизированном базисе в психологических и психиатрических дискуссиях. Она должна обосновываться на базисе концепции существования пациента как бытия-в-мире и терапевта как существующего и принимающего участие в мире. Я не стану описывать здесь обоснования этого, но хочу отметить свое убеждение в том, что такая переформулировка возможна и обещает освободить нас от существующей в этом вопросе дихотомии. Но с другой стороны, я бы хотел из соображений практической целесообразности занять позицию против появляющихся антирациональных тенденций в экзистенциальном подходе. Хотя я верю, что терапевтами рождаются, а не становятся, каждому честному человеку должно быть присуще знание того факта, как многому еще можно научиться!
Другой вопрос, постоянно сбивающий с толку многих из нас, психологов, имплицитно уже упомянут выше, а теперь займемся им непосредственно. На каких предположениях основывается наша наука и практика? Я говорю не о "научном методе"; уже очень много времени было уделено, и это правильно, проблемам методологии. Но каждый метод основывается на определенных предположениях, – предположениях о природе человека, природе его переживаний и так далее. Эти предположения частично обусловлены нашей культурой и тем особым местом в истории, которое мы занимаем. Насколько я понимаю, эта критическая область почти всегда скрыта в психологии: мы стремимся принять некритично и имплицитно, что наш частный метод верен во все времена. Заявление о том, что наука построена на самокорректирующихся измерениях – что частично правда, – не может быть основанием тому, чтобы смотреть сквозь пальцы на тот факт, что наша частная наука культурно и исторически обусловлена и посредством этого ограничена даже в своих самокорректирующихся изменениях.
С этой точки зрения экзистенциальный подход настаивает на том, что, в связи с тем, что любая психология, любое понимание человека базируется на определенных предположениях, психолог должен непрерывно анализировать и прояснять свои собственные предположения. Некоторые предположения всегда ограничивают и сужают то, что человек видит в проблеме, эксперименте, терапевтической ситуации; этого аспекта человеческой "ограниченности" избежать нельзя. Натуралист понимает в человеке то, что подходит для его натуралистических спектаклей; позитивист видит те аспекты переживаний, которые подходят под логические формы его предположения; и хорошо известно, что разные терапевты – представители различных школ увидят в одном и том же сне конкретного пациента ту динамику, которая удовлетворяет теории их различных школ. Притча о слепых людях и слоне соответствует описаниям активности людей просвещенного двадцатого века, так же как и более "невежественных" времен. Бертран Рассел хорошо описал ту же проблему, но по отношению к физическим наукам: "Физика математична не потому, что нам известно так много о физическом мире, а потому, что мы знаем так мало; это только ее математическое имущество, которое может быть нам доступно".
Никто, ни физик, ни психолог, ни кто-либо другой, не сможет выпрыгнуть из своей исторически обусловленной оболочки. Но единственный способ, благодаря которому мы сможем оградить предположения, лежащие в основе любого частного метода, от чрезмерного эффекта предубеждения, – это осознавать, что они из себя представляют и не делать их абсолютом и догмой. Таким образом, у нас есть, наконец, шанс воздержаться от навязывания подчиненным или пациентам нашего прокрустова ложа.
В маленькой книге Людвига Бинсвангера, основанной на его беседах и переписке с Фрейдом, "Зигмунд Фрейд: воспоминания о дружбе" (84) есть несколько интересных моментов, иллюстрирующих эту точку зрения. Дружба между психоаналитиком Фрейдом и Бинсвангером, ведущим экзистенциальным психологом Швейцарии, была долгой и нежной, и это было только примером постоянства Фрейда в дружбе с кем-то, кто принципиально от него отличался.
Короче, перед восьмидесятым днем рождения Фрейда Бинсвангер написал эссе, описывающее то, насколько теория Фрейда радикально углубила клиническую психиатрию, но он добавил, что личный опыт Фрейда как личности оказался выше детерминирующих предположений его теории. "Теперь (учитывая психоаналитический вклад Фрейда) человек не является просто живым организмом, а "живущее бытие", имеющий источник в ограниченном жизненном процессе на земле, умирающий этой жизнью и живущий этой смертью; заболевание уже не является внешне или внутренне обусловленным нарушением "нормального" жизненного курса на пути к смерти". Но Бинсвангер продолжал указывать, что в результате своей заинтересованности в экзистенциальном анализе он верит, что в теории Фрейда еще не представлен человек в полном смысле этого слова:
"...быть человеком – значит не только быть живым существом, идущим от жизни к смерти, брошенным в жизнь и потрепанным ею, поднимаемым на вершины и сбрасываемым в пропасти; это означает бытие, которое выглядит собственной и общечеловеческой судьбой в одном лице, бытие, которое "стойко", то есть человек занимает свою собственную позицию, стоит на своих ногах... Тот факт, что наши жизни детерминированы силами обстоятельств – только одна сторона правды; другая состоит в том, что мы определяем эти силы, так же как и нашу судьбу. Только обе эти стороны вместе могут адекватно отразить проблему здоровья и болезни. Те, кто подобно Фрейду сами сделали свою судьбу – дееспособность его идей достаточное тому подтверждение, – будут оспаривать это менее всех".
Далее Венское медицинское общество пригласило Бинсвангера вместе с Томасом Манном на празднование юбилея – восьмидесятилетия Фрейда. Сам Фрейд не присутствовал, так как был не совсем здоров и, как он писал Бинсвангеру, не любил празднований юбилеев ("Они выглядят на американский манер"). Бинсвангер провел 2 дня с Фрейдом в Вене во время празднований и отметил, что в этих разговорах он вновь был впечатлен тем, насколько величие и глубина гуманизма Фрейда как человека превосходит его научные теории.
В записях о праздновании Бинсвангер писал о том, что Фрейд увеличил и углубил наше понимание человеческой природы, возможно, более чем кто-либо другой после Аристотеля. Но он продолжал настаивать, что это понимание было "научно-теоретическим одеянием, которое как целое кажется мне "односторонним" и узким". Он считал, что основной вклад Фрейда – в области человеческой природы, человека в отношении к природе (Umwelt) – влечний, инстинктов и подобных аспектов опыта. Как следствие, Бинсвангер верил, что в теории Фрейда была только тень; эпифеноменальное понимание человека в отношении к своим собратьям (Mitwelt) и в области отношений человека к самому себе (Eigenwelt) было совершенно опущено.
Бинсвангер послал копию записей Фрейду и неделю спустя получил от него письмо со следующими словами:
"Прочитав Ваше письмо, я был восхищен Вашим прекрасным языком, Вашей эрудицией, широтой Вашего горизонта, тактичностью, с которой Вы опровергаете меня. Хорошо известно, что любого можно вспугнуть большим количеством похвал... Естественно, благодаря этому Вам не удалось убедить меня[7]. Я всегда ограничивал себя первым этажом и фундаментом здания. Вы подчеркиваете, что изменив свою точку зрения, любой сможет увидеть более высокие этажи, где живут такие видные гости, как религия, искусство и т.д. Я уже нашел место для религии, расположив ее в категории "неврозов человечества". Но, возможно, наш спор и наши различия будут сглажены только через столетия. Передавайте привет своей очаровательной жене. Оставаясь Вашим любящим другом, Фрейд".
Бинсвангер добавил потом в своей книге – и это основная причина, по которой мы цитировали эту переписку, – "как видно из последних предложений, Фрейд смотрел на наши различия свысока, как на нечто такое, что нужно преодолевать при помощи эмпирических исследований, а не то, что имеет отношение к трансцендентным[8] концепциям, которые лежат в основе всех эмпирических исследований".
На мой взгляд, идея Бинсвангера неопровержима. Кто угодно может собирать эмпирические данные о религии и искусстве с сегодняшнего дня и до второго пришествия, но он не станет ближе к пониманию этих феноменов, если для начала его предположения не допускают существования того, чему религиозный человек посвящает себя, и того, что артист пытается сделать. Детерминистические предположения делают возможным понимание всего в искусстве, кроме акта творчества и самого искусства; механистические натуралистические предположения могут служить основой для многих фактов из области религии, но, как и в понимании Фрейда, религия всегда остается в большей или меньшей степени неврозом, а то, что подлинно связано с религиозной личностью никогда не попадет в поле зрения.
Позиция, которую мы хотим занять в этой дискуссии выражается в необходимости анализа предположений, сделанных кем-либо, и в предоставлении возможности существования секторам реальности, – которые могут быть достаточно большими, – которые любой частный подход упускает. По моему мнению, мы в психологии пресекали понимание и искажали восприятие из-за неудачной попытки прояснить эти предположения на сознательном уровне.
Сейчас я ярко вспоминаю дни моего обучения психологии в высшей школе двадцать лет назад, когда теорию Фрейда пытались отклонить как "ненаучную", потому что она не удовлетворяла модным тогда в высших школах психологии методам. Я придерживался тогда той точки зрения, что они упускают тот факт, что Фрейд открыл сферы человеческого опыта огромного значения, и если это не удовлетворяет нашим методам, то тем хуже для этих методов; проблема заключается в том, чтобы придумать новые. На самом деле методы оказались вполне подходящими, – до тех пор, пока не появился Роджерс, как возможно кто-нибудь мстительно добавит, – так что фрейдизм сейчас является догмой американской клинической психологии. Поэтому, вспоминая дни своего обучения, я склонен с улыбкой воспринимать то, как кто-либо говорит о том, что концепция экзистенциальной психологии "ненаучна", потому что она не соответствует тем частным методам, которые сейчас в моде.
Определенно ясно, что фрейдовские механизмы привлекают разделение на дискретные причинно-следственные формулировки, которые удовлетворяют той детерминистской методологии, которая доминирует в американской психологии. Но необходимо также видеть, что делая из фрейдизма догму, мы упускаем существенные и жизненно важные аспекты фрейдовской мысли. В настоящее время существует любовный треугольник между фрейдизмом, бихевиоризмом в психологии и позитивизмом в философии. Примером одной из сторон этой связи является большая схожесть между теорией научения – редукции влечений Халла и фрейдовской концепцией удовольствия, целью бихевиоризма как состоящей из редукции стимулов. Примером второй связи в этом треугольнике является заявление философа Германа Фейгла, которое он сделал в своей речи на недавно прошедшем ежегодном собрании Американской психологической ассоциации, о том, что специфические фрейдовские механизмы могут быть сформулированы и использованы научно, но такие понятия, как "инстинкт смерти", – нет.
Но проблема в том, что такие конструкты, как "инстинкт смерти", по Фрейду, как раз и являются теми элементами, которые спасают его систему от полной механистичности; эти конструкты всегда лежат по другую сторону от детерминистических ограничений его теории. Они являются мифологией, в лучшем смысле этого слова. Фрейд не довольствовался простым проникновениям мифологических измерений в свое мышление, несмотря на свое старание в то же время выразить психологические закономерности в биологических предположениях девятнадцатого века. На мой взгляд, его методология была основой величия его вклада и сущностью для его центрального открытия – "бессознательного". Она была также сущностью его радикального вклада в новый образ человека, а именно, человека, которым движут демонические, трагические и деструктивные силы. Я пытался где-то в другом месте показать, что фрейдовская трагическая концепция Эдипа гораздо ближе к истине, чем наша склонность интерпретировать эдипов комплекс в терминах раздельно-половых и враждебных отношений в семье. Формулировка "инстинкта смерти" как биологического инстинкта не имеет, конечно, никакого смысла, и в этом случае правильно отвергается бихевиоризмом и позитивизмом. Но как психологическое и духовное состояние трагической натуры человека идея имеет действительно большое значение и превосходит любую чисто биологическую или механистическую интерпретацию.
Методология всегда страдает от отставания культуры. Наша проблема состоит в том, чтобы охватить взглядом большую часть человеческого опыта, развить и освободить методы настолько, чтобы они, насколько это возможно, отдавали должное богатству и широте человеческого опыта. Это может быть сделано только при помощи анализа философских предположений. Сущность этой идеи выразил Маслоу во второй главе: "Чрезвычайно важно для психологов то, что экзистенциалисты могут снабдить психологию философскими основами, которых сейчас не хватает. Во всяком случае, основные философские проблемы несомненно должны быть снова подняты для обсуждения, и возможно психологи перестанут полагаться на псевдорешения или на бессознательные непроверенные философские идеи, которые они подбирают, как дети".
Высказав подобную позицию, нам нужно поспешить добавить, что это не разрешает всех трудных вопросов отношения экзистенциального исследования к науке. Встает, конечно же, законный вопрос о том, как типичные для экзистенциальной психологии и психиатрии предположения могут быть проверены. В пятой главе Карл Роджерс указывает для начала, как "онтологические принципы" могут изучаться и проверяться в эмпирической психологии. В Гарварде "тесты, составленные на основе экзистенциальных категорий, уже разработаны", – пишет Лоренц Первин (57). В Нью-Йорке прошло несколько семинаров по экзистенциальной психотерапии, которые пытались прояснить этот подход. Данные шаги – только начало; но я не вижу каких-либо непреодолимых преград в направлении научного изучения экзистенциальных предположений.
Но больше всего сбивает с толку и вводит в заблуждение вопрос, касающийся проблемы предсказания в науке. Насколько и до какой степени наука может предсказать поведение отдельного индивида? Первин в качестве примера неадекватности экзистенциального подхода приводит тот факт, что в том виде, в котором он задуман как воспринимающий индивида свободным и уникальным, он делает поведение индивида незаконным и непредсказуемым. Но "предсказуемое" – достаточно двусмысленный термин. И "законное" и "предсказуемое" не должно отождествляться. В психотерапии мы видим, что поведение невротической личности может быть предсказано достаточно жестко; это потому, что поведение такой личности – продукт обусловленности стереотипами и влечениями. Но. хотя здоровая личность "предсказуема" в том смысле, что ее поведение целостно и совершаемые поступки зависят от характера, она всегда демонстрирует новые аспекты в своем поведении. Ее активности свежи, спонтанны, интересны, и в этом смысле ее поведение противостоит невротику с его предсказуемостью. В этом сущность творчества. И опять же очень хорошо это изложил Маслоу: "Только гибкая творческая личность может действительно управлять будущим, только тот, кто может смотреть в лицо всему новому с уверенностью и без страха. Я убежден, что большая часть того, что мы сейчас называем психологией, является изучением трюков, которые мы используем для того, чтобы избежать тревоги перед абсолютно новым посредством того, что создаем веру в то, что будущее таково же, как и прошлое".
Я бы не хотел предлагать здесь решение этих проблем, на самом деле я нигде не смог бы их предложить. Я только хочу указать на то, что необходимо сделать известным наш взгляд на науку. Идеографическая психология Олпорта – это очень важный шаг; работы Роджерса – другой пример важной тенденции в развитии науки, не ограниченной старыми предположениями. Заинтересованность новой глубиной не ограничивается только так называемым экзистенциальным крылом в психологии. На симпозиуме, непосредственно предшествовавшем тому, на котором были первоначально прочитаны работы, составляющие эту книгу, Ричард Дана обсуждал ситуацию с обучением студентов психологии.
"Я подозреваю, обычным, характерным результатом 4-5 лет обучения стала осторожность – не глубина и широта эрудиции и возможность обобщать, – но явная осторожность. Под строгими условиями контроля скрывается разновидность выученной приверженности ограничивать выводы из полученных данных. Осторожность, несомненно, нужна в диагностическом тестировании или лечении людей, но одна только осторожность душит и ослепляет иных людей, даже профессионалов... Мы обладаем методологической фальсификацией; нам недостает серьезных концепций и, может быть, уменьшения профессионального потенциала для поколения теорий, озабоченных исключительно наукой. Чтобы быть уверенными, мы должны быть учеными, но сначала мы должны быть разумными людьми".
Позиция экзистенциальной психологии, на мой взгляд, не является совсем уж антинаучной. Но она настаивает на том, что будет смешно, если посвящение себя точной методологии ослепит нас при понимании человеческого бытия. Хелен Саргент выразила настроение многих в своем замечании: "Наука предлагает больше укрытий, чем выпускникам разрешено пользоваться".
Эдриан ван Каам очень удачно продемонстрировал, насколько феноменологический и экзистенциальный подходы важны даже для экспериментальной психологии, на обсуждении работ Линшотена:
"Дж.Линшотен, директор психологической лаборатории в Утрехтском университете, прояснил отношения между экзистенциальной феноменологией и экзистенциальной психологией. Он пояснил, что точность и адекватность экспериментального исследования требует феноменологического изучения сущностных характеристик феномена, и он определил феноменологический анализ как необходимую предпосылку для большей точности в экспериментировании. Он доказал, что феноменологический анализ, который показывает сущностные характеристики и сущностную структуру феномена, над которой и нужно экспериментировать, обладает логическим приоритетом для эксперимента как такового. Далее, использование феноменологического метода для того, чтобы добиваться более высокой точности в экспериментировании, не означает изменений в экспериментальной технике как таковой. Необходимость феноменологического анализа ситуации, по Линшотену, основывается на том факте, что нет такого феномена, действия или эксперимента, которые бы не были бы связаны с ситуацией. Во-вторых, нет такой ситуации, которая бы эксплицитно или имплицитно не подразумевала присутствия человеческой личности. Наконец, невозможно удалить влияние человека на ситуацию. Он также заставил нас осознать тот факт, что результаты, полученные в ситуации А, не могут быть объявлены валидными в ситуации В, пока с помощью феноменологического анализа не будет доказана структурная схожесть ситуаций А и В".
Дж. Икс написал книгу, касающуюся анализа этой ситуации и социопсихологического эксперимента. Он упоминает о помехах, которые создавало пренебрежение феноменологическим анализом ситуации, и иллюстрирует это обширным доказательством того, как Шериф ошибся при интерпретации количественных данных, полученных им в классическом исследовании 1935 года, так как пренебрег феноменологическим анализом ситуации. Он также показал, как феноменологический анализ ситуации приводит к созданию идеи нового эксперимента, который сможет исправить ошибки Шерифа. В конце книги он приводит результаты и других экспериментов, основанных на анализе ситуации.
Метод экзистенциальной феноменологии, используемый таким способом, приводит к перепроверке классических экспериментов и исправлению возможных неточностей, появляющихся благодаря отсутствию этих экзистенциальных критериев. Но мы уйдем от темы, если будем упоминать обо всех экспериментах, которые были перепроверены и исправлены этим способом, и новых экспериментах, осуществленных при более строгом доэкспериментальном контроле, который теперь возможен (176).
Разрешите мне предложить далее несколько принципов, которые, как мне кажется, необходимо включить в науку как руководящие и как основу в психотерапию. Во-первых, наука должна быть релевантна к различным характеристикам того, что мы пытаемся понять, в данном случае – человеческое бытие. Она должна быть релевантна, таким образом, тем отличительным качествам и характеристикам, которые и составляют человеческое бытие именно как человеческое, составляют самость именно как самость, характеристикам, без которых бытие не будет тем, каковым оно на самом деле является, а именно, человеческим бытием.
Второй руководящий принцип находится в оппозиции к предположению, господствующему в традиционной науке, что мы объясняем более комплексные вещи через более простые. Это в основном взято из модели эволюции: строение и деятельность организмов, находящихся выше на эволюционной шкале, объясняется по этим законам. Но это только половина истины. Такая же истина в том, что, когда появляются новые уровни комплекса (такие, как самосознание у человека), они становятся решающими для нашего понимания всех предыдущих. В этом смысле простое может быть понято и объяснено только в терминах более общего Этот момент чрезвычайно важен для психологии и обсуждается ниже более подробно вместе с темой самосознания.
Третий фундаментальный принцип состоит в том, что основная единица изучения в психотерапии – не "проблема", с которой пришел пациент, например, импотенция; или поведенческий стереотип, например, невротический стереотип садомазохизма; или диагностическая категория заболевания, например, истерия или фобия и т.д. Наша единица изучения скорее – существование-двух-личностей-в-мире, в мире, представленным в данный момент комнатой терапевта. Это позволяет быть уверенным в том, что пациент принес с собой все свои проблемы, "болезни", свою историю и все остальное, потому что все это составляет неотделимую его часть; но важно ясно понимать, что только один факт реален в данный момент, что он создает в кабинете консультанта некий мир, и в контексте этого мира может возникнуть понимание его бытия-в-собственном-мире. Этот мир и его понимание есть именно то, в чем соединяются две личности, пациента и терапевта.
Существует несколько областей, в которых экзистенциальный подход добавил новые измерения в обычные психологические исследования, о которых я упомяну не только в качестве иллюстрации того, что этот подход пытается сделать, но в качестве тем, которые могут заинтересовать студентов при дальнейшем изучении и исследовании.
Прежде всего экзистенциалисты делают акцент на волю и решение. Одним из основных вкладов Фрейда является прорыв сквозь тщетность и самообман викторианской "силы воли" как способности, благодаря которой наши предки "принимали решения" и подсознательно направляли свою жизнь по пути, который им предлагала культура. Фрейд открыл обширные области, в которых поведение и мотивы детерминируются бессознательными убеждениями, влечениями, страхами, прошлым опытом и так далее. Он был совершенно точен в диагностике болезненной стороны викторианской "силы воли".
Но наряду с этими акцентами происходил неизбежный подрыв авторитета функций воли и решения как таковых, и также неизбежное появление акцента на понимании человека как детерминированного, ведомого, "живущего бессознательным", как Фрейд, соглашаясь со словами Гродека, излагал это. Это стало некой всеобъемлющей тенденцией, почти болезнью в середине XX века, видеть себя пассивным, считать себя продуктом сокрушительного воздействия экономических сил (как это параллельно Фрейду продемонстрировал Маркс с помощью блестящего анализа на социально-экономическом уровне). В последние годы эта тенденция получила подкрепление в форме убеждения человека в том, что он беспомощная жертва науки в виде атомной бомбы, относительно использования которой обычный человек чувствует себя неспособным что-либо сделать. Основная суть "невроза" современного человека в том, что он не чувствует себя в полной мере ответственным, в истощении его воли и решимости. И этот недостаток воли больше, чем просто этическая проблема: современный человек убежден в том, что, даже если он действительно напряжет свою "волю", это ничего не изменит.
Такой взгляд противоречит тем тенденциям, которые экзистенциалисты, подобные Кьеркегору и Ницше, сделали своей сильнейшей и наиболее убежденной позицией. В свете такой ситуации, характеризуемой сломленной волей современного человека, становятся понятны экзистенциальные акценты Шопенгауэра с его миром как "волей и представлением", Бергсона с его "elan vital" (сила жизни), Уильяма Джеймса с его "волей к вере".
Протест экзистенциалистов был сильным, временами отчаянным (как у Ницше), временами благородным и очень смелым (как в движении сопротивления Камю и Сартра), даже если многим наблюдателям он казался неэффективным против надвигающейся лавы конформизма, коллективизма и роботизации человека. Основная декламация экзистенциалистов такова: независимо от того, насколько могущественные силы влияют на человеческое существование, человек способен узнать, что его жизнь детерминирована, и тем самым изменить свое отношение к собственной судьбе. Важно не упустить, что сила человека в способности занять определенную позицию, принять конкретное решение, не важно, каким бы незначительным оно ни было. Поэтому они придерживаются мнения, что человеческое существование состоит в конечном итоге из свободы. Хайдеггер идет еще дальше (в одном очаровательном эссе) – он определяет истину как свободу. Тиллих красиво выразил это следующим образом: "Человек по-настоящему становится человеком только в момент принятия решения".
Эта точка зрения тесным образом связана с психологией и психотерапией. В целом в нашей академической психологии имеет место тенденция принятия этой точки зрения, хотя отдельные психологи в своей работе предпочитают иметь дело лишь с тем, что поддается определению и может быть понято в детерминистских конструкциях. Такое ограничение восприятия, конечно, неизбежно ведет к попытке подстроить человека под тот образ, который мы видим.
В психоанализе и психотерапии эта проблема стоит еще острее, так что избегать ее далее невозможно, теория и процесс психоанализа и большинства других форм терапии играют на руку склонности пациента к пассивности. Как еще в 20-х годах заметили Отто Ранк и Вильгельм Райх, некоторые принципы психоанализа сами по себе подрывают его жизненность и не только обедняют реальность, с которой психоанализ связан, но и ослабляют возможность и желание пациента меняться. Во времена расцвета психоанализа, когда открытие "бессознательного" имело очевидно "шокирующее значение", эта проблема была не столь явной; в любом случае у истерических пациентов, ставших основным материалом для работ Фрейда на этапе формирования его идей, действительно существовала особая динамика, которую можно было определить как "подавляемое либидо", стремящееся к выражению. Но сейчас, когда большинство пациентов в той или иной форме оказываются "одержимыми", когда все знают об эдиповом комплексе, когда наши пациенты говорят о сексе так свободно, что это шокировало бы любого пациента Фрейда (а именно, разговор о сексе, вероятно, является легчайшим способом избежать реального принятия решения в любви и половых отношениях), проблема подрыва авторитета воли и принятия решения не может избегаться и далее. "Навязчивое действие", проблема, которая всегда оставалась непокоренной и неразрешенной в контексте классического психоанализа, на мой взгляд, тесно связана с дилеммой воли и принятия решения.
Другие формы психотерапии тоже не избежали дилеммы психоанализа; а именно того, что процесс психотерапии заключает в себе тенденции, которые позволяют пациенту уклониться от принятия решений. Само определение "пациент" предполагает это! И речь не только о тех элементах психотерапии, которые автоматически дают поддержку пациенту, но и о тенденции возлагать ответственность за возникающие у человека проблемы на кого или что угодно, только не на него самого[9]. Уверен, терапевты всех школ и направлений рано или поздно осознают, что пациент должен самостоятельно принимать некоторые решения, учиться брать на себя некоторую ответственность; но теория и техники большинства видов психотерапии построены на прямо противоположных предпосылках.
Экзистенциальный подход в психологии и психотерапии придерживается мнения, что мы не можем доверить волю и решения случаю, надеясь, что в конечном итоге с пациентом "что-то произойдет" и он вдруг станет принимать решения, или придет к самостоятельному принятию решений от скуки или от ощущения, что терапевт (как благосклонный родитель) одобрит его поведение, если он совершит такие и такие шаги. Экзистенциальный подход вернул волю и решение в центр картины. Совсем не в смысле "свободная воля против детерминизма" – эта идея умерла и похоронена. И не отрицая того, что Фрейд описал как бессознательный опыт. Эти детерминистские факторы, конечно, учитываются. Экзистенциалисты, которые много сделали в области познания "ограниченности" и ограничений человека, конечно же, знают об этом. Однако они придерживаются мнения, что, обнаруживая и изучая те силы, которые детерминируют его жизнь, пациент в той или иной мере обретает некую ориентацию и, таким образом, оказывается вовлеченным в некоторый выбор, неважно, каким незначительным бы ни казался этот выбор, испытывает некое чувство свободы, пусть даже еле уловимое. Экзистенциальная установка в психотерапии вовсе не "толкает" пациента к принятию решения; на самом деле я убежден, что, только осознав тот факт, что пациент обладает силой воли и способностью принимать решения, терапевт сможет избежать подталкивания пациента в каком-либо направлении. С этой точки зрения самосознание как таковое – сознавание личностью, того, что безбрежный, насыщенный, многообразный поток переживания – это его собственное переживание, – неизбежно несет в себе элемент решения.
Безусловно, мы применяем термины "воля" и "принятие решения" не только по отношению к исключительно жизненно важным решениям, эти слова имеют более широкое значение. И хотя сознавание включает в себя элементы принятия решения (например, акт выбора того, чем вы собираетесь заняться), мы не отождествляем эти понятия. Принятие решения содержит некоторые элементы, которые не только не детерминированы внешней ситуацией, но даже не представлены в ней; решение включает некий элемент скачка, фактор случайности, некое движение "я" в направлении, которое нельзя было предсказать. Зрелое человеческое бытие (то есть не являющееся жестко ограниченным и детерминированным невротическим компульсивным стереотипами) – это когда человек готов принять новое направление, новое "решение" в той новой точке, в которой он обнаруживает себя. "Новым положением", о котором я говорю, может быть также простая, незамысловатая и не потрясающая мир, как любая новая идея, которую я нахожу для себя забавной, или новое воспоминание, которое неожиданно возникает в случайной на вид цепочке свободных ассоциаций. Таким образом, я думаю, что процесс принятия решения, обсуждаемый нами, присутствует в любом акте сознания.
Заинтересованные студенты обнаружат много материала под рукой для изучения этой проблемы, несмотря на то, что сегодня его существует очень немного в специальной психологической литературе. Возможность для изучения и исследования покажется бесконечной и чарующей.
Другая тема, которой экзистенциальный подход дал новую основу, – это проблема эго. Я сказал "проблема" намеренно: эго заняло центральную позицию в психоаналитических и психологических обсуждениях в последнее время, и хотя интерес к нему отражает высоко позитивное развитие, я думаю, что этот термин вызывает больше проблем, чем решает. Это особенно важно обсудить, хотя бы вкратце, потому что многие психологи предполагают, что то, о чем говорит экзистенциальная психология, окружено психоаналитической эгопсихологией. Это ошибка.
Первоначально Фрейд описывал эго как слабое и пассивное, как монарха, не имеющего власти даже в собственном доме, притесняемое, с одной стороны, ид, а с другой – суперэго. Позднее он придал эго исполнительные функции и конкретно описал его как организующий центр личности[10]. Но все также он видел эго по существу слабым. Я думаю, что он был прав в том, что в силу того положения, которое эго занимает в структуре ид-эго-суперэго, оно в принципе должно оставаться несамостоятельным, даже в своей области, как будет отмечено дальше.
За последние несколько лет как отклик на потребность современного человека в самостоятельности и самобытности, ощущении себя собой в психоаналитическом движении появился значительный интерес к "эгопсихологии". В итоге эго были приписаны функции самостоятельности, ощущения самобытности, синтеза опыта и другие более или менее произвольно достигаемые функции, которые мы внезапно открыли у человека. Результатом ортодоксального аналитического движения явилось появление большого числа различных "эго". Карл Меннингер[11] говорил о "наблюдающем эго", "регрессивном эго", "реальном эго", "здоровом эго" и так далее. Коллега Фрейда, и мой друг, поздравил меня после выступления, в котором я оспаривал концепцию множества эго, заметив с очевидной иронией, что у меня хорошее "научное эго"! Некоторые психоаналитики говорят о "множестве эго в одной личности", не по отношению к невротичным личностям, а по отношению к так называемым "нормальным личностям". На мой взгляд, "множественное эго" – точное описание невротической личности.
Концепция эго, способного дробиться на множество дискретных "эго", соблазнительна для экспериментальной психологии, благодаря тому, что привлекает исследовательский метод "разделяй и властвуй", который мы унаследовали в наших традиционных дихотомизирующих методах. Но я убежден, что у него есть серьезные недостатки, как практические, так и теоретические. Это похоже на то, будто мы передали новые силы слабому монарху; но монарх испугался и оказался в полнейшем замешательстве, потому что трон, на котором он сидит, слаб и неустойчив, поэтому новая мощь скорее сокрушит его.
Ради чего и куда в картине множественных эго исчезает принцип организации? Если у вас множество эго, вы, по определению, теряете центр организации, некий стержень, который должен быть у каждого, кто хочет управлять самим собой. Я убежден в том, что любая концепция, основанная на предположениях о фрагментарной структуре некой целостности, сама является фрагментом. Рапаппорт написал эссе, озаглавленное "Самостоятельность эго"; у Юнга есть книга, одна из глав которой называется "Самостоятельность бессознательного", и вскоре, вероятно, найдется кто-то, кто вслед за "Мудростью тела" Кеннона напишет работу под названием "Самостоятельность тела". Каждый будет в какой-то мере прав, но нет ли в этом принципиальной ошибки? Ни "эго", ни "бессознательное", ни тело не могут быть самостоятельными. Самостоятельность по самой природе своей может быть свойственна только самости.
Уверен, работы Эриксона и Уилиса по идентичности, ощущению себя собой, – которые я оцениваю очень высоко, – идут дальше предположений ортодоксального психоанализа в отношении эго и, таким образом, как мне кажется, способны предложить нечто значительное в этой области. На мой взгляд, ценность этих работ именно в том, что они разрушают границы предыдущих систем и основные ограничения этого подхода, как это видно в последней главе книги Уилиса "Поиски идентичности", мне кажется, состоят в неспособности создать новый базис в пределах традиционной психоаналитической структуры.
Я бы мог написать более утешительное заключение, если бы у меня было красивое решение, которое я бы смог предложить. Но у меня его нет. Вину за сложившуюся ситуацию отчасти можно переложить на ограниченность нашего языка, термины, которые нам приходится использовать, такие, как "самость" и "бытие", к сожалению, неадекватны.
Но независимо от терминов, которые используем, мы должны задать себе определенные вопросы, если обращаемся к проблеме эго. В частности, мы должны задать себе некоторые вопросы, когда рассматриваем предположение о существовании множества различных эго и их функциях, таких, как "регрессия" и "тестирование реальности". Мы должны спросить: какая часть меня переживает тот факт, что я есть тот, кто обладает множеством эго? Существование какого целого мы предполагаем, фрагментами которого являются различные эго? Эти вопросы указывают на то, что логически, как и психологически, мы должны выйти за систему ид-эго-суперэго и пытаться понять "бытие", различными проявлениями которого она является. Мое "я", или мое бытие (в этой точке они параллельны), находится в том центре, в котором я знаю себя как существо, реагирующее этими различными способами, в центре, в котором я переживаю себя как существо, ведущее себя теми способами, которые описываются вышеупомянутыми различными функциями.
Предварительная гипотеза, которую я предлагаю, состоит в следующем: мое "бытие", – которое по определению должно обладать целостностью, если оно хочет сохраниться как бытие, – имеет три аспекта, которые мы можем назвать "я", "личность" и "эго". "Я" используется мною как субъективный центр, как переживание того факта, что я – существо, которое ведет себя так-то и так-то; "личность" мы можем взять как аспект, в котором меня принимают другие ("персона" по Юнгу, социальные роли Уильяма Джеймса); "эго" мы можем взять в том виде, в котором его изначально провозгласил Фрейд, как специфический орган восприятия, посредством которого "я" видит окружающий мир и выражает свое отношение к нему. У меня нет решающих доказательств этой гипотезы в данный момент; она требует дальнейшего прояснения. Но я хочу отметить, что бытие должно предполагаться при обсуждении эго и идентичности и что центральная сущность должна быть основой для таких обсуждений.
Другие темы, которые экзистенциальный подход в психологии представил в новом свете, темы, которые будут плодотворны для изучения в дополнение к таким, как воля и принятие решения и проблема эго – это конструктивные функции тревоги и вины, концепция и опыт бытия-в-мире – концепция, которая хотя и имеет параллели с гештальтпсихологией с формальной стороны, действует на другом уровне и имеет чрезвычайно широкое приложение, значимость времени, особенно будущего времени, о котором говорит Маслоу в главе 2.
Некоторые трудности и опасности экзистенциального подхода в психологии уже были отмечены. Сейчас мы должны рассказать о некоторых из них более определенно. Одна из трудностей состоит в том, что понятия с точки зрения экзистенциальной психологии служат для интеллектуального отчуждения. Такие термины, как "онтологический" и "онтический", это иллюстрируют; даже термин "экзистенциальный" может быть использован для того, чтобы удалить из поля зрения множество способов установления отношений с реальностью, которые кажутся не-экзистенциальными. Особая соблазнительность терминов состоит в том, что они дают видимость обращения с человеческой реальностью, даже когда не имеют к ней никакого отношения. Очевидно, что в первую очередь мы должны встретиться лицом к лицу с нашим реальным опытом как в психотерапии, так и в других областях психологии, и тогда мы найдем слова (которые могут и не быть унаследованы от наших европейских коллег), которые будут более полно выражать и передавать этот опыт.
Другая трудность или опасность, как ни парадоксально, прямо противоположна, а именно, использование экзистенциального подхода на службе у антиинтеллектуализма. На самом деле это было бы своего рода иронией, если бы этот подход был бы союзником, скрытым или открытым, антиинтеллектуалистических тенденций. Это было бы одним из злоупотреблений, которое экзистенциальное движение в Европе имеет несчастье унаследовать.
Но тенденция не доверять разуму, как таковому, возникла в нашей культуре с момента противопоставления рассудочных и чувствующих людей. Этим альтернативам соответствует Сухой рационализм, с одной стороны, сухим рационализмом, при котором человек, сохраняя ум, теряет душу, и жизнеутверждающий романтизм, с другой стороны, при котором появляется, наконец, шанс сохранить душу. Экзистенциальный подход, безусловно, противопоставлен первому, но при более детальном рассмотрении убеждаешься, что он противостоит и второму. Экзистенциальный подход в психологии, как, впрочем, и в любой другой области, не является рационалистическим так же как и антирационалистическим, но ищет почву, на которой основано то и другое. Это то, что нашел Кьеркегор, который был удивительно развит логически и интеллектуально, но предпочитал, чтобы его называли поэтом.
Еще одна сложность и опасность, заложенная в экзистенциальном подходе, на мой взгляд, в ее отождествлении в некоторых разделах с дзен-буддизмом. Сказанное мною не является критикой дзен-буддизма как такового; я высоко ценю его как религиозно-философский подход к жизни, и я вижу его высокую значимость для современного западного человека. Психология Востока корректирует западную и наоборот. Опасность отождествления экзистенциальной психологии с дзен-буддизмом состоит в упрощении обоих. Это становится способом избегания трудных проблем тревоги и вины, которые унаследовал западный человек. На самом деле какая бы жизненная установка – психологическая, философская, эстетическая или религиозная – ни была бы позаимствована из другой культуры, ее приверженцам предлагают сбросить свою культурную оболочку; проблемы упрощаются и обходятся, так как их нет в новой, принятой человеком установке. Кьеркегор и, насколько я знаю, все мыслители экзистенциального направления вплоть до Пауля Тиллиха настаивают на том, что проблем тревоги, вины, скуки и конфликтов западного человека избежать невозможно. Центральным в экзистенциальной традиции является положение, что только с возрастанием осознания этих проблем может быть найдено их решение. По моему мнению, экзистенциальный подход достигает личности не посредством обхождения и избегания конфликтной реальности мира, в которой мы непосредственно себя обнаруживаем, а направленно противостоя этим конфликтам и встречаясь с ними.
Позвольте сказать в заключение этой наполненной рассуждениями, но, я надеюсь, полезной главы, что необходимо уяснить, что это не предложение новой системы или утверждение старых догм. И читатель заметит в следующих главах, что ни один из моих соавторов не говорит об этом. Напротив, они говорят: "Экзистенциальный подход, на мой взгляд, важен и значителен, но как он может осветить актуальные проблемы психологии?" Как обнаружит читатель, моя собственная установка – это желание сделать экзистенциальную психологию новым движением, но при этом я убежден, что необходимы веские подтверждения наших предположений и нашего представления о человеке, предложенных этим подходом. Я твердо убежден также в том, что ответы на эти вопросы должны быть получены на человеческом уровне. Я думаю, что этот подход содержит требования и ведущие принципы, которые применительно к психологии будут релевантны тем отличительным характеристикам, которые свойственны именно человеку. Это ведет, как скажет в 4 главе Гордон Олпорт, к психологии человечества.
2. Абрахам Маслоу. ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ – ЧТО В НЕЙ ЕСТЬ ДЛЯ НАС?
Я не являюсь ни экзистенциалистом, ни прилежным и полным последователем этого движения. В экзистенциальных рассуждениях я нахожу много чрезвычайно сложного или даже невозможного для понимания, такого, с чем я даже не пытаюсь бороться.
Я должен также признать, что изучал экзистенциализм не ради него самого, а, скорее, в духе вопроса: "Что в нем есть для меня как для психолога?" – пытаясь перевести это в те термины, которые я смог бы использовать. Возможно, именно поэтому я счел его не столько абсолютно новым открытием, сколько акцентом, подтверждением, заострением и переоткрытием тенденций уже существовавших в американской психологии.
По этим и другим причинам чтение трудов экзистенциалистов для меня очень интересный, доставляющий удовольствие и поучительный опыт. И я думаю, что это также справедливо для многих других психологов, особенно для тех, чьи интересы лежат в сфере теории личности и клинической психологии. Этот опыт обогатил, углубил и скорректировал мои взгляды на личность человека, даже хотя и не сделал необходимыми какие-либо фундаментальные реконструкции.
Сначала позвольте мне определить экзистенциализм так, как я это понимаю. Для меня это означает, по существу, акцент на понятии идентичности, самобытности и переживании себя собой как sine qua non (непременное условие) человеческой природы и любой философии и науки о человеческой природе. Я взял эту концепцию за основу отчасти потому, что я понимаю ее лучше, чем такие термины, как сущность, существование и онтология, а отчасти потому, что я также чувствую, что с ней можно работать на эмпирическом уровне, и если не сегодня, то в ближайшем будущем.
И как это ни парадоксально, американцы тоже были захвачены поиском человеческого "Я" (Олпорт, Роджерс, Гольдштейн, Фромм, Уилис, Эриксон, Хорни, Мэй и др.). И я должен сказать, что эти авторы более понятны и они более близки к конкретике и, таким образом, в большей мере являются эмпириками, нежели, например, немцы Хайдеггер и Ясперс.
(1) Вывод номер один состоит в том, что европейцы и американцы теперь не так далеки друг от друга, как было вначале. Мы, американцы, "все время говорили прозой, не зная об этом". В некоторой степени, это спонтанное развитие в разных странах само по себе является индикатором того, что разные люди независимо друг от друга пришли к одинаковым выводам, и это означает, что они реагируют на что-то реально существующее во внешнем мире.
(2) Я думаю, этой реальностью является глобальное разрушение всех источников ценностей, лежащих вне индивида. Многие европейские экзистенциалисты остро реагируют на вывод Ницше о том, что Бог умер, и, возможно, на то, что то же самое произошло и с Марксом. Американцы поняли, что демократия в политике и процветание в экономике сами по себе не решают никаких базовых ценностных проблем. Людям некуда обратиться, кроме как внутрь себя, к самости как локусу ценностей.
(3) Для психологов чрезвычайно важно, что экзистенциалисты могут совместить психологию с философскими основами, чего пока не удается сделать другим. Логический позитивизм был ошибкой, особенно для клинических и психологов, работающих над проблемой личности. В любом случае основные философские проблемы будут снова подняты для обсуждения, и, возможно, психологи перестанут полагаться на псевдорешения или на неосознанные, непроверенные философские концепции, которые они подхватывают, как дети.
(4) Другое выражение сути (для нас, американцев) европейского экзистенциализма состоит в том, что он непосредственно имеет дело с тем затруднительным положением, в котором находится человек из-за разрыва, существующего между человеческими желаниями и человеческими возможностями (между тем, каким действительно является человеческое бытие, каким бы он хотел, чтобы оно было, и тем, каким оно могло бы быть). Это не настолько далеко от проблемы идентичности, бытия собою, как может показаться на первый взгляд. Личность является одновременно действительно существующей и потенциально возможной.
У меня нет сомнений в том, что серьезный интерес к этому противоречию совершит революцию в психологии. Различные направления, например проективные методы изучения, концепция самоактуализации, исследования пиковых переживаний (в которых через эту пропасть перекинут мостик), юнгианская психология, различные теологические размышления – подтверждают такой вывод.
И не только этот, также поднимается вопрос методов интеграции двойственной натуры человека, его низменности и возвышенности, его животной и богоподобной природы. В целом большинство философских и религиозных течений как на Востоке, так и на Западе разделяют эти две тенденции, уча тому, что стать "возвышенней" – значит отвергнуть и подчинить "низшее". Однако экзистенциалисты учат, что обе эти тенденции совместно определяют человеческую натуру. Ни от чего не нужно отрекаться; нужно добиться объединения. Кое-что о техниках такого объединения нам уже известно, мы знаем об озарении, об интеллекте в широком смысле этого слова, о любви, о творчестве, о комедии и трагедии, об игре, об искусстве. Я подозреваю, что мы гораздо сильнее фокусируем исследования на интегративных техниках, чем это было раньше.
(5) Из этого вытекает естественный интерес к идеальному, подлинному или совершенному бытию человека, изучению человеческих возможностей как в некотором смысле существующих сейчас, присутствующих в настоящий момент, в настоящей познаваемой реальности. Это также может показаться пустыми словами, но это не так. Уточню, что это лишь современная формулировка старого вопроса, до сих пор оставленного без ответа: "В чем цели терапии, образования, воспитания детей?"
Это также подразумевает другую истину и другую проблему, которая требует к себе настоятельного внимания. Практически каждое серьезное описание "подлинной личности" подразумевает, что в силу того, что эта личность стала такой, изменяется ее отношение к окружающим людям и обществу в целом. Она не только различными путями выходит за границы себя, но и за границы своей культуры. Она сопротивляется приобщению к какой-либо культуре. Она все более отделяется от своей культуры и общества. Она становится немного более представителем биологического вида и немного менее членом своей локальной группы. Мне кажется, что большинство социологов и антропологов примет это с трудом. Поэтому я с уверенностью ожидаю возникновения полемики по этому вопросу.
(6) От европейских авторов мы можем и должны позаимствовать серьезный акцент на том, что они называют "философской антропологией", которая является попыткой дать определение человеку, обозначить разницу между человеком и другими биологическими видами, между человеком и другими объектами, между человеком и машиной. Что является его уникальными и определяющими характеристиками?
В целом это задача, от которой американские психологи отвернулись. Ученые бихевиористских направлений не продуцируют таких определений, по крайней мере таких, которые можно было бы воспринимать всерьез. Образ, созданный Фрейдом, очевидно, не может помочь в решении этой задачи, он оставляет за бортом стремления человека, его мечты, его высшие качества. Вне сомнения, конечно, остается тот факт, что Фрейд снабдил нас наиболее всесторонней системой психопатологии и психотерапии, как отмечают современные эго-психологи.
(7) Европейцы несколько иначе ставят акцент на самосовершенствовании, отлично от того, как это делают американцы. Как фрейдовские теории, так и теории самоактуализации и личностного роста в этой стране говорят в большей степени об открытии себя (представляется, как некто сидит и ждет, что его откроют) и открывающей терапии (снимая верхние слои, вы найдете то, что спрятано под ними). Однако, с другой стороны, сказать вслед за европейцами, что самость – это проект и всецело создается непрерывным выбором самой личности, несомненно, будет преувеличением в связи с тем, что мы знаем, например, о генетической детерминации личности. Такое столкновение мнений является проблемой, которую нужно решать на эмпирическом уровне.
(8) Еще одна проблема, в которую мы оказались погружены, – проблема ответственности и неотрывно связанные с ней проблемы силы духа и человеческой воли. Возможно, это имеет отношение к тому, что психоаналитики теперь называют "силой эго".
(9) Американцы прислушались к призывам Олпорта идеографической психологии, но не так уж много сделали в этом направлении. Даже клинические психологи. Теперь у нас есть дополнительный толчок в этом направлении, полученный от феноменологов и экзистенциалистов, такой, что сопротивляться ему будет очень трудно, на самом деле я думаю, что теоретически сопротивляться будет невозможно. Если изучение уникальности индивида не подходит для того, что мы называем наукой, то тем хуже для науки. Ей тоже придется претерпеть новое рождение.
(10) Феноменология имеет свою историю в американском психологическом мышлении, но в целом, я думаю, она уже зачахла. Европейские феноменологи со своими мучительно аккуратными трудоемкими демонстрациями могут научить нас, что лучший способ понимания бытия другого человека, или, по крайней мере, способ, необходимый для постановки некоторых предположений, состоит в том, чтобы оказаться в его Weltanschauung (мировоззрении) и стать способным увидеть его мир его глазами. Конечно, такой вывод покажется грубым для любой позитивистской философии науки.
(11) Акцент экзистенциалистов на полной изолированности индивида – полезное напоминание тем из нас, кто работает над будущими концепциями принятия решений, ответственности, выбора, роста, самостоятельности и самобытности. Это делает также более сложной и более восхищающей тайну отношений между одиночествами через, например, интуицию и эмпатию, любовь и альтруизм, отождествление с другими и общую гармонию. Мы считаем это само собой разумеющимся. Будет лучше, если мы будем относиться к этому как к чуду, которое необходимо объяснить.
(12) Еще одно предположение экзистенциалистов, я думаю, можно выразить очень просто. Такие качества жизни, как серьезность и глубина (или, возможно, "трагический смысл жизни"), противопоставлены мелкому и поверхностному существованию, которое является лишь способом сужения жизни, защитой от основных проблем бытия. Это не только литературные понятия. Это имеет реальное операциональное значение, например в психотерапии. Я (и другие) все больше и больше убеждаемся в том, что сам факт трагедии иногда может иметь терапевтическое воздействие, и что, по-видимому, терапия часто кажется более эффективной в работе лучше с людьми, которых привела боль. Это проявляется тогда, когда защита поверхностной жизни не срабатывает так, как должна была бы, и приходится обращаться к глубинам. Поверхностность в психологии также не срабатывает, как это очень доступно показали экзистенциалисты.
(13) Экзистенциалисты помогают нам увидеть ограничения вербальной, аналитической, концептуальной рациональности. Они примыкают к существующему сегодня в психологии направлению, призывающему вернуться к первичным переживаниям, которые предшествуют любой концептуализации или абстрагированию. Это схоже с тем, за что я, как мне кажется, вполне справедливо критикую сам способ мышления западного мира, типичный для двадцатого века, включая ортодоксальную позитивистскую науку и философию, которые нуждаются в серьезной перепроверке.
(14) Возможно, самым важным из всех изменений, спровоцированных феноменологами и экзистенциалистами, является запоздалая революция в теории науки. Мне не следовало бы говорить "спровоцировано", скорее, "поддерживается", потому что есть множество других сил, которые также помогали разрушать официальную философию науки или "саентизм". Это не только картезианский раскол между субъектом и объектом, который нужно преодолеть. Имеют место и другие радикальные изменения, которые стали необходимыми благодаря включению души и непосредственного опыта в реальность, такая перемена будет воздействовать не только на психологию как науку, но и на другие науки.
(15) Я подошел к тому моменту в экзистенциальной литературе, который оказал на меня наиболее сильное воздействие, а именно, проблема будущего в психологии. Не то чтобы эта, как и все другие проблемы и идеи, о которых я упомянул здесь, были совершенно мне незнакомы, мне кажется, они известны любому серьезно изучающему теорию личности. Рукописи Шарлоты Бюлер, Гордона Олпорта и Курта Гольдштейна должны подвести нас к необходимости пытаться преодолеть затруднения и включить динамическую роль будущего в существующую сейчас личность. Например, рост, становление и потенциал обязательно указывают на будущее, так же как и понятия возможностей, надежды, желания, фантазии; редукция к чему-то конкретному – это потеря будущего; угроза и опасение также ссылаются на будущее (нет будущего = нет неврозов); понятие самоактуализации бессмысленно без соотнесения с ныне действующим будущим; жизнь может быть гештальтом во времени и т.д. и т.д.
Тем не менее то, что эта проблема занимает у экзистенциалистов центральное значение может кое-чему нас научить, например статья Эрвина Страуса в книге "Экзистенция". Я думаю, что будет справедливо сказать, что ни одна из теорий в психологии не будет полной, если она не будет включать идею о том, что будущее человека всегда вместе с ним, динамически активное в любой момент настоящего времени. В этом смысле будущее можно трактовать как внеисторическое в понимании Курта Левина. Также нам необходимо осознать, что только будущее в принципе неизвестно и непознаваемо, что означает, что все привычки, защитные механизмы и механизмы подражания недостоверны и сомнительны, так как они основываются на прошлом опыте. Только гибкая творческая личность может действительно управлять будущим, только тот, кто может смотреть в лицо новому с уверенностью и без страха. Я убежден, что многое из того, что мы сейчас называем психологией, является изучением хитростей, которые мы применяем, чтобы избежать страха абсолютной новизны посредством веры в то, что будущее будет таким же, как и прошлое.
Я пытался сказать, что любой европейский акцент имеет свой американский эквивалент. Я не думаю, что это стало достаточно ясным. Я рекомендовал Ролло Мэю американский сборник, на который он уже ссылался. И конечно же, большая часть написанного демонстрирует мою надежду на то, что мы являемся свидетелями расширения психологии, а не появления нового "изма", который может оказаться как антипсихологическим, так и антинаучным.
Возможно, экзистенциализм не только обогатит психологию. Он может оказаться также добавочным стимулом к учреждению новой ветви в психологии, психологии полностью развитой и подлинной личности и ее способа существования. Сутич предложил назвать это онтопсихологией.
Конечно, все более и более очевидным кажется, что то, что мы называем "нормальным" в психологии на самом деле является психопатологией обычного, такой недраматичной и настолько широко распространенной, что мы обычно даже не замечаем этого. Экзистенциальное изучение аутентичной личности и аутентичного бытия помогает бросить подделки, жизненные иллюзии и страхи в огонь, который помогает увидеть их как болезнь, пусть даже и широко распространенную.
Я не думаю, что нам нужно слишком серьезно воспринимать европейских экзистенциалистов, твердящих о страхе, страдании, болезни и тому подобном, единственным средством против которых, по их мнению, является выдержка. Это высокоинтеллектуальное хныканье на возвышенные темы оказывается вечным источником неудач в работе. Они должны научиться у психотерапевтов тому, что утрата иллюзий и открытие самого себя, такое болезненное вначале, в конечном итоге может оживлять и придавать сил.
3. Герман Фейфел. СМЕРТЬ – РЕЛЕВАНТНАЯ ПЕРЕМЕННАЯ В ПСИХОЛОГИИ
Даже после тщательного изучения существующей психологической и околопсихологической литературы, как серьезной так и не очень, любой человек обнаружит, насколько слабо и пренебрежительно систематизированы знания об отношении к смерти. Вот то, что застает врасплох большинство исследователей:
(1) На протяжении всей истории человечества идея смерти представляла собой вечное таинство, которое является сущностью некоторых наиболее значительных религий и философских систем, таких, как христианство, в котором истинное значение жизни проявляется в ее окончании; или экзистенциализм и его поражающая озабоченность страхом и смертью. Точное знание в этой области имеет огромные практические последствия во всех сферах жизни: в экономике и политике, так же как и в морали и религии.
(2) Одной из наиболее ярких отличительных характеристик человека в сравнении с другими биологическими видами является способность сознавать наличие будущего – и неизбежной смерти. В химии и физике любой "факт" почти всегда детерминирован событием, предшествующим ему; для человеческого бытия поведение, имеющее место сейчас, подчиняется не только прошлому, но, возможно, даже в большей мере ориентации на будущие события. И действительно, то, чем человек хочет стать, вполне может определять то, к чему он будет обращаться в своем прошлом. Прошлое – это образ, который меняется вместе с изменением образа себя в целом.
(3) Смерть – это нечто, что случится с каждым их нас. Даже до ее реального наступления она потенциально присутствует. Некоторые придерживаются мнения, что страх смерти – это универсальная реакция, и что никто не может быть полностью свободен от него[12]. Если мы внимательно рассмотрим этот вопрос, то поймем, что уникальность и индивидуальность каждого из нас получает истинное значение при осознании того, что все мы умрем. И в том же смысле встреча со смертью открывает в каждом из нас жажду бессмертия.
(4) Вернемся к психологическому здоровью. Фрейд постулировал существование у человека бессознательного желания смерти, которое он связывал с некоторыми стремлениями к самоуничтожению. Мелани Кляйн считает, что страх смерти лежит в корне всех идей преследования и, таким образом, косвенно в основе всех видов тревоги. Пауль Тиллих (33), теолог, чье влияние чувствуется в американской психиатрии, построил свою теорию тревоги на онтологическом утверждении о том, что человек конечен, субъект идет к небытию. Отсутствие защищенности может быть хорошим символом смерти. Любая потеря может представлять главную потерю. Юнг рассматривал вторую половину жизни как бытие, детерминированное индивидуальным отношением к смерти. В целом растет признание связи между душевными болезнями и философией человека по отношению к жизни и смерти.
Идеи и фантазии о смерти выделяются в психопатологии. Существуют повторяющиеся идеи о смерти у различных невротических пациентов[13] и одинаковые галлюцинации у множества психотических личностей. Сюда же относятся ступор кататонических пациентов, иногда очень похожий на состояние смерти, и иллюзия бессмертия при некоторых разновидностях шизофрении. Мне пришла в голову мысль, что шизофреническое отрицание реальности может функционировать в некоторых случаях как магическое сокрытие возможности смерти, если уж невозможно ее на самом деле избежать. Если жизнь неизбежно ведет к смерти, то смерти можно избежать, только отказавшись от жизни. Множество психоаналитиков[14] придерживаются того мнения, что основной причиной, по которой шоковые процедуры дают положительные результаты, является то, что они обеспечивают пациентам своего рода опыт смерти-и-перерождения. Уместно заметить, как бы то ни было, что даже когда страх смерти описывается в психоаналитической литературе, он часто интерпретируется как производный, или вторичный, феномен, часто как более легкопереносимый вариант "страха кастрации" или тревоги из-за отделения или потери объекта любви[15].
(5) Дальнейшая интеграция отношений к смерти может обогатить и углубить наше понимание адаптивных и дезадаптированных реакций на стресс и теории личности в целом.
Адаптация пожилого человека к идее смерти, например, может быть решающим аспектом процесса старения; изучение отношения к смерти у серьезно больных и умирающих людей, являющееся своего рода естественным экспериментом, может снабдить нас новыми идеями в области того, какими способами различные индивиды справляются с серьезной угрозой.
При более широком рассмотрении не только психология, но и западная культура в целом при появлении идеи смерти старается убежать, спрятаться и найти убежище в эвфемистическом языке, в развитии индустрии, главный интерес которой – создание более "жизнеподобных" качеств у смерти и актуарной статистики. Военные делают смерть имперсональной и распространяют представление об угрозе смерти не столько как трагедию, сколько как драматическую иллюзию. Интерес к смерти был вытеснен на затабуированные территории, прежде занимаемые такими заболеваниями, как туберкулез и рак, а также темой секса. С ослаблением идей Паулина по отношению к греховности тела и несомненности "жизни после" у людей появилась возможность размышлять и обсуждать естественную смерть[16].
Тем не менее две мировые войны и потенциальное наличие ядерной угрозы привели в последнее время к выдвижению на первый план идеи кратковременности жизни. Экзистенциальное движение отчасти способствовало переоткрытию смерти как философской темы и как интеллектуальной проблемы XX века. В некотором смысле история экзистенциальной философии в своей основе является толкованием человеческого опыта смерти. Образ человека, который при этом возникает, – это образ ограниченного временем создания.
Экзистенциализм в нашем веке, в том виде, в котором он присутствует в философии Зиммеля, Шелера, Ясперса и Хайдеггера, воспринимает опыт смерти, близким к фокусу анализа человеческих условий. Он выделяет смерть скорее как образующую часть, чем просто как завершение жизни, и выдвигает идею о том, что только посредством интеграции понятия смерти в понятие самости станет возможным подлинное и искреннее существование. Ценой отрицания смерти может стать неопределенная тревога и самоотчуждение. Чтобы полностью понять себя, человек должен смотреть в лицо смерти, осознать свою конечность.
Экзистенциализм, конечно, – это не психотерапевтическая техника, и он не претендует на это. Мне кажется, однако, что его ориентация подразумевает выводы психотерапевтического толка, которые Мэй детально прокомментирует в 4 главе.
В условиях ограниченного пространства, имеющегося в моем распоряжении, я бы хотел обозначить несколько основных направлений в отношениях к смерти, полученных в результате длительных серий исследований, которые я продолжаю до сих пор. Я предлагаю рассматривать эти данные как промежуточные результаты, которые в дальнейшем могут претерпеть изменения. Я надеюсь, что они содержат некоторые перспективы терапевтического плана. Результаты получены на четырех основных группах: 85 душевно больных, средний возраст которых 36 лет; 40 пожилых людей – средний возраст 67 лет; 85 "нормальных" людей более молодого возраста: 50 человек, средний возраст которых 26 лет, 35 специалистов – средний возраст 40 лет и 20 смертельно больных людей – средний возраст 42 года.
При ответе на вопрос: "Что для меня значит смерть?" – доминировало 2 ответа. Одни смотрели на смерть философски, как на естественный процесс завершения жизни. Другие, религиозные по своей природе, понимали смерть как разрушение жизни тела и действительно начало новой жизни. Эти результаты в известном смысле вполне отражают интерпретацию смерти в истории западной мысли. Из двух противопоставляемых идей могут быть получены две противоположные этические системы. "С одной стороны, отношение к смерти представляет собой стоическое или скептическое понимание ее неизбежности или подавление мыслей о смерти; с другой стороны, идеалистическое представления о смерти состоит в том, что ее признают как придающую жизни смысл или считают ее началом настоящей жизни человека"[17]. Это противопоставление лежит в основе глубоких противоречий, существующих в нашем мышлении относительно смерти. Наша культурная традиция предполагает, что человек ограничен смертью, но также способен продолжаться в некотором смысле и по ту сторону смерти. С одной стороны, смерть рассматривается как "стена", главная личная катастрофа, а суицид как проявление слабоумия; с другой стороны, смерть рассматривается как "дверь", момент времени на пути в вечность.
Степень психического расстройства у пациентов, видимо, не зависела от их общего отношения к смерти. Ни невроз, ни психоз не продуцировали таких отношений к смерти, которые нельзя было бы встретить у нормальных людей. Эмоциональные расстройства, судя по всему, способствовали выдвижению на передний план специфических отношений к смерти. Эти результаты подтверждены находками Бромберга и Шилдера[18]. Лишь несколько здоровых людей представили себя умирающими в результате несчастного случая. В противоположность душевнобольным, большая часть которых видели себя умирающими из-за того, что они "разбились в самолете", "их переехал трактор", "они уменьшаются" и т.д.
Когда людей просят высказать свои предпочтения по поводу "способа, места и времени" смерти, подавляющее большинство из всех групп хотят умереть быстро и с минимумом страданий – "умиротворенно во сне", как они это называют или "от сердечного приступа". Остальные хотят иметь много времени для того, чтобы попрощаться с семьей и друзьями. "Дома" и "в постели" – особенно часто упоминается большинством как предпочитаемое место смерти. Есть, естественно, и персональные идиосинкразии – "в саду", "глядя на океан", "в гамаке весенним днем". Около 15-20 % в каждой группе сказали, что для них не имеет большого значения, где они умрут. Можно лишь удивляться, почему эти ответы не отражают реального положения вещей. Ведь большинство людей встречают смерть не у себя дома, будь то в одиночестве или в окружении семьи с минимумом медицинских средств, поддерживающих жизнь. Мы умираем в "больших" больницах, где имеются огромные возможности обеспечивать уход и облегчать боль, при равнодушном ярком свете электрических ламп и с кислородными подушками. Реальность смерти омрачается тем, что это становится публичным событием.
При упоминании о времени смерти большинство людей говорят, что они хотели бы умереть ночью, потому что "так будет проще для всех", "будет меньше суеты". Выбор ночи как другого аспекта желаемого мирного конца жизни имеет второстепенное значение, но здесь проявляется множество скрытых символических обертонов, Гомер в "Илиаде" упоминал о сне (hypnos) и смерти (thanatos) как о братьях-близнецах, и множество религий соединяют идеи сна и смерти. Ортодоксальные христиане, например, просыпаясь по утрам, благодарят Бога за то, что он вновь возвратил их к жизни.
Оценивая полученные данные, мы пришли к выводу, что некоторые люди, испытывая сильный страх смерти, могут обращаться к религии, потому что она помогает им справиться с этими страхами. Я подумал, что будет полезно получить сравнительные данные на религиозных и нерелигиозных людях. Средний возраст религиозной группы составил 3*1,5 лет; для нерелигиозной группы – 34 года. Основным отличием, характеризовавшим религиозную группу в противовес нерелигиозной, являлась вера в наличие божественной цели во всех событиях в мире, в жизни-после-смерти и принятие Библии как открытия божественной истины. Нужно быть осторожным, рассматривая религиозность как нечто неизменное; то же самое может оказаться верным и для нерелигиозного человека. Люди могут находить смысл и удовлетворение потребностей в религиозном сообществе при том, что участие в нем не обязательно имеет отношение к религиозной вере и связанным с ней обязанностям. Также люди могут уверенно выражать принадлежность к той или иной религиозной традиции без формальной принадлежности к ней или принятия ее обязательств. Кроме того, может иметь место разница между ценностями-обязательствами индивида и тем, чего требует "официальная" теологическая структура его частной религиозной системы[19]. Другими словами, некоторые люди могут признавать религиозные принципы, но не следовать им. Другие могут принимать религию как способ защиты от "стрел неистовой фортуны". Далее, есть люди, которые включают свои религиозные верования в ежедневную жизнедеятельность. Поэтому здесь требуется более отчетливая категоризация. Например, отношение к смерти может различаться среди групп различного вероисповедания. Наша цель тем не менее на этом этапе сводилась к тому, чтобы получить некоторые общие данные относительно фундаменталистской и нефундаменталистской точек зрения. Верующие по сравнению с неверующими в нашем случае в большей степени страшатся смерти. Нерелигиозный человек боится смерти потому, что "моя семья может остаться без средств существования", "я хочу еще кое-что сделать", "я наслаждаюсь жизнью и хочу, чтобы это продолжалось". Акцент ставится скорее на страхе прекращения жизни на земле – что бытие остается позади, – чем на том, что случится после смерти. Для религиозных людей стресс двойной. Как в связи с постжизненным событиям – "я попаду в ад", "я еще не искупил свои грехи", – так и в связи с прекращением земного существования. Данные показывают, что даже вера в то, что человек попадет в рай, не является достаточным противоядием для изживания страха смерти у некоторых верующих. Это явление вместе с сильным страхом смерти, который возникает к пожилому возрасту у существенного числа склонных к религии индивидов, может отразить защитное использование религии некоторыми людьми. В соответствии с этим религиозные люди в нашем исследовании придерживаются значительно более негативной ориентации по отношению к зрелому периоду своей жизни, чем нерелигиозные.
Продолжая эту линию, я думаю, что усиленное внимание к этой проблеме и продолжительный поиск "эликсира молодости" во многих слоях нашего общества отражает, до некоторой степени, тревогу, связанную со смертью. Одной из причин, почему мы отвергаем пожилых людей, является то, что они напоминают нам о смерти. Специалисты, особенно врачи, которым приходится вступать в контакт с хроническими и смертельно больными пациентами, отмечают у себя также аналогичное стремление к избеганию в себе. Я бы хотел продемонстрировать, что некоторые врачи часто отвергают умирающего пациента, потому что он растормаживает и проявляет их собственные страхи относительно смерти, что в некоторых случаях чувство вины, связанное с желанием смерти по отношению к значимым для них фигурам, играет важную роль, не говоря уже о задетом нарциссизме или недостаточной удовлетворенности врача, задача которого сохранить существующее бытие, стоящее перед лицом смерти. Я думаю, было бы интересно исследовать отношение между выбором профессии, где "спасение жизни" является главной задачей и индивидуальными установками врачей по отношению к смерти. Гипотеза, которой я придерживаюсь, постоянно подтверждается, она состоит в том, что одной из главных причин, по которой некоторые люди идут в медицину, является желание подчинить себе свой страх смерти.
Мы прячем глубоко внутри наши мысли, чувства, страхи и даже надежды, связанные со смертью. Одна из серьезных ошибок, совершенных мной, состоит, я думаю, в сооружении психологического барьера между жизнью и смертью при работе с неизлечимыми больными. Некоторые думают, что жестоко и травматично говорить с умирающим пациентом о смерти. На самом деле мои исследования показывают, что пациенты очень хотят говорить о своих мыслях и чувствах по отношению к смерти, но понимают, что мы, живущие, не даем возможности этому осуществиться. Большинство из них предпочитают честный и откровенный рассказ врача о том, насколько серьезно они больны. Они скорее обретают понятный и помогающий смысл бытия, чем начинают бояться и паниковать, если у них есть возможность поговорить о своих чувствах касательно смерти. Суть этой идеи в том, что неизвестность страшит больше, чем известная, хотя и пугающая реальность.
Когда данное исследование было только начато, возник вопрос, уместный и по сей день, о возможных негативных эффектах и "стрессах", вызванных интервьюированием и тестированием пациентов. Но в результате подавляющее большинство не продемонстрировало реакции избегания. Некоторые из них даже благодарили людей, проводивших исследование, за то, что получили возможность высказать свои мысли о смерти. Почти ничто так не подавляет умирающего, как ощущение собственной покинутости и отвергнутости. Подобное состояние не только лишает человека поддержки, но даже не позволяет ему использовать механизмы избегания, которые он способен был использовать до этого.
Говоря о чувстве вины, необходимо отметить тот поразительный факт, что большинство безнадежно больных чувствуют себя виноватыми. Это является следствием нескольких причин: (1) Они часто выражают подозрение, что их болезнь и их участь заслуженное наказание и является следствием собственного поступка. (2) Они, в большей или меньшей степени, принимают на себя роль чрезвычайно зависимого ребенка. Некоторые сознательно извиняются за те проблемы, которые они вызывают. Наша культура воспитывает в нас чувство вины, когда мы оказываемся в зависимом положении. (3) Это еще больше усугубляется у умирающего человека, потому что он чувствует, что заставляет живущих столкнуться лицом к лицу с неизбежностью смерти, за что они должны были бы его ненавидеть. (4) Очень близко к вышеуказанной причине находится смутное сознание у больного человека того, что он завидует тем, кто остается жить, и что он желает (это желание редко осознается), чтобы супруг, родитель, ребенок или друг умерли бы вместо него. Есть предположение, что именно это желание, до некоторой степени, выливается во внешнее поведение у тех серьезно больных людей, которые убивают не только себя, но и также семью и соседей[20].
У живущих же возникает чувство вины из-за того, что они живут и видят, как кто-то другой умирает и, возможно, из-за желания того, чтобы это произошло поскорее. Действительно, большинство здоровых людей чувствуют тревогу и вину, видя, как кто-то умирает. Находиться лицом к лицу с реально существующим фактом смерти – значит наносить разрушительный удар по функционированию эго.
Тем не менее мы понимаем, что человеческая зрелость приносит с собой осознание границы, что является заметным шагом на пути самопознания. В некотором смысле готовность умереть проявляется как необходимое условие жизни. Мы не свободны в полной мере в своих действиях, пока мы управляемы неустранимой жаждой жить. В таком случае ежедневно рисковать жизнью, например: водить машину в городе, лететь на самолете в Цинциннати, позволить себе заснуть, будучи охранником, – становится почти экстравагантной глупостью. Жизнь не станет полностью нашей, пока мы не научимся отрекаться от нее[21]. Как проницательно заметил Монтень, "только человек, который больше не боится смерти, перестает быть рабом".
Клинические исследования показали, что многие воспринимают близкую смерть и смерть, отдаленную в времени, как два совершенно разных события. К тому же наличие лишь "внешней" угрозы оказывается недостаточным основанием для того, чтобы предсказывать с какой бы то ни было степенью уверенности, как человек будет на нее реагировать. Для некоторых информация о том, что они должны умереть в ближайшем будущем, не является предельно стрессовой ситуацией. Структура характера человека – тип личности, к которому он принадлежит, – может иногда оказаться более значимой для определения реакции, чем угроза смерти сама по себе. Продолжая работу, мы надеемся тщательно изучить существующие взаимосвязи в этой области, а именно, связь между отношением к смерти и типом личности конкретного человека.
Моя предварительная гипотеза состоит в том, что тип реагирования на неизбежную смерть – это функция тесно связанных между собой факторов. В этом я строго придерживаюсь взгляда, высказанного Бейглером[22]. Вот некоторые из наиболее значимых факторов: (1) психологическая зрелость индивида; (2) способы, которыми он справляется с ситуацией; (3) влияние таких изменяемых переменных, как религия, возраст, пол; (4) тяжесть органического процесса и (5) отношение лечащего врача и других значимых для пациента людей.
Исследование в дальнейшем подтвердило мысль о том, что смерть может иметь разное значение для разных людей. Даже в довольно ограниченной культурной группе становится очевидной негомогенность психологических особенностей страха смерти[23]. Смерть – это многоликий символ, специфическое значение которого зависит от натуры человека, его индивидуального пути развития и культурного контекста. "Смерть была ужасной для Цицерона, желанной для Като и безразличной для Сократа".
Однако лейтмотивом, который всегда остается на переднем плане для тех, кто работает в этой области, является то, что кризис часто является скорее не следствием приближения смерти самой по себе, а следствием того, что было сделано в течение жизни: бесполезно потраченного времени жизни, нерешенных задач, упущенных возможностей, загубленных талантов, бед, которых можно было бы избежать. Лежащая в основе этого трагедия состоит в том, что человек умирает преждевременно и недостойно, что смерть не является действительно "его собственной".
Отметим в заключение: рождение человека – неконтролируемое событие в его жизни, но образ ухода из жизни обусловливает его отношение к жизни и смерти. Мы ошибаемся, когда рассматриваем смерть просто как биологическое событие[24]. Жизнь нельзя по-настоящему охватить или прожить полноценно, если не пытаться честно учитывать идею смерти.
Существует настоятельная потребность в более надежной информации и систематических, контролируемых исследованиях в этой области. Это та область, в которой теоретические формулировки отстают от накопленной массы описательных и эмпирических данных. Исследования значения смерти и процесса умирания могут углубить понимание поведения индивида и дать дополнительный подход к анализу различных культур.
Мне бы не хотелось быть неправильно понятым. Я не придерживаюсь того мнения, что человеческий фактор полностью описывается беспокойством и тревогой, страхом и смертью. Радость, любовь, счастье признаются мной так же, как валидные по отношению к реальности и бытию[25]. Как проницательно заметил Гарднер Мерфи[26], далеко не очевидно, что встречи лицом к лицу со смертью обязательно увеличивают психическое здоровье. В одном исследовании пилотов во время второй мировой войны было обнаружено, что те, кто избежали катастрофы, сохраняли в моменты наибольшей опасности иллюзию неуязвимости. По-видимому, необходимо как смотреть в лицо смерти, так и в сторону от нее[27].
Моя точка зрения заключается в том, что признание понятия смерти как психологического и социального факта существенной важности – чрезвычайно необходимый шаг вперед в психологии, и что предсмертные слова, приписываемые Гете: "Больше света" – особенно применимы к этой области после данного обсуждения.
4. Ролло Мэй. ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ПСИХОТЕРАПИИ
В нашей стране предпринималось несколько попыток систематизировать психоаналитические и психотерапевтические теории в терминах сил, динамизмов и энергий. Экзистенциальный подход прямо противоположен этим попыткам. Он придерживается, как я говорил в первой главе, того мнения что наука должна соответствовать тому предмету, который ей приходится изучать, в данном случае это человеческое бытие. Мы не отрицаем динамизмов и сил; это было бы ошибочно. Но мы считаем, что они имеют значение только в контексте существующего, живого бытия – если разрешите употребить техническое слово; – в онтологическом контексте.
Предположим, что у нас есть реальные данные терапевтической ситуации, а именно, реально существующая личность, сидящая в кабинете рядом с терапевтом. Позвольте спросить: каковы сущностные характеристики этого пациента как существующей личности, составляющие данную самость как таковую? Я хотел бы предложить 6 характеристик, которые я назвал принципами, обнаруженные мною за время моей работы психотерапевтом. Они также могут быть названы онтологическими характеристиками. Таким образом, нижеизложенные принципы являются результатом длительных размышлений и опыта, полученного в различных ситуациях. Я проиллюстрирую их эпизодами из истории миссис Хатчинс[28].
Во-первых, миссис Хатчинс, как и любой существующий человек, защищает центр своей личности, и всякие нападки на этот центр будут покушениями на само ее существование. Это характерно для всех живых существ, в том числе для животных и растений. Я никогда не прекращал удивляться тому, что, когда бы мы ни срезали верхушку ели на собственной ферме в Нью-Хемпшире, дерево вновь пустит ветви к солнцу, зная где создать новый центр. Но этот же принцип частично применим и к человеческому бытию и дает основу для понимания болезни и здоровья, невроза и душевного равновесия. Невроз не следует рассматривать как отклонение от наших теоретических представлений о том, каким должен быть человек. Разве невроз не является методом, который человек использует для того, чтобы сохранить свой центр, свое существование? Симптомы невроза служат способом сужения границ мира (это наглядно проявляется в невозможности для миссис Хатчинс позволить себе говорить) для того, чтобы защитить центр существования от угрозы проникновения окружающего мира.
Миссис Хатчинс в течение месяца 6 раз посещала терапевта, прежде чем пришла ко мне. Он, желая успокоить ее, сказал, что у нее слишком сильная опора, слишком жесткий контроль. Она отреагировала сильным огорчением и тут же прекратила лечение. С нашей точки зрения, технически он вел себя совершенно корректно; экзистенциально он был совершенно не прав. Чего он, на мой взгляд, не заметил, так это того, что сильная опора, чрезмерный контроль, далекие от бытия явления, которые миссис Хатчинс хотела преодолеть, являлись частью отчаянной попытки сохранить тот слабый центр, который у нее был. Как будто бы она говорила: "Если я откроюсь, если я буду общаться, я потеряю даже то маленькое пространство в жизни, которое у меня есть". И здесь мы непроизвольно сталкиваемся с тем, насколько неадекватно определение невроза как неспособности человека приспосабливаться.Невроз представляет собой именно приспособление; в том-то и состоит проблема. Это неизбежное приспособление, которое позволяет сохранить свой центр; это способ принятия небытия с тем, чтобы сохранить хотя бы маленькую частичку бытия. И во многих случаях можно считать благом то, что это приспособление становится невозможным.
Единственное, что мы могли предположительно сказать о миссис Хатчинс или о любом другом пациенте, только что вошедшем в нашу дверь, что ей, как и всем живущим существам, требуется центрированность, а она разрушилась. После серьезных терзаний она предприняла некоторые шаги, а именно пришла за помощью. Наш второй принцип, таким образом, состоит в том, что каждый существующий человек обладает чертами самоутверждения, которые необходимы ему для того, чтобы сохранять свой центр. Это утверждение своего человеческого бытия мы называем "мужеством". Акцент Пауля Тиллиха на "мужестве быть" очень важен, неоспорим и продуктивен в области психотерапии. Он настаивает, что человеку бытие не дано автоматически, как растению или животному, но зависит от индивидуального мужества, а без него человек перестает быть. Это делает мужество само по себе необходимым онтологическим качеством. Надо отметить, что как терапевт я придаю огромное значение тем выражениям пациента, которые имеют отношение к воле, принятию решения, выбору. Я никогда не оставляю без внимания такие ремарки пациента, как "может быть, я могу", "возможно, я могу попытаться" и пытаюсь дать ему понять, что услышал его. Это только половина истины – сказать, что воля есть продукт желания; я подчеркиваю, что желание никогда не проявится в полную силу, кроме как совместно с волей.
Теперь, когда миссис Хатчинс хрипло говорит, она смотрит на меня со смешанным выражением страха и надежды. Очевидно, что некоторое отношение существует между нами не только здесь и сейчас, но и тогда, когда она в предвкушении встречи сидит в приемной или даже тогда, когда она только думает о том, чтобы прийти сюда. Она еще отказывается от возможности разделить со мной свои чувства. Отсюда наш третий принцип: у каждого живого человека имеется необходимость и возможность выходить из своего центра для того, чтобы взаимодействовать с другими людьми. Это всегда связано с риском; если выйти из себя слишком далеко, можно потерять свой центр, свое ощущение себя собой – феномен, который нередко наблюдается в биологическом мире. Если невротик боится потерять собственный центр, отказывается выходить за пределы себя и становится ригидным, замыкается в себе и живет в ограниченном пространстве, оберегая себя от внешнего влияния, то его рост и развитие блокируются. Это стереотип невротического подавления и торможения, обычные невротические проявления во времена Фрейда. В наше время, когда распространена конформность, наиболее частыми невротическими реакциями оказываются такие, как, например, рассеивание собственного "я" в процессе объединения и отождествления с другими до тех пор, пока собственное бытие не опустеет.
С этой точки зрения нам кажется верной идея Мартина Бубера, с одной стороны, и Гарри Стека Салливана – с другой, о том, что человеческое бытие не может быть понято как явление, если опустить способность делиться им. Действительно, если нам удастся отыскать эти онтологические принципы в существующей личности, то станет очевидно, что игнорирование любого из шести принципов будет означать, что мы рассматриваем уже не бытие человека.
Наш четвертый принцип: субъективной стороной центрированности является сознавание. Этот вид сознания присутствует и в других формах жизни, не только у человека; особенно легко это обнаружить у животных. Говард Лиддел отметил, что тюлень в естественной среде поворачивает голову каждые десять секунд, даже когда спит, обозревая горизонт, чтобы эскимосские охотники со своими луками и отравленными стрелами не могли подкрасться незамеченными. Это сознавание опасностей, которое есть у животных, Лиддел назвал бдительностью и определил ее как примитивный аналог у животных того, что у человека становится тревожностью.
Первые четыре принципа разделяются нашей существующей личностью с бытием всех людей; это биологические уровни, в которых принимает участие любое человеческое бытие. Пятый принцип относится к индивидуальным человеческим характеристикам: самосознанию. Собственно человеческой формой сознания является самосознание. Следует различать сознавание (awareness) и сознание (consiousness). Сознавание (awareness) для нас, как отметил Лиддел, ассоциируется с бдительностью. Это поддерживается происхождением термина "сознавать" (aware). Оно произошло от англосаксонского gewaer, waer, – "бдеть", быть начеку относительно окружающих опасностей и угроз. Они являются однокоренными к словам остерегаться и осмотрительный (beware, wary). Именно сознавание (awareness) является тем, что в индивидуальной невротической реакции развивается в ощущение угрозы, например, в случае миссис Хатчинс в первые несколько часов я тоже являлся для нее угрозой.
Сознание, однако, не является просто сознаванием угрозы из внешнего мира, но оказывается способностью знать себя как индивида, которому угрожают, переживать себя как субъекта, которого окружает мир. Сознание, если использовать термины Курта Гольдштейна, – это способность человека выходить за границы данной конкретной ситуации, жить в терминах возможного; оно также лежит в основе человеческой способности использовать абстракции и универсалии, обладать языком и символами. Эта способность к сознанию лежит в основе целого ряда возможностей, которые есть у человека по отношению к его миру, и составляет основу психологической свободы. Таким образом, человеческая свобода обретает онтологическую базу и, я думаю, должна быть включена в любую психотерапию.
В своей книге "Феномен человека" палеонтолог Пьер Тейяр де Шарден прекрасно описал, как сознавание, включая такое проявление, как тропизм, присутствует на любой ступени эволюционного развития от амебы до человека. Но у человека появляется новая функция, а именно самосознание. Тейяру де Шардену удалось продемонстрировать то, в чем я всегда был убежден, – появление новой функции перестраивает всю предыдущую структуру. Изменяется гештальт целиком; после этого организм может быть понят только в терминах новой функции. Надо сказать, что только половина правды в том, чтобы придерживаться идеи о понимании организма в терминах более простых элементов, стоящих на более низкой ступени эволюционного развития; правда также, что каждая новая функция формирует новый комплекс, который обусловливает все более простые элементы в данном организме. Таким образом, простое может быть понято только в терминах более комплексного.
Как раз это и делает самосознание. Все простейшие биологические функции должны теперь пониматься в терминах этих новых функций. Конечно, никто не будет отрицать ни на секунду наличие унаследованных функций или данных из биологии, которые объединяют человека с другими менее сложными существами. Возьмем, например, сексуальность, которая очевидно объединяет нас со всеми млекопитающими. Но при участии самосознания пол становится новым гештальтом. Сексуальные импульсы всегда зависят от личности партнера; то, что мы думаем о мужчине или женщине в реальности или фантазии, или даже в подавляемой фантазии, не управляемо. Тот факт, что субъективная индивидуальность другого человека, к которому испытывается половое влечение, имеет меньшее значение в невротической сексуальности, проявляемое в поведенческих стереотипах принудительного секса или проституции, только доказывает нашу точку зрения более четко, именно благодаря наличию таких потребностей, как блокировка, отключение или искажение самосознания. Таким образом, говоря о сексуальности в терминах сексуальных объектов, как это делает Кинси, мы могли бы собрать интересную и полезную статистику, но мы не будем касаться вопроса человеческой сексуальности.
Ничто из сказанного мною не следует воспринимать как пренебрежение биологическим; напротив, я думаю, что только при таком подходе сможем понять человеческую биологию, не искажая ее. Как это правильно отметил Кьеркегор: "Законы природы действуют всегда". Я протестую только против некритического принятия идеи о том, что организм должен быть понят только в терминах тех элементов, которые находятся ниже на эволюционной шкале, я принимаю идею, которая заставляет нас еще раз взглянуть на очевидную истину – лошадь делают именно лошадью не те элементы, которыми обладает также и собака, а те, которые есть только у лошади. Далее, в неврозе мы имеем дело с теми характеристиками и функциями, которые являются собственно человеческими. Это как раз то, что неудачно работает у человека с нарушенным душевным равновесием. Условием существования этих функций является самосознание, которое объясняет феномен, обнаруженный Фрейдом, – невротический стереотип поведения характеризуется подавлением и блокировкой сознания.
Поэтому задача терапевта не столько помочь пациенту осознать, но, и что более значимо, помочь ему превратить его сознавание в сознание. Сознавание – это знание того, что нечто извне угрожает пациенту, это условие, которое может в параноидальных и невротических случаях скоррелировано с внешне активным поведением. Но самосознание поднимает сознавание на принципиально отличный уровень; пациент видит, что он является человеком, которому угрожают, что он есть бытие, которое остается в мире, который ему угрожает, что он является субъектом, у которого есть этот мир. Это дает ему возможность инсайта ("in-sight"), "внутреннего взгляда", видения мира и своих проблем в отношении к самому себе. И таким образом, это дает ему возможность что-то сделать с этим.
Вернемся к нашей пациентке, которая так долго молчала: после примерно двадцати пяти часов терапии миссис Хатчинс увидела следующий сон. Она обыскивает комнату за комнатой в бесконечном здании аэропорта в поисках ребенка. Она считала ребенка чужим, но кто-то разрешил ей взять его. Потом ей показалось, что она положила ребенка в карман своего халата (или халата своей матери), и ее охватывает тревога, что он может задохнуться. К счастью, она обнаруживает, что ребенок все еще жив. Потом ей приходит в голову странная мысль: "Убью ли я его?".
Здание находилось в аэропорту, из которого она в возрасте двадцати лет впервые вылетала одна – что было очень серьезным актом самоутверждения и независимости от родителей. Ребенок у нее ассоциировался с ее младшим сыном, которого она регулярно отождествляла с собой. Позвольте мне опустить многочисленные ассоциации – доказательства, которые убедили нас обоих в том, что ребенок символизирует ее, а именно, ее самосознание. Этот сон является примером появления и роста самосознания, сознания, которое она еще не считает своим, сознания, которое она во сне убивает.
Примерно за шесть лет до начала терапии миссис Хатчинс оставила религию своих родителей, которые у нее, кстати, чрезвычайно авторитарны. Потом она стала посещать церковь близкой ей религии. Но она бы никогда не осмелилась сказать это своим родителям. Вместо этого, когда она приезжала к ним в гости, она посещала ту же церковь, что и родители, до тех пор, пока один из ее детей не выдал ее тайну. После примерно тридцати пяти сеансов, когда она решила написать своим родителям о смене веры, она на протяжении двух недель временами чуть не теряла сознание в моем офисе. Она вдруг становилась слабой, ее лицо бледнело, она чувствовала себя пустой или "как будто наполненной водой" и ее приходилось укладывать на несколько минут на кушетку. В ретроспективе она называла эти периоды "схватыванием забытого".
Потом она написала родителям о том, что она сменила вероисповедание раз и навсегда, и уверила их в том, что, если они будут давить на нее, ничего хорошего не выйдет. На следующем сеансе она спросила со значительным беспокойством, не кажется ли мне, что у нее начинается психоз. Я ответил, что, так как в жизни любого человека могут иногда случаться такие эпизоды, я не думаю, что у нее для такого вывода больше причин, чем у всех остальных; и спросил ее, не является ли боязнь начала психоза у нее также тревогой, появившейся у нее вследствие ее противостояния родителям, так как мысль о том, чтобы искренне быть собой, она воспринимала равносильно сумасшествию. Я уже говорил несколько раз, что можно заметить, что пациенты переживают тревогу бытия самим собой равносильно психозу. Это неудивительно, сознание собственных желаний и утверждение их включает в себя принятие собственной оригинальности и уникальности и подразумевает, что необходимо быть подготовленным не только к тому, чтобы быть изолированным от родительских фигур, от которых был зависим, но и тотчас остаться одному во всем психическом универсуме.
Мы видим глубокие конфликты при появлении самосознания у миссис Хатчинс, и, что интересно, основным ее симптомом оказывается отказ от уникальной человеческой способности, основанной на сознании, – отказ от речи. Эти конфликты проявились в: (1) искушении убить ребенка; (2) попытке цепляться за забвение через потерю сознания, как будто бы она говорила: "Если мне удастся избежать сознания, я избавлюсь от тяжелой проблемы сказать все родителям"; (3) психотической тревоге.
Теперь давайте перейдем к шестой, и последней, характеристике существующей личности: тревоге. Тревога – это состояние человеческого бытия. Борьба с ней может разрушить человеческое бытие. Это, как сказал Тиллих, состояние бытия в конфликте с небытием, конфликт, которому Фрейд дал мифологическое описание в полезном и важном символе инстинкта смерти. С одной стороны, эта борьба всегда направлена против чего-либо вне человека; но гораздо более зловещим и значимым для психотерапии является внутренняя сторона борьбы, которую мы наблюдали у миссис Хатчинс, а именно, конфликт внутри личности, поскольку она стоит перед выбором, надо ли это вообще и насколько далеко она может зайти в противостоянии собственному бытию и собственным возможностям.
Таким образом, мы воспринимаем всерьез искушение убить ребенка, или убить ее собственное сознание, что проявилось у миссис Хатчинс в такой форме. Мы не махнули на это рукой, назвав "невротическим", и не чем иным, как продуктом болезни и не пытались избавиться от этого, успокоив ее: "Хорошо, но не надо этого делать". Если бы мы поступили так, мы бы помогли ей приспособиться, но ценой отказа от части опыта в данном случае возможности стать более независимой. Противостояние самому себе, которое включено в процесс принятия самосознания, может быть каким угодно, но оно не бывает простым: оно включает в себя такие элементы, как принятие ненависти к своему прошлому, ненависти к себе со стороны матери и ее собственной ненависти к матери; принятие ее нынешних мотивов ненависти и деструкции; отсечение рационализации и иллюзий о своем поведении и мотивах и принятие ответственности и одиночества, которые за этим следуют; отказ от детского всемогущества и принятие того, что хотя она никогда не будет абсолютно уверена в правильности своего выбора, ей всегда придется выбирать.
Но все эти специфические моменты, которые легко понять сами по себе, должны быть восприняты в свете того факта, что сознание само по себе всегда подразумевает возможность для человека противостоять своей сущности, отрицать свою сущность. Трагическая природа человеческого опыта проявляется в том факте, что сознание само по себе дает возможность и искушение в любое мгновение убить себя.
Я убежден, что тот факт, что экзистенциальная психотерапия ставит серьезные акценты на трагических аспектах жизни, вовсе не означает ее пессимистичность. Скорее наоборот. Гениальная трагедия является переживанием катарсиса, о чем нам говорят еще со времен Аристотеля. Трагедия неотделимо связана с человеческим достоинством и величием и является аккомпанементом, как это было показано в драмах Эдипа и Ореста, моментах великого инсайта человеческого бытия.
По моему мнению, анализ характеристик существующего бытия, онтологические характеристики, которые я пытался выявить, могут дать нам структурную базу для психотерапии. Они также могут дать нам основу науки о человеке, которая не будет разрывать на куски человеческое единство в процессе изучения.
5. Карл Роджерс. ДВЕ РАСХОДЯЩИЕСЯ ТЕНДЕНЦИИ
Во время конференции, на которой эта работа была зачитана впервые, меня попросили прокомментировать два момента – один включал в себя общую теорию психотерапии, основанную на теории научения, а другой – экзистенциальный подход в психологии и психотерапии, которые уже были освещены в предыдущих главах этой книги. Данные представления нашли отражение в двух ведущих направлениях современной американской психологии, направлениях, которые в данный момент кажутся непримиримыми, потому что мы еще не создали более сложную структуру, которая бы смогла их объединить. Поскольку круг моих интересов в первую очередь касается терапии, я ограничусь в обсуждении указанных тенденций тем, как они проявляются в данной сфере.
"Объективная" тенденция. С одной стороны, пристрастие к серьезному мудрствованию в психологии, к редукционистским теориям, к операциональным определениям, к экспериментальным процедурам приводит нас к пониманию психотерапии в гораздо более объективных терминах. Таким образом, мы можем понимать терапию как оперантное обусловливание пациента. Терапевт усиливает посредством соответствующих простых средств те утверждения, которые выражают чувства, или те, которые являются отражением удовольствия в сновидениях, или те, которые выражают враждебность, или те, которые демонстрируют позитивную концепцию "я". Было получено производящее глубокое впечатление доказательство, демонстрирующее, что такое подкрепление действительно усиливает тот тип проявлений, который подкрепляется. Следовательно, с этой точки зрения путь к улучшению терапии состоит в том, чтобы более мудро выбирать элементы для подкрепления, более ясно представлять себе те формы поведения, которые хочешь передать клиентам. Эта схема не имеет принципиальных отличий от формирования определенного типа поведения у голубей, которым занимался Скиннер.
Другим вариантом этой общей тенденции является известный в психологии подход как теория научения, существующий в нескольких формах. Форма S-R (стимул-реакция) связей является тем путем, по которому действует механизм возникновения тревоги и трудностей приспособления. Эти связи определяются их происхождением, и воздействия интерпретируются и объясняются пациенту. Подкрепление, или контробусловливание, сводится, таким образом, к приобретению индивидом нового, более здорового и более социально полезного ответа на те же стимулы, которые первоначально вызывали трудности.
Этой тенденции придерживаются большинство распространенных в американской психологии установок. Насколько я себе их представляю, эти установки находят свое выражение в таких лозунгах, как: "Прочь от философии и ценностей. Вперед к конкретному, операционально определенному, научному". "Прочь от всего, что кажется внутренним. Наше поведение и наше "я" – не что иное, как объекты, создающиеся по образу и подобию окружающих условий. Будущее детерминируется прошлым". "Так как никто не является свободным, то лучше мы будем управлять поведением других в интеллигентной манере ради всеобщего блага". (Каким образом несвободный индивид может выбрать, что он хочет делать, и выбрать управление другими, нигде не поясняется.) "Вполне очевидно, что путь к тому, чтобы что-то делать, заключается в том, чтобы делать это". "Путь к пониманию лежит извне".
"Экзистенциальная" тенденция. Насколько бы эта тенденция не казалась логичной и естественной в соответствии с характером нашей культуры, это не единственная обоснованная тенденция. В Европе, которая не в такой мере увлечена сайентизмом, говорят: "Такое ограниченное видение поведения не адекватно всему ряду человеческих феноменов". Один из этих голосов принадлежит Абрахаму Маслоу. Другой – Ролло Мэю. Еще один – Гордону Олпорту. Число таких голосов растет. Я бы хотел, если это возможно, отнести себя к этой же группе. Эти психологи утверждают различными способами, что они имеют дело со всем спектром человеческого поведения и что человеческое поведение в некоторых значительных проявлениях представляет собой нечто большее, нежели поведение лабораторных животных.
Чтобы проиллюстрировать это на примере из области психотерапии, я бы хотел вкратце рассказать кое-что из моего личного опыта. Я начинал с совершенно объективной точки зрения. Психотерапевтическое лечение включает в себя диагностику и анализ проблем клиента, осторожную интерпретацию и объяснение клиенту причин его трудностей и процесс переобучения, сфокусированный клиницистом на специфических причинных элементах. Наконец я понял, что лечение будет более эффективным, если я смогу создать такой психологический климат, что клиент сможет взять на себя такие функции, как исследование, анализ, понимание и попытка по-новому решить свои проблемы. В течение последних лет я был вынужден признать, что наиболее важным ингредиентом в создании такого климата является то, что я должен быть реальным. Я пришел к пониманию того, что только тогда, когда я смогу быть полностью реальной личностью и буду именно так воспринят клиентом, он сможет открыть то настоящее, что есть в нем. Тогда моя эмпатия и принятие будут эффективными. Я не смогу добиться многого в терапии, если не способен быть тем, чем я являюсь в глубине души. Сущность терапии, как я это вижу, в том, что встречаются два человека, и один из них – терапевт, который открыт и свободен и доказывает это максимально полно. Таким образом, переделав старинную поговорку, я бы хотел сказать: "Способ делать – это быть"; путь к пониманию находится внутри.
Результат такого типа отношений очень хорошо описал Мэй. Клиент находит поддержку (используя термин Бубера) не только тому, что он собой представляет, но и своих возможностей. Он может утвердить себя, я совершенно уверен, как отдельную, уникальную личность. Он может стать архитектором своего будущего через активность своего сознания. Это становится возможным, поскольку он в большей степени открывается своему опыту, он допускает себя к жизни, пытаясь осуществить все свои способности. Он может допустить в сознание и пережить свои мысли и чувства творческие порывы и деструктивные тенденции, которые он обнаруживает у себя, вызов роста и вызов смерти. Он становится самостоятельной личностью, способной быть такой, какая она есть, и выбирать свой курс. Это результат терапии, который видится с позиций второго подхода.
Две модели науки. Резонно спросить, как возникли в терапии два таких разных направления – одно, представленное такими именами, как Доллард, Миллер, Роттер, Уолп, Бергман и другие, и второе, выразителями которого являются Мэй, Маслоу, я и другие. Я думаю, источник различий – в различных концепциях науки и способах ее использования. Сильно упрощая, можно сказать, что приверженцы теории обучения считают: "Мы много знаем о том, как обучаются животные. Терапия – это обучение. Таким образом, эффективная терапия будет строиться на основе того, что мы знаем о научении животных". Это совершенно законное использование науки, перенесение уже известных закономерностей на новые и неизвестные сферы.
Вторая группа подходит к проблеме иначе. Эти люди заинтересованы в понимании закономерностей, лежащих в основе психотерапии. Они говорят: "Некоторые попытки терапевта вызвать конструктивные изменения эффективны, другие – нет. Мы обнаружили, что существуют некоторые характеристики, которые делятся на два класса. Мы обнаружили, например, что возможно установить помогающие отношения, если терапевт действует как реальная личность, взаимодействуя со своими реальными чувствами. В менее помогающих отношениях мы часто обнаруживаем, что терапевт действует скорее как интеллектуальный манипулятор, чем как реальное "я". Здесь также имеет место вполне разумная концепция науки, выявляющая последовательность, присущую любой серии событий. Я придерживаюсь того мнения, что вторая концепция более вероятно описывает уникальные человеческие аспекты терапии.
Эмпирический метод как сближение. Я пытался коротко рассказать о двух расходящихся направлениях, приверженцы которых находят общение друг с другом трудным, так как различия между ними слишком велики. Возможно, я смогу показать, что научный метод сам по себе предполагает базу для сближения.
В том виде, в котором Мэй преподнес свои шесть принципов, они должны вызывать неприязнь у многих американских психологов, поскольку кажутся слишком неопределенными, излишне философскими, непроверяемыми. Но у меня не возникло трудностей с выведением проверяемых гипотез из этих принципов. Вот несколько примеров.
Из первого принципа. Чем в большей степени "я" человека находится под угрозой, тем больше проявляется защитное невротическое поведение.
Чем в большей степени "я" находится под угрозой, тем больше ограничивается бытие человека и его и поведение.
Из второго принципа. Чем в большей степени личность свободна от угрозы, тем больше она будет демонстрировать самоутверждающее поведение.
Из третьего принципа гипотеза получается более сложная, но все же проверяемая. Чем в большей степени индивид будет воспринимать свое окружение свободным от угроз для его "я", тем больше он будет проявлять потребность в сотрудничающем поведении.
Из шестого принципа. Специфическая тревога исчезнет только тогда, когда клиент перестанет бояться существования той специфической возможности, которая и вызывает эту тревогу.
Возможно, этих рассуждений достаточно, чтобы навести на мысль о том, что наша позитивистская традиция операциональных определений и эмпирических исследований может быть полезна в исследовании истины относительно онтологических принципов терапии, сформулированных Мэем, принципов динамики личности, включенных в заметки Маслоу и даже эффектов различного восприятия смерти, сформулированных Фейфелом. В дальнейшем, вероятно, как надеется Маслоу, вовлечение психологической науки в тонкие, субъективные и ценностно-зависимые сферы может само по себе стать следующим шагом в теории науки.
Пример. В качестве иллюстрации того, как исследования могут прояснить некоторые из этих статей, позвольте мне перейти к данным прошлых исследований. Одним из элементов экзистенциального мышления, наиболее шокирующим для традиционно ориентированных американских психологов, является убеждение в том, что человек является свободным и ответственным, что выбор представляет собой суть его существования. Это было показано авторами предыдущих глав этой книги. Фейфел сказал: "Жизнь не будет полностью нашей до тех пор, пока мы можем отвергать ее". Маслоу отметил, что психологи уклоняются от проблемы ответственности. Мэй говорит о "мучительном бремени свободы" и выборе между тем, чтобы быть самим собой или отрицать себя. Конечно, для многих сегодняшних психологов это никогда не будет восприниматься в качестве предмета, имеющего отношение к психологической науке, а лишь в качестве простых предположений.
Все еще придерживающихся именно этой точки зрения я бы хотел познакомить с исследованием, проведенным несколько лет назад. У.Л.Келл, выполняя дипломную работу под моим руководством, занялся изучением факторов, которые бы могли предсказать поведение малолетних преступников[29]. Он провел тщательную объективную оценку семейного климата, уровня образования, окружения и культурного влияния, социального опыта, генетических предпосылок каждого правонарушения. Эти факторы были проранжированы с точки зрения их благоприятности для нормального развития – от элементов, деструктивных для детского благосостояния и враждебных здоровому развитию до элементов, высококоррелирующих со здоровым развитием. В заключение была также проведена оценка степени самопонимания, поскольку казалось, что хотя этот критерий не относится к основным детерминантам, он может иметь некоторое значение в предсказании будущего поведения. В основном это была оценка того, до какой степени индивид был объективен и реалистичен по отношению к себе и окружающей ситуации, принимал ли он на эмоциональном уровне определенные факты в себе и в своем окружении.
Эти оценки по 75 нарушителям были сопоставлены с оценками их поведения спустя 2-3 года. Ожидалось, что оценки климата в семье и опыта социальных контактов с ровесниками будут лучшими для предсказания дальнейшего поведения. К нашему удивлению, степень самопонимания гораздо лучше предсказывала дальнейшее поведение и имела с ним корреляцию 0.84, тогда как качество социального опыта имело корреляцию 0.55, а семейный климат – 0.36. Мы были просто не готовы к тому, чтобы поверить в это и положили исследование на полку до тех пор, пока не появилась возможность его повторить. Позднее оно было повторно проведено на новой группе из 76 случаев, и все значимые результаты были подтверждены, хотя и не столь поразительно. Когда мы исследовали только правонарушителей из наиболее неблагоприятных семей, все еще остававшихся в этих семьях, также оказалось, что их будущее поведение определяется не столько неблагоприятными условиями, в которых они оказываются в домашнем окружении, сколько степенью реалистичного восприятия самих себя и среды, которая их окружает.
Это, как мне кажется, является эмпирическим определением того, что составляет "свободу" в том смысле, в котором д-р Мэй употреблял этот термин. Если правонарушители оказывались способными допустить в сознание все факты, касающиеся их самих и их ситуации, они оказывались вольны жить, образно говоря, вне всех возможностей и выбирать наиболее удовлетворительный вид деятельности. Но те правонарушители, которые были не способны принять реальность в сознание, принуждались обстоятельствами собственной жизни продолжать девиантное поведение, не получая удовлетворения в этой длительной гонке. Они несвободны. Это исследование, думаю, наполняет эмпирическим содержанием утверждение д-ра Мэя о том, что "возможность сознания... составляет основу психологической свободы".
Я пытался показать два расходящихся пути, по которым может быть продолжена работа в области психотерапии. С одной стороны, это строго объективное исследование – негуманистическое, неличностное, имеющее рациональной базой знание о научении у животных. С другой стороны, существует подход, предлагаемый в приведенных здесь работах, гуманистическое, личностное в которых связывается с "существующим, становящимся, проявляющимся, переживаемым бытием".
Я предположил, что эмпирический метод исследования поможет установить эффективность каждого из подходов. Я пытался показать, что тонкость и субъективные качества второго подхода не являются преградой для его объективного исследования. Я также уверен, что очевидно из моих рассуждений, что теплая, субъективная, человеческая встреча двух личностей более эффективна в содействии изменениям, чем более точный набор техник, почерпнутых из теорий обучения и оперантного обусловливания.
6. Гордон Олпорт. КОММЕНТАРИИ К ПРЕДЫДУЩИМ ГЛАВАМ
Хотя каждая из приведенных статей заслуживает развернутой дискуссии, я буду вынужден ограничить себя короткими комментариями к четырем из них, которые представляются мне особенно значимыми.
Маслоу спрашивает: "Что есть в европейском экзистенциализме для американского психолога?" В ту же секунду я могу предложить свой собственный ответ на этот вопрос – я думаю, пересказ ответа Маслоу.
Но сначала, если мы будем искренни, большинство из нас должно признать, что нас отталкивает большое количество написанного и большое количество теоретических изысканий наших европейских коллег. Кое-что из этого кажется нам напыщенным, многословным и безосновательным. Некоторые идеи оказываются такими же яркими и освещающими, как луч света, но большая их часть оказывается утонувшими в море темноты. Первые главы книги "Экзистенция" были для меня лучом света, оставшиеся главы уводят в темноту.
Вышеизложенное очень хорошо показывает, как американская психология приступила к приданию новой формы заимствованным идеям, привнося порядок, ясность и применяя по отношению к ним эмпирическую проверку. В американской психологии очень мало, если они есть вообще, собственных оригинальных теорий; но она осуществила огромную работу по раскрытию и более аккуратному представлению идей Павлова, Бине, Фрейда, Роршаха и других. Теперь я предвижу, мы может совершить то же самое с Хайдеггером, Ясперсом и Бинсвангером. Работы, представленные на этом симпозиуме, являются значительным шагом в этом направлении. В частности, комментарии Роджерса показывают, как американская психология пытается перевести экзистенциальную догму в проверяемые предположения.
Маслоу, подходя с позитивной стороны, обнаружил в экзистенциализме некоторые достижения. Этот подход заставляет нас, например, придавать новое значение понятиям самобытности, выбора, ответственности, будущности; он заставляет нас улучшать методы постижения личности – от хрупких, мечтательно-книжных техник и чрезмерных интеллектуализации к планам идеографического изучения уникального индивида. Я осмелюсь подвести итог воззрениям Маслоу в следующем высказывании: экзистенциализм углубляет понятия, которые определяют человеческое состояние. Таким образом, он готовит путь (первые шаги) к психологии человечности. Позвольте мне объяснить, что я имею в виду.
Существует ряд событий, общих для всех людей, всего человечества. Человек рождается от отца и матери, обычно зачинается и воспитывается в любви. Он преследует некоторые биологические цели, но он преследует и другие цели, которые требуют утверждения в своей собственной самобытности, принятия ответственности, удовлетворения любопытства по отношению к смыслу жизни. Он обычно влюбляется и порождает новую жизнь. Он всегда умирает один. На протяжении всего пути он испытывает тревогу, страстные желания, боль и удовольствие.
Эта серия событий универсальна, общечеловечна, но психология никогда не бралась за нее вплотную. По этой причине наши понятия, методы и интересы оказываются недостаточными для обращения со многими вопросами, поставленными этими событиями. Экзистенциализм дал нам прообраз универсальной психологии человечности.
Одной из пренебрегаемых тем является смерть, предмет превосходной статьи Фейфела. Меня чрезвычайно удивляет, что же заставило его так озаглавить статью: "Смерть – релевантная переменная в психологии". Конечно, это релевантная переменная. Почему даже теперь все еще нужно в этом убеждать?
Как отметил Фейфел, личная философия смерти является огромной частью философии жизни. Некоторые относятся к смерти как к чему-то ужасному, другие – как к желанному, третьи – индифферентно. Хотя индивидуальные различия очень тонки и вариативны, почему мы до сих пор не включили взгляд на смерть в изучения личности и сферу психотерапии? Как опять-таки отметил Фейфел, фрейдовская догма о "желании смерти" доказала свою бесплодность. Гораздо более многообещающим является вклад самого Фейфела в эмпирические исследования. Вместо предположения, сделанного Фрейдом, что все люди "ищут" смерть, у нас скоро будет более дифференцированный и просвещенный отчет на эту тему.
Я бы хотел, однако, предложить Фейфелу более внимательно изучить религиозную составляющую. Он предположительно решил, что религиозные люди в целом более испуганы смертью. Но он также отмечает, что существует множество видов религиозности. Если более внимательно вглядеться в этот факт, мне кажется, можно обнаружить две противоположные тенденции. Люди, религиозные ценности которых являются "внутренними", то есть всеобъемлющими и тесно вплетенными в их жизнь (укоренившимися-в-них), будут меньше бояться смерти. В противоположность им, люди с "внешними" религиозными ценностями (носящими защитный, избегающий, этноцентрический характер) будут более испуганными. Мое предположение исходит из нашего открытия того, что этнические предрассудки положительно связаны с внешним типом религии, тогда как внутренний тип религии ведет к толерантности и универсальности взглядов.
Третья работа совсем иного рода. Как Маслоу, так и Фейфел находят, что европейский экзистенциализм слишком поглощен темами страха, боли, отчаяния и "тошноты", единственное средство борьбы с которыми – плотно сжатые губы. Битнические аспекты экзистенциализма в европейском, а не американском вкусе.
Тенденции в американском экзистенциализме будут носить (и уже носят) более оптимистичный характер. Сартр говорит что "выхода нет". Вспоминается стоик Эпиктет, который много лет назад написал: "У тебя течет из носа? Тогда, чудак, радуйся тому, что у тебя есть рукав, чтобы вытереться". Может ли кто-нибудь представить себе Карла Роджерса, дающего такой совет?
Американские пациенты страдают так же глубоко, как говорит Маслоу, они так же утомлены пустотой собственной жизни, как и европейские пациенты. Все же акцент на смирении, принятии, даже "смелости быть" кажется более европейским, чем американским. Виктор Франкл, чья последняя книга "От лагеря смерти к экзистенциализму" потрясла меня как самая мудрая книга на данную тему, обещает лишь слабую надежду в обмен на принятие ответственности и постижение смысла страдания. Американские движения квазиэкзистенциального порядка (клиент-центрированная психотерапия, психотерапия роста и самоактуализации и эгопсихотерапия) более оптимистичны в своих ориентациях.
Наконец, я считаю, что основная теоретическая проблема вытекает из размышлений Мэя. Он, кажется, предполагает, что феноменология (выражающаяся в том, что клиент начинает рассматривать самого себя как уникальное бытие-в-мире) является первой стадией психотерапии, и, возможно, только первой стадией. (Мне вспоминается простое утверждение Роберта Мак-Леода, сделанное им несколько лет назад, что феноменология является хорошей точкой отсчета, но плохим завершением для социальной психологии.)
Теперь Мэй допускает, что экзистенциалисты должны идти дальше. Они должны сказать, что, если мы знаем, полностью и исчерпывающе, ответ на вопрос что, ответ на вопрос почему должен также быть включен в рассмотрение. Но случай миссис Хатчинс, представленный доктором Мэем, не следует этой теоретической ориентации. Действительно, он тщательно описал ее образ себя в угрожающем мире. Но его терапия в своей основе базируется на психоаналитических техниках. Ее проблема представлена в знакомой фрейдистской манере, включая теорию формирования реакции вытеснения, сублимации и проекции. Бессознательное миссис Хатчинс наполнено фрейдовским, а не экзистенциальным содержанием.
Теоретический вопрос заключается в следующем: действительно ли искаженный взгляд пациента на мир всегда составляет его основную проблему? Разве все основные движущие мотивы жизни коренятся исключительно в ошибочной точке зрения? (Я знаю одного командира подводной лодки, недавно вышедшего в отставку, который обладает стремлением к доминированию и нетерпеливым, раздражительным характером. Он считает, что другие должны незамедлительно ему повиноваться, и поэтому соответственно его восприятие других неадекватно. Сомневаюсь, что проблема лежит в его детстве. В силу внешних обстоятельств у него развилось нарушенное восприятие социальных отношений – и именно в этом его проблема.)
Короче говоря, экзистенциалисты могут не сомневаться в утверждении, что иногда то, что мы называем "симптомами", является фактически основной проблемой. Все больше и больше мы подходим к тому, чтобы приписывать мотивационную силу когнитивным состояниям. Возможно, то, что феноменологический взгляд на пациента предлагает нам в качестве первой стадии, представляет всю проблему; она является основной, так же как и исходной для психотерапии.
Спешу добавить, что я не утверждаю, что это состояние всегда сохраняется. Подавляемое может быть высвобождено; бессознательная враждебность может быть осознана. Терапия может применять традиционные глубинные техники.
Все вопросы, затронутые мной, поднимались на симпозиуме, и, на мой взгляд, являются фундаментальными для теории мотивации. Может ли (по крайней мере иногда) приобретенное мировоззрение не составлять центральный мотив жизни и, в случае его нарушения – основную терапевтическую проблему? Может ли жизненная философия человека здесь и сейчас не быть функционально самостоятельным мотивом? Всегда ли нам нужно копать глубже, чем предоставленная здесь феноменология?
Мое мнение состоит в том, что психология должна делать различие между жизнью, где есть реальное экзистенциальное наполнение, и жизнью, где это является явной маской, за которой скрывается грохот бессознательного.
ЭКЗИСТЕНЦИЯ: НОВОЕ ИЗМЕРЕНИЕ В ПСИХИАТРИИ И ПСИХОЛОГИИ
Existence: A New Dimension In Psychiatry And Psychology
Ed. by Rollo May, Ernst Engel, Henry F.Ellenberger
New York: Basic Books, 1958
1. Ролло Мэй. ИСТОКИ ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНОГО НАПРАВЛЕНИЯ В ПСИХОЛОГИИ И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ[30]
В последнее время многие психиатры и психологи все больше и больше осознают, что в нашем понимании человека существуют серьезные пробелы. Для психотерапевтов, которые сталкиваются в своей работе с людьми, переживающими кризис, эти пробелы кажутся невосполнимыми. Тревогу людей, находящихся в состоянии кризиса, нельзя снять с помощью теоретической формулы. Эти проблемы кажутся непреодолимыми и в научных исследованиях. Таким образом, многие психиатры и психологи Европы и США задают себе эти вопросы и мучаются сомнениями, которые проистекают из этих же самых лишь наполовину решенных вопросов.
Можем ли мы быть уверены, что видим пациента таким, какой он есть, или мы видим проекцию наших собственных теорий о нем? У каждого психотерапевта есть свои представления о поведении и его механизмах, а также разработанная его школой определенная концептуальная система. С научной точки зрения она совершенно необходима. Но принципиальный вопрос, который всегда касается и системы пациента, заключается в следующем: как мы можем быть уверены в том, что наша прекрасно разработанная система на самом деле имеет какое-то отношение к мистеру Джонсу, сидящему сейчас напротив нас на сеансе консультирования? Может быть, в отношении этого конкретного человека требуется совершенно иная система? И чем больше мы полагаемся на логическую последовательность нашей системы, тем больше данный пациент ускользает от нас, тая, как морская пена, в наших исследовательских руках.
Еще один принципиальный вопрос: как мы можем знать, что видим пациента в его действительном мире, в котором он живет и работает, в уникальном конкретном мире, отличающемся от наших общих теорий? Мы никогда не сможем проникнуть в его мир, узнать его непосредственно. И все же мы должны знать его, должны существовать в его мире, если хотим, чтобы у нас был шанс понять этого человека.
Эти вопросы побудили европейских психиатров и психологов разработать направление Daseinsanalyse, или экзистенциально-аналитическое направление. Основной представитель этого подхода – Людвиг Бинсвангер – пишет, что "экзистенциально-исследовательская ориентация в психиатрии возникла из безрезультатности общих попыток достичь научного понимания в психиатрии... Психология и психиатрия – это науки, занимающиеся человеком, человеком как таковым, а не только психически больным человеком. Новое понимание человека, которым мы обязаны анализу экзистенции, проведенным Хайдеггером, основывается на новой концепции, согласно которой человек больше не предстает в рамках той или иной теории, неважно, механистическая она, биологическая или психологическая..."[31]
I. К ЧЕМУ ПРИВЕЛО РАЗВИТИЕ ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНО-АНАЛИТИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ
Перед тем как обратиться к рассмотрению новой концепции человека, следует отметить, что это направление возникло спонтанно в разных частях Европы и в разных школах, что привело к формированию разнообразных взглядов на данный вопрос. К представителям первой, феноменологической стадии этого направления относят Юджина Минковски (Eugene Minkowski) из Парижа, Эрвина Страуса (Erwin Straus) из Германии, который сейчас проживает в Америке, фон Гебсаттеля (V. Е. Von Gebsattel) из Германии. Более специфическая вторая, или экзистенциальная, стадия представлена именами Л.Бинсвангера (L.Binswanger), А.Сторча (А.Storch), M.Босса (М.Boss), Дж.Бэлли (G.Bally), Роланда Куна (Rolland Kuhn) из Швейцарии, Дж. ван ден Берга (J.H.Van Den Berg) и Ф.Бьютендика (F.J.Buytendijk) из Голландии и другими. То, что движение возникло спонтанно, что люди, высказывавшие сходные идеи, порой даже не знали друг о друге, то есть то, что это направление является плодом работы не одного лидера, а обязано своим возникновением разным психиатрам и психологам, накладывает отпечаток на всю концепцию в целом. Все эти факты означают, что данное направление должно удовлетворить широкий круг запросов современной психологии и психиатрии. Фон Гебсаттель, Босс и Бэлли работали в русле фрейдовского анализа. Бинсвангер, хотя и жил в Швейцарии, стал членом Венского психоаналитического общества по рекомендации 3.Фрейда. Это произошло в то время, когда цюрихская группа отделилась от Международного психоаналитического общества. Некоторые экзистенциальные терапевты находились под влиянием Юнга.
Все эти люди были достаточно опытными, их лечение – эффективным. Но, оставаясь в рамках психоанализа, они не могли понять, почему в одном случае лечение помогает, а в другом нет, и что на самом деле происходит в существовании пациента. Они полагали, что обычные терапевтические методы не могут разрешить эти внутренние сомнения. К таким методам относились удвоенные усилия, направленные на улучшение чьей-либо сложной и запутанной концептуальной системы. Среди психотерапевтов, обеспокоенных тем, что они делают, наблюдались сторонники другой тенденции решения этих проблем. Эта группа концентрировала свое внимание на технике терапии. Возможно, одним из наиболее удобных способов снижения тревоги является абстрагирование от этих проблем путем принятия особого значения техники в целом. Эти люди, как указывал Людвиг Лефебр (Ludwig Lefebre)[32], не хотели объяснять происходящее в процессе терапии с помощью таких не поддающихся проверке структур, как "либидо", "цензор" или "перенос". Кроме этого, они сильно сомневались в возможности использования теории бессознательного в качестве чистого листа, на котором можно написать почти любое объяснение. Страус говорит о том, что они осознавали, что "бессознательные идеи пациентов встречаются чаще, чем сознательные теории терапевтов".
Эти психиатры и психологи не рассматривали специальные терапевтические техники. Они признавали, что, например, психоанализ оказывается очень действенным в определенных случаях. Некоторые из них, будучи добросовестными сторонниками Фрейда, практиковали психоанализ. Однако все эти психотерапевты сильно сомневались в психоаналитической теории человека. Они полагали, что трудности и ограничения в концепции человека не только серьезно блокируют исследование, но и значительно ограничивают эффективность и развитие терапевтических техник в будущем. Они пытались понять конкретные неврозы или психозы, а таким образом и кризис, не как отклонение от теоретического критерия того или иного психолога или психиатра, работающего с этим случаем, но как отклонение в структуре существования (экзистенции) пациента, как разрушение условий его существования (condition humaine). "Психотерапия, основанная на экзистенциально-аналитическом подходе, исследует историю жизни пациента, не пытаясь объяснить ни ее самою, ни ее патологические проявления с помощью тех или иных психотерапевтических школ или предпочитаемых категорий. Вместо этого она понимает данную историю жизни как изменение во всей структуре бытия пациента в мире..."[33]. Эта мысль может показаться немного путаной, но все первые главы будут посвящены тому, что данное направление означает в понимании особенностей личностей. В главах, написанных пионерами этого движения, будут приведены примеры метода анализа случаев.
Бинсвангер пытался понять, как экзистенциальный анализ объясняет конкретный случай, а также пытался сравнить его с другими методами понимания. Эти идеи графически представлены в работе Бинсвангера "Эллен Вест"[34]. После того как он в 1942[35] году закончил свою книгу об экзистенциальном анализе, он поехал в санаторий, где был директором, чтобы выбрать историю случая молодой женщины, которая в конечном счете, покончила жизнь самоубийством. Этот случай богат красноречивыми дневниками, личными заметками и стихотворениями Эллен Вест. Более того, до поступления в санаторий она дважды проходила курс психоанализа у разных психоаналитиков, а в самом санатории посещала консультации Блейлера и Крепелина. Бинсвангер использует этот случай в качестве темы для обсуждения, в качестве истории случай Эллен Вест сначала обсуждали психоаналитики, затем Блейлер и Крепелин, а также другие авторитетные врачи санатория. Потом Бинсвангер рассуждал на тему, как бы ее случай был понят сейчас в свете экзистенциального анализа.
Здесь будет уместным вспомнить долгую дружбу между Бинсвангером и Фрейдом, которую они оба очень ценили. Недавно вышла небольшая книга воспоминаний Бинсвангера о Фрейде. Эту книгу его побудила написать Анна Фрейд. В ней Бинсвангер перечисляет свои многочисленные визиты в дом Фрейда в Вене и визиты Фрейда в его санаторий на озере Констанс.
Их отношения тем более удивительны, что это единственный пример длительной дружбы Фрейда с коллегой, взгляды которого радикально отличались от его собственных. В письме Фрейда, написанном Бинсвангеру в ответ на его последнее новогоднее письмо, было тонкое замечание: "Ты, так отличающийся от всех остальных, не позволил, чтобы твое интеллектуальное развитие, которое все дальше и дальше уводит тебя от моего влияния, разрушило наши личные отношения. Ты не знаешь, как много хорошего этим сделал"[36]. Мы, конечно, не можем судить, выжила ли их дружба, потому что их интеллектуальный конфликт был подобен общеизвестной битве между никогда не встречавшимися слоном и моржом, или она долго просуществовала благодаря дипломатическому подходу со стороны Бинсвангера (однажды Фрейд слегка упрекнул его в этом) или благодаря их взаимному уважению и искренней привязанности друг к другу. Что действительно важно, так это то, что Бинсвангер вместе с другими представителями экзистенциальной терапии не рассматривал динамизм как таковой; их в большей мере интересовал анализ лежащих в основе положений о человеческой природе и выявление структуры, на которой можно построить любую терапевтическую систему.
Было бы ошибкой ставить экзистенциальное направление в психотерапии в один ряд со школами, отколовшимися от Фрейда, Юнга и Адлера. Эти школы возникли из-за существования белых пятен в ортодоксальной терапии, они появились в те моменты, когда развитие ортодоксальной терапии застопорилось, а ее результаты стали неудовлетворительными. Творческий порыв того или иного талантливого лидера служил толчком к образованию этих школ. Отто Ранк сделал акцент на настоящем в опыте пациента. Его работы появились в начале двадцатых годов, в то время, когда классический анализ увяз в безжизненных интеллектуальных дискуссиях о прошлом пациента. "Анализ характера", написанный Вильгельмом Райхом в конце двадцатых годов, был ответом на необходимость прорваться сквозь "щиты", броню характера. В тридцатые годы появились работы Хорни, Фромма и Салливана. Все они были представителями социокультурного направления. К этому времени ортодоксальный анализ потерял реальное значение социального и межличностного аспектов невротических и психотических расстройств. Экзистенциальная терапия также возникла в результате образования белых пятен, каких именно – мы скажем позже. Но есть два отличия данного направления от других школ. Во-первых, экзистенциальный подход возник спонтанно в разных частях континента, его основателями были разные люди. Во-вторых, его целью не является образование новой школы, противостоящей всем остальным, или новой техники, отрицающей все предыдущие. Его задача заключается в анализе структуры человеческого существования. Если мы сможем решить эту задачу, то тогда придем к пониманию реальности, лежащей в основе всех критических ситуаций.
Таким образом, цель этого подхода гораздо шире, чем прояснение белых пятен. Когда Бинсвангер пишет, что "...экзистенциальный анализ способен расширить и углубить понимание и базисные концепции психоанализа", то, по моему мнению, он создает хорошую основу не только для анализа, но и для других форм терапии.
Не трудно догадаться, что в Америке это направление столкнется с сильным сопротивлением, несмотря на то, что в Европе его значение быстро растет, а некоторые обозреватели говорят о нем, как о главном. В свое время, когда они еще были коллегами, Фрейд писал Юнгу, что всегда лучше вызвать открытое сопротивление викторианской культуры психоанализу. Последуем этому совету Фрейда и назовем основные источники сопротивления данному подходу.
Первым источником сопротивления, безусловно, является мнение, что все главные открытия уже сделаны и нам остается только разобраться в деталях. Эта установка – давняя помеха в такого рода делах, незваный гость, который заведомо присутствует во всех спорах между психотерапевтическими школами. Его называют "белые-пятна-превращенные-в-догму". И хотя это мнение даже не заслуживает ответа, да ответ и не будет воспринят, к сожалению, оно более распространено в данный исторический период, чем хотелось бы думать.
Второй источник сопротивления, требующий уже серьезного ответа, – это подозрение, что экзистенциальный анализ представляет собой вторжение философии в психиатрию и имеет мало общего с наукой. Такое отношение отчасти является пережитком дискуссий конца прошлого века, когда психологическая наука завоевала свободу и отделилась от метафизики. Эта победа была чрезвычайно важна, но затем последовала реакция, приведшая к другой крайности, что само по себе опасно. Рассматривая этот источник сопротивления, мы должны сделать некоторые комментарии.
Здесь будет уместным вспомнить, что экзистенциальное направление в психиатрии и психологии возникло как раз из стремления к большей, а не к меньшей эмпиричности. Бинсвангер и другие психологи были убеждены, что традиционные научные методы не только не могли представить эмпиричные данные, но они скорее скрывали, чем выявляли, происходящее в пациенте. Экзистенциальный анализ выступает против рассмотрения пациента в рамках наших предварительных концепций и представлений. Это прямо соотносится с научной традицией в широком смысле. Такой подход расширяет знания о человеке в исторической перспективе, углубляет научное познание, принимая во внимание факты самораскрытия человека в искусстве, литературе, философии. Здесь учитываются достижения, полученные в социокультурном направлении, раскрывающие конфликты и тревогу современного человека. Достаточно только прочитать следующие главы, чтобы убедиться, с какой интеллектуальной честностью и научной дисциплиной эти исследователи человеческой природы изучают указанные области. По моему мнению, в их работах предстает союз науки и гуманизма.
Также следует напомнить, что каждый научный метод базируется на философских гипотезах. Эти гипотезы определяют не только допустимую данным конкретным методом степень реальности, ведь методы на самом деле – это очки, через которые смотрит исследователь. Главное заключается в том, что согласно этим предпосылкам мы определяем, имеет ли наблюдаемое явление отношение к реальным проблемам, и таким образом делаем вывод о возможности научной работы. Ошибочно полагать, что исследователь может наблюдать явления в чистом виде, если отстранится от философского базиса. Тогда он просто некритически отражает конкретные узкие доктрины, ограниченные рамками его культуры. В результате наука имеет дело с изолированными фактами, которые она наблюдает с удаленной базы. Эта база – конкретный метод, возникший из зазора между субъектом и объектом. Этот зазор образовался в западной культуре в семнадцатом веке, а в девятнадцатом и двадцатом веках выделился в отдельную форму[37]. Безусловно, в наши дни мы не менее подвержены методологизму, чем люди из любой другой культуры. Но, наверное, самое неприятное, что наше понимание в такой решающей области, как психологическое исследование человека, а также зависящее от этого понимание эмоционального и психического здоровья ограничивается из-за некритического принятия узких предпосылок. Хелен Сарджент (Helen Sargent) очень мудро заметила, что "наука предлагает больше вариантов, чем студентам-выпускникам позволено осознать"[38].
Разве не является сутью науки утверждение, что реальность законна а, следовательно, понимаема? Разве не является неотделимой частью научной целостности какой-либо метод, критикующий ее собственные предпосылки? Единственный способ уменьшить слепые зоны того или иного человека – это проанализировать его философские воззрения. По моему мнению, большая заслуга психиатров и психологов экзистенциального направления заключается в том, что они пытаются прояснить их собственный научный базис. Доктор Элленбергер в своей статье, приведенной в данной книге, говорит о том, что такая позиция обеспечивает им свежий и ясный взгляд на их испытуемых, а также позволяет пролить свет на многие грани психологического опыта.
Третьим источником сопротивления, и, по моему мнению, самым важным, является то особое внимание, которое у нас уделяется технике. За этим чрезмерным вниманием стоит абсолютное нетерпение к любым попыткам найти общее основание всех техник. Эту тенденцию легко объяснить, обращаясь к американскому социальному опыту. Ее хорошо демонстрирует наша оптимистичная, активная забота о том, как помочь человеку и как его изменить. Наши гении психологической мысли наиболее полно проявили себя в бихевиористской, клинической и т.п. областях, а наш значительный вклад в психиатрию связан с лекарственной формой терапии и другими техническими методами. Гордон Олпорт описал тот факт, что американская и британская психология (так же как и общая интеллектуальная атмосфера) являются продолжением философии Локка, то есть продолжением прагматической традиции, что соответствует бихевиоризму, системам типа "стимул-реакция" и зоопсихологии. На континенте же, напротив, преобладает традиция, идущая от философии Лейбница[39]. Теперь было бы очень разумно напомнить, что все новые теоретические веяния в области психологии, способные привести к возникновению новой школы, пришли из континентальной Европы. Из этого правила есть два исключения, да и то основателем этих школ был психиатр, родившийся в Европе[40]. Мы пытаемся быть нацией практиков. Но вот в чем вопрос: где мы возьмем то, с чем будем практиковать? Наша озабоченность техникой сама по себе похвальна, но мы забываем о том факте, что техника, заключенная в самой себе долгое время, ее же и разрушает. Одна из причин, по которой европейская мысль была гораздо продуктивнее в смысле новых, оригинальных открытий, – это традиция широкой исторической и философской перспектив в науке и мысли. Это очевидно и в нашем случае, в случае экзистенциальной психотерапии. Бинсвангер, Страус, фон Гебсаттель и другие основатели этого направления имеют чувство "чистой" науки, хотя их мысль и связана с практическими проблемами и конкретными пациентами. Они ищут не техники как таковые, а понимание их основ.
Названные нами источники сопротивления далеки от того, чтобы умалить значение вклада экзистенциального анализа. По моему мнению, они с точностью показывают его потенциальную значимость для нашего мышления. Несмотря на все трудности, отчасти связанные с аналитическим языком, отчасти со сложностью аналитической мысли, мы убеждены, что экзистенциальный анализ очень важен и заслуживает серьезного изучения.
II. ЧТО ТАКОЕ ЭКЗИСТЕНЦИАЛИЗМ?
Теперь мы должны разобраться с самым сложным, а именно с путаницей вокруг термина "экзистенциализм". Этим словом обозначают все подряд – от вызывающего дилетантизма некоторых членов авангарда с левого парижского побережья до философии отчаяния, оправдывающей самоубийство, или антирационалистической системы немецкой мысли, записанной в таком эзотерическом стиле, который раздражает любого эмпирически настроенного читателя. Экзистенциализм, скорее, является выражением основных измерений современного эмоционального и духовного склада и проявляется во всех аспектах нашей культуры. Его можно обнаружить не только в философии и психологии, но и в искусстве (например, Ван Гог, Сезанн, Пикассо), в литературе (Достоевский, Бодлер, Кафка, Рильке). Экзистенциализм на самом деле является уникальным, особенным изображением психологической ситуации современного западного человека. Как мы увидим далее, это культурное направление уходит корнями в ту же самую историческую реальность, тот же самый психологический кризис, из которого выросли психоанализ и другие формы психотерапии.
Терминологическая путаница встречается и в среде высокообразованных людей. В New York Times была опубликована статья, в которой приводились слова Сартра, осуждающие действия русских коммунистов, направленные на подавление свободы в Венгрии, а также свидетельствующие об окончательном разрыве Сартра с ними. В этой статье Сартр был назван лидером "экзистенциализма, материалистической формы мысли". Здесь мы обнаруживаем две причины путаницы: первая – отождествление экзистенциализма с работами Жана-Поля Сартра. Мы уже не говорим о том, что Сартр известен скорее по его драмам, романам и фильмам, чем по глубокому психологическому анализу. Сартр представляет нигилистический, субъективистский полюс экзистенциализма, и его позиция является неудачным примером для знакомства с этим направлением. Вторая, более серьезная причина, связана с определением экзистенциализма в этой статье как "материалистической формы мысли". Трудно себе представить неточность такой степени, так как экзистенциализм, напротив, описывает идеалистическую форму мышления. Сутью этого направления является описание и анализ человеческой природы – неважно, в литературе или искусстве, философии или психологии – на уровне, который разрушает старую дилемму материализм или идеализм.
В общих чертах экзистенциализм можно определить как стремление понять человека, не раскалывая его на субъекта и объекта. Западная мысль и наука терзались этим расколом со времен Ренессанса. Бинсвангер назвал этот раскол "раковой опухолью всей психологии... раковой опухолью доктрины о расколе мира на субъекта и объекта". У экзистенциального пути понимания человеческого существа были такие блестящие предшественники в западной истории, как Сократ в диалогах, Августин с его глубинным психологическим самоанализом, Паскаль с его борьбой за место для "доводов сердца, которых не знает разум". Развитие экзистенциальной мысли началось около ста лет назад после жесткого протеста Кьеркегора против царящего рационализма, против гегелевского "тоталитаризма причины", как говорил Маритен (Maritain). Кьеркегор заявил, что гегелевское отождествление абстрактной истины с реальностью – это иллюзия, трюк. Кьеркегор писал: "Истина существует только в той степени, в какой индивид сам ее производит". Он и его последователи выступали против рационалистов и идеалистов, которые рассматривали человека только как субъекта, то есть обладающего реальностью только как мыслящее существо. Так же решительно они боролись и с представлением о человеке как об объекте, которым можно управлять и которого можно контролировать. Примеры этому можно найти почти во всем западном мире, пытающемся превратить людей в безличные комбинации, почти в роботов, которые удовлетворяли бы запросам широко распространенного индустриального и политического коллективизма наших дней.
Эти мыслители искали противоположность интеллектуализма ради нее самой. Они протестовали сильнее, чем ортодоксальные психоаналитики, против использования мышления в качестве защиты от жизни или подмены непосредственного существования. Один из ранних представителей социологического крыла экзистенциализма Фейербах проницательно заметил: "Не желайте быть философом в противоположность бытия человеком... не думайте как мыслитель... думайте как живое, реальное существо. Думайте в экзистенции"[41].
Корень слова "экзистенция" – ex-sistere – означает выделяться, возникать, появляться. Это точно указывает на то, что представители данного течения искали в искусстве, философии или психологии. Они пытались изобразить человека не как комбинацию статических субстанций или механизмов, а описать его в появлении и становлении, то есть в его существовании. Не важно, насколько интересен или теоретически верен тот факт, что я состою из таких-то и таких-то химических элементов или действую благодаря таким-то и таким-то механизмам. Главное заключается в том, что мне случилось существовать в этот данный момент, в этом времени и пространстве, и моя проблема состоит в том, как мне осознать этот факт и что с этим делать. Как мы увидим дальше, экзистенциальные психологи и психиатры не исключили полностью динамизмы, влечения и поведенческие стереотипы из своего исследования. Но они придерживаются того мнения, что это все невозможно понять вне того контекста, что перед нами человек, которому случилось существовать, быть, и если мы не будем это помнить, то все, что мы знаем об этом человеке, потеряет свое значение. Таким образом, их направление всегда динамично; экзистенция всегда соотносится с бытием, становлением. Они стремятся понять это становление не как сентиментальный артефакт, но как фундаментальную структуру человеческого существования. Встречая в этих главах термин "бытие" (being), читатель должен помнить, что это не статичное слово, а отглагольная форма, причастие (в английском языке – прим. переводчика) от глагола "быть" (to be). Экзистенциализм в своей основе связан с онтологией, наукой о бытии (ontos от греческого "being").
Мы более отчетливо поймем значение этого термина, если вспомним, что в западной мысли "существование" традиционно противопоставлялось "сущности". Сущностью будет зелень палки, ее плотность, вес и другие характеристики субстанции. Практически все время, начиная с эпохи Возрождения, западная мысль исследовала понятие сущности.. Традиционная наука пытается открыть такую сущность или субстанцию, как говорит профессор Уайлд из Гарварда, она утверждает метафизику сущности[42]. Поиск сущности действительно может привести к открытию универсальных научных законов огромной важности или к блестящим концепциям в логике или философии. Но в этих рамках к подобным положениям можно прийти только через абстракцию. Существование данного конкретного индивида должно быть вычеркнуто из этой картины. Например, мы можем показать, что, прибавляя три яблока к другим трем яблокам, мы получаем шесть яблок. Но то же самое было бы верным, если бы мы заменили яблоки единорогами. С точки зрения математики абсолютно неважно, существуют ли на самом деле яблоки или единороги. То есть какое-либо положение может быть верным, не будучи при этом реальным. Возможно, из-за того, что это направление привело к важным открытиям в некоторых областях науки, мы забываем о том, что оно предполагает отстраненный взгляд, при котором реальные индивиды не принимаются во внимание[43]. Остается разрыв между правдой и реальностью. И решающим вопросом, с которым мы сталкиваемся в психологии и других науках о человеке, является именно этот разрыв между абстрактной правдой и экзистенциальной реальностью живущего сейчас человека.
Чтобы не казалось, что мы имеем дело с искусственным, фиктивным человеком, позвольте заметить, что этот разрыв между правдой и реальностью открыто признается представителями поведенческой психологии и рефлексологии. Кеннет В. Спенс (Kenneth W.Spence), выдающийся автор одной из поведенческих теорий, пишет: "Для психолога как ученого не должно существовать вопроса о приоритете исследования того или иного поведенческого явления в зависимости от степени его близости к реальности". Таким образом, здесь говорится о том, что реальность изучаемого не является вопросом первостепенной важности. Какие же области в таком случае должны быть отобраны для исследования? Спенс отдает приоритет явлениям, которые "можно контролировать и анализировать на уровне, необходимом для формулирования абстрактных законов"[44]. Нигде наша позиция не была изложена более четко и ясно: 1) выбирается то, что может быть сокращено до степени абстрактных законов, 2) для цели исследования реальность изучаемого не важна. На основе этого направления возникло много впечатляющих психологических систем с нагроможденными друг на друга абстракциями. Однако мы, как это часто происходит с учеными, попадаем под влияние комплекса сооружения еще до постройки прекрасного здания. Здесь есть только одна проблема: это здание гораздо чаще, чем мы могли бы предположить, оказывается оторванным от реальности человека в самом своем основании. Сейчас мыслители, психологи и психиатры экзистенциального направления занимают прямо противоположную Спенсу позицию. Они настаивают на том, что для науки о человеке необходимо и возможно изучать человеческие существа в их действительности.
Кьеркегор, Ницше и их последователи предвидели этот растущий разрыв между правдой и реальностью в западной культуре. Они пытались развеять иллюзию западного человека о том, что реальность может быть понята только в абстрактных понятиях. Но, выступая против голого интеллектуализма, они не были ни простыми активистами, ни антирационалистами. Антиинтеллектуализм и другие современные направления, согласно которым мышление подчинено действию, не следует смешивать с экзистенциализмом. Другая альтернатива – исследование человека как субъекта или объекта, приводит к потере живого, реально существующего человека. Кьеркегор и другие экзистенциальные мыслители обращались к реальности, лежащей в основе как субъективности, так и объективности. Они полагали, что мы должны изучать не только человеческий опыт как таковой, но, более того, мы должны изучать человека, который приобретает этот опыт, который его делает. Как указывает Тиллих, они настаивали на том, что "реальность или бытие не объект когнитивного опыта, но, скорее, "существование", реальность, происходящая сейчас, с акцентом на внутреннем личностном характере опыта, получаемого человеком в эту минуту"[45]. Этот отрывок, наряду с процитированными выше, показывает читателю, как близок экзистенциализм к глубинной психологии наших дней. Не случайно, что великие экзистенциальные мыслители девятнадцатого века Кьеркегор и Ницше являются одними из самых выдающихся психологов (в динамическом смысле) всех времен и что один из современных лидеров этой школы Карл Ясперс первоначально был психиатром и написал замечательный текст по психопатологии. Когда читаешь глубокий анализ страха и отчаяния, сделанный Кьеркегором, или поразительно точное понимание Ницше негодования, вины и враждебности, которые сопровождают подавленные эмоциональные силы, то надо заставить себя понять, что читаешь работы, написанные 75-100 лет назад, а не современный психологический анализ. Центральная проблема экзистенциализма – заново открыть живого человека посреди фрагментарной и дегуманизированной современной культуры, с этой целью они и погружаются в глубины психологического анализа. Они рассматривают не изолированные психологические реакции сами по себе, а психологическое бытие живого человека, который делает свою жизнь. Можно сказать, что они используют психологические термины в онтологическом смысле[46].
Мартина Хайдеггера обычно рассматривают как основателя современной экзистенциальной мысли. Его работа "Бытие и время" имела радикальное значение для Бинсвангера и других экзистенциальных психиатров и психологов. Она дала им то, что они искали, – хорошую основу для понимания человека. Мысль Хайдеггера – точная, проницательная, научная в европейском понимании исследования независимо от того, к каким выводам ведут Хайдеггера его вопросы. Его мысль идет вперед с неистощимой энергией, досконально изучая все на своем пути. Но труды этого автора практически невозможно перевести. Только некоторые его работы есть на английском[47]. У Жана-Поля Сартра самым важным для нашей темы является феноменологическое описание психологических процессов. Помимо Ясперса, можно назвать таких выдающихся экзистенциальных мыслителей, как Габриэль Марсель во Франции, Николай Бердяев, родившийся в России, затем эмигрировавший в Париж, где он умер достаточно молодым, Ортега-и-Гассет и Унамуно в Испании. Пауль Тиллих посвятил свою работу экзистенциальному направлению, можно сказать, что его книга "Мужество быть" является одним из самых убедительных описаний экзистенциализма как направления, рассматривающего действительный процесс жизни, изданная на английском языке[48].
Новеллы Кафки описывают ситуацию отчаяния, обесчеловечивания современной культуры. Экзистенциализм говорит от лица этой культуры, к ней же самой обращаясь. "Незнакомец" и "Чума" Альберта Камю – замечательные примеры современной литературы, где экзистенциализм частично осознает себя. Но, возможно, наиболее живое описание смысла экзистенциализма можно найти в современном искусстве, отчасти из-за того, что оно выражается более символически, чем сознающая себя мысль, отчасти из-за того, что искусство всегда показывает с особой ясностью духовный и эмоциональный настрой данной культуры. Далее мы часто будем ссылаться на связь современного искусства и экзистенциализма. Здесь позволим себе только заметить, что в работах таких выдающихся представителей современного движения, как Ван Гог, Сезанн и Пикассо, присутствуют некоторые общие элементы: во-первых, протест против лицемерной академической традиции конца девятнадцатого века, во-вторых, попытка проникнуть вглубь и ухватить новое отношение к действительности природы, в-третьих, попытка вернуть к жизни живость и честность, непосредственное эстетическое переживание и, в-четвертых, отчаянная попытка здесь и сейчас выразить смысл ситуации современного человека, даже если это означает изображение отчаяния и пустоты. Тиллих, например, считает, что картина Пикассо "Герника" дает наиболее верный и точный портрет фрагментарного, разорванного состояния довоенного европейского общества, и "показывает то, что сейчас чувствуют в своей душе многие американцы, – раскол, экзистенциальные сомнения, пустоту и бессмысленность"[49].
Экзистенциальное направление было спонтанным ответом на кризис в современной культуре. Это положение доказывает не только факт его появления в литературе и искусстве, но и то, что философы, жившие в разных частях Европы, не знакомые с работами друг друга, часто развивали сходные идеи. Основная работа Хайдеггера "Бытие и время" была опубликована в 1927 году, Ортега-и-Гассет еще в 1924 году разработал и частично опубликовал поразительно похожие идеи, хотя и не был непосредственно знаком с работами Хайдеггера[50].
Безусловно, это правда, что экзистенциализм зародился во время культурного кризиса. Мы всегда обнаруживаем его признаки на революционном полюсе современного искусства, литературы и мысли. По моему мнению, этот факт говорит скорее о надежности его находок, чем об обратном. Когда культура бьется в конвульсиях переходного периода, индивидуумы в обществе страдают от чувства духовного и эмоционального крушения. Когда люди обнаруживают, что привычный образ мысли больше не обеспечивает им чувство безопасности, они либо уходят в догматизм и конформизм, переставая сознавать происходящее, либо вынуждены бороться за более высокий уровень самосознания, который позволит им принять их существование с опорой на новые основы. Это одна из самых главных общих черт экзистенциального направления и психотерапии – и там, и там рассматривается человек в состоянии кризиса. Мы далеки от мысли, что озарения кризисного периода являются "просто продуктами страха и отчаяния". Мы, скорее, полагаем, и делаем это снова и снова в психоанализе, что кризис как раз является тем необходимым средством, которое выталкивает человека из неосознанной зависимости от внешних догм и заставляет его разобраться в фальшивых лицах, найти голую правду о нем самом. Это может быть неприятно, но по крайней мере правда является более твердой почвой для дальнейшего развития. Экзистенциализм – это отношение, которое принимает человека, как всегда находящегося в процессе становления, что означает потенциально находящегося в состоянии кризиса. Но это не подразумевает отчаяние. Сократ, чей диалектический поиск правды в индивидууме является прототипом экзистенциализма, был оптимистом. Появление этого направления более вероятно в переходные моменты, когда одно поколение умирает, а новое еще не родилось, и индивид либо чувствует себя бездомным и потерянным, либо обретает новое самосознание. В период перехода от средневековья к Возрождению – а это был момент сильного крушения в западной культуре – Паскаль очень точно описывает тот опыт, который экзистенциалисты позже назовут Dasein; "Когда я оглядываюсь на короткий миг своей жизни, поглощенный бесконечностью со всех сторон, на то маленькое место, которое я занимаю, или даже вижу, захваченный бесконечностью космоса, которого я не знаю и который не знает меня, я боюсь и хочу увидеть себя скорее здесь, чем там, потому не существует причин, по которым я должен быть здесь, а не там, сейчас, а не тогда..."[51]. Редко когда экзистенциальную проблему описывают так просто и красиво. В этом отрывке мы видим, во-первых, глубокое понимание случайности человеческой жизни, которую экзистенциалисты назвали заброшенностью. Во-вторых, мы видим, что Паскаль не уклоняется от вопроса "быть там?". Или, более точно, "быть где?". В-третьих, мы видим понимание того, что человек не может дать только поверхностные объяснения пространству и времени, которые Паскаль, как ученый, хорошо знал. И наконец, сильную тревогу, возникающую из этого полного осознания существования во Вселенной[52].
Остается установить отношение между экзистенциализмом и восточной мыслью в писаниях Лао-Цзы и дзен-буддизма. Сходства поразительны. Они сразу бросаются в глаза при чтении некоторых цитат из "Пути жизни" Лао-Цзы: "Существование невозможно определить словами, можно использовать термины, но ни один из них не есть абсолют". "Существование, ничем не порожденное, порождает все, оно является родителем Вселенной". "Существование бесконечно, его нельзя определить, и хотя оно кажется кусочком дерева в твоей руке, на котором можно вырезать то, что пожелаешь, с ним нельзя немного поиграть и отложить в сторону". "Делать означает быть". "Лучше находиться в центре своего бытия, так как чем дальше ты оттуда уходишь, тем меньше ты узнаешь"[53].
То же самое шокирующее сходство мы обнаруживаем и с дзен-буддизмом[54]. Сходство с этими восточными философиями гораздо глубже, чем простое совпадение слов. И там, и там мы видим исследование онтологии, изучение бытия. В обоих течениях мы встречаем поиск такого отношения к реальности, которое позволило бы устранить разрыв между субъектом и объектом. В обоих случаях утверждается, что западное стремление к завоеванию и власти над природой привело не только к отчуждению человека от природы, но косвенно и к отчуждению человека от самого себя. Основная причина этих сходств заключается в том, что восточная мысль никогда не страдала от радикального разрыва между субъектом и объектом, что так характерно для западной мысли. Экзистенциализм пытается преодолеть именно эту дихотомию.
Эти два направления, конечно, совпадают не полностью. Они находятся на разных уровнях. Экзистенциализм не является всеобъемлющей философией или жизненным путем, он представляет попытку ухватить реальность. Главное различие, которое можно выделить согласно нашим целям, заключается в том, что экзистенциализм погружен и выходит непосредственно из тревоги западного человека, его отчужденности, конфликтов. Он свойствен нашей культуре. Как и психоанализ, экзистенциализм не ищет ответы в других культурах, он пытается использовать эти самые конфликты современной личности как средство для более глубокого понимания себя западным человеком, он пытается найти решения наших проблем в прямой связи с тем историческим и культурным кризисом, который послужил причиной их возникновения. В этом отношении особенная ценность восточной мысли заключается не в том, что она может быть перенесена в готовом виде, как Атена, в западный разум, а в том, что она может помочь скорректировать основные моменты тех ошибочных положений, которые привели западное развитие к настоящим проблемам. Существующий сейчас в западном мире большой интерес к восточной мысли, по моему мнению, отражает тот самый кризис, то самое чувство отчуждения, то страстное желание выбраться из порочного круга дихотомий, которые и вызвали к жизни экзистенциальное направление.
III. ПУТИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЭКЗИСТЕНЦИАЛИЗМА И ПСИХОАНАЛИЗА ИЗ ЕДИНОЙ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СИТУАЦИИ
Теперь мы обратим свое внимание на удивительную параллель между теми проблемами современного человека, изучению которых, с одной стороны, посвятили себя экзистенциалисты, а с другой – психоаналитики. С разных точек зрения и на разных уровнях они анализируют одно и то же: тревогу, отчаяние, отчуждение человека от самого себя и от общества.
Фрейд описал невротическую личность конца девятнадцатого столетия как страдающую от раздробленности, то есть страдающую от подавления инстинктивных побуждений, блокирования сознавания, утраты самостоятельности, слабости и пассивности эго. Все это вместе с разнообразными невротическими симптомами приводит к раздробленности. Кьеркегор, который написал только одну известную книгу до того момента, как Фрейд занялся проблемой тревоги, анализировал не только тревогу, особенно его интересовали подавленность и отчаяние, которые являются результатом отстранения индивида от самого себя. Кьеркегор пытался выделить разные формы и степени отстранения[55]. Ницше за 10 лет до первой книги Фрейда провозгласил болезнью современного человека "его выдохшуюся душу", "его пресыщенность", но хуже всего этого "дурной запах... запах провала. ...Остановка в развитии и обратное движение европейского человека – это самая большая опасность для нас". Далее он описывает – и в его понятиях замечательным образом угадывается будущая психоаналитическая концепция, – как инстинктивные силы в индивиде превращаются в негодование, ненависть к себе, враждебность и агрессию. Фрейд не был знаком с работами Кьеркегора, но он считал Ницше одним из самых великих людей всех времен.
Какая связь между этими тремя гигантами девятнадцатого века, ни один из которых прямо не повлиял на другого? Какая связь между двумя подходами к человеческой природе, которые они основали? Возможно ли, что экзистенциализм и психоанализ больше всего потрясли и изменили традиционные представления о человеке? Чтобы ответить на эти вопросы, мы должны рассмотреть ту социокультурную ситуацию середины и конца девятнадцатого века, из которой выросли эти направления и которую они пытались объяснить. Действительное значение такого способа понимания человека, как экзистенциализм и психоанализ, невозможно увидеть абстрактно, вне связи с миром. Его можно понять только из контекста той исторической ситуации, в которой он зародился. То историческое обсуждение, которое мы представим в этой главе, ни в коем случае не является отклонением от нашей главной цели. Ведь именно рассмотрение этого вопроса в историческом ракурсе может пролить свет на наш главный вопрос: как специфические научные техники, разработанные Фрейдом для изучения раздробленности индивида в Викторианскую эпоху, связаны с пониманием человека и его кризиса, для осознания которых так много сделали Кьеркегор и Ницше, что впоследствии послужило прочной основой для экзистенциальной психотерапии.
Раздробленность и внутренний раскол в XIX веке
Главной характеристикой второй половины девятнадцатого века был распад личности на части. Эта раздробленность, как мы увидим, была симптомом эмоциональной, психологической и духовной дезинтеграции культуры и индивида. Этот раскол личности был виден не только в психологии и науке того периода, но и в каждом аспекте культуры конца девятнадцатого столетия. Эту раздробленность можно было наблюдать в семейной жизни, прекрасно описанной Ибсеном в "Кукольном доме". Уважаемый горожанин, отделивший свою жену и семью от бизнеса и остального мира, превращает свой дом в кукольный, готовя его гибель. Кто-то может увидеть эту раздробленность в отделении искусства от реальной жизни, использовании искусства в его приукрашенных, романтических академических формах для лицемерного бегства от существования и природы. Сезанн, Ван Гог, импрессионисты и другие современные художники того времени выступали против искусственности в искусстве. Кто-то может увидеть раздробленность в отделении религии от повседневного существования, в отведении ей места только на воскресенье и специальные случаи, в разводе этики и бизнеса. Сегментация была также в психологии и философии. Когда Кьеркегор так страстно боролся против голых, абстрактных причин, говорил о возвращении к реальности, он, конечно же, не был Дон Кихотом, воюющим с ветряными мельницами. Человек Викторианской эпохи видел себя частью разума, желания, эмоции и находил эту картину вполне привлекательной. Предполагалось, что его разум говорит ему что делать, добровольное желание дает ему средства для выполнения этой цели, а эмоции... ну, эмоции в лучшем случае могут быть переведены в навязчивое стремление трудиться, а также они могут быть жестко встроены в викторианские обычаи. Эмоции, которые действительно могли бы расстроить формальную сегментацию, – секс и враждебность, – должны были быть полностью подавлены, или их можно было выпускать только в оргиях патриотизма или в "кутежах" в выходные дни. Эти "кутежи" проводились в Богемии с той целью, чтобы человек, как паровая машина, мог освободиться от лишнего давления, чтобы в понедельник работать с большей эффективностью. Естественно, такой человек должен был делать акцент на "рациональности". Действительно, даже сам термин "иррациональный" означал вещь, о которой нельзя говорить или думать. Викторианский человек, о подавленности или раздробленности которого нельзя было и помыслить, был непременным условием стабильности данной культуры. Шехтель указывает, что горожанину Викторианской эпохи было настолько необходимо убедить себя в собственной рациональности, что он отрицал тот факт, что когда-то был ребенком или что в нем присутствует детская иррациональность и недостаток контроля. Отсюда и происходит тот радикальный разрыв между взрослым и ребенком, который оказался таким важным явлением для исследований Фрейда[56].
Раздробленность шла рука об руку с развитием индустриализации, являясь ее причиной и следствием. Представим себе человека, который может полностью развести различные стороны своей жизни: в одно и то же время каждый день выключает будильник, его действия всегда предсказуемы, его никогда не беспокоят иррациональные вопросы или поэтические образы, он на самом деле может управлять собой как машиной, на рычаги которой он привык нажимать. Безусловно, этот человек очень полезный работник не только в сборочном цехе, но и на более высоких уровнях производства. Как говорили Маркс и Ницше, вывод верен: сам успех индустриальной системы с ее накоплением капитала, размер которого оценивает личное богатство, причем деньги полностью отделены от реального продукта человеческих рук, обладает обратным деперсонализирующим и дегуманизирующим эффектом на человека в смысле его отношения к себе и к другим. Ранний экзистенциализм боролся против дегуманизации, против превращения человека в машину, в элемент той индустриальной системы, на которую он трудился. Экзистенциалисты того периода осознавали, что наиболее серьезной угрозой было присоединение мышления к механизмам, подрывающим индивидуальную ценность и решительность. Они предсказали, что доля мышления будет сокращаться с появлением новых видов технических устройств.
Ученые наших дней часто не сознают, что раздробленность была характерна также для науки того века, наследниками которого мы являемся. Эрнест Кассирер (Ernest Cassirer) назвал девятнадцатое столетие эрой "автономных наук". Каждая наука развивалась в своем собственном направлении, не существовало единого принципа, особенно это касалось наук о человеке. В тот период представления о человеке подтверждались эмпирическими доказательствами, накопленными прогрессивными науками, но "каждая теория становилась прокрустовым ложем, на котором эмпирические факты укладывались таким образом, чтобы соответствовать заранее предполагаемому образцу... Из-за такого развития наша современная теория человека утратила свой интеллектуальный центр. Вместо этого мы получили полную анархию мысли. ...Теологи, ученые, политики, социологи, биологи, психологи, этнологи, экономисты – всё они рассматривают проблему со своей точки зрения... кажется, что каждый автор в конечном счете ведом собственной концепцией и оценкой человеческой жизни"[57]. Неудивительно, что Макс Шеллер говорил: "Никогда человек не был большей проблемой для себя, чем сейчас. У нас есть научная, философская и теологическая антропология, и они ничего не знают друг о друге. Следовательно, у нас больше нет сколько-нибудь ясного и последовательного представления о человеке. Растущее число отдельных наук, занимающихся изучением человека, только еще больше запутывают и затемняют дело, а вовсе не разъясняют нашу концепцию человека"[58].
При поверхностном взгляде викторианский период кажется спокойным, содержательным, упорядоченным. Но это спокойствие было куплено ценой общего подавления, которое со временем становилось все более и более хрупким. Как в случае невротика, раздробленность становилась все более и более ригидной, пока не достигла своего предела – 1 августа 1914 года, когда все рухнуло.
Сейчас следует отметить, что психологической параллелью раздробленности культуры было радикальное подавление личности. Гений Фрейда состоял в том, что он разрабатывал научные техники понимания и лечения раздробленной личности индивида. Но он не видел или увидел это гораздо позже, когда обратил внимание на явления пессимизма и отчаяния[59], что невротическая болезнь в индивиде была только одной стороной дезинтегрирующих сил, которые влияли на все общество в целом. Кьеркегор, со своей стороны, предвидел результаты этой дезинтеграции в эмоциональной и духовной жизни индивида: тревога, одиночество, отстранение людей друг от друга и в конечном счете состояние, которое приведет к крайнему отчаянию, отчуждению человека от самого себя. Ницше описал эту ситуацию еще более ярко: "Мы живем в эпоху атомов, атомного хаоса". Из этого хаоса Ницше увидел, предсказал коллективизм двадцатого столетия: "...ужасное видение... Национальное государство... и стремление найти счастье никогда не будет сильнее, чем тогда, когда оно должно быть поймано между сегодня и завтра, потому что послезавтра вся эта охота может закончиться..."[60]. Фрейд видел эту личностную раздробленность в свете естественных наук, он пытался сформулировать технические аспекты этой проблемы. Нельзя сказать, что Кьеркегор и Ницше недооценивали важность особого психологического анализа, но их в большей степени волновало понимание человека как существа, которое подавляет, которое отказывается от сознавания себя, чтобы защититься от реальности, вследствие этого он страдает невротическими симптомами. Странный вопрос: что значит тот факт, что человек, существо-в-мире, который может сознавать, что оно существует, может знать свое существование, должно выбрать, или его заставляют выбрать, блокировку этого сознавания, в результате чего страдает от страха, отчаяния и компульсивных желаний саморазрушения? Кьеркегор и Ницше прекрасно сознавали, что "болезнь души" западного человека намного глубже и обширнее, что не позволяет объяснить ее только специфическими индивидуальными или социальными проблемами. Что-то было абсолютно неверно в отношении человека к самому себе. Человек стал для себя большой проблемой. Ницше называл это "верным утверждением Европы: вместе со страхом человека мы потеряли и любовь, доверие к нему, желание быть с человеком".
Кьеркегор, Ницше и Фрейд
Теперь мы обратимся к более детальному сравнению того, как понимали западного человека Кьеркегор и Ницше, чтобы более отчетливо увидеть их взаимосвязь с методами и идеями Фрейда.
Один лишь глубокий анализ тревоги, сделанный Кьеркегором, ставит его в один ряд с гениями всех времен. Обзор по этой теме представлен в другой работе[61]. Понимание Кьеркегором значимости самосознания, анализ внутренних конфликтов, потери себя и даже психосоматических проблем являются тем более удивительными, что они на четыре десятилетия предшествовали идеям Ницше и на полвека – работам Фрейда. Это показывает особую чувствительность Кьеркегора к тому, что происходило в подсознании западного человека, а ведь эти факты появятся только полвека спустя. Он умер чуть более ста лет назад в возрасте 44 лет. Его смерти предшествовал интенсивный, страстный и одинокий период творческой работы, за 15 лет которого он написал почти две дюжины книг. Он был уверен в том, что его работы будут востребованы десятилетия спустя, и не питал иллюзий, что его открытия и прозрения будут поняты современниками. В одном из своих сатирических пассажей он сказал о себе: "Данный писатель не имеет ничего общего с философом, он... любитель, который не создает Систему, не обещает Систему, не приписывает ничего ей. ...Он легко предвидит свою судьбу в том возрасте, когда страсть отступает, уступая место учению, в том возрасте, когда автор, который хочет иметь читателей, должен позаботиться о том, чтобы его книги легко читались во время полуденной дремы. ...Он предвидит свою судьбу: его будут полностью игнорировать". Его предсказание было верным: его почти не знали, за исключением сатирических памфлетов в Корсаре, юмористическом журнале, издаваемом в Копенгагене. В течение полувека он оставался забытым, его заново открыли во втором десятилетии нашего века. Его работы сильно повлияли не только на философию и религию, но надо отметить и их особое значение для глубинной психологии. Бинсвангер, например, в своей статье об Эллен Вест утверждает, что она "страдала от той душевной болезни, которую Кьеркегор, с интуицией гения, описал и раскрыл со всех возможных сторон под названием "болезни насмерть". Я не знаю других работ, которые могли бы дальше продвинуть экзистенциально-аналитическую интерпретацию шизофрении. Кто-то может сказать, что в этой работе Кьеркегор с интуицией гения узнал грядущую шизофрению...". Бинсвангер продолжает, замечая, что психиатр или психолог, который не согласен с религиозными интерпретациями Кьеркегора, тем не менее остается "в долгу перед Кьеркегором"[62].
Кьеркегор, как и Ницше, не создавал философию или психологию. Он только пытался понять, раскрыть, обнаружить человеческое существование. У Фрейда, Ницше и Кьеркегора есть общий, очень важный факт: у всех них знания основывались главным образом на анализе одного случая, а именно их собственного. Первые работы Фрейда, такие, как "Толкование сновидений", были почти полностью основаны на его собственном опыте, его собственных сновидениях. Он часто писал Флейсу, что случай, с которым он борется и анализирует на протяжении долгого времени, – это он сам. Ницше отмечал, что каждая система мысли "говорит только то, что эта картина всей жизни, и значение своей жизни надо узнавать из нее. И наоборот, читай только свою жизнь и поймешь знаки жизни вселенской"[63].
Главное психологическое устремление Кьеркегора можно резюмировать как вопрос, на который он непреклонно пытался дать ответ: как ты можешь стать индивидом? Индивид был проглочен с рациональной стороны гегелевским логическим "абсолютным целым", с экономической стороны возрастающей объектификацией личности, а с моральной и духовной стороны – бессодержательной религией своего времени. Европа была больна и должна была стать еще более больной не из-за того, что ей не хватало знания или техник, но из-за желания страсти, преданности идее[64]. "Прочь от размышлений, прочь от системы, – взывал Кьеркегор, – назад к реальности!" Он был убежден не только в том, что цель "чистой объективности" невозможна, но, даже если бы она была возможна, это было бы нежелательно. С другой стороны, это аморально: мы так увлечены друг другом и миром, что не можем быть удовлетворены не интересующим нас рассмотрением правды. Как и все экзистенциалисты, он серьезно относится к термину "интерес" (interest), понимая его как внутреннее побуждение[65]. Каждый вопрос – это "вопрос для единственного человека", то есть для живого, сознающего себя индивида. Если мы не начнем изучение человеческого существа с этого места, то со всей нашей замечательной техникой мы наплодим коллективизм роботов, что результирует не только в пустоту, но в саморазрушающее отчаяние.
Один из самых важных вкладов Кьеркегора, радикально изменивший ход развития динамической психологии, – это понятие правды как отношения. В книге, которая позже стала манифестом экзистенциализма, он пишет:
"Когда вопрос о правде ставится объективным образом, то отражение объективно направляется на правду как на объект, с которым связан познающий. Отражение фокусируется не на отношении, а на вопросе – правда ли то, с чем связан познающий? Если только объект, с которым он связан, является правдой, то субъект считается находящимся в правде. Когда вопрос о правде ставится субъективным образом, то отражение субъективно направляется на природу индивидуального отношения. Если только тип этого отношения находится в правде, то индивид также находится в правде, даже если из-за этого он становится связанным с тем, что не является правдой"[66].
Трудно преувеличить революционность этих положений для времени Кьеркегора, для нашей современной культуры в целом и для психологии в частности. Здесь мы видим радикальное, оригинальное утверждение относительной правды. Здесь источник акцента экзистенциальной мысли на правде как на сущности, или, как говорит Хайдеггер, на правде как свободе[67]. Здесь есть и предсказание того, что в двадцатом веке появится в физике, а именно, изменение принципа Коперника – отстраненный человек, наблюдатель может более полно открыть правду. Кьеркегор предвосхитил точку зрения Бора, Гейзенберга и многих других современных физиков, полагающих идею Коперника о том, что природа может быть отделена от человека, более недействительной. "Идеальная наука, полностью независимая от человека (например, совершенно объективная), – это иллюзия", – говорит Гейзенберг[68]. Здесь, среди строк Кьеркегора, мы видим предвосхищение относительности и других положений, утверждающих, что человек, вовлеченный в изучение природных явлений, состоит в особых важных отношениях с исследуемыми объектами, и он должен сделать себя частью своей проблемы. Это означает, что субъект никогда не может быть отделен от объекта, который он наблюдает. Очевидно, что анализ Кьеркегора был решающей атакой на "раковую опухоль" западной мысли – разрыв между субъектом и объектом.
Но влияние этого поворотного пункта оказалось более специфичным и важным в психологии. Это снимает с наших глаз повязку догмы, утверждающей, что правду можно понять только в терминах внешних объектов. Это открывает обширные области внутренней, субъективной реальности и показывает, что такая реальность может быть правдой, даже если она противоречит объективным фактам. Позже это открытие повторил Фрейд, когда, к своему огорчению, он узнал, что воспоминания о "детских изнасилованиях", о которых рассказывали многие из его пациентов, обычно не соответствовали действительности, фактов, то есть изнасилований, на самом деле не было. Но далее выяснилось, что переживание изнасилования было сильным, даже если оно существовало только в фантазии. В любом случае решающим был вопрос о том, как пациент реагировал на изнасилование, а не о том, насколько достоверен этот факт. Таким образом, когда мы следуем направлению, в котором для пациента, человека, изучаемого нами, значимым является отношение к факту, человеку или ситуации, то перед нами открывается континент новых знаний о внутренних динамических процессах. Вопрос о том, происходит что-либо объективно или нет, проявляется здесь совсем на другом уровне. Позвольте нам во избежание неправильного понимания подчеркнуть, даже ценой повторения, что этот принцип правды как отношения ничуть не уменьшает важность объективной правды. Не в этом дело. Кьеркегора не следует путать с субъективистами или идеалистами. Он открывает субъективный мир, не теряя при этом объективности. Безусловно, кто-то должен иметь дело с реальным, объективным миром. Кьеркегор, Ницше и им подобные исследователи воспринимали природу гораздо серьезнее, чем многие из тех, кто называет себя натуралистами. Дело, скорее, в том, что для человека смысл объективного (или вымышленного) факта зависит от его отношения к этому факту. Не существует экзистенциальной правды, которая могла бы проигнорировать это отношение. Например, объективное обсуждение секса может быть интересным и поучительным, но, как только мы имеем дело с конкретным человеком, объективная правда зависит от смысла отношений между этим человеком и его половым партнером. Если мы не принимаем этот фактор, то мы не только уклоняемся от правды, но и не видим действительность.
Более того, течение, наметившееся в предложениях Кьеркегора, оказалось предвестником понятия "включенного наблюдения" Салливана, а также некоторых других понятий, подчеркивающих значимость терапевта в отношениях с пациентом. Тот факт, что терапевт принимает реальное участие в этих отношениях и является неотделимой частью "поля", не умаляет роль его научных наблюдений. На самом деле, разве мы не можем утверждать, что пока терапевт не станет реальным участником этих отношений и не будет сознательно признавать этот факт, он не сможет с ясностью различать, что происходит в данной ситуации? Влияние этого "манифеста" Кьеркегора заключается в том, что мы освобождаемся от традиционной доктрины, такой ограниченной, противоречащей самой себе и зачастую разрушительной для психологии. Чем менее мы вовлечены в данную ситуацию, тем более четко мы можем видеть правду. Достаточно очевидно, что эта доктрина говорит в пользу обратного отношения между участием и способностью к наблюдению без предубеждения. Эту доктрину так лелеяли, что мы просмотрели другую ее сторону, а именно: наиболее успешным в открытии правды будет тот, кто меньше всего в этом заинтересован! Никто, конечно, не будет спорить с тем очевидным фактом, что деструктивные эмоции влияют на наше восприятие. В этом смысле самоочевидно, что любой человек в терапевтических отношениях или любой человек, их наблюдающий, должен очень хорошо уяснить свои эмоции в данный момент и свое участие в этой ситуации. Но эту проблему нельзя решить отстранением и абстрагированием. Идя таким путем, мы получим лишь пригоршню морской пены, а действительность человека исчезнет прямо у нас на глазах. Прояснение полюса терапевта в этих отношениях может быть завершено только с помощью более полного осознания экзистенциальной ситуации, то есть живого, реального отношения[69]. Когда мы имеем дело с человеческими существами, у правды самой по себе нет действительности, она всегда зависит от действительности существующих в данный момент отношений.
Вторым важным вкладом Кьеркегора в развитие динамической психологии является его акцент на необходимости преданности. Это следует из того, что уже было сказано выше. Правда становится реальностью, только когда индивид производит ее в действии, что подразумевает ее производство в его собственном сознании. Особенно важно то положение Кьеркегора, согласно которому мы даже не можем видеть конкретную правду, пока не будем в какой-то степени преданны ей. Каждый терапевт хорошо знает, что пациенты теоретически могут говорить о своей проблеме до второго пришествия, при этом их эмоции не будут проступать. Особенно в случаях интеллектуальных, образованных пациентов эти самые рассуждения, хотя они могут маскироваться под видом беспристрастного интереса к тому, что происходит, часто выстраивают защиту против правды и преданности себе, против жизненной силы человека. Рассуждения пациента не помогут ему добраться до реальности, пока он не окажется в ситуации, где принимать решение придется по принципу "все или ничего". Подобное переживание часто называют "необходимостью увеличения тревоги пациента". Я полагаю, что это слишком упрощает дело. Разве не является более значительным тот принцип, что пациент должен найти или открыть некоторые положения в своем существовании, которым он может довериться до того, как даже разрешит себе посмотреть на правду того, что он делает? Это то, что Кьеркегор подразумевает под "страстью" и "преданностью" и противопоставляет объективному, бесстрастному наблюдению. Из этой потребности преданности следует довольно распространенный феномен: мы не можем добраться до нижележащих уровней проблемы человека в лабораторном эксперименте. Только когда человек сам надеется как-то облегчить свои страдания, избавиться от отчаяния и получить помощь, он начнет болезненный процесс исследования своих иллюзий, защит и рационализации.
Теперь мы обратимся к Фридриху Ницше (1844-1900). Он очень отличался от Кьеркегора по темпераменту, жил на четыре десятилетия позже, в его работах отразилась совершенно иная стадия культуры девятнадцатого века. Он никогда не читал Кьеркегора, друг Ницше привлек его внимание к произведениям датчанина за два года до смерти самого Ницше. Это было слишком поздно для знакомства с работами своего предшественника, который при поверхностном взгляде так отличался от него, но во многих существенных вещах был похож. Оба они были представителями зарождающегося экзистенциального подхода к человеческому существованию. Их обоих часто вместе цитируют как мыслителей, которые наиболее глубоко увидели и точно предсказали психологическое и духовное состояние западного человека в двадцатом веке. Как и Кьеркегор, Ницше не был антирационалистом, также его не следует путать с "философами чувств" или с евангелистами, зовущими "назад к природе". Он нападал не на разум, а на простой разум в его бесплодной, фрагментарной, рационалистической форме, распространенной в дни Ницше. Как и Кьеркегор, он искал последних пределов рефлексии, чтобы увидеть за ними реальность, которая лежит в основе и разума, и не разума. Ведь рефлексия в конечном счете это обращение на себя, отражение, и вопросом для живущего экзистенциального человека является то, что он отражает, иначе рефлексия опустошает жизненные силы человека[70]. Как и глубинные психологи, последовавшие за ним, Ницше пытался привнести в сферу существования бессознательное, иррациональные источники человеческой силы и величия, так же как и болезненные и саморазрушительные мотивы.
Другое важное отношение между двумя этими людьми и глубинной психологией в том, что они оба развивали великую силу самосознания. Они хорошо сознавали, что самая большая потеря их объективистской культуры – это потеря индивидуального самосознания. Позднее эту потерю выразил Фрейд в символе слабого и пассивного эго, "которое живет с помощью ид", потеряв собственные самонаправляющие силы[71]. Кьеркегор написал: "Чем более сознателен, тем ближе к себе". Это же утверждал и Салливан в ином контексте век спустя. Как говорил Фрейд, описывая цель своей техники увеличения сферы бессознательного, оно подразумевает "где был ид, там будет эго". Но Кьеркегор и Ницше не могли избежать в своей особой исторической ситуации трагических последствий их собственной силы самосознания. Они оба были одиноки, были крайними нонконформистами, оба знали всю глубину агоний страха, отчаяния и изоляции. Следовательно, они могли говорить об этом, так как по своему опыту знали, что такое крайняя степень психологического кризиса[72].
Ницше придерживался точки зрения, что человек должен экспериментировать с правдой не в лаборатории, а в собственном жизненном опыте. Каждую правду надо встречать вопросом: "Можно ли жить этим?" "Все правды, – говорит он, – для меня кровавые правды". Отсюда его знаменитое высказывание: "Ошибка – это трусость". Говоря об отчуждении религиозных лидеров от интеллектуальной целостности, он обвиняет их в том, что они никогда не делают "их опыт делом сознательного знания. Что я на самом деле пережил? Что случилось во мне и вокруг меня? Был ли мой разум достаточно ясен? Восстало ли мое желание против всех обманов?.. Никто из них не задается этим вопросом. ...Мы, однако, другие, жаждущие разума, хотим взглянуть на наш опыт строгим взглядом научного эксперимента!.. Мы сами хотим быть и экспериментатором, и подопытным кроликом!"[73] Ни Кьеркегор, ни Ницше не собирались начинать новое направление, или новую систему, эта идея действительно бы их обидела. Оба выразили себя во фразе Ницше "Следуй за собой, не за мной!".
Они оба сознавали, что психологическая и эмоциональная дезинтеграция, которую они описали как внутреннюю, в их время была связана с потерей веры в сущность человеческого достоинства и гуманности. Здесь они поставили диагноз, на который психотерапевтические школы до последнего десятилетия обращали очень мало внимания. Только в последнее время на эту потерю веры стали смотреть как на серьезный и реальный аспект современных проблем. Эта потеря, в свою очередь, была связана с убедительной и непреодолимой силой двух основных традиций, которые послужили основанием для ценностей западного общества. Я говорю об иудейско-христианской и гуманистической традициях. Такова предпосылка притчи Ницше "Бог умер". Кьеркегор страстно говорил, и почти никто его не слушал, о бессодержательных, бездвижных, мертвых тенденциях в христианстве. Во времена Ницше искаженные формы теизма, а также религиозные практики, играющие с эмоциями, стали частью болезни и должны были умереть[74]. Грубо говоря, Кьеркегор говорит из того времени, когда Бог умирает, а Ницше – когда Бог умер. Оба посвятили свои работы благородству человека, оба искали те основания, на которых можно снова установить достоинство и гуманность. Как раз в этом заключается смысл "человека власти" Ницше и "индивидуальной правды" Кьеркегора.
Одна из причин, по которой влияние Ницше на психологию и психиатрию было таким несистематичным, ограничивающимся лишь случайным цитированием того или иного афоризма, состоит именно в том, что его мысль была такой невероятно плодотворной, скачущей от одного блестящего инсайта к другому. Читатель должен быть осторожен, иначе его захватит некритичное восхищение, или, с другой стороны, он не увидит реальной значимости работ Ницше, потому что богатство его мысли разрушает все наши чистые категории. Следовательно, нам необходимо более систематично изложить некоторые из его центральных положений.
Его понятие "воля к власти" подразумевает самоосуществление индивида в самом полном смысле. Она требует смелости прожить весь индивидуальный потенциал конкретного существования. Как и все экзистенциалисты, Ницше не использовал психологические термины для описания психологических свойств или простых поведенческих стереотипов, таких, как агрессия или власть над чем-то. Воля к власти, скорее, является онтологической категорией, то есть неотделимым аспектом бытия. Это не означает агрессию, соревновательные мотивы или какой-либо другой механизм. Это индивидуальное утверждение собственного существования и собственного потенциала как существа, имеющего на это право. Это "смелость быть индивидом", как замечает Тиллих в своем эссе, посвященном Ницше. Слово "власть" используется Ницше в своем классическом смысле как potentia, dynamism. Кауфман коротко резюмирует мнение Ницше по данному вопросу:
"Задача человека проста: ему следует более не позволять своему существованию быть "бессмысленной случайностью". Не только использование слова Existenz, но сама мысль предполагает, что (это эссе) особенно близко к тому, что сейчас называют Existenz-philosophie. Фундаментальная проблема человека – достижение правды существования, а не продолжение своей жизни как еще одной случайности. В "Веселой науке" Ницше нападает на формулировку, которая выводит на свет важный парадокс любого различения между я и истинным я: "Что говорит твое сознание? – Ты станешь тем, кем ты являешься". Ницше оставался верен этой концепции до самого конца, и полное название его последней работы выглядит так: "Ессе Homo, Wie man Wird, was man ist" – "Как человек становится тем, кем он является""[75].
Самыми разными способами Ницше утверждает, что эта власть, это расширение, рост, превращение потенциала в действительность является центральной динамической потребностью жизни. Его работа прямо связана с проблемами психологии, где исследуется фундаментальная потребность организма, блокировка которой ведет к неврозу. Это не стремление к удовольствию или уменьшению либидозного напряжения, равновесию или адаптации. Фундаментальная потребность, скорее, заключается в том, чтобы прожить свои potentia. "Человек стремится не к удовольствию, – утверждает Ницше, – а к власти"[76]. На самом деле, счастье – это не отсутствие боли, но "самое живое ощущение власти"[77], радость – это "положительное чувство власти"[78]. Здоровье он также представляет как побочный продукт использования власти, власть здесь описывается как способность пережить болезнь и страдание[79].
Ницше был натуралистом в том смысле, что он все время пытался найти связь между каждым выражением жизни и более широким контекстом всей природы, но именно здесь он проясняет, что человеческая психология всегда больше биологии. Один из наиболее важных экзистенциальных акцентов он делает на том, что ценности человеческой жизни никогда не станут автоматическими. Человеческое существо может потерять свое собственное бытие по собственному выбору, а дерево или камень – не могут. Утверждение собственного бытия создает ценности жизни. "Индивидуальность, богатство и достоинство не gegeben, то есть данные нам от природы, а aufgegeben, то есть данные или предназначенные нам в качестве задачи, которую мы сами должны решить"[80]. Это акцент, который также выступает и в вере Тиллиха, что смелость открывает путь к бытию: если у тебя нет "смелости быть", то ты теряешь "собственное бытие". Сходным образом он проявляется и в крайней форме спора Сартра: ты есть твой выбор.
Почти везде, где бы мы ни открыли Ницше, обнаруживаются психологические инсайты, которые не только глубоки и проницательны, но и удивительно похожи на психоаналитические механизмы, сформулированные Фрейдом десятилетие спустя. Например, обращаясь к "Генеалогии морали", написанной в 1887 году, мы обнаруживаем: "Все инстинкты, которым не позволено выйти на свободу, оборачиваются вовнутрь. Это то, что я называю человеческой интериоризацией"[81]. Мы также замечаем необычно похожее предсказание более поздней концепции вытеснения, разработанной Фрейдом. Вечная тема Ницше – раскрытие самообмана. На протяжении своей работы, упомянутой выше, он развивает тезис, гласящий, что альтруизм и нравственность являются результатами вытесненной враждебности и негодования. То есть когда индивидуальные potentia оборачиваются вовнутрь, то результатом является плохое сознание. Он дает живое описание "неспособных" людей, "которых переполняет агрессия: их счастье абсолютно пассивно, оно принимает форму наркотического спокойствия, потягивания и зевания, умиротворения, "воскресенья", эмоциональной слабости"[82]. Эта обращенная внутрь агрессия прорывается в садистических требованиях к окружающим. Впоследствии в психоанализе этот процесс был обозначен как образование симптомов. Требования выступают под видом нравственности, этот процесс Фрейд позднее назвал образованием реакции. "В этом раннем высказывании, – пишет Ницше, – плохое сознание есть не что иное, как инстинкт свободы, который заставили принять скрытую форму, жить в подземелье и выплескивать свою энергию на самого себя". С другой стороны, мы сталкиваемся с поразительными формулировками сублимации, концепции, которую Ницше особенно разрабатывал. Говоря о связи между творческой энергией человека и сексуальностью, он пишет, что "вполне может быть, что появление эстетической среды не останавливает чувственность, как считал Шопенгауэр, а просто переводит ее в такую форму, в который она больше не переживается как сексуальный мотив"[83].
Какой же вывод мы должны сделать из этой удивительной параллели между идеями Ницше и Фрейда? Это сходство было известно окружению Фрейда. Однажды вечером 1908 года в программе Венского психоаналитического общества стояло обсуждение работы Ницше "Генеалогия морали". Фрейд упомянул, что он пытался читать Ницше, но, обнаружив богатство мысли автора, отказался от этой идеи. Позже он утверждал, что "Ницше гораздо глубже знал себя, чем человек, который когда-либо жил или будет жить"[84]. Фрейд не раз повторял эту мысль, и, как замечает Джонс, это вовсе не было комплиментом от создателя психоанализа. Фрейд всегда сильно интересовался философией, хотя его чувства при этом были амбивалентны: он не доверял ей, и даже боялся[85]. По мнению Джонса, это недоверие основывалось как на личных, так и на научных мотивах. Одной из причин было подозрительное отношение Фрейда к голым интеллектуальным рассуждениям. В этом вопросе с ним полностью были согласны Кьеркегор, Ницше и другие экзистенциалисты. В любом случае Фрейд чувствовал, что его собственная потенциальная склонность к философии "нуждается в строгом контроле, и с этой целью он выбрал наиболее эффективное средство – научную дисциплину"[86]. С другой стороны, Джонс замечает, что "последние вопросы философии были очень близки Фрейду, несмотря на его стремление держаться от них на расстоянии и его неверие в то, что он сможет их решить"[87].
Возможно, работы Ницше не имели прямого отношения к Фрейду, но косвенным образом они, безусловно, на него влияли. Очевидно, что идеи, сформулированные позже психоанализом, "носились в воздухе" Европы конца XIX века. Тот факт, что Кьеркегор, Ницше и Фрейд имели дело с одними и теми же проблемами страха, отчаяния, раздробленной личности, подтверждает наш тезис о том, что психоанализ и экзистенциальный подход к кризису человека были вызваны и отвечали на одни и те же вопросы. Конечно, гений Фрейда не умаляет то, что почти все специфические для психоанализа идеи можно найти в более развернутом виде у Ницше и в более глубоком – у Кьеркегора.
Но особенность гения Фрейда состоит в том, что он перевел эти глубинно-психологические озарения в рамки естественной науки его дней. Он удивительным образом подходил для этой задачи – объективный, с хорошим рациональным контролем, неутомимый, способный терпеть нескончаемое напряжение, необходимое для систематической работы. Он действительно сделал нечто новое: ввел в научное течение западной культуры новые психологические понятия, которые можно изучать с известной долей объективности, на которых можно строить определенные концепции и в определенных пределах им можно научить. Но не этот ли самый гений Фрейда и психоанализа также является его самой большой опасностью и самым серьезным недостатком? Ведь перевод глубинно-психологических инсайтов в объективную науку имел последствия, которые можно было предсказать. Одним из таких результатов было ограничение области исследования человека до границ научной сферы. В одной из следующих глав в этой книге Бинсвангер говорит, что Фрейд имел дело только с homo natura, его методы великолепно подходили для исследования Umwelt, мира человека в его биологическом окружении. Эти же методы не давали ему полностью понять Mitwelt, человека в его личностных отношениях с другими людьми, и Eigenwelt, область отношений человека к самому себе[88]. Более серьезным практическим следствием была, как мы покажем далее в нашем обсуждении концепций детерминизма и пассивности эго, новая тенденция к объективизации личности и вмешательству в само развитие современной культуры, что в первую очередь привело к ряду трудностей.
Теперь мы подходим к очень важной проблеме. Чтобы понять ее, мы должны сделать одно предварительное различение между разумом как термином, который использовали в XVII веке и в эпоху Просвещения, и "техническим разумом" современности. Понятие разума у Фрейда пришло прямо из Просвещения, это был "экстатический разум". Фрейд приравнял его к научному понятию. Такое использование разума включает, как мы видим у Спинозы и других мыслителей XVII и XVIII веков, веру в то, что разум сам по себе понимает все проблемы. Но эти мыслители включали в разум и способность к выходу за пределы данной ситуации, способность охватить целое. Они не исключали такие функции разума, как интуиция, озарение, поэтическое восприятие. Понятие также имело этическую сторону: разум в эпоху Просвещения означал справедливость. Другими словами, в представление о разуме было включено бессознательное. Это объясняет сильную веру во всемогущество разума. Но к концу XIX века, как убедительно показывает Тиллих, этот экстатический оттенок был утерян. Разум превратился в "технический разум": он стал связан с техникой, начал пониматься как оптимальное функционирование при оперировании с отдельными проблемами, сделался помощником, подчиненным техническому индустриальному прогрессу, его отделили от эмоций и желаний, он на самом деле стал противоположен существованию. Именно против такого разума и выступали Ницше и Кьеркегор.
Фрейд понимал разум в его экстатической форме, когда он говорил о разуме как о "нашем спасении", "нашем единственном источнике" и т.д. Здесь возникает чувство анахронизма: его предложения будто бы исходят от Спинозы или другого автора Просвещения. Таким образом, с одной стороны, он пытался сохранить экстатическое понятие, взгляд на человека и на разум, выходящий за пределы техники. Но, с другой стороны, приравнивая разум к науке, Фрейд делает его техническим. Его большим вкладом была попытка преодолеть раздробленность человека вынесением на свет человеческих иррациональных тенденций, бессознательного, осознание и принятие оторванных и вытесненных сторон личности. Но обратная сторона его усилий, то есть отождествление психоанализа с техническим разумом, явилось выражением именно той раздробленности, от которой он пытался вылечить. Будет не справедливым сказать, что основной тенденцией в развитии психоанализа в последние десятилетия, особенно после смерти Фрейда, было отвержение его усилий по сохранению разума в его экстатической форме и принятие исключительно технической формы. Эту тенденцию обычно оставляют незамеченной, так как она растворяется в доминантных тенденциях нашей культуры в целом. Но мы уже отмечали, что видение человека и его функций в технической форме является одним из центральных факторов раздробленности современного человека. Таким образом, мы столкнулись с серьезной дилеммой. С теоретической точки зрения психоанализ (и другие формы психологического знания, связанные с техническим разумом) ведет к хаосу в научной и философской теориях о человеке, о чем выше говорили Кассирер и Шелер[89]. С практической точки зрения опасность представляет то, что психоанализ и другие формы психотерапии и психологии приспособления станут новыми фактами раздробленности человека, примерами утраты индивидуальной жизненной силы и значимости. Новые техники будут способствовать стандартизации человека, а также будут давать культурные санкции на его отчуждение от себя, не решая этой проблемы. Они продемонстрируют новый механизм человека, просчитанный и контролируемый с гораздо большей психологической точностью, с большим числом бессознательных и глубинных измерений. Психоанализ и психотерапия в общем станут скорее частью невроза нашего времени, а не его лечением. Это действительно будет иронией истории. Это не паникерство, не стремление указать на данные тенденции, часть из которых уже захватила нас. Это просто открытый взгляд на нашу историческую ситуацию и ее несомненные черты.
Сейчас нам необходимо увидеть решающее значение экзистенциальной психотерапии. Именно это течение направлено против отождествления психотерапии с техническим разумом. Здесь утверждается, что психотерапия основывается на понимании того, что делает человека человеческим существом. Невроз здесь определяется как то, что разрушает человеческую способность к исполнению собственного бытия. Мы видели, что Кьеркегор и Ницше, так же как и представители экзистенциального культурного направления, последовавшие за ними, не только дали нам далеко идущие, глубокие психологические откровения, которые сами по себе являются важным вкладом для всякого, кто хочет на научных основаниях понять современные психологические проблемы, но также сделали кое-что еще: их откровения имели онтологический базис, они изучали человека как существо, у которого есть эти конкретные проблемы. Они полагали, что это было совершенно необходимо сделать. Они боялись, что разум, подчиненный техническим проблемам, в конечном счете будет означать превращение человека в подобие машины. Ницше предупреждал, что наука становится заводом, результатом чего будет этический нигилизм.
Экзистенциальная психотерапия – это направление, которое, хотя и стоит на одной стороне научного анализа, который многим должен гению Фрейда, также возвращает понимание человека на более широком и глубоком уровне – как существа человеческого. Оно базируется на принятии возможности существования науки о человеке, которая не способствует его раздробленности, не разрушает его человечность в момент его изучения. Она объединяет науку и онтологию. Не будет преувеличением сказать, что мы здесь не просто обсуждаем новый метод, противопоставляя его другим методам, который надо принять или нет, или включить во всеохватывающую, но очень неясную эклектическую картину. Вопросы, поднимаемые в этих главах, идут гораздо глубже – в историческую ситуацию наших дней.
2. Ролло Мэй. ВКЛАД ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНОЙ ПСИХОТЕРАПИИ
Фундаментальным вкладом экзистенциальной терапии является ее понимание человека как бытия. Она не отрицает ценности динамизмов и изучение специфических поведенческих стереотипов в надлежащих местах. Но она утверждает, что влечения или движущие силы, как бы их ни называли, можно понять только в контексте структуры существования человека, с которым мы имеем дело. Отличительной чертой экзистенциального анализа является рассмотрение вместе с онтологией, наукой о бытии, вместе с Dasein, существование данного конкретного индивида, сидящего напротив психотерапевта.
Прежде чем мы подойдем к определению бытия и связанной с ним терминологией, давайте начнем в экзистенциальном духе – напомним себе, что то, о чем мы говорим, сензитивный терапевт должен переживать бесчисленное множество раз на дню. Это переживание мгновенной встречи с другим человеком, который предстает перед нами совершенно иным существом, по сравнению с тем, что мы о нем знали. Определение "мгновенная" относится не к реальному времени, а к качеству переживания. Мы можем знать очень многое о пациенте из записей о его случае, можем придерживаться определенного мнения в связи с тем, как его описали другие интервьюеры. Но когда входит сам пациент, у нас часто появляется неожиданное, иногда очень сильное, впечатление "вот-это-незнакомый-человек". Обычно это впечатление несет в себе элемент удивления, но не в смысле растерянности или замешательства, а в этимологическом смысле "застигнутого врасплох". Этим вовсе не подразумевается критика сообщений наших коллег, поскольку такие переживания встречи у нас бывают даже с нашими давними знакомыми или коллегами по работе[90]. Данные, которые мы узнаем о пациенте, могут быть весьма точными и стоящими ознакомления с ними. Но смысл заключается скорее в том, чтобы ухватить существование другого человека, произошедшее на совершенно ином уровне, отличном от конкретного знания о нем. Очевидно, что знание влечений и механизмов другого человека полезно; знакомство со стереотипами его межличностных отношений может иметь прямое отношение к исследуемой проблеме; информация о его социальном окружении, значение конкретных жестов и символических действий и т.д. и т.п., несомненно, тоже относятся к делу. Но все это проявляется на совершенно ином уровне, когда мы встречаемся с наиболее реальным фактом, перекрывающим все остальное, а именно, непосредственно с самим живым человеком. Когда мы обнаруживаем, что все наше огромное знание о человеке вдруг само превращается в новую форму, то не следует делать вывод, что это знание было неверным. Такое превращение означает, что это знание получает смысл, форму и значение из действительности конкретного человека, выражением которого являются эти отдельные моменты. Ничего из сказанного здесь не подразумевает обесценивания сбора и серьезного изучения всех конкретных данных, которые можно получить о том или ином человеке. Это только общее восприятие. Но никто не должен закрывать глаза на экспериментальный факт, что эти данные образуют конфигурацию, которая проявляется при встрече с самим человеком. Это иллюстрирует и довольно распространенное чувство, которое возникает у всех, кто интервьюирует людей. Можно сказать, что мы не чувствуем другого человека и вынуждены продолжать интервью до тех пор, пока данные не прорвутся в наше сознание в собственной форме. Особенно мы не можем почувствовать другого человека, когда сами настроены враждебно или сопротивляемся отношениям. Таким образом, мы держим человека на расстоянии, и здесь не играет роли, насколько мы разумны в данный момент. Это классическая разница между знакомством и знанием о, Когда мы хотим узнать человека, то знание о нем должно быть подчинено факту его действительного существования.
В древнегреческом и древнееврейском языках глагол "познать" также означал "иметь половую связь". Мы снова и снова находим подтверждение этому в переводе Библии, сделанном Кингом Джеймсом: "Авраахам познал свою жену, и она зачала..." и т.д. Таким образом, этимологическая связь между "познать" и "любить" очень тесная. Хотя мы не можем сейчас заняться этим сложным вопросом, мы можем хотя бы сказать, что знать другого человека, так же как и любить его, подразумевает союз, диалектическое участие в другом. Бинсвангер называет это дуальным модусом. Чтобы суметь понять другого, человек по крайней мере должен быть готов любить его.
Встреча с существованием другого человека обладает силой, которая может сильно потрясти человека и вызвать в нем взрыв тревоги. Но она может быть и источником радости. В любом случае она обладает силой, способной схватить суть человека и произвести в нем изменения. Вполне понятно, что ради собственного комфорта терапевт может поддаться искушению отстраниться от этой встречи, думая о другом человеке только как о пациенте или концентрируясь только на определенных механизмах. Но если в отношениях с другим человеком используется главным образом техническая позиция, то очевидно, что, защищаясь от тревоги, терапевт не только изолирует себя от другого, но и сильно искажает реальность. В таком случае он на самом деле не видит другого человека. Это вовсе не умаляет значения техники, а демонстрирует, что техника, как и данные, должна подчиняться факту реальности двух человек в комнате.
Этот момент в несколько ином русле великолепно показал Сартр. Если мы рассматриваем человека, пишет он, "как того, кого можно проанализировать и свести к первичным данным, определить его мотивы (или желания), видеть в нем субъекта как собственность объекта", то мы действительно можем закончить тем, что разработаем впечатляющую систему субстанций, которые впоследствии сможем назвать механизмами, динамизмами или стереотипами. Но мы сталкиваемся с дилеммой. Наше человеческое существование стало "чем-то вроде бесформенной глины, которая может принимать (желания) пассивно, или может свестись к простой связке всех этих непреодолимых влечений или тенденций. В любом случае человек исчезает. Мы больше не можем отыскать того, с кем произошел тот или иной опыт"[91].
I. БЫТЬ И НЕ БЫТЬ
Довольно трудно дать определение бытию и Dasein, но наша задача трудна вдвойне, так как эти термины и связанные с ними понятия сталкиваются с большим сопротивлением. Некоторым читателям может показаться, что эти слова – лишь еще одна форма "мистицизма" (использованная в пренебрежительном и очень неточном смысле "смутного, неясного"), которая не имеет ничего общего с наукой. Но такое отношение явно избегает всей проблемы в целом, умаляя ее значение. Интересно, что термин "мистический", используемый в этом уничижительном смысле, означает то, что мы не может поделить на части и сосчитать. В нашей культуре главенствует странное убеждение, что вещь или опыт не реальны, если мы не можем привести их к математической формуле, а если мы можем свести их к числам, то, так или иначе, они реальны. Но это означает доказательство абстракции. Математика абстрактна по преимуществу, в этом ее достижение, это объясняет ее огромную полезность. Современный западный человек оказывается в странной ситуации после того, как что-то сводит к абстракции: он вынужден убедить себя, что эта абстракция существует в реальности. Здесь есть много общего с чувством изоляции и одиночества, которые присущи современному западному миру, так как только тот опыт мы полагаем реальным, который точно таковым не является. Таким образом, мы отрицаем реальность наших собственных переживаний. Термин "мистический" в уничижительном смысле обычно используется с целью запутать дело; избегание проблемы путем снижения ее значимости только запутывает ее. Разве не будет более научной установка, при которой мы постараемся ясно увидеть то, о чем говорим, а затем попытаемся найти те термины или символы, которые описывают реальность с наименьшим искажением? Нас не должно сильно удивлять, что "бытие" принадлежит к тому же классу действительности, что и "любовь", "сознание", которые мы не можем поделить на части или абстрагировать, не потеряв как раз то, что собрались изучать. Это, однако, не освобождает нас от задачи попытаться понять и описать их.
Более серьезным источником неприятия является то, что пронизывает все современное западное общество: психологическая потребность избегать, а в некоторых случаях вытеснять, всю проблему "существования". В противоположность другим культурам и другим историческим периодам, где вопрос бытия – один из главных, особенно это касается индийской и восточной культур, характеристикой современной эпохи на Западе, как правильно говорит Марсель, является как раз недостаточное осознание "онтологического чувства, чувства бытия. Говоря в общем, современный человек находится именно в таком состоянии; и если онтологические требования беспокоят его, то весьма приглушенно, как какой-то неясный импульс"[92]. Марсель обращает внимание на то, – это подчеркивали и многие другие ученые, – что утрата чувства бытия, с одной стороны, связана с нашей тенденцией подчинить экзистенцию функции: человек знает себя не как человека, или "я", но как билетера в метро, продавца овощей, профессора, вице-президента или как кого-то другого, в зависимости от своей экономической функции. С другой стороны, эта потеря чувства бытия связана с массовой коллективизацией и широко распространенным в нашей культуре конформизмом. Тогда Марсель бросает вызов:
"В самом деле, удивительно, что психоаналитический метод, будучи более глубоким и проницательным, чем любой другой, не обнаружил губительные последствия вытеснения этого смысла и игнорирования этой потребности"[93].
"Что касается определения слова "бытие", – продолжает Марсель, – давайте признаем, что это крайне трудно. Я бы просто предложил подход к этому вопросу: бытие – это то, что противостоит или противостояло бы исчерпывающему анализу, имеющему отношение к опытным данным, целью которого является сведение этих данных шаг за шагом к элементам, лишенным сущностной внутренней ценности. (Попытку проведения такого анализа мы видим в теоретических работах Фрейда.)"[94]
Это последнее предложение я понимаю так, что когда фрейдовский анализ доведен до крайнего варианта, и мы знаем все о мотивах, инстинктах и механизмах, то у нас есть все, кроме существования. Существование – это то, что остается. Это то, что из бесконечного множества детерминирующих факторов образует человека, с которым что-то происходит и который обладает элементом, не важно, насколько малым, свободы сознавать действие этих сил на него. Это та область, в которой у него есть потенциальная способность сделать паузу перед тем, как отреагировать и таким образом принять решение о том, какая именно последует реакция. Следовательно, это та область, где он – человеческое существо, никогда не будет просто совокупностью влечений и детерминированных форм поведения.
Для обозначения особого характера человеческого существования экзистенциальные терапевты используют термин Dasein. Бинсвангер, Кун и другие называют свою школу Daseinsanalyse. Состоящий из sein (бытие) и da (там), Dasein обозначает, что человек – это существо, которое находится там, у него есть "там" в том смысле, что он может знать, что он там, и может отнестись к этому факту. "Там" – это гораздо больше, чем просто место, это конкретное мое "там", конкретный момент во времени, так же как и в пространстве, моего существования.
Человек – это существо, которое может сознавать, а следовательно, и быть ответственным за свое существование. Именно эта способность сознавать собственное существование отличает человеческое существо от других. Экзистенциальные терапевты думают о человеке не только как о "существе-в-себе", таковыми являются и все другие существа, но как о "существе-для-себя". Бинсвангер и другие авторы в последующих главах говорят о "Dasein выбирающем" то или это, что означает "человек, который ответственен за выбор своего существования...".
Полное значение термина "человеческое существо" станет понятнее, если читатель вспомнит, что "бытие" ("being") является причастием, отглагольной формой, подразумевающей, что кто-то находится в процессе бытия чем-то. К сожалению, используемый в качестве общего существительного термин "бытие" имеет второе значение статичной субстанции. Когда данный термин используют как конкретное существительное, как бытие отдельного человека, то оно обычно означает сущность, скажем, как солдат считается единицей целого. Правильнее было бы понимать слово "бытие", употребляемое в качестве обобщения, как potentia – источник потенции; бытие – та потенциальность, благодаря которой желудь становится дубом или каждый из нас становится тем, чем он действительно является. Когда же оно используется в конкретном смысле, как человеческое существо, то у него всегда есть динамическая связь с кем-то в процессе, с человеком в процессе бытия чем-то. Возможно, для англоговорящих более точным термином является становление ("becoming"). Мы можем понять другое человеческое существо только по тому, к чему оно движется, как мы это видим, чем оно становится. Мы можем знать самих себя только как "проекцию наших potentia в действии". Таким образом, важным временем для человеческих существ является будущее. Критический вопрос состоит в том, к чему я иду, чем я становлюсь, кем я буду в ближайшем будущем.
Таким образом, бытие в человеческом смысле не дано раз и навсегда. Оно не разворачивается автоматически, как вырастает дуб из желудя, так как существенным, неотделимым элементом в бытии человека является самосознание. Человек (или Dasein) является конкретным существом, которое должно сознавать себя, отвечать за себя, если оно должно стать самим собой. Также он является тем конкретным существом, которое знает, что в некоторый момент в будущем его не станет. Он – существо, которое всегда находится в диалектических отношениях с Ничто, со смертью. И он не только знает, что когда-то его не будет, но он может по своему собственному выбору лишиться своего бытия. "Быть и не быть" – "и" в названии этого раздела вовсе не опечатка – это не выбор, который кто-то делает раз и навсегда, решая вопрос о самоубийстве, это отражение выбора, совершаемого в каждый момент времени. С несравнимой красотой Паскаль рисует нам глубокую диалектику сознавания человеческого бытия:
"Человек – это всего лишь тростник, ничтожный тростник в природе, но он мыслящий тростник. Всей Вселенной нет никакой нужды вооружаться, чтобы уничтожить его: химеры, капли воды хватит для того, чтобы убить его. Но если бы Вселенная сокрушила его, то человек возрос бы в своем величии перед убийцей, потому что он знает, что умирает, и что у Вселенной есть власть над ним, но Вселенная об этом ничего не знает"[95].
В надежде прояснить, что для человека означает воспринимать собственное бытие, мы приведем здесь пример из истории случая. Эта пациентка, умная женщина 28 лет, имела особый дар в выражении того, что происходит внутри нее. Она обратилась к психотерапии из-за серьезных страхов закрытых пространств, сильных сомнений в себе и приступов гнева, которые иногда не поддавались контролю[96]. Она была незаконнорожденным ребенком, которого воспитали родственники, жившие в маленькой деревеньке на юго-западе страны. Ее мать в приступах ярости часто напоминала девочке о ее происхождении, говорила о том, сколько раз она хотела сделать аборт. Мать часто кричала на ребенка: "Если бы ты не родилась, нам бы не пришлось пройти через все это!" Другие родственники во время семейных ссор тоже кричали на девочку: "Почему ты не убила себя?" или "Тебе следовало бы проклясть тот день, когда ты родилась!" Девочка много занималась своим образованием, и когда выросла, превратилась в умную молодую женщину.
На четвертом месяце терапии ей приснился следующий сон: "Я в толпе людей. У них нет лиц, они похожи на тени. Потом я увидела, что в толпе есть кто-то, кто сочувствует мне". На следующем сеансе она сообщила о чрезвычайно важном переживании. Оно приводится здесь так, как она описала его по памяти два года спустя.
"Помню, как прогуливалась среди трущоб, чувствуя и думая, что я незаконнорожденный ребенок. Помню, как что-то приятное заливало мою боль, помогая мне принять этот факт. Затем я поняла, что надо почувствовать, чтобы принять это: "Я негр среди привилегированных белых" или "Я слепая среди зрячих". После этого той же ночью я проснулась и меня осенило: "Я принимаю тот факт, что я незаконнорожденный ребенок". Но я больше не ребенок. Так что я незаконна. Но это тоже неверно: я родилась незаконной. Что же остается? Остается "я есть". Этот акт контакта с "я есть" и его принятия дал мне (как я думаю впервые) переживание того, что "раз я есть, то у меня есть право быть".
На что похоже это переживание? Это первичное чувство, оно похоже на то, что я получила документ, подтверждающий право владения моим домом. Это переживание того, что я живу, не важно – частица я или волна. Это похоже на то, как однажды, будучи совсем маленькой, я добралась до косточки персика и разломила ее, не зная, что найду внутри. Потом было ощущение чуда: я нашла внутреннее семя, которое было сладким в своей горечи... Так маленький кораблик, стоящий на якоре в заливе, отделен от всего земного, но благодаря своему якорю он может снова дотронуться до земли, до той земли, из которой выросло дерево, из которого потом сделали кораблик. Он может поднять якорь и поплыть, но он всегда может встать на якорь, чтобы переждать шторм или просто немного отдохнуть... Вот мой ответ Декарту: "Я есть, следовательно, мыслю, чувствую и действую я".
Будто приходишь в собственный райский сад, где оказываешься за пределами добра и зла и всех других человеческих понятий. Таковы переживания поэтов, живущих в своих интуитивных мирах, мистиков, только вместо чистого чувства и единения с Богом, это нахождение и единение с собственным бытием. Будто у тебя есть туфелька Золушки и по всему миру ты ищешь ту ножку, который бы подошла эта туфелька, и вдруг ты понимаешь, что подойти может только твоя нога. Это "реальная действительность" в этимологическом смысле этого выражения. Похоже на то, будто бы глобус появился раньше, чем горы, океаны и континенты, нарисованные на нем. Будто ребенок в грамматических структурах предложения находит глагольное подлежащее – в этом случае субъективное существование промежутка чьей-то жизни. Будто перестаешь понимать себя через некую теорию..."
Мы назовем это переживанием "я есть"[97]. Только один этот аспект из всего случая, прекрасно описанного выше, показывает, как у отдельного человека возникает и набирает силу ощущение того, что он есть. У этой женщины переживания проступили в более острой форме, так как угроза ее бытию была довольно явной. Она страдала из-за того, что была незаконнорожденным ребенком. Через два года она смогла взглянуть на свои проблемы с поэтической ясностью. Я не верю, что эти события заставили ее пережить нечто принципиально отличное от того, через что проходят все человеческие существа, включая невротиков.
Нам осталось сделать заключительные комментарии к этому случаю. Их будет четыре. Во-первых, переживание того, что "я есть" само по себе не является решением проблем человека. Скорее, это предпосылка для их решения. После той терапии пациентка еще два года работала над психологическими проблемами, которые она могла решить на основе появившегося переживания ее собственного существования. В широком смысле обретение чувства бытия – цель любой терапии, но в более узком смысле это отношение к своему "я" и своему миру, переживание собственного существования (включая свою собственную личность), что является предпосылкой для работы над отдельными проблемами. Как написала пациентка, это "первичный факт", ага-переживание. Его не следует отождествлять с тем или иным открытием пациентом своей особенной силы, когда он узнает, что может хорошо писать или рисовать, работать или иметь успешные половые отношения. Внешне кажется, что открытие особенной силы и переживание собственного бытия идут рука об руку. Но последнее является фундаментом, основанием, психологической предпосылкой первого. Мы можем подозревать, что решение отдельных личностных проблем в ходе психотерапии без "я-есть"-переживания будет иметь псевдоэффект. Новые силы, открытые пациентом, могут быть восприняты им как просто компенсаторные – как доказательство того, что он значим; несмотря на тот факт, что он находится на более глубоком уровне, ему все еще не хватает базового убеждения в том, что "Я есть, следовательно, я мыслю, я действую". Мы вправе поинтересоваться, не является ли такое компенсаторное решение просто заменой одной системы защиты на другую, подменой одних терминов другими, без переживания себя как существующего. Пациент, вместо того чтобы выпустить свой гнев, "сублимирует", "интровертирует" или как-то "выстраивает отношение", но по-прежнему не внедряется в собственное существование.
Наше второе замечание касается того, что "я-есть"-переживание нельзя объяснять с помощью переноса. Позитивный перенос, направленный на терапевта или мужа[98], явно присутствует в описанном случае. Он проявился в красноречивом сне, где среди обезличенной толпы имелся один человек, сочувствующий ей. Правда, она показывает в своем сне, что "я-есть"-переживание могло быть только в том случае, если она доверяет другому человеческому существу. Но это не само переживание. Также может быть верно, что для любого человеческого существа возможность принятия и доверия другому человеческому существу является необходимым условием для "я-есть"-переживания. Но сознавание собственного бытия происходит на уровне понимания своего я. Это переживание Dasein, сознаваемое в самосознании. Оно не может быть объяснено по сути в социальных категориях. Принятие другим человеком, таким, как терапевт, показывает пациенту, что ему больше не нужно сражаться в его главной битве за свое принятие миром или кем-то еще. Принятие дает ему свободу для переживания собственного существования. Эту мысль следует подчеркнуть, ибо существует весьма распространенное заблуждение, что как только человека принимает другой человек, переживание своего бытия происходит само собой. Это главное заблуждение некоторых форм "терапии, направленной на формирование адекватного представления о себе и окружающих". Позиция "все, что тебе нужно – это моя любовь и принятие" в жизни и в терапии может способствовать повышенной пассивности. Здесь важным моментом является то, как сам человек – вместе с его сознаванием и ответственностью за свое бытие – относится к тому факту, что его могут принять.
Третий комментарий вытекает из предыдущего: бытие – это категория, которую нельзя свести к интроекции социальных и этических норм. Оно, как говорил Ницше, стоит "по ту сторону добра и зла". Мое подлинное чувство бытия не совпадает с тем, кем я должен быть по мнению других. Это то, на чем я должен настаивать, согласно чему должен оценивать требования родителей и других авторитетов. Действительно, навязчивый и ригидный морализм появляется у людей как раз вследствие ослабленного чувства бытия. Ригидный морализм – это компенсаторный механизм, с помощью которого индивид убеждает себя принимать внешние санкции, так как у него отсутствует базисная уверенность в какой-либо силе его собственного выбора самого по себе. Мы вовсе не отрицаем огромного воздействия социума на моральные принципы кого бы то ни было, но необходимо отметить, что онтологическое чувство не может быть полностью сведено к подобному воздействию. Онтологическое чувство не является феноменом супер-эго. Кроме того, чувство бытия дает человеку основу для самооценки, которая является не просто отражением мнений о нем других людей. Если ваша самооценка должна, в конечном счете, основываться на социальном утверждении, то это уже не самооценка, а более изощренная форма социальной конформности. Вряд ли можно со всей уверенностью говорить о том, что чувство бытия (хотя оно тесно связано с социальными отношениями) в основе своей является результатом социального воздействия; оно всегда предполагает наличие Eigenwelt, "собственного мира" (этот термин мы будем обсуждать ниже).
Наше четвертое замечание касается самого важного вопроса – "я-есть" не следует отождествлять с тем, что в разных кругах называется функционированием эго. Ошибочно определять появление сознания собственного бытия как одну из стадий в развитии эго. Нам достаточно вспомнить, что значило понятие "эго" в классическом психоанализе, чтобы понять, почему это так. Эго традиционно представляли как относительно слабое, пассивное, вторичное создание, эпифеномен более могущественных процессов. Оно "возникает из ид путем модификаций, привнесенных из внешнего мира"[99]. "То, что мы называем эго, по сути своей пассивно", – говорит Гроддек (Groddeck), которого с одобрением цитирует Фрейд[100]. Развитие психоаналитической теории в период становления привело к преувеличению роли эго, но большее внимание было уделено изучению защитных механизмов. Эго увеличило свою изначально небольшую и хрупкую территорию в основном за счет негативных, защитных функций. Оно "служит трем хозяевам и последовательно подвергается трем опасностям: внешнему миру, либидо, поднимающемуся из глубин ид, и жесткости суперэго"[101]. Фрейд часто отмечал, что эго на самом деле очень хорошо справляется, если оно умеет сохранять какое-то подобие гармонии в этом неуправляемом доме.
Достаточно немного поразмышлять, чтобы увидеть, сколь велика разница между подобным пониманием Эго и переживанием того, что "я есть" – чувством бытия, о котором мы говорим. Последнее имеет место на более глубоком уровне и является непременным условием развития Эго. Эго представляет собой часть личности, причем довольно слабую ее часть, в то время как чувство бытия относится ко всей жизни человека, равно бессознательному и сознаваемому, и оно никоим образом не считается лишь фактором сознавания. Эго является отражением внешнего мира; чувство бытия, напротив, коренится в жизненном опыте человека, и если оно является отражением, размышлением только о внешнем мире – тогда его точно нельзя считать ощущением бытия, своего бытия. Мое чувство бытия – это не способность рассматривать внешний мир, составлять мнение о нем, оценивать реальность; это моя способность рассматривать себя как существо, пребывающее в мире, сознавать себя существом, которое может все это осуществлять. В этом смысле чувство бытия есть непременным условием так называемого "роста Эго". В субъектно-объектных отношениях Эго выступает субъектом; а чувство бытия залегает на уровне, предшествующем этому противостоянию. Чувство бытия означает не ощущение того, что "я субъект", а ощущение того, что "я существо, которое может, помимо прочего, сознавать себя субъектом происходящего". Чувство бытия в основе своей не противостоит внешнему миру, но должно содержать в себе эту способность идти против внешнего мира, если это необходимо, так же как оно должно обладать способностью столкновения с небытием. Без сомнения, и Эго, и чувство бытия предполагают, что у ребенка в возрасте приблизительно между первыми месяцами младенчества и двумя годами жизни появляется сознавание себя; этот процесс развития часто называют "появлением Эго". Но это вовсе не означает, что следует отождествлять эти два понятия. Обычно считается, что в детстве Эго бывает особенно слабым; слабое Эго соразмерно относительно слабому детскому оцениванию реальности и отношению к ней. Напротив, чувство бытия в этом возрасте может быть особенно сильным, а впоследствии, напротив, уменьшаться – когда ребенок учится приспосабливаться, переживать свое бытие как отражение оценивания его другими, терять некую оригинальность и исходное ощущение того, что он есть. Чувство бытия, в онтологическом смысле, является непременным условием для развития Эго, равно как и продвижения по другим линиям развития.[102].
Мы, безусловно, осознаем, что в эго-теории ортодоксального психоанализа последних десятилетий появляются добавления и доработки. Но никто не может вернуть силу слабому монарху, одевая на него новые красивые мантии. Настоящая серьезная проблема с доктриной эго заключается в том, что она в основном представляет субъектно-объектную дихотомию современной мысли. В самом деле, важно подчеркнуть: сам факт, что эго понимается как слабое, пассивное, вторичное образование, является доказательством и симптомом утраты чувства бытия в наше время, симптомом вытеснения онтологических проблем. Такая точка зрения на эго – это символ распространяющейся тенденции, согласно которой человек рассматривается как изначально пассивно воспринимающий действующие на него силы, независимо от того, тождественны ли эти силы ид, или индустриальной силе, говоря словами Маркса, или, в терминах Хайдеггера, растворению индивида "среди многих" в море конформизма. Точка зрения на эго как относительно слабую борющуюся с ид структуру для Фрейда была символом раздробленности человека Викторианской эпохи, а также веской поправкой к поверхностному волюнтаризму того времени. Ошибка возникает в том случае, когда эго представляется в виде базового норматива. Теория эго должна предваряться осмыслением бытия, онтологическим сознанием, если этой теории следует быть последовательной в отношении к человеку как к человеку.
Мы теперь подошли к очень важной проблеме небытия, или, как говорят в экзистенциальной литературе, к проблеме ничто. "И" в заголовке этого раздела – "Быть и не быть" – означает, что небытие является неотделимой частью бытия. Чтобы уловить значение существования, человеку следует понять тот факт, что он может перестать существовать, что в каждый момент времени он находится на грани возможного исчезновения, что он никогда не сможет избежать того факта, что смерть придет за ним в какой-то неизвестный момент в будущем. Существование никогда не бывает механическим. Оно не только может исчезнуть, его не только можно потерять. В каждый момент времени ему действительно угрожает небытие. Без сознавания небытия, то есть без сознавания угрозы смерти, страха для бытия, менее драматичной, но более постоянной угрозы потери собственного потенциала в конформизме, существование становится бессодержательным, нереальным, ему не хватает сознавания себя. Но благодаря конфронтации с небытием существование обретает жизненность и непосредственность, а индивид ощущает подъем сознавания себя, своего мира и окружающих его людей.
Смерть является самой очевидной угрозой небытия. Фрейд уловил эту правду на уровне символа инстинкта смерти. Жизненные силы (бытие) в каждый момент времени противостоят силам смерти (небытие), и в жизни каждого индивида последние в конечном счете одерживают верх. Но концепция инстинкта смерти, разработанная Фрейдом, онтологически правдива, и ее не следует рассматривать как выродившуюся психологическую теорию. Концепция инстинкта смерти является прекрасным примером того, о чем мы говорили ранее: Фрейд вышел за пределы технического основания и попытался приоткрыть трагическое измерение жизни. С определенной точки зрения это видно из его акцента на неизбежности враждебности, агрессии и саморазрушения. Правда, он неверно характеризовал эти идеи, говоря об инстинкте смерти с точки зрения химии. В психоаналитических кругах слово "танатос" использовалось как параллель либидо, что является примером искажения терминологии. Такие же искажения возникают при попытке приведения онтологических истин, которыми являются смерть и трагедия, в рамки технического основания и сведения их к специальным психологическим механизмам. На этих основаниях Хорни вместе с другими исследователями могли логично аргументировать излишнюю пессимистичность Фрейда и его обыкновенную рационализацию войны и агрессии. По моему мнению, эта полемика касается обычных чрезмерно упрощенных психоаналитических интерпретаций, представленных в форме технического основания, но он не касается самого Фрейда, который пытался сохранить настоящее понимание трагедии, хотя эта попытка носила двойственный характер. Он действительно ощущал небытие, несмотря на то, что всегда пытался подчинить его и свою теорию бытия техническому разуму.
Также ошибочным является рассмотрение инстинкта смерти только с биологической позиции, что бросает нас в путы фатализма. Уникальный и решающий факт заключается в том, что человеческое существо знает, что умрет, оно предчувствует собственную смерть. Таким образом, решающий вопрос – как человек относится к факту смерти: проводит ли он свою жизнь в бегстве от смерти или вытесняет признание смерти под видом рационализации, веры в технический прогресс или судьбу, что так привычно для нашего западного общества, или размывает эту тему, говоря, что "человек смертен", и, обращаясь к статистике, которая служит для сокрытия очень важного факта – он сам умрет в какой-то неизвестный момент будущего.
С другой стороны, экзистенциальный анализ утверждает, что конфронтация со смертью дает наибольшее ощущение действительности самой жизни. Она делает индивидуальное существование реальным, абсолютным и конкретным. "Смерть – это безотносительная потенциальность, которая обособляет человека и заставляет его понять потенциальность бытия в других (так же как и в самом себе), когда он сознает неизбежную природу собственной смерти"[103]. Другими словами, смерть – это не относительный, но абсолютный факт моей жизни, и мое осознание этого факта придает моему существованию и тому, что я ежеминутно делаю, абсолютное качество.
Чтобы рассмотреть проблему небытия, нам не нужно обращаться к крайним примерам смерти. Возможно, наиболее распространенной формой неудачного противостояния небытию в наши дни является конформизм. При конформизме индивид позволяет включить себя в море коллективных реакций и установок, стать скованным das Man, чему также сопутствуют потеря самоосознания, потенциала и того, что характеризует этого человека как уникальное существо. Таким образом, человек на какое-то время избавляется от тревоги небытия, но ценой лишения возможностей и ощущения бытия.
Положительная сторона способности противостоять небытию заключается в умении принимать страх, враждебность и агрессию. Под принятием мы подразумеваем допущение без вытеснения и по возможности конструктивное использование. Сильная тревога, враждебность и агрессия – это такое состояние и способ отношения к себе и другим, которые могут сократить или разрушить бытие. Но если для того, чтобы сохранить свое бытие, человек устремляется в бегство от вызывающих тревогу ситуаций, или от ситуаций потенциальной враждебности и агрессии, то он останется с бессодержательным, слабым, ложным чувством бытия. В предыдущей главе мы привели блестящее описание, сделанное Ницше. Он говорил о "бессильных людях", которые уходят от агрессии, вытесняя ее, вслед за тем испытывая "наркотический дурман" и ничем не сдерживаемое сопротивление. Мы вовсе не уходим от различения невротической и нормальной форм тревоги, враждебности и агрессии. Очевидно, что конструктивный способ противостояния невротической тревоге, враждебности и агрессии – это их психотерапевтическое прояснение и, по возможности, уничтожение. Но эта задача вдвойне трудна, а вся проблема в целом весьма запутана из-за того, что нам не удается увидеть нормальные формы этих состояний; нормальные в том смысле, что они присущи угрозе небытия, и любое существо всегда должно с ними справляться. На самом деле, разве не очевидно, что невротические формы тревоги, враждебности и агрессии развиваются как раз потому, что индивид не смог принять нормальные формы этих состояний и способов обращения с ними? Пауль Тиллих предложил многообещающие меры для терапевтического процесса, которые мы процитируем, не пытаясь их объяснить: "Самоутверждение существа тем сильнее, чем больше небытия он может в себя вобрать".
II. ТРЕВОГА И ВИНА КАК ОНТОЛОГИЧЕСКИЕ ПОНЯТИЯ
Обсуждение бытия и небытия привело нас к тому, что теперь мы можем понять фундаментальную природу тревоги. Тревога не является таким же аффектом, как удовольствие или печаль. Она, скорее, представляет онтологическую характеристику человека, уходящую корнями в само его существование. Это не периферическая угроза, которую я могу принять или нет, или реакция, которую можно классифицировать наряду с другими реакциями. Тревога – это всегда угроза основам, центру моего существования. Тревога – это переживание угрозы приближающегося Ничто[104].
Курт Гольдштейн внес большой вклад в понимание тревоги. Он подчеркивает, что тревога – это не то, что мы имеем, а то, чем мы являемся. Его живое описание тревоги при начинающемся психозе, когда пациент буквально переживает угрозу распада "я", с поразительной ясностью демонстрирует это положение. Но, как он сам настаивает, эта угроза распада "я" присуща не только психотикам, но также характерна для невротической и нормальной природы тревоги. Тревога – это субъективное состояние индивида, который приходит к осознанию того, что его существование может быть разрушено, что он может потерять себя и свой мир, может стать ничем[105].
Понимание тревоги как онтологического понятия демонстрирует разницу между тревогой и страхом. Эта разница не в степени или интенсивности переживания. Тревога, которую испытывает человек, когда кто-то, кого он уважает, проходит мимо него, не здороваясь, не так сильна, как боязнь дантиста, собирающегося сверлить больной зуб. Но грызущее чувство того, что он может поскользнуться на улице, может преследовать его целый день и мучить всю ночь, тогда как гораздо более сильное чувство страха пройдет раз и навсегда, как только человек выйдет из зубного кабинета. Разница заключается в том, что тревога ударяет в самое ядро самоуважения и самоценности, что является очень важным аспектом восприятия себя как существа. Страх, напротив, угрожает периферии существования. Его можно объективизировать, человек может посмотреть на свой страх со стороны. В большей или меньшей степени тревога охватывает осознание человеком своего существования, стирает чувство времени, притупляет воспоминания и уничтожает будущее[106]. Вероятно, это является неопровержимым доказательством того факта, что она атакует самую суть человеческого существа. Пока мы во власти тревоги, мы не можем представить себе, как наше существование было бы "вне" тревоги. Вот почему так сложно ее выносить, и вот почему, если есть возможность, люди выбирают страшную физическую боль, которая для стороннего наблюдателя кажется гораздо большим злом. Тревога имеет онтологическую природу, а страх нет. Страх можно изучать как аффект наряду с другими аффектами, как реакцию среди других реакций. Но тревогу можно понять только как угрозу Dasein.
Это понимание тревоги как онтологической характеристики опять высвечивает всю трудность оперирования с терминами. Фрейд, Бинсвангер, Гольдштейн, Кьеркегор (в немецком переводе) для обозначения тревоги использовали слово Angst, которое не имеет английского эквивалента. Оно является двоюродным братом "муке" (это слово происходит от латинского angustus, "узкий", который в свою очередь происходит от angere, что означает "причинять боль, сталкивая вместе", "душить"). Английский термин "тревога", например, в контексте "Я тревожусь об этом или о том", гораздо более слабое слово[107]. Некоторые ученые переводят Angst как "ужас". Так поступил Лоури (Lowrie), переводя Кьеркегора, и это слово использовали переводчики, работавшие над статьей об Элен Вест. Некоторые из нас пытались сохранить термин "тревога" для обозначения Angst[108], но здесь мы столкнулись с дилеммой. Альтернатива представлялась следующей: либо использовать "тревогу" как смягченный аффект и поместить ее среди других аффектов, что будет научно, но при этом теряется сила этого слова; либо использовать такой термин, как "ужас", который несет достаточную силу, но не является научной категорией. К сожалению, лабораторные эксперименты по изучению тревоги слишком часто практически не касались таких особенностей тревоги, как сила и опустошенность, которые при клинической работе мы наблюдаем каждый день. Даже дискуссии клиницистов, посвященные невротическим симптомам и психотическим состояниям, часто касаются только поверхности проблемы. Результатом экзистенциального понимания тревоги является возвращение термину его изначальной силы. Это переживание угрозы, несущей и муку, и ужас. Это самая болезненная и сильная угроза, от которой может страдать существо, потому что это угроза потери самого существования. По моему мнению, нашей психологической и психиатрической работе с феноменом тревоги поможет приведение данного понятия к его онтологическим основам.
Другой важный аспект тревоги теперь можно увидеть более отчетливо. Речь идет о том, что тревога всегда подразумевает внутренний конфликт. Разве это не конфликт между тем, что мы называем бытием и небытием? Тревога возникает там, где индивид сталкивается с потенциальностью, или возможностью, исполнения своего существования. Но эта самая возможность включает разрушение настоящей безопасности, что ведет к отрицанию нового потенциала. Здесь находятся истоки символа родовой травмы – прототипа всех видов тревоги. Такая интерпретация следует из этимологии слова "тревога" – "боль, которая сужает", "душит", что напоминает ситуацию рождения. Истолкование тревоги как родовой травмы было сделано Ранком. Оно касалось всех видов тревоги. Более поверхностная трактовка этого понимания согласовывается и с точкой зрения Фрейда. Можно не сомневаться в важности этого верного символа, даже если кто-то не связывает его с непосредственным рождением ребенка. Если бы не было возможности раскрыть это, дать появиться на свет потенциалу, то у нас не было бы тревоги. Вот почему тревога в своей основе связана с проблемой свободы. Если бы у индивида не было свободы, пусть даже самой маленькой, для приведения в жизнь его нового потенциала, то у него не было бы тревоги. Кьеркегор описывал тревогу как "головокружение от свободы" и добавлял, если не более ясно, то более очевидно, что "тревога – это реальность свободы как материализованная до этой свободы потенциальность". Гольдштейн доказывает это, описывая людей, которые индивидуально или коллективно отказываются от свободы, надеясь таким образом избавиться от невыносимой тревоги. Люди прячутся за частоколом догм или целыми группами обращаются к фашизму, как было недавно в Европе[109]. Как бы мы ни иллюстрировали это положение, данная дискуссия показывает позитивный аспект Angst. Само переживание тревоги демонстрирует, что присутствует некая потенциальность, некая новая возможность бытия, которой угрожает небытие.
Мы утверждали, что состояние, при котором индивид сталкивается с проблемой исполнения своей потенциальности, – это тревога. Продолжая эту тему, мы считаем, что, отрицая свой потенциал, терпя неудачу его исполнения, индивид попадает в состояние вины. Таким образом, вина также является онтологической характеристикой человеческого существования.
Медард Босс (Medard Boss)[110] описывает тяжелый случай обсессивно-компульсивного состояния, который как нельзя лучше демонстрирует наше положение. Его пациент страдал от навязчивого стремления к чистоте – он постоянно все мыл и чистил вокруг себя. Этот человек прошел фрейдовский и юнгианский анализ. В течение некоторого времени ему несколько раз снился сон, где присутствовала церковная колокольня. В случае фрейдовского анализа она была проинтерпретирована как фаллический символ, в случае юнгианского – как символ религиозного архетипа. Пациент мог обсуждать эти интерпретации на интеллектуальном уровне, но его невротическое навязчивое поведение после временной ремиссии вернулось, продолжая портить его жизнь. Во время первых месяцев работы с Боссом пациенту несколько раз снился сон, в котором он подходил к двери туалета, а она всегда оказывалась запертой. Каждый раз Босс задавал только один вопрос – почему эта дверь обязательно заперта (он называл этот сон "гремящей дверной ручкой"). В конце концов пациенту приснился сон, в котором он прошел через эту дверь и оказался в церкви, по пояс в испражнениях. Он был обвязан веревкой, спущенной с колокольни. Веревка натягивалась с такой силой, что пациенту казалось, его разорвет на клочки. В течение четырех дней у него наблюдалось психотическое состояние, во время которого Босс дежурил у его постели. Затем анализ продолжился и спустя некоторое время очень удачно завершился.
Описывая этот случай, Босс говорит, что пациент был сам виноват, так как запер в себе некий существенно важный потенциал. По этой причине у него имелось чувство вины. Если, как замечает Босс, мы забываем о бытии, не умея охватить собственное существование в целом и быть аутентичными, скатываясь к конформизму и анонимности das Man, то фактически мы утрачиваем свое существование и в этой же степени становимся несостоятельными. "Если вы запираете свой потенциал, то вы виноваты (или в долгу – есть еще и такой вариант перевода с немецкого) перед тем, что вам дано с рождения, заложено в вашем "ядре". Именно на этом экзистенциальном состоянии бытия в долгу и бытия виноватым основываются всевозможные ощущения вины, различные его формы, проявляющиеся в нашей действительности". Именно это произошло с нашим пациентом. Он запер и телесные, и духовные возможности существования ("побуждающий" аспект и "божественный" аспект, как говорит Босс). Пациент сначала принял объяснения либидо и архетипа, он усвоил их слишком хорошо. Но, по словам Босса, это оказалось прекрасным способом избежать всей проблемы. Так как пациент не принял в свое существование эти два аспекта, он был виновен, он был в долгу перед собой. Таково было происхождение (Anlass) его невроза и психоза.
Спустя некоторое время после окончания лечения пациент написал Боссу письмо, где говорил о причине, по которой во время первого анализа он не мог полностью согласиться с существованием своих анальных тенденций. Он "чувствовал, что сам аналитик не имел достаточных оснований для такой интерпретации". Он все время пытался свести колокольню из сна к генитальным символам, "все значение божественного представлялось ему лишь как туманная сублимация". Архетипическое объяснение, тоже символическое, невозможно было объединить с телесным, поэтому оно также не могло объединиться и с религиозным переживанием.
Обратите внимание, что Босс говорит "пациент виновен", а не "у пациента есть чувство вины". Из этого радикального утверждения следуют далеко идущие выводы. Именно экзистенциальное направление прорезает густой туман, который опутывает психологические дискуссии по проблеме вины. В этих дискуссиях утверждалось, что мы можем иметь дело только со смутным чувством вины, причем реальность вины не важна. Не приводит ли это сведение вины к простому чувству виноватости к потере реальности и ощущению иллюзорности в большинстве психотерапевтических практик? Не открывает ли это для пациента, страдающего неврозом, путь несерьезного отношения к вине, путь смирения с утратой собственного существования? Подход Босса является радикально экзистенциальным в том смысле, что он имеет дело с реальным явлением, в данном случае с реальным явлением бытия виновным. Вина не связана исключительно с религиозной стороной переживания: мы можем быть виновными, отказываясь принять как анальные, генитальные или любые другие телесные стороны жизни, так и интеллектуальные или духовные. Такое понимание вины не имеет ничего общего с оценочным отношением к испытуемому. Здесь идет речь о серьезном и уважительном отношении к жизни и опыту пациента.
Выше мы говорили только об одной форме онтологической вины, возникающей при утрате собственного потенциала. Существуют также и другие формы. Например, онтологическая вина перед товарищами. Она появляется из-за того, что каждый из нас, будучи личностью, искаженно воспринимает другого человека. Это означает, что человек в какой-то степени нарушает верное представление о своем товарище, не может полностью понять другого человека, его потребности. Это не вопрос о моральных недостатках или нравственной слабости, хотя недостаток нравственной чувствительности действительно может привести к резкому увеличению подобного искажения. Это неизбежный результат того факта, что каждый из нас является индивидуальностью, и у него нет другого выбора, кроме как смотреть на мир своими глазами. Эта вина, уходящая корнями в нашу экзистенциальную структуру, – один из самых мощных источников человечности и несентиментального отношения к прощению окружающих нас людей.
Первая форма онтологической вины, утрата собственного потенциала тесно связана с типом мира, который мы будем описывать и определять в следующем разделе как Eigenwelt, собственный мир. Вторая форма вины связана с Mitwelt, так как это в основном вина перед соплеменниками. Третья форма онтологической вины, включающая как Umwelt, так и два других типа, то есть "вина отделения", связана с природой в целом. Это наиболее сложный и всеохватывающий аспект онтологической вины. Он может показаться запутанным, особенно в данном случае, так как у нас нет возможности описать его более подробно. Мы включили его ради полноты изложения, а также для тех людей, кто может пожелать продолжить исследования в области онтологической вины. Эта вина, связанная с нашим отделением от природы, может иметь гораздо большее влияние (хотя эта вина и вытеснена), чем мы представляем, живя в современном научном мире Запада. Первоначально эту мысль прекрасно выразил древнегреческий философ Анаксимандр: "Источник вещей неисчерпаем. Откуда они появляются, туда же они должны вернуться. Они компенсируют друг друга за несправедливость в порядке времени".
У онтологической вины есть следующие характеристики: во-первых, каждый разделяет ее. Никому из нас не удается избежать искажения реальности существования других людей. Никто из нас не может полностью осуществить свой потенциал. Каждый из нас всегда находится в диалектических отношениях со своим потенциалом. Эту ситуацию ярко иллюстрирует сон пациента Босса, где этот человек был растянут между испражнениями и колокольней. Во-вторых, онтологическая вина не исходит из культурных запретов или усвоения культурных норм. Она коренится в факте самоосознания. Онтологическая вина – это "не я-виновен-потому-что-я-нарушил-запреты-родителей". Она возникает из того факта, что я могу воспринимать себя как того, кто способен или не способен выбирать. Каждое развитое человеческое существо имело эту онтологическую вину, хотя ее содержание различалось в зависимости от той или иной культуры, которая оказывает на вину большое влияние.
В-третьих, онтологическую вину не следует путать с болезненной или невротической виной. Если ее не принимать и вытеснять, то она может превратиться в невротическую вину. Как невротическая тревога является результатом не принятой нами нормальной онтологической тревоги, так же и невротическая вина есть следствие избегания онтологической вины. Если человек может осознать и принять ее (как впоследствии сделал пациент Босса), то его вина не будет болезненной или невротической. В-четвертых, онтологическая вина не приводит к образованию симптомов, она оказывает конструктивное влияние на личность. Особенно она может и должна вести к человечности, к усилению чувствительности в межличностных отношениях и к увеличению творческих возможностей по использованию своего потенциала.
III. БЫТИЕ-В-МИРЕ
Другим важным и имеющим серьезные последствия вкладом экзистенциальных терапевтов является понимание человека-в-его-мире. По моему мнению, по своей значимости оно уступает только анализу бытия. Эрвин Страус пишет: "Чтобы понять компульсивность человека, сначала мы должны понять его мир". Безусловно, это верно как для всех типов пациентов, так же и для всех человеческих существ. Бытие вместе означает совместное бытие в одном мире, а знание означает знание в контексте этого самого мира. Мир данного конкретного пациента должен быть понят изнутри, он должен быть познан и рассмотрен настолько глубоко, насколько это возможно, с точки зрения того, кто в нем существует. Бинсвангер писал: "Мы, психиатры, уделяем слишком много внимания отклонениям наших пациентов от жизни в общем для всех нас мире вместо того, чтобы в первую очередь сосредоточиться на собственных или частных мирах пациентов, что впервые стал систематически делать Фрейд"[111].
Проблема заключается в том, как мы должны понимать мир другого человека. Этот мир нельзя понять ни как внешнее сочетание объектов, наблюдаемых нами со стороны (в таком случае мы никогда не сможем действительно понять его), ни с помощью чувственного отождествления (в этом случае наше понимание не принесет никакой пользы, так как мы не сможем сохранить реальность нашего собственного существования). Действительно трудная дилемма! Следовательно, требуется такой подход к миру, который вырежет "раковую опухоль" – традиционную субъектно-объектную дихотомию.
Это стремление заново открыть человека как существующего-в-мире очень важно, потому, что оно непосредственно касается одной из самых острых проблем современного человека, – проблемы утраты человеком собственного мира, утраты восприятия своей общности. Кьеркегор, Ницше и последовавшие за ними экзистенциалисты в узких кругах говорили о двух главных источниках тревоги и отчаяния современного западного человека. Во-первых, это утрата чувства бытия, а во-вторых, утрата собственного мира. Экзистенциальные аналитики полагают, что существует множество фактов, доказывающих правильность этих догадок. Западный человек, живущий в двадцатом веке, переживает не только отстранение от человеческого мира, но он также страдает от внутреннего мучительного убеждения в собственной отчужденности от природного мира.
В работах Фриды Фромм-Райхман и Салливана описывается состояние человека, утратившего собственный мир. Эти и другие авторы говорят о том, что проблемы одиночества, изоляции и отчуждения все активнее обсуждаются в психиатрической литературе. Среди психиатров и психологов растет осознание не только этих проблем, но и самих условий их возникновения. Вообще, симптомы изоляции и отчуждения отражают состояние человека, чье отношение к миру совершенно разрушилось. Некоторые психотерапевты указывали, что все у большего числа пациентов проявляются шизоидные черты. По их мнению, типичный вид психических проблем в наши дни – это не истерия, как было во времена Фрейда, а шизоидный тип, то есть проблемы людей, которые отстранены, потеряны, которым не хватает эмоционального выражения, у них обнаруживается склонность к деперсонализации. Свои проблемы они пытаются решить за счет интеллектуализации и технических формулировок.
Существует множество доказательств того, что от изоляции, отчуждения от мира страдают не только люди с теми или иными патологиями, но и "нормальные" люди. Райсман (Reisman) в своей работе "Одинокая толпа" представил большое количество социопсихологических данных с целью показать, что черты изолированности, одиночества, отчужденности характерны не только для невротических пациентов, но в нашем обществе для людей в целом. Он добавляет, что за последние пару десятилетий эта тенденция усилилась. Автор делает важное замечание о том, что у этих людей есть только техническая связь с их миром. "Направленные вовне" люди (типичный характер нашего времени) ко всему относятся с технической внешней стороны. Например, они говорят не "Мне понравилась пьеса", а "Эта пьеса была хорошо поставлена", "Статья хорошо написана" и т.д. В своей работе "Бегство от свободы" Фромм описывает состояния изоляции и отчуждения с социополитической точки зрения; Карл Маркс затрагивает эту проблему в связи с дегуманизацией, которая возникает из-за того, что в современном западном мире все оценивается с внешней стороны в объектно-центрированных денежных терминах; Тиллих рассматривает этот вопрос с духовной стороны.
Наконец, в произведениях Камю "Незнакомец" и Кафки "Замок" мы находим удивительно похожие описания данной проблемы. Каждый автор очень красочно и точно рисует картину человека, который является чужаком в собственном мире, он чужд людям, у которых ищет любви. Он впадает в состояние бездомности, смутности и неясности, будто у него нет прямой связи с этим миром, будто он находится в другой стране, не зная местного языка и не надеясь его выучить. Он обречен странствовать в полном отчаянии и одиночестве, обречен быть бездомным незнакомцем.
Проблему потери собственного мира нельзя связывать только с недостатком общения, с трудностями в межличностном общении. Ее корни идут дальше социального уровня, они тянутся к отчуждению от природного мира. Это особое переживание изоляции получило название эпистемологического одиночества[112] . Глубинной причиной экономических, социологических и психологических аспектов отчуждения является последовательное отделение человека как субъекта от объективного мира. Это отделение продолжалось в течение четырех веков. На протяжении нескольких столетий оно выражалось в стремлении западного человека получить власть над природой, а также в смутном, неясном, наполовину подавленном чувстве отчаяния. Человек отчаялся установить хоть какие-нибудь отношения с природным миром, даже с собственным телом.
Все это может показаться странным в наш век научного прогресса. Но давайте исследуем этот вопрос более детально. В данный сборник включена глава, прекрасно написанная Страусом, где автор говорит, что Декарт, отец современной мысли, считал эго и сознание отделенными от мира и от других людей[113]. То есть получается, что сознание отрезано и находится в одиночестве. Чувства не дают нам данных об окружающем мире, они предоставляют только опосредствованную информацию. В наши дни из Декарта сделали мальчика для битья, его обвиняют в разложении мира на субъекта и объекта. Однако этот философ лишь отражал дух своего времени и скрытые тенденции современной культуры, которые он описал с необыкновенной точностью. Далее Страус говорит о традиционном противопоставлении интересов средневекового и современного человека – соответственно интересов к иному миру и к этому миру. Но на самом деле в средневековье христианская душа рассматривается в ее связи с миром. Люди ощущали мир вокруг себя как непосредственно данный (см. Джотто), а тело – как реальную данность этого момента (см. св.Франциск). Но начиная с Декарта, душу и природу полностью разобщили. Природа принадлежит исключительно сфере res extenso[114]. Мы познаем мир косвенно, мы умозаключаем о нем. Отсюда возникает проблема, которая стала полностью ясна лишь в прошлом веке. Страус показывает, как эта доктрина отразилась в традиционных учебниках по неврологии и физиологии. Авторы этих учебных изданий пытались показать, что происходящее на неврологическом уровне имеет только знаковое отношение к реальному миру. Только "бессознательные умозаключения ведут к утверждению о существовании внешнего мира"[115].
Таким образом, неслучайно, что современный человек чувствует себя отделенным от природы, что каждое сознание остается наедине с собой. Это было встроено в наше образование и до некоторой степени даже в наш язык. Это означает, что преодоление изоляции – непростая задача, требующая не реорганизации, а фундаментального изменения некоторых наших идей. Отчуждение человека от природного и человеческого мира поднимает одну из тех проблем, которая обсуждается в этом сборнике.
Давайте теперь выясним, что делают экзистенциальные аналитики, чтобы заново открыть человека как существо, взаимосвязанное с миром, и мир как значимый для человека. Они утверждают, что человек и его мир – это единое структурное целое. Дефис в словосочетании бытие-в-мире выражает как раз эту мысль. Два полюса – я и мир – всегда диалектически связаны. "Я" подразумевает мир, а мир – "я". Нет одного без другого, первое можно понять только посредством второго, и наоборот. Нет смысла говорить о человеке в его мире (хотя мы часто так делаем), как в первую очередь о пространственных отношениях. Фраза "спичка в коробке" действительно подразумевает пространственные отношения, но когда мы говорим о человеке, находящемся дома, на работе или в гостинице на берегу моря, то мы имеем в виду что-то совершенно иное[116].
Мир человека нельзя понять, описывая окружающую среду, причем неважно, насколько полным является наше описание. Как мы увидим ниже, окружающая среда – это только одна из форм мира. Говоря о человеке в окружающем мире или спрашивая, как окружающий мир влияет на человека, мы слишком упрощаем ситуацию. Даже с биологической точки зрения, как утверждает фон Уэкскюль (Von Uexkull), принятие множества окружающих миров оправданно. Он продолжает: "Существует не одно пространство и время, у каждого субъекта оно свое"[117]. Сколько еще будут думать, что у человеческого существа нет собственного мира? Однако мы сталкиваемся здесь с трудной проблемой: мы не можем ни описать мир в чисто объективных терминах, ни ограничиться нашим субъективным, воображаемым участием в происходящем вокруг нас, хотя это тоже часть бытия-в-мире.
Мир – это структура значимых отношений, в которых существует человек и в создании которых он принимает участие. Таким образом, мир состоит из прошлых событий, которые влияют на мое существование, и всего многообразия воздействующих на меня детерминистических сил. Но это я делаю их такими, так или иначе относясь к ним, сознавая их, пронося с собой, создавая и формируя, встраивая их в каждую минуту своих отношений. Сознавать чей-либо мир означает в то же самое время и создавать его.
Мир нельзя сводить только к влиянию прошлых событий. Он включает в себя все те возможности, которые открываются перед человеком. Нельзя сказать, что эти возможности просто представлены в той или иной исторической ситуации, поэтому мир не следует отождествлять с культурой. Культура – одна из его составляющих, но мир гораздо шире культуры. В него входят и Eigenwelt (собственный мир, который нельзя свести к простому усвоению культурных норм), и возможности, открывающиеся для индивида в будущем[118]. Шехтель пишет: "У человека возникла бы мысль о несметном богатстве и глубине мира, его возможных значениях для человека, если бы он знал все языки и культуры мира, и вся его личность была бы включена в это знание. Оно охватывало бы в исторически познаваемый мир человека, но не бесконечность будущих возможностей"[119]. Эта "открытость мира" – основное отличие мира человека от закрытых миров растений и животных. Она не отрицает конечности жизни. Нас всех ждет старость, дряхлость и смерть. Дело в том, что эти возможности даны в контексте случайности существования. Однако в динамическом смысле все эти будущие возможности – наиболее значимый аспект мира любого человека. Они представляют тот потенциал, с помощью которого человек "строит, конструирует мир" – так любят говорить экзистенциальные терапевты.
Мир никогда не бывает чем-то статичным, чем-то просто данным, что человек принимает, к чему он приспосабливается или с чем борется. Скорее, это динамическое образование, и пока я обладаю самосознанием, я нахожусь в процессе формирования и конструирования. Бинсвангер говорит о мире как о "том, к чему стремится существование, согласно чему оно строит себя"[120]. Далее он пишет: если дерево или животное привязаны к своей "программе" в отношениях с окружающей средой, то "человеческое существование не только имеет многочисленные возможности форм бытия, но и коренится в этом многообразии потенциальности бытия".
В этом сборнике есть глава Роланда Куна, где он показывает важность и полезность анализа мира пациента. Это случай Рудольфа, жестокого убийцы, стрелявшего в проститутку. Следует отметить, что в этот период Рудольф оплакивал смерть своего отца, в связи с чем Кун пытается понять "мир скорбящего". В заключение перед читателем предстает ясная и убедительная картина того, что Рудольф, стреляя в проститутку, скорбел о своей матери, которая умерла, когда ему было четыре года. Я думаю, что эту ясность и полноту понимания может дать только тщательное описание пациента-в-его-мире.
IV. ТРИ ФОРМЫ МИРА
Экзистенциальные аналитики различают три формы мира, три одновременных аспекта, которые характеризуют существование каждого из нас как бытие-в-мире. Во-первых, это Umwelt, буквально означающий "мир вокруг". Это биологический мир, который обычно называют окружающей средой. Во-вторых, это Mitwelt, буквально – "с миром". Это мир существ одного вида, мир наших соплеменников. В третьих, это Eigenwelt, "собственный мир", это форма отношений с собственным "я".
Первый, Umwelt, – это то, что мы в просторечии называем миром, то есть предметным миром вокруг нас, природным миром. У всех организмов есть Umwelt. У животных и человека Umwelt составляют биологические потребности, мотивы, инстинкты. Можно предположить, что это тот мир, в котором животное или человек продолжали бы существовать, если бы они не сознавали себя. Это мир природных законов и природных циклов сна и бодрствования, рождения и смерти, желания и покоя, мир конечности и биологического детерминизма, "мир заброшенных"[121], к которому каждый из нас как-то должен приспособиться. Экзистенциальные аналитики вовсе не отрицают реальность природного мира. "Природный закон так же ценен, как и все остальное" – так об этом говорит Кьеркегор. У экзистенциальных аналитиков нет ничего общего с Идеалистами, которые сводят материальный мир к эпифеномену, или с интуитивистами, идущими к чистому субъективизму, или с кем-либо еще, кто недооценивает значимость мира биологического детерминизма. Они настаивают на серьезном рассмотрении объективного природного мира, что сильно отличает их от представителей других направлений. Во время чтения их трудов у меня часто складывается впечатление, что они способны уловить суть Umwelt, материального мира, скорее, чем те, кто разделяет его на мотивы и субстанции. Это объясняется тем, что они не ограничиваются одним только Umwelt, а рассматривают его в контексте с человеческим самоосознанием[122]. Прекрасным примером данного положения является описанное Боссом понимание сна пациента об испражнениях и церковной колокольне. Экзистенциальные аналитики настаивают, что нельзя считать Umwelt единственной формой существования. Также чрезмерным упрощением и большим заблуждением является перенос категорий, соответствующих Umwelt, на другие области, а затем в это прокрустово ложе пытаются вместить все человеческое существование. В этом отношении экзистенциальные аналитики большие эмпирики, то есть с большим уважением относятся к феномену человека, чем механицисты или позитивисты.
Mitwelt – это мир взаимоотношений с человеческими существами. Но это понятие не следует путать с "влиянием группы на индивида", "коллективным разумом" или разнообразными видами "социального детерминизма". Главное отличие Mitwelt можно увидеть при сравнении стада животных с общиной людей. Говард Лидделл (Howard Liddell) говорит, что у его овцы "стадный инстинкт заключается в поддержании постоянства окружающей среды". За исключением периодов спаривания и кормления, стая собак и группа детей будут делать то же самое, что и овцы. Однако в человеческой группе взаимодействия гораздо более сложные, и значение других членов группы для данного индивида отчасти определяется его собственным отношением к ним. Строго говоря, у животных – окружающая среда, а у человека – мир. Мир имеет структуру значения, созданную взаимоотношениями людей друг с другом. Так, значение группы для меня отчасти зависит от того, как я себя в ней поставил. Также невозможно понять любовь на чисто биологическом уровне, понимание любви зависит от таких факторов, как личное решение и преданность другому человеку[123].
Категории "приспособления" и "адаптации" точно описывают Umwelt. Я адаптируюсь к холодной погоде и приспосабливаюсь к периодической потребности моего организма во сне. Здесь важно то, что погода не меняется в зависимости от моего приспособления к ней, точнее, на нее это вообще никак не влияет. Приспособление происходит между двумя объектами или между человеком и объектом. Но для Mitwelt категории приспособления и адаптации не точны. Здесь верен термин "отношение". Если я настаиваю на том, что другой человек приспосабливается ко мне, то я отношусь к нему не как к человеку, к Dasein, а как к средству. Даже если я приспосабливаюсь к самому себе, то я использую себя как объект. Нельзя быть точным, говоря о человеческих существах как о "сексуальных объектах", как, например, делает Кинси (Kinsey). Раз человек – это сексуальный объект, то вы говорите не о человеке. Сущность отношений заключается в том, что при встрече оба человека меняются. Если у людей нет серьезного заболевания и присутствует некоторая степень осознания, то в данных отношениях всегда взаимная осознанность. Это уже и есть процесс влияния встречи на людей.
Eigenwelt, или собственный мир, в современной психологии и глубинной психологии понят хуже всего. Будет справедливым сказать, что его практически полностью игнорируют. Eigenwelt предполагает самоосознание, самоотношение, оно есть только у человека. Но это не просто субъективное, внутреннее переживание. Это базис, на котором мы можем видеть реальный мир в его истинной перспективе, это основа наших отношений. Это понимание того, что какая-либо вещь в мире – этот букет цветов, этот человек – значит для меня. Судзуки (Suzuki) отмечал, что в восточных языках, например в японском, прилагательные всегда имеют значение "для меня", то есть "этот цветок красивый" означает, что "для меня этот цветок красивый". Наша западная дихотомия между субъектом и объектом привела нас как раз к обратному: мы считаем свое высказывание "цветок красивый" тем более полным и верным, чем больше мы сами от него отстранены, будто и не мы говорим это! Оставляя Eigenwelt в стороне, мы приходим не только к голому интеллектуализму и утрате витальности, но и к потере нашими современниками чувства реальности их переживаний.
Должно быть ясно, что эти три формы мира всегда взаимосвязаны, всегда обусловливают друг друга. Например, в каждый момент времени я существую в Umwelt, биологическом мире. Но то, как я отношусь к моей потребности во сне, погоде или любому другому инстинкту, то есть как в своем самосознании я вижу тот или иной аспект Umwelt, – вот решающий вопрос, определяющий значение этой формы для меня и мою реакцию. Человек одновременно живет в Umwelt, Mitwelt и Eigenwelt. Это три разных мира, но при этом это три одновременно существующих формы бытия-в-мире.
Из данного описания трех форм мира можно вывести несколько следствий. Во-первых, реальность бытия-в-мире теряется, если одна из этих форм значительно преобладает над другими. В этой связи Бинсвангер утверждает, что классический психоанализ имел дело только с Umwelt. Гениальность и ценность работы Фрейда заключается в открытии человека в Umwelt – мире инстинктов, влечений, случайностей и биологического детерминизма. В традиционном психоанализе понятие Mitwelt, мира взаимоотношений людей как субъектов, очень туманно. Кто-то может не согласиться с этим, утверждая, что в психоанализе присутствует Mitwelt, так как индивиды стремятся найти друг друга, чтобы избежать встречи с биологическими инстинктами, дать социальный выход движущимся силам либидо. Все это говорит о необходимости социальных взаимоотношений. Но здесь мы видим просто извлечение Mitwelt из Umwelt, Mitwelt превращается в эпифеномен Umwelt. Это означает, что на самом деле мы имеем дело не с Mitwelt, а с иной формой Umwelt.
Очевидно, что школы интерперсонализма имеют теоретический базис для работы непосредственно с Mitwelt. Это продемонстрировано в межличностной теории Салливана. Хотя Mitwelt и межличностные теории имеют много общего, их не следует отождествлять. Опасность заключается в том, что Eigenwelt опускается, а межличностные отношения становятся пустыми, выхолощенными. Хорошо известно, что Салливан возражал против концепции отдельной личности, он приложил огромные усилия, пытаясь определить "я" в терминах "отраженной оценки" и социальных категорий, например, через роли, которые играет человек в межличностном мире[124].
Теоретически, это утверждение страдает явной логической непоследовательностью и противоречит другому очень важному вкладу Салливана. Практически он превращает "я" в зеркало группы, лишая его собственной жизни и ценности, сводя межличностный мир к социальным отношениям. Это путь ведет к совершенно противоположным целям, а именно к социальной конформности. Mitwelt не включает в себя автоматически ни Umwelt, ни Eigenwelt. Но когда мы обращаемся к самому Eigenwelt, то оказываемся на неисследованной границе психотерапевтической теории. Что значит "я по отношению к себе"? Что происходит в феномене сознания, самосознания? Что происходит при инсайте, когда внутренний гештальт человека преобразовывает себя? Что на самом деле означает ""я", знающее себя"? Каждое их этих явлений случается со всеми нами почти в каждый момент времени. Они ближе к нам, чем наше собственное дыхание. Хотя, возможно, именно из-за их близости никто не знает, что происходит в этих случаях. Фрейд так и не увидел форму ""я" по отношению к себе". Вряд ли хоть одна школа уже достигла того уровня, на котором можно работать с Eigenwelt. Не вызывает сомнений, что в рамках нашей западной технологической занятости сложнее всего понять именно Eigenwelt. Возможно, что в ближайшие десятилетия в наибольшей степени прояснится именно область Eigenwelt.
С другой стороны, анализ форм бытия-в-мире дает нам основу для психологического понимания любви. Очевидно, что переживание любви нельзя адекватно описать в рамках Umwelt. Любовь изучают школы интерперсонализма, занимающиеся в основном Mitwelt. Их позицию отражает концепция Салливана о значении приятелей и анализ сложностей любви, который провел Фромм, в современном отчужденном обществе. Но есть основания сомневаться, есть ли у этих или других школ теоретический базис, позволяющий продвинуться дальше. Здесь уместно то же самое замечание: без адекватной концепции Umwelt любовь становится лишенной своих жизненных сил, а без Eigenwelt ей не хватает мощности и способности быть плодотворной[125].
В любом случае Eigenwelt нельзя опускать при понимании любви. Ницше и Кьеркегор все время настаивали на том, что любить предполагает стать "истинным индивидом", "единственным", тем, кто "постиг великую тайну – любя другого человека, надо быть достаточным для себя"[126]. Они, как и другие экзистенциалисты, не добивались любви для себя, а помогли провести психохирургические операции на представителях девятнадцатого века, которые позволили снять заблокированность и сделать возможной любовь. Кроме того, о любви часто говорят Бинсвангер и другие экзистенциальные терапевты. И хотя интереснее узнать, как следует вести себя с любовью в данном терапевтическом случае, тем не менее они дают нам теоретическую почву для адекватного обращения с любовью в психотерапии.
V. О ВРЕМЕНИ И ИСТОРИИ
Следующая заслуга экзистенциальных аналитиков – это их подход к проблеме времени. Они поражены тем фактом, что наиболее глубинные человеческие переживания, такие, как тревога, депрессия, радость, связаны больше со временем, а не с пространством. Они просто ставят время в центр психологической картины и изучают его не как аналогичное пространству измерение, а исследуют экзистенциальное значение самого времени для пациента.
Преимущества такого подхода видны в анализе случая, представленного в этом сборнике в статье Минковски[127]. Приехав в Париж после проведения своих курсов по психиатрии, внимание Минковски привлекло временное измерение, впоследствии разработанное Бергсоном при работе с пациентами[128]. Занимаясь случаем депрессивного пациента, страдающего шизофренией, Минковски замечает, что пациент не имел связи со временем, каждый его день был одиноким островом без прошлого и будущего, пациент был не способен почувствовать какую-либо надежду или чувство связанности с завтрашним днем. Очевидно, что ужасный бред пациента о грозящей ему расправе во многом был связан с его неспособностью оперировать будущим. Обычно психиатр говорит, что из-за своего бреда пациент не может установить связь с будущим, не может приспособиться ко времени и обстоятельствам. Минковски предлагает как раз обратное. Он спрашивает: "Напротив, разве мы не можем предположить, что более глубинным расстройством является искаженное отношение к будущему, а бред – лишь одно из его проявлений?" Минковски тщательно исследует этот вопрос. Безусловно, клиницисты будут обсуждать применение данного подхода к различным случаям. Однако бесспорно, что подход, предложенный Минковски, проливает свет на эти темные, неисследованные области времени. Он освобождает мысль клинициста от привычных оков, ограничивающих его мышление.
Согласно новому подходу ко времени, вначале мы видим наиболее важную черту существования – существование возникает, то есть оно всегда находится в процессе становления, всегда развивается во времени, его нельзя определить статически[129]. Экзистенциальные терапевты предлагают ввести в психологию понятие бытия вместо "быть", "находиться" или каких-либо еще фиксированных чуждых категорий. Хотя их понятия были разработаны несколько десятилетий назад, очень важно, что современные экспериментальные работы (например, работы Моурера и Лидделла) подтверждают эти выводы. В конце одной из своих самых значительных статей Моурер (Mowrer) утверждает, что время – это измерение, отличающее человеческую личность. "Подчинение времени", то есть способность перевода прошлого в будущее как часть всеобщей причинной зависимости, в которой действуют и реагируют все живые организмы вместе со способностью действовать в свете отдаленного будущего, – это "сущность разума и личности"[130]. Лидделл показал, что его овца способна придерживаться ритма (в предчувствии наказания) в течение 15 минут, собаки – в течение получаса. Но человек может переносить события тысячелетней давности из прошлого в настоящее и согласно этим данным управлять своими действиями. Он может проецировать себя в будущее в своем сознании, воображении не только на 15 минут, но на недели, годы, десятилетия. Эта способность – выходить за пределы настоящего момента, видеть свои переживания в далеком прошлом и нескором будущем, действовать и реагировать в этих измерениях, учиться у прошлого и формировать отдаленное будущее – является уникальной характеристикой человеческого существования.
Экзистенциальные терапевты согласны с Бергсоном в том, что "время – это сердце существования". Ошибочно думать о себе преимущественно в пространственных терминах, соответствующих res extensa, будто мы объекты, которые, как какие-то субстанции, можно разместить здесь или там. Из-за этого искажения мы теряем свои подлинные экзистенциальные отношения с собой и другими людьми. Бергсон говорит, что вследствие излишней сосредоточенности на пространственном мышлении "мы редко улавливаем собственную сущность, а следовательно, мы редко бываем свободными"[131]. Когда же мы учитываем время в Аристотелевском смысле, привычном для нашей западной мысли, то время – это то, что подсчитывается в движении в соответствии с тем, что было раньше и будет позже. В описании "часового времени" поражает то, что оно действительно сделано по аналогии с пространством. Лучше всего его можно понять, если думать о нем как о линии блоков или об упорядоченно расположенных точках на часах или календаре. Такой подход ко времени больше всего соответствует Umwelt, где мы рассматриваем человеческое существо как целостность посреди различных условий и детерминирующих сил природного мира, действующих на нее инстинктивных побуждений. Но в Mitwelt, мире личностных отношений и любви, количественное время имеет мало общего со значением происходящего. Например, характер или силу чьей-либо любви нельзя измерить количеством лет, то есть временем знакомства людей. Конечно, верно, что часовое время уместно в Mitwelt, многие люди продают свое время, получают почасовую оплату, их жизнь проходит по расписанию. Мы же говорим, скорее, о внутреннем значении событий. Страус приводит немецкую пословицу: "Счастливые часов не наблюдают". На самом деле самые важные события в психологическом существовании человека "немедленны", они прорываются через привычное равномерное течение времени.
Наконец, Eigenwelt, мир отношения к себе, самоосознания и проникновения в значение этого события для меня, не имеет практически ничего общего с часовым временем Аристотеля. Сущность самоосознания и инсайта заключается в том, что они "здесь" – мгновенны, немедленны, и момент осознания остается значимым во все времена. Это можно легко увидеть, заметив происходящее в себе в момент инсайта или во время переживания самопостижения. Инсайт происходит вдруг, он "рождается целиком", а не по частям. Человек обнаруживает, что можно час размышлять над инсайтом или искать его следствия – от этого он яснее не станет, более того, в конце размышлений он может стать еще менее понятным, чем в начале.
В результате своих наблюдений экзистенциальные психологи пришли к выводу, что наиболее сильные, глубокие психологические переживания как раз те, которые затрагивают отношение индивида ко времени. Сильная тревога и депрессия стирают время, уничтожают будущее. Или, как предполагает Минковски, расстройство понимания времени, неспособность пациента "иметь" будущее усиливает его тревогу и депрессию. Мы видим тесные связи между расстройством функции времени и невротическими симптомами. Вытеснение и другие процессы, блокирующие сознание, по сути, являются способами, гарантирующими невозможность достижения обычных связей прошлого с будущим. Для индивида удержание определенных аспектов прошлого в настоящем было бы слишком болезненным и небезопасным, поэтому ему приходится удерживать прошлое как чужеродное тело внутри себя, но не как свое. Это скрытое пятое колесо, прорывающееся в невротических симптомах.
Однако некоторые люди считают, что проблема времени имеет особое значение для понимания человеческого существования. Сначала читатель может согласиться с этим, но затем он почувствует, что при попытке понять время не в пространственных категориях, мы сталкиваемся с тайной. Он может разделять растерянность Августина: "Когда никто меня не спрашивает, который час, то я знаю; но когда я отвечаю, я не знаю"[132].
Еще один вклад экзистенциальных аналитиков в эту проблему состоит в том, что, поставив время в центр психологической картины, они выдвинули будущее, а не прошлое или настоящее, главным темпоральным модусом человеческих существ. Личность можно понять только на ее пути к будущему. Человек может понять себя, только представляя себя в будущем. Это следует из того факта, что человек – существо всегда развивающееся, всегда стремящееся в будущее. "Я" надо увидеть в его потенциальности. Кьеркегор писал: ""Я", каждый момент его существования, находится в процессе становления, так как "я"... это только та, что должно стать". Экзистенциалисты не подразумевают под этим "отдаленное будущее" или будущее как форму бегства от прошлого или настоящего. Они лишь хотят сказать, что человеческое существо, обладающее самоосознанием и не обессиленное тревогой, невротической скованностью, всегда находится в динамическом процессе самоактуализации, самоисследования, самосозидания и движения в ближайшее будущее.
Они не отвергают прошлого. Экзистенциалисты утверждают, что его можно понять лишь в свете будущего. Прошлое – это территория Umwelt, случайных, природно-исторических, детерминирующих сил, действующих на нас. Но так как мы живем не только в Umwelt, то мы никогда не являемся жертвами автоматического давления прошлого. Детерминирующие события прошлого берут свое значение из настоящего и будущего. Как говорил Фрейд, мы тревожимся, как бы чего не случилось в будущем. Ницше называл "слово из прошлого говорящим оракулом". "Вы можете понять его только как строители будущего, как знающие настоящее". Любое переживание носит исторический характер, но с прошлым нельзя обращаться механистически. Прошлое – это не "сейчас, которое было", не набор отдельных событий, не статичное хранилище воспоминаний или прошлых впечатлений. Прошлое – это область случайностей, где мы принимаем и откуда отбираем события, чтобы восполнить нашу потенциальность, получить удовлетворение и безопасность в ближайшем будущем. Эта зона прошлого, природной истории и, как говорит Бинсвангер, "заброшенности" является той формой, которую стал изучать и исследовать классический психоанализ.
Но исследуя в психоанализе прошлое пациента, мы замечаем два любопытных факта. Во-первых, это явление, которое мы наблюдаем каждый день: пациент несет с собой события прошлого, количественно мало связанные с теми событиями, которые действительно произошли с ним, когда он был ребенком. Он помнит одну вещь, а тысячи других забыл, даже те, которые происходили очень часто, например подъем утром. Альфред Адлер любил говорить, что память – творческий процесс, мы помним события, значимые для нашего стиля жизни, а вся форма памяти – это отражение индивидуального стиля жизни. То, чем человек хочет стать, определяет его воспоминания о том, кем он был. В этом смысле будущее определяет прошлое.
Во-вторых, сможет ли пациент вспомнить значение событий прошлого, зависит от его решения, относящегося к будущему. Каждый терапевт знает, что у пациентов могут быть воспоминания ad interminum, которые никогда не волнуют этих пациентов. Их повествования о памятных событиях монотонны, непоследовательны, скучны. С экзистенциальной точки зрения проблема не в том, что у всех этих пациентов неинтересное, невыразительное прошлое, а в том, что они не могут или не хотят посвятить себя настоящему и будущему. Их прошлое не оживает, потому что с ними ничего не происходит в будущем. Для открытия реальности прошлого необходима некоторая надежда и увлеченность в работе по изменению чего-либо в ближайшем будущем, будь то преодоление тревоги или других болезненных симптомов или интегрирование "я" для развития творческих способностей.
Наш практический вывод из этого анализа заключается в том, что психотерапия не может остановиться на обычных механических доктринах исторического прогресса. Экзистенциальные аналитики очень серьезно относятся к истории[133], но они выступают против любого избегания ведущих к тревоге вопросов настоящего, против попытки спрятаться от них за детерминизмом прошлого. Они не согласны с тем, что индивидом механически движут исторические силы, неважно, принимают ли эти идеи вид религиозных убеждений о предназначенности или провидении, искаженной марксистской доктрины исторического материализма, различных детерминистических доктрин в психологии или широко распространенной в нашем обществе вере в неизбежный технический прогресс (форму исторического детерминизма). Кьеркегор очень выразительно написал об этом:
"Одно поколение может многому научиться у другого, но ни одно поколение не может усвоить от предыдущего того, что является истинно человеческим... Так, ни одно поколение не может научиться у другого любить, каждое поколение начинает с нуля, его задача ничуть не сокращается по сравнению с предыдущим... В этом отношении каждое поколение начинает примитивно, его задача не отличается от задач всех предыдущих поколений, и оно не добивается большего, за исключением случаев, когда предыдущее поколение уклоняется от решения задачи и занимается самообманом"[134].
Этот вывод тесно связан с психотерапией, поскольку популярное мнение часто делает из психоанализа и других форм психотерапии новый технический авторитет, который может принять на себя всю тяжесть познания человеческой любви. На самом деле все, что может сделать психотерапия – это помочь человеку устранить препятствия на пути к любви. Она не может любить за него. Она нанесет человеку больший вред, если уменьшит его ответственность и притупит осознанность в этом вопросе.
Последний вклад экзистенциального анализа времени – это понимание процесса инсайта. Кьеркегор использует термин Augenblick, буквально означающий "мигающий глаз". Обычно его переводят как "момент готовности (прегнантности)". Это момент, когда человек в настоящем вдруг постигает значение прошлого или будущего события. Эта прегнантность не чисто интеллектуальный акт. Постижение нового значения всегда представляет возможность и необходимость некоторого личностного решения, изменения гештальта, новую направленность человека к миру и будущему. Большинство людей переживает инсайт как момент наивысшей осознанности. В психологической литературе он описывается как "ага"-переживание. На философском уровне Пауль Тиллих описывает это как момент, когда "вечность касается времени", в связи с чем он разработал понятие Kairos – исполненное время.
VI. ТРАНСЦЕНДИРОВАНИЕ НАЛИЧНОЙ СИТУАЦИИ
Здесь мы намерены обсудить последнюю характеристику человеческого существования (Dasein), а именно, способность трансцендировать наличную ситуацию, выходить за ее пределы. Если кто-то пытается изучать человека как смесь различных субстанций, то ему необязательно принимать во внимание тот факт, что существование всегда находится в процессе самотрансцендирования, выхода за свои наличные пределы. Но если мы собираемся понимать данного человека как существующего, динамичного, находящегося в каждый момент времени в процессе становления, то мы должны это учитывать. Эта способность уже установлена в термине "существовать", то есть "выделяться из". Существование подразумевает беспрерывное возникновение в смысле эволюции, трансцендирования, выхода из прошлого и настоящего в будущее. Transcendere – буквально "перевосходить" или "выходить за пределы", означает, что в каждый момент времени человек участвует в том или ином действии, если он не болен или не подавлен отчаянием, тревогой. Эту эволюцию можно наблюдать во всех жизненных процессах. Мудрый Заратустра со страниц известной работы Ницше провозгласил: "Жизнь сама рассказала мне этот секрет. "Смотри, – сказала она, – я то, что всегда должно превосходить себя"". Но это гораздо более справедливо для человеческого существования, так как способность самоосознания качественно увеличивает спектр сознания, следовательно, значительно расширяет круг возможностей трансцендирования, выхода за пределы наличной ситуации.
Термин "трансцендирование", который нередко встречающийся в последних главах, часто понимается неправильно и вызывает сильное неприятие[135]. В Америке данный термин используется для описания неясных или неземных вещей, о которых, по словам Бэкона, лучше изъясняться языком "поэзии, где запредельное более уместно", или ассоциируются с априорными утверждениями Канта, с трансцендентализмом Новой Англии, с потусторонним миром религии, короче говоря, с чем-то неэмпирическим и не связанным с действительным опытом. Мы же подразумеваем нечто иное. Предполагалось, что данное слово утратило свою полезность и надо найти ему иное применение. Было бы замечательно, если бы можно было найти такое применение, которое бы адекватно описывало чрезвычайно важное наличное эмпирическое переживание человека. Именно так понимают этот термин Гольдштейн и другие экзистенциальные авторы. Любое верное описание человеческих существ требует принятия во внимание переживания. Некоторые проблемы, связанные с употреблением этого слова, вызваны тем, что оно выводит любую тему за пределы той области, в которой это слово обсуждается. Надо признать, что такие сложности были в некоторых статьях, особенно в тех, где трансцендентальные категории Гуссерля использовались без объяснения их значения. Другие, менее обоснованные возражения связаны с тем, что способность к выходу за пределы наличной ситуации подразумевает четвертое измерение, измерение времени, которое доставляет немало хлопот некоторым исследователям. Оно представляет серьезную угрозу традиционному способу описания человеческих существ как статичных субстанций. Этот термин также отвергают те, кто не проводит различия между поведением животных и человека, кто понимает психологию человека только в терминах механической модели. Данная способность представляет трудности для этих направлений, так как она является уникальной характеристикой человека.
Классическое описание нейробиологической основы способности к трансцендированию можно найти у Курта Гольдштейна. Гольдштейн обнаружил, что у пациентов с поражениями мозга – в основном это были солдаты с удаленными сегментами лобной коры – была утрачена способность абстрагирования, мышления в терминах "возможного". Они были привязаны к конкретной наличной ситуации текущего момента. Когда в их шкафчиках обнаруживался беспорядок, у пациентов наблюдалась сильная тревога и расстройство поведения. Они страдали от навязчивого стремления к порядку, таким образом, в каждый момент времени они удерживали себя в рамках наличной ситуации. Когда их попросили написать свои имена на листе бумаги, то они писали их в самом углу, любое отступление от границ края представляло слишком большую угрозу. Казалось, им угрожал распад "я", если они выходили из конкретной наличной ситуации, складывалось впечатление, что они могли "быть собой", только ограничивая свое "я" конкретным пространством. Гольдштейн утверждает, что отличительная способность нормального человека – это как раз способность к абстрагированию, к использованию символов, способность ориентировать себя за пределы наличного пространства и времени, способность думать в терминах "возможного". Круг возможностей у "больных" пациентов (пациентов с поражениями) значительно сужался. Их пространство было урезано, время сокращено, шаг за шагом они утрачивали свободу.
Примеры способности нормальных людей выходить за пределы настоящей ситуации можно найти во всех типах поведения. Во-первых, это способность выходить за пределы настоящего момента и привносить в наличное существование далекое прошлое и отдаленное будущее. Во-вторых, это уникальная человеческая способность думать и говорить, используя символы. Здравый смысл и использование символов коренятся в способности отстраняться от конкретных объектов, скажем, от этого стола, за которым сидит моя машинистка, букв, составляющих слово "стол", и соглашения со всеми людьми в том, что это слово означает целый класс предметов.
Эта способность особенно видна в социальных отношениях, в нормальных отношениях человека с группой людей. На самом деле все здание доверия и ответственности в человеческих отношениях предполагает способность индивида "видеть себя так, как его видят другие", как утверждал Роберт Бернс, видеть себя как оправдывающего ожидания своих соплеменников, действующего ради их благосостояния. Так же как эта способность выходить за пределы ситуации уменьшается в Umwelt пациентов с поражениями мозга, она уменьшается и в Mitwelt пациентов с психопатическими расстройствами. Таких людей описывают как лишенных способности видеть себя глазами других, или эта способность у них недостаточно развита, а также, что им не хватает совести. Довольно значимое слово "совесть" (conscience) во многих языках совпадает со словом "сознание" (consciousness), оба эти слова означают сознание. Ницше говорил, что "человек – это животное, которое дает обещания". Он не имел в виду обещания в смысле социального давления или простого усвоения социальных требований (это слишком упрощенный способ описания совести, подобные ошибки возникают при разведении Mitwelt и Eigenwelt). Скорее, он имел в виду, что человек может сознавать факт обещания, может видеть себя как человека, пришедшего к какой-либо договоренности. Таким образом, обещание предполагает сознательное самоотношение и сильно отличается от простого условного социального поведения, то есть действий, отвечающих требованиям группы, стаи или пчелиного роя. Похожие идеи мы находим и у Сартра, который пишет, что нечестность – это форма поведения, свойственная только человеку: "ложь – это трансцендентное поведение".
Примечательно, что при описании человеческих действий в английском языке используется огромное количество разных слов с приставкой re- – re-sponsible (ответственный), re-collect (вспоминать), re-late (относиться) и т.п. Последний анализ показал, что все они подразумевают и основываются на способности возвращаться к состоянию самого себя, выполняющего какие-то действия. Это можно хорошо увидеть на примере исключительно человеческой способности быть ответственным (слово делится на две части – re и sponsible, последняя близка к слову "sponsion" – "обязательство, обещание"), означающей, что на человека можно положиться, что он может пообещать отдать, ответить. Эрвин Страус описывает человека как "сомневающееся существо", как организм, который в самый момент своего существования может усомниться в себе и в собственном существовании[136]. На самом деле все экзистенциальное направление основывается на том любопытном явлении, что человек – это существо, которое не только может, но и должно, если он сознает себя, подвергнуть сомнению собственное существование. В связи с этим можно увидеть, что обсуждение динамизмов социального приспособления, таких, как "интроекция", "отождествление" и т.п., совершенно неуместно и чрезмерно упрощено, если упускается самое главное, а именно, способность человека осознавать, что он – тот, кто отвечает социальным ожиданиям, тот, кто выбирает (или не выбирает) какую-то модель для собственного стимулирования. Это разграничение между механической социальной конформностью, с одной стороны, и свободой, оригинальностью, творчеством подлинной социальной реакции, – с другой. Последнее является исключительно человеческим свойством, свойством человека, который действует в свете "возможного".
Самоосознание подразумевает самотрансцендирование. Одно без другого не существует. Большинство читателей должно понимать, что способность выходить за пределы наличной ситуации предполагает Eigenwelt, то есть форму поведения, в которой человек видит себя одновременно и субъектом и объектом. Способность трансцендирования наличной ситуации является неотделимой частью самоосознания. Очевидно, что сознавание себя как существующего в мире подразумевает способность отстраниться, посмотреть на себя и на ситуацию, оценить их, а затем стимулировать себя бесконечным разнообразием возможностей. Экзистенциальные аналитики утверждают, что способность человеческого существа трансцендировать наличную ситуацию очевидна, как самый центр человеческого существования, ее нельзя не заметить, просмотреть, не исказив при этом, не сделав нереальной общую картину человека. Это особенно верно в отношении тех данных, которые мы получаем в ходе психотерапии. Все специфические невротические феномены, такие, как расщепление бессознательного и сознательного, вытеснение, блокирование сознавания, самообман с помощью разнообразных симптомов, ad interminum, это неправильно использованные, невротические формы базовой способности человека относиться к себе и своему миру как к субъекту и объекту одновременно. Лоуренс Кубье (Lawrence Kubie) писал: "Невротический процесс всегда символичен: расщепление взаимодействующих потоков сознательного и бессознательного начинается приблизительно тогда, когда у ребенка появляются зачатки речи... Невротический процесс – это цена, которую мы платим за наше человеческое наследие, за нашу способность представлять переживание и передавать мысли с помощью символов..."[137] Сущность использования символов, как мы пытались показать, – это способность трансцендировать конкретную наличную ситуацию.
Теперь нам ясно, почему Медард Босс и другие экзистенциальные психологи считают способность к выходу за пределы наличной ситуации основной характеристикой существования, свойственной только человеку. "Трансцендирование и бытие-в-мире – это имена одой и той же структуры Dasein, основа любого отношения и поведения"[138]. В этой связи Босс критикует Бинсвангера за то, что тот перечисляет различные виды "трасцендирования" – "трансцендирование любви", "трансцендирование заботы". По мнению Босса, это излишнее усложнение, нет смысла говорить о "трансцендировании" во множественном числе. Он утверждает, что мы можем говорить только о том, что у человека есть способность к трансцендированию наличной ситуации, потому что у него есть способность к Sorge, то есть к заботе, точнее говоря, к пониманию своего бытия и ответственности за него. (Этот термин взят у Хайдеггера, он является фундаментальным для экзистенциальной мысли. Часто его употребляют как Fursorge, что означает "попечение", "беспокойство о благополучии".) Для Босса Sorge – это всеобъемлющее понятие, включающее любовь, ненависть, надежду и даже равнодушие. Все отношения – это способы поведения в Sorge или его утрата. Босс считает, что способность человека иметь Sorge и трансцендировать наличную ситуации – это две стороны одного и того же явления. К сожалению, для этого фундаментального понятия (нем. Sorge, англ. concern) в русском языке нет прямых соответствий. Это не участливое отношение к кому-то или чему-то ("забота о"), но скорее "вовлечение в", "неравнодушие к", "занятость этим", "обращенность к", "направленность на", – одним словом, интенция. – В.Д.
Мы бы хотели подчеркнуть здесь, что способность к трансцендированию – не одна в ряду многих. Она дана в онтологической природе бытия человека. Доказательством тому служат умение абстрагировать, объективировать, но, как говорит Хайдеггер, "трансцендирование не состоит из объективации, но объективация предполагает трансцендирование". Способность человека тем или иным образом относиться к себе дает ему возможность объективировать его мир, думать и говорить символами и т.д. Так считает Кьеркегор. Он напоминает нам: чтобы понять себя, мы должны ясно представлять, что "воображение – это не одна из многих способностей, но это способность instar omnium (всех способностей). Чувство, знание или воля человека в конечном счете зависят от воображения, от того, как отражаются эти вещи... Воображение – это возможность всякой рефлексии, и глубина этого средства есть возможность глубины "я""[139].
Нам остается только в более простой форме изложить сказанное выше, а именно: способность трансцендировать наличную ситуацию является основой человеческой свободы. Уникальное качество человеческого существа – широкий спектр возможностей в любой ситуации, которые, в свою очередь, зависят от самоосознания, от его способности в воображении перебирать различные способы реагирования в данной ситуации. Бинсвангер, обсуждая метафору фон Уэкскюля о различных окружающих мирах дерева в лесу: для древесного жучка, для дровосека, собирающегося его срубить, для романтичной девушки, прогуливающейся в лесу и т.д., говорит о том, что отличительной чертой человека является его способность один день быть романтичным любовником, другой – дровосеком, а третий – художником. В таком многообразии человек может выбирать среди многих видов отношений между миром и "я". "Я" – это способность видеть себя в многообразии этих возможностей. Эта свобода по отношению к миру, – продолжает Бинсвангер, – признак психически здорового человека; жесткая ограниченность одним миром, как в случае Эллен Вест, – признак психического расстройства". По мнению Бинсвангера, самой важной является "свобода в созидании мира" или "разрешение миру быть". Он заключает: "Сущность свободы как необходимости в существовании лежит так глубоко, что она может обходиться и без самого существования"[140].
VII. НЕКОТОРЫЕ ПОЯСНЕНИЯ К ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ ТЕХНИКЕ
Те, кто читает работы по экзистенциальному анализу как руководство по технике, будут разочарованы. Они не найдут там специально разработанных практических методов. Например, главы этой книги больше напоминают чистую науку, нежели прикладную. Читатель также обнаружит, что многих экзистенциальных аналитиков не очень интересуют вопросы техники. Одна из причин этого – новизна подхода. Роланд Кун, отвечая на наш вопрос о технике в некоторых ее значимых случаях, писал, что так как экзистенциальный анализ – относительно новая дисциплина, то у нее не хватило времени на разработку терапевтических техник.
Но есть другая, более глубинная причина того, что психиатры не занимаются формулированием технических подробностей и никак не объясняют этот факт. Экзистенциальный анализ – это способ понимания человеческого существования, и представители этого направления полагают, что одно из главных (если не самое главное) препятствий к пониманию человеческих существ в западной культуре – это чрезмерный акцент на технике, тенденция видеть человеческое существо как объект, которым можно управлять, которой можно "анализировать"[141]. У нас было принято думать, что понимание следует за техникой. Если у нас правильная техника, то мы можем разгадать загадку пациента, или, как обычно говорят с удивительной проницательностью, мы можем "получить телефонный номер еще одного пациента". В экзистенциальном направлении утверждается как раз обратное: техника следует за пониманием. Центральная задача, за которую отвечает терапевт, – понять пациента как существо и бытие-в-мире. Все технические вопросы подчинены этому пониманию. Без понимания технические методы в лучшем случае нейтральны, в худшем – они "структурируют" невроз. Вместе с пониманием главная задача терапевта – помочь пациенту узнать и пережить собственное существование – это центральный процесс терапии. Однако роль техники ни в коем случае не умаляется, ее описание лишь переносится в перспективу.
Составляя этот сборник, мы столкнулись с проблемой изложения информации о том, что экзистенциальный терапевт на самом деле делает в ситуациях терапии. Мы продолжали задаваться этим вопросом, так как знали, что американским читателям это будет особенно интересно. Понятно, отличительные характеристики экзистенциальной терапии не тождественны тому, что должен делать терапевт, скажем, имея дело с тревогой, сопротивлением, сбором данных анамнеза и т.д. Это, скорее, контекст его терапии. То, как экзистенциальный терапевт проинтерпретирует конкретный сон или вспышку гнева у пациента, может не отличаться от толкований классического психоаналитика. Но контекст экзистенциальной терапии будет совершенно иным; она всегда будет фокусироваться на том, как этот сон проливает свет на существование этого пациента в своем мире, что он свидетельствует о том, где пациент находится в данный момент, куда он движется и т.д. Смысл контекста в том, что пациент – это не набор психических механизмов, а человеческое существо, которое выбирает, доверяет, идет к чему-то прямо сейчас. Контекст динамичен, реален, он существует сейчас.
Я попытаюсь прояснить некоторые моменты, связанные с терапевтической техникой, опираясь на знание, полученное из работ экзистенциальных терапевтов, и на собственный опыт общения с ними, учитывая, что я терапевт, воспитанный в традициях психоанализа в широком смысле этого слова[142]. Систематическое заключение по этому вопросу было бы преждевременным, но я надеюсь, что в последующем изложении будут сделаны хотя бы некоторые важные для терапии выводы. В любом случае должно быть ясно, что действительно значимый вклад этого направления – его глубинное понимание человеческого существования; нельзя говорить только о техниках без опоры на понимание в каждом вопросе.
Первое замечание касается разнообразия техник, используемых экзистенциальными терапевтами. Босс, например, задействует кушетку и свободные ассоциации в традиционной манере Фрейда, а также работает с переносом. У других терапевтов техники различаются настолько, насколько различаются школы. Но здесь важно отметить, что у экзистенциальных терапевтов есть определенная причина для использования той или иной конкретной техники с тем или иным конкретным пациентом. Они подвергают сомнению применение техник только из-за привычки, обычая или традиции. Их направление не принимает атмосферу туманности и нереальности, которая окружает многие терапевтические сессии, особенно в эклектических школах, которые, как считается, освободили себя от рамок традиционной техники и взяли понемногу от каждой школы, не обращая внимания на теоретические положения этих школ. Экзистенциальную терапию отличает чувство реальности и конкретности.
Я бы перефразировал сказанное выше следующим образом: экзистенциальная техника должна быть гибкой и разнообразной, изменяющейся от пациента к пациенту и от одного периода терапии к другому у одного и того же пациента. Выбирать технику следует, опираясь на следующие вопросы. Что раскроет существование данного пациента в данный момент его истории наилучшим образом? Что лучше всего осветит его бытия-в-мире? Это не эклектизм, такая гибкость всегда подразумевает ясное понимание основ любого метода. Предположим, Кинсейт (Kinseyite), классический фрейдист, и экзистенциальный аналитик работают со случаем сексуального вытеснения. Кинсейт говорил бы о поиске сексуального объекта, он не говорил бы о сексе между людьми. Классический фрейдист видел бы психологические следствия этого вытеснения, но искал бы он преимущественно в прошлом причины этого вытеснения. Он бы задавался вопросом, как этот случай сексуального вытеснения – вытеснения самого по себе – можно разрешить. Экзистенциальный терапевт рассматривал бы сексуальное вытеснение как ограничение потенциала существования этого человека. В зависимости от обстоятельств он мог бы немедленно начать работу с сексуальной проблемой как таковой. Он видел бы в ней не механизм вытеснения, а ограничение бытия-в-мире этого человека.
Второе: психологический динамизм всегда приобретает свое значение из экзистенциальной ситуации жизни пациента. Здесь будет уместно вспомнить работу Медарда Босса, чья маленькая книжка по экзистенциальной психотерапии и психоанализу была опубликована сразу после подготовки к печати этой главы[143]. Босс утверждает, что практика Фрейда была верной, но теоретическое объяснение практики было неверным. Используя технику Фрейда, Босс ставит теории и концепции традиционного психоанализа на фундаментальный экзистенциальный базис. Например, Босс высоко ценит открытие переноса. На самом деле пациент-невротик не "переносит" свои чувства по отношению к матери или отцу на жену или терапевта. Скорее, невротик – это человек, который в определенных областях никогда не развивался, не выходил из детских форм переживания. Следовательно, потом он воспринимает свою жену или терапевта через те же самые ограничивающие, искажающие очки, через которые он видел своего отца или мать. Эту проблему надо понять в терминах восприятия и отношения к миру. Такое понимание делает ненужным понятие переноса в смысле перемещения отстраненных чувств от одного объекта к другому. Новое основание этого понятия освобождает психоанализ от груза нерешаемых проблем.
Рассмотрим также такие виды поведения, как вытеснение и сопротивление. Фрейд считал, что вытеснение связано с буржуазной моралью, особенно в том случае, если пациенту необходимо было сохранять приемлемую картину себя, следовательно, ограничивать те мысли, желания и т.д., которые были неприемлемы для буржуазного морального кодекса. По мнению Босса, конфликт лежит в иной области – в сфере принятия или отвержения пациентом собственной потенциальности. Мы должны держать в уме вопрос: что мешает пациенту в свободных условиях принять свою потенциальность? Может быть и буржуазная мораль, но здесь есть и нечто гораздо большее, что ведет нас к экзистенциальной проблеме личностной свободы. До того как вытеснение станет возможным или осмысленным, у человека должны быть возможности принятия или отвержения, то есть должен быть некоторый запас свободы. Сознает ли человек эту свободу, может ли он ее выразить в ясной форме – это другой вопрос, он не нуждается в этом. Вытеснить означает перестать сознавать свободу, такова природа динамизма. Так, вытеснение или отрицание этой свободы уже предполагает ее как возможность. Затем Босс указывает, что психологический детерминизм всегда является вторичным феноменом и работает Только в ограниченной области. Самый первый же вопрос – как человек относится к своей свободе, выражая потенциальность, а вытеснение – лишь один из способов такого отношения.
Что касается сопротивления, то Босс опять спрашивает: что делает этот феномен возможным? Он отвечает, что это результат стремления со стороны пациента быть принятым в Mitwelt, вернуться в состояние das Man, стать безличной массой, отказаться от уникальной и оригинальной потенциальности, какой он является. Подобная социальная конформность – обычная форма сопротивления; даже принятие пациентом доктрин и интерпретаций терапевта может быть выражением сопротивления.
Здесь мы не хотим разбирать вопрос о том, что лежит в основе этого феномена. Мы только, хотим показать, что, рассматривая динамизмы переноса, сопротивления и вытеснения, Босс проделывает очень важную для экзистенциального направления работу. Он помещает каждый динамизм на онтологический базис. Он видит и понимает каждый тип поведения в свете экзистенции пациента как человеческого существа. Босс демонстрирует это, описывая мотивы, либидо и т.п. в терминах потенциальности для существования. Он предлагает "выбросить за борт болезненные интеллектуальные изощрения устаревшей психоаналитической теории, которая выводила феномен из игры некоторых сил или побуждений за ее спиной". Он не отрицает этих сил как таковых. Босс утверждает, что их нельзя понимать как трансформацию энергии или согласно иной естественно-научной модели. Их можно понять только как человеческий потенциал существования. "Такое освобождение от ненужных построений облегчает понимание между пациентом и врачом, заставляет исчезнуть псевдосопротивление, которое было оправданной защитой пациента против насилия над его сущностью". Босс утверждает, что таким образом он может следовать "основному правилу" анализа – одному условию, которое поставил для анализа Фрейд, а именно, тому, что пациент может абсолютно честно говорить о том, что он думает, – более эффективно, чем в традиционном психоанализе, так как он с уважением слушает и серьезно относится к тому, что говорит пациент. Он не просеивает содержание рассказываемого пациентом через сито предубеждений и не разрушает его различными интерпретациями. Босс утверждает, что он всецело предан Фрейду, он просто пытается показать истинное значение открытий Фрейда и поместить их на необходимый фундамент понимания. Полагая, что открытия Фрейда следует понимать глубже их неверных формулировок, он говорит, что сам Фрейд не был просто пассивным зеркалом для пациента в ходе анализа. Он был "полупрозрачным" устройством, посредником, через которого пациент видел самого себя.
Третье замечание касается акцента на присутствии в экзистенциальной терапии. Под присутствием мы подразумеваем, что отношение терапевта и пациента рассматриваются как настоящие. Терапевт – это не просто "зеркало", а живое человеческое существо, которое в этот час занято не собственными проблемами, а пониманием и переживанием, насколько это возможно, бытия пациента. Наше обсуждение фундаментальной экзистенциальной идеи правды-в-отношениях[144] подготовило почву для этого акцента на присутствии. Там было сказано, что экзистенциальная правда всегда подразумевает отношение человека к чему-то или к кому-то и что терапевт – часть "поля" отношений пациента. Мы также обозначили, что для терапевта это не только лучший способ понимания пациента, но он просто не может увидеть пациента, не приняв участия в этом поле отношений.
Мы приводим здесь несколько цитат, чтобы пояснить значение присутствия. Карл Ясперс отмечал: "Что мы теряем! Какие возможности понимания мы упускаем, потому что в единственно решающий момент нам, несмотря на все наши знания, не хватило простой силы полного человеческого присутствия!"[145] Об этом же, но более подробно, пишет Бинсвангер в своей работе по психотерапии, рассматривая значимость роли терапевта в этих отношениях:
"Если такое (психоаналитическое) лечение терпит неудачу, то аналитик склонен думать, что пациент не способен преодолеть свое сопротивление врачу как "образу отца". Успех анализа часто определяется вовсе не способностью пациента справиться с таким перенесенным образом отца, а возможностью, которую предоставляет ему данный конкретный терапевт. Другими словами, отвержение терапевта как человека, невозможность установления подлинного взаимопонимания с ним препятствует прорыву через "вечное" повторение отцовского сопротивления. Пойманная в сети механизма и присущего ему механического повторения, психоаналитическая доктрина, как мы знаем, оказывается абсолютно слепа ко всей категории нового, собственно творческого в жизни души. Безусловно, это неверно в том случае, если аналитик приписывает неудачу лечения только пациенту, он всегда должен сначала спросить себя, не его ли это вина. Здесь подразумевается не какая-то техническая вина, но гораздо более фундаментальная ошибка – неспособность пробудить, вернуть к жизни божественную "искру" в пациенте. Эту "искру" может раздуть только подлинное общение одной экзистенции с другой. Только у этой "искры", у ее света и тепла есть базисная сила, заставляющая работать любую терапию. Эта сила освобождает человека от слепой изоляции, от idios kosmos Гераклита, от прозябания его тела, мечтаний, личных желаний, от тщеславия и самонадеянности, она подготавливает его к жизни koinonia, истинной общины"[146].
Присутствие не следует путать с сентиментальным отношением к пациенту, оно зависит от того, как терапевт понимает человека. Это присутствие "мыйности" находим у терапевтов разных школ и разных теоретических убеждений, различающихся в любых вопросах, кроме главного – является ли человеческое существо объектом, который надо проанализировать, или человек – это существо, которое надо понять. Любой терапевт со всеми своими техническими навыками, знанием переноса и динамизмов, экзистенциален в той степени, в какой он способен относиться к пациенту как к "одной экзистенции, общающейся с другой", говоря словами Бинсвангера. По моему опыту, Фрида Фромм-Райхман обладала этой силой во время терапевтического часа. Она обычно говорила: "Пациенту нужен опыт, а не объяснения". Эрих Фромм не только подчеркивал роль присутствия, так же как это делал Ясперс, но и сделал его центральной идеей своего психоаналитического учения.
Карл Роджерс, который, насколько я знаю, никогда прямо не общался с экзистенциальными терапевтами, написал в apologia pro vita sua экзистенциальный по своей сути отрывок:
"С энтузиазмом начинаю терапевтические отношения, с убеждением или верой, что моя симпатия, мое доверие и мое понимание внутреннего мира другого человека приведут к очень важному процессу его становления. Я начинаю отношения не как ученый, не как врач, который ставит точный диагноз и лечит, а как человек, начинающий личностные отношения. Если я буду видеть в клиенте только объект, то он и станет только объектом.
Я рискую, потому что если по мере углубления отношений они терпят неудачу, ведут к регрессии, к отвержению меня и самих отношений, тогда я чувствую, что теряю себя или часть себя. Временами этот риск очень реален и очень остро переживается.
Я позволяю себе погружаться в наличную данность этих отношений, я участвую в них всем своим организмом, а не только сознанием. У меня нет сознательно запланированных, аналитических реакций, я отвечаю другому индивиду не рефлексируя, мои реакции основываются (но не сознательно) на чувствительности всего моего организма по отношению к этому человеку. Я проживаю отношения на этой основе"[147].
Между Роджерсом и экзистенциальными терапевтами есть отличия, например, большинство его работ основано на относительно коротких терапевтических отношениях, тогда как работа экзистенциальных терапевтов обычно более длительна. Точка зрения Роджерса более оптимистична, экзистенциальные терапевты в большей степени ориентированы на трагедию жизненных кризисов и т.п. Важно то, что основные идеи Роджерса о терапии как процессе становления, о свободе и внутреннем росте индивида – очень значимы, в работах Роджерса в неявной форме присутствуют утверждения о достоинстве человеческого существа. Все эти понятия очень близки экзистенциальному подходу.
Прежде чем перейти к следующей теме, мы должны сказать о трех "но". Во-первых, выделение роли отношений ни в коей мере не является упрощением. Оно не заменяет дисциплину и основательность обучения. Оно дает контекст: дисциплина и основательность обучения направлены на понимание людей как человеческих существ. Терапевт – это эксперт, но в первую очередь он должен быть человеком, иначе вся его компетентность будет не нужной, а то и вредной. Экзистенциальный подход отличается тем, что понимание бытия человека не просто дар, интуиция или дело случая, это "надлежащее изучение человека", как говорит Александр Поуп (Alexander Pope), которое становится центром досконального научного исследования. Экзистенциальные аналитики делают со структурой человеческого существования то же самое, что делал Фрейд со структурой бессознательного – они выводят ее из сферы случайного дара индивидов с развитой интуицией и переводят в область объяснения и понимания, также они пытаются обучать этому других людей.
Во-вторых, акцент на реальности присутствия не умаляет чрезвычайно важную истину – понятие переноса, верно представленное Фрейдом. Семь дней в неделю пациенты и в некоторой степени все мы ведем себя с терапевтом, мужем или женой так, будто они – это отец, мать или кто-то еще. Проработка этого опыта очень важна. Но в экзистенциальной терапии "перенос" оказывается помещенным в новый контекст ситуации, происходящей в реальности отношений между двумя людьми. Почти во всем, что пациент делает один на один с терапевтом во время сессионного часа, есть элемент переноса. Но ничто не является только переносом. Понятие "переноса" как такового часто использовалось в качестве удобного защитного экрана, за которым прятались и терапевт, и пациент, чтобы избежать ситуации прямого противостояния, вызывающий рост тревоги. Что касается меня, то, когда, скажем, я очень устал, я говорю себе: "Эта пациентка так требовательна, потому что хочет доказать, что может заставить своего отца полюбить ее". Это приносит мне облегчение и даже может оказаться правдой. Но на самом деле причина того, что она проделывает со мной в данный момент пересечения ее существования и моего, не связана с ее отношениями с отцом. Мы не говорим здесь о бессознательном детерминизме – он верен в своем частном контексте. В некотором смысле она выбирает такое действие в данный момент. Более того, единственное, что сможет уловить пациентка и со временем дать этому возможность измениться, – это полное и глубокое переживание того, что она делает именно это с этим реальным человеком – со мной – в этот реальный момент[148]. Роль чувства времени в терапии, которое, как показывает Элленбергер в следующей главе, получило свое развитие среди экзистенциальных терапевтов, заключается в разрешении пациенту переживать то, что он или она делает, пока это переживание действительно не захватит его[149]. Тогда и только тогда поможет объяснение почему. Когда пациентка начинает сознавать, что она требует конкретной безусловной любви от реального человека в данный час, то это может шокировать ее, затем, возможно, даже через несколько часов она должна осознать свое раннее детство. Она может хорошо исследовать и заново пережить, как она злилась, будучи ребенком, из-за того, что не могла заставить отца обратить на нее внимание. Но если ей просто рассказать это как явление переноса, то она, вероятно, лишь узнает интересный познавательный факт, который экзистенциально вовсе ее не захватит.
Еще одно предупреждение касается того, что присутствие во время сессии вовсе не означает, что терапевт пытается навязать пациенту себя, свои мысли или чувства. Очень интересное доказательство этого положения мы находим у Роджерса, который дал такое красочное описание присутствия в приведенной выше цитате. Роджерс – именно тот психолог, который жестко настаивал на том, что психолог не проецирует себя, а следует за пациентом, ведом им. Живое присутствие терапевта в этих отношениях не означает, что он будет болтать целый час. Он знает, что у пациентов есть бесконечное множество способов заняться проблемами терапевта, чтобы избежать собственных. И терапевт прекрасно может хранить молчание, сознавая при этом, что одна из его задач в этих отношениях – быть проективным экраном. Терапевт – это то, что Сократ называл повивальной бабкой, – он абсолютно реален "будучи там", но бытие там с особой целью, с целью помочь другому человеку произвести на свет что-то находящееся внутри него.
Четвертое замечание, касающееся техники в экзистенциальном анализе, вытекает из нашего обсуждения присутствия: терапия попытается "проанализировать", вывести с помощью анализа наружу те виды поведения, которые разрушают присутствие. Терапевту, со своей стороны, надо сознавать, что блокирует его полное присутствие. Фрейд предпочитал, чтобы его пациенты лежали на кушетке, так как он не мог выдерживать их пристального взгляда в течение девяти часов. Я не знаю контекста его ремарки об этом, но совершенно очевидно, что любой терапевт, делающий свою нелегкую работу, много раз проходит через искушение избежать тем или иным образом противостояния, вызывающего тревогу и дискомфорт. Ранее мы описали тот факт, что реальное противостояние между двумя людьми может вызвать тревогу[150]. Неудивительно, что удобнее защититься, думая о других только как о "пациентах" или фокусируясь только на определенных механизмах поведения. Техничный взгляд на другого человека, возможно, один из самых удобных способов снижения тревоги. У этой позиции есть свое законное место. Терапевт предположительно эксперт. Но технику нельзя использовать для блокирования присутствия. Если терапевт обнаруживает, что он реагирует жестким, заранее спланированным образом, то ему лучше спросить себя, не пытается ли он скрыться от тревоги, и как результат этого, не теряет ли он в отношениях с данным пациентом что-то экзистенциально реальное. Положение терапевта похоже на положение художника, который много лет изучал технику живописи. Но этот художник знает, что если в процессе рисования он будет слишком занят мыслями о технике, то в тот же момент он потеряет свое видение. Творческий процесс, который должен поглотить его, превзойдя субъектно-объектное расщепление, временно разрушается: теперь он имеет дело с объектами и с собой как манипулятором объектов.
Пятое замечание связано с целью терапевтического процесса. Цель терапии – переживание пациентом своего существования как реального. Он должен полностью осознать свое существование, то есть осознать свои возможности и научиться действовать на их основе. Существование невротика, как говорят аналитики, "покрывается мраком", становится неясным, туманным, оно больше не позволяет ему действовать. Задача терапии – высветить это существование. Невротик слишком озабочен Umwelt, он почти не думает о Eigenwelt[151]. По мере того, как Eigenwelt в ходе терапии становится реальностью, пациент начинает переживать Eigenwelt терапевта сильнее, чем свой собственный. Бинсвангер указывает, что тенденция контролировать Eigenwelt терапевта должна пресекаться с первой, иначе терапия превратится в борьбу между двумя Eigenwelten. Функция терапевта – быть там (со всем тем, что связано с Dasein), присутствовать в отношениях, пока пациент ищет и учится жить в своем собственном Eigenwelt.
Мой собственный опыт может послужить иллюстрацией одного способа экзистенциальной работы с пациентом. Когда пациент заходит и садится, у меня часто возникает желание спросить не "Как вы?", а "Где вы?". Различие этих вопросов, которые я, возможно, никогда не произнесу вслух, высвечивает то, что мы ищем. Так как я переживаю этот час вместе с пациентом, то я хочу знать не только то, как он чувствует, но и где он, "где" подразумевает гораздо большее, чем просто его чувства. Это вопрос о его полном или частичном присутствии, о его движении по направлению ко мне и к своим проблемам или от нас, о бегстве от тревоги, о той особой вежливости, с которой он вошел в эту комнату, или о страстном желании обнаружить какие-то скрытые вещи (в этом случае я постараюсь увидеть то, от чего он собирается убежать), это и вопрос о том, где он находится в отношениях со своей девушкой, о которой он говорил вчера, и т.д. Я стал осознавать роль вопроса "где" несколько лет назад еще до того, как познакомился с работами экзистенциальных терапевтов. Это говорит о спонтанном возникновении экзистенциального отношения.
Из этого следует, что интерпретация механизмов или динамизмов, а они имеют место в экзистенциальной терапии, как и в любой другой, всегда должна быть в контексте сознавания человеком своего существования. Это единственный способ – превращение динамизма в реальность для пациента – воздействовать на него. В противном случае пациент может прочитать, как делают большинство пациентов, о механизмах в книжке. Это очень важное положение, потому что проблема многих пациентов как раз и заключается в том, что они думают и говорят о себе в терминах механизмов. Для хорошо информированных горожан Западной культуры XX века это привычный способ избегания столкновения с собственным существованием, это их метод вытеснения онтологического сознавания, которое обычно производится под рубрикой быть "объективным" по отношению к себе. Но разве это не систематизированный, культурно приемлемый способ рационализации отдаления от собственного "я", практикуемый как в терапии, так и в жизни? Даже мотивом для начала терапии может быть просто желание найти приемлемую систему, с помощью которой можно продолжать думать о себе как о механизме, управлять собой, как своим автомобилем, только теперь более успешно. Если мы предположим, что основной невротический процесс в наши дни – это вытеснение онтологического чувства, то есть утрата чувства бытия наряду с уменьшением осознанности и запиранием своего потенциала, тогда мы играем на руку неврозу пациента, так как учим его новым способам думать о себе как о механизме. Один из примеров, демонстрирующих, как психотерапия может отразить распад культуры, – структурировать невроз вместо того, чтобы лечить его. Пытаться помочь пациенту решить сексуальную проблему, просто объясняя ему механизм, все равно что учить фермера орошению, перекрыв плотиной его ручей.
Здесь мы подходим к очень серьезным вопросам о природе "излечения" в психотерапии. Под этим подразумевается, что функция терапевта – не "излечение" невротических симптомов пациента, хотя большинство людей обращаются к терапии, мотивируясь именно этим. Безусловно, факт подобной мотивации отражает их проблему. Терапия занимается более фундаментальной проблемой, она помогает человеку испытать его существование, а любое освобождение от симптомов должно быть просто сопутствующим результатом этого процесса. Основные идеи излечения – жить как можно дольше и как можно лучше приспособиться – сами по себе отрицают Dasein, отрицают конкретное бытие пациента. Тип излечения, заключающийся в приспособлении, становлении способным соответствовать культуре, можно достичь техническими средствами терапии, так как это центральная идея культуры – человек, ведущий просчитанный, контролируемый, технически хорошо управляемый образ жизни. В этом случае пациент принимает ограниченный мир без конфликта, так как теперь его мир тождественен этой культуре. Поскольку тревога приходит только со свободой, то пациент естественно справляется с тревогой. Он освобождается от симптомов, так как отказывается от возможностей, являющихся причиной его тревоги. Это способ быть вылеченным за счет отказа от бытия, от существования, за счет сужения, ограничения бытия. В этом смысле психотерапевты становятся агентами культуры, чья задача – приспособить людей к этой культуре. Психотерапия становится выражением распада этой эпохи, а не способом его преодоления. Как мы сказали выше, есть явные исторические признаки того, что это происходит в разных психотерапевтических школах. Историческая вероятность такова, что этот процесс будет нарастать. Здесь, безусловно, встает вопрос о том, сколько такое освобождение от конфликта за счет отказа от бытия может продолжаться, не приводя к всеохватывающему отчаянию у отдельных индивидов и целых групп, к возмущению, которое затем оборачивается саморазрушением, так как история снова и снова говорит нам, что потребность человека в свободе рано или поздно всплывет наружу. Но задачу осложняет тот факт, что наша культура построена на идеале технического приспособления и имеет так много разнообразных приемов, притупляющих отчаяние, которое возникает при использовании себя как машины, что разрушительные последствия некоторое время могут оставаться невидимыми.
С другой стороны, термину "излечение" можно придать более верное и глубокое значение, сориентировав его на осуществление потенциальных возможностей существования. В этом случае мы можем наблюдать избавление от симптомов в качестве побочного продукта основного процесса, это всегда желаемая, хотя и не главная цель терапии. Важно, что человек открывает свое бытие, свой Dasein.
Шестое замечание, отличающее процесс экзистенциальной терапии, – это важность обязательства. Основу под это понятие мы подвели в предыдущих разделах, особенно при обсуждении идеи Кьеркегора о "правде, существующей только как произведенной индивидом в действии". Значение обязательства состоит не только в том, что это хорошее явление, которое одобряют с этической стороны дела. Это предпосылка, необходимая для того, чтобы увидеть правду. Здесь подразумевается решающий момент, который, насколько я знаю, никогда полностью не рассматривался в работах по психотерапии. Речь идет о том, что решение предшествует знанию. Мы все время работали, считая, что, чем больше пациент узнает о себе, тем более правильные решения он будет принимать. Но это верно только наполовину. Другую половину правды обычно не видят, то есть не видят того, что пациент не может позволить себе инсайт или знание о себе, пока не будет готов решить, не займет решительную позицию в жизни, не примет предварительных решений.
Под "решением" мы подразумеваем не какой-то особо важный поступок, например, женитьбу или присоединение к иностранным войскам. Готовность к такого рода "скачкам" является необходимым условием решительной позиции, но сам скачок будет основательным, только если он базируется на маленьких решениях. Другими словами, неожиданное решение – это продукт бессознательных процессов, навязчиво ведущих к тому моменту, когда они смогут прорваться наружу в измененном виде. Под решением мы понимаем решительное отношение к существованию, установку обязательства. В этом смысле, знание и инсайт следуют за решением, а не наоборот. Каждый знает примеры тех случаев, когда пациент во сне осознает, что начальник эксплуатирует его. На следующий день он решает уйти с работы. Но также важны и те случаи, хотя их обычно не принимают во внимание, так как они расходятся с нашими привычными представлениями о причинности, когда пациенту не может присниться сон, пока он не примет решение. Он совершает решительный шаг, например уходит с работы, а потом позволяет себе увидеть сон о том, как его эксплуатирует начальник.
Отсюда следует один интересный вывод. Мы замечаем, что пациент не может вспомнить какие-то жизненно важные события из своего прошлого, пока не будет готов принять решение, касающееся будущего. Память работает, опираясь на настоящие и будущие решения человека, а не на запечатленное в ней. Раньше часто говорили: прошлое человека определяет его настоящее и будущее. Позвольте теперь подчеркнуть, что настоящее и будущее человека – как он обязывается существовать в данный момент – тоже определяют его прошлое, то, что он может вспомнить из прошлого, что он выбирает (сознательно и бессознательно) из прошлого, влияя на себя настоящего. Таким образом его прошлое принимает определенный гештальт.
Обязательство не является чисто сознательным или добровольным феноменом. Оно присутствует и на так называемых бессознательных уровнях. Когда человеку не хватает обязательства, то его сны, например, могут быть невыразительными, бледными. Но если он действительно принимает решительную позицию по отношению к себе и к своей жизни, то его сны часто превращаются в творческий процесс исследования, конструирования, формирования себя в отношении будущего, или, что то же самое с невротической точки зрения, сны бьются над избеганием, подменой, утаиванием. Важно, что тем или иным способом материал начинает рассматриваться.
Говоря о помощи пациенту в развитии ориентации на обязательство, мы должны подчеркнуть, что экзистенциальные терапевты вовсе не имеют в виду активизм. Это не "решение кратчайшим путем", не вопрос скоропалительного скачка, потому что так действовать легче и так быстрее можно снизить тревогу, вместо того, чтобы идти медленным кропотливым и долгим путем самоисследования. Экзистенциальные терапевты имеют в виду отношение к Dasien, осознанную серьезную установку по отношению к своему бытию. Об обязательстве и решении можно говорить тогда, когда субъект-объектная дихотомия преодолена в единстве готовности к действию. Когда пациент интеллектуально рассуждает ad interminum на эту тему, и она совсем не волнует его, не становится для него реальностью, то терапевт спрашивает: что с экзистенциальной точки зрения он делает посредством этого разговора? Разговор сам по себе служит сокрытию реальности, ее обычно рационализируют и выдают за беспристрастное исследование данных. Принято говорить, что пациент совершает прорыв таким разговором, когда переживание некоторой тревоги, внутреннего беспокойства или внешней угрозы потрясают его до такой степени, что он становится действительно готовым принять помощь и пройти через болезненный процесс развенчания иллюзий, внутренних изменений и роста. Конечно, такое время от времени случается. Экзистенциальный терапевт может поспособствовать пациенту усвоить реальные последствия этих переживаний, помогая ему развить способность молчать (это одна из форм общения), и таким образом избежать пустого разговора, который затмевает поразительную силу встречи с инсайтом.
Однако, я думаю, что в принципе это неверное заключение – ожидать, пока не проснется тревога. Если мы полагаем, что обязательство пациента зависит от толчка внешней или внутренней боли, то мы оказываемся перед лицом сложных дилемм: либо терапия "отмеряет время", пока не появится тревога или боль, либо мы сами пробуждаем тревогу (что является довольно сомнительной процедурой). А утешение и снижение тревоги, которое пациент получает в ходе терапии, может действовать против его обязательства продолжать работу и может привести к тому, что терапия будет отложена.
У обязательства должна быть положительная база. Нам необходимо задать следующий вопрос: что происходит, если пациент не может найти какую-то точку опоры в своем существовании, которой он мог бы безусловно довериться? Обсуждая проблему небытия и смерти, мы говорили, что человек постоянно сталкивается с угрозой небытия, если он разрешает себе признать этот факт. Центральным здесь является символ смерти, но есть еще тысяча видов подобных угроз разрушения бытия. Терапевт оказывает пациенту медвежью услугу, если уводит его от осознания того, что пациент может утратить свое существование, и, может быть, он теряет его именно в сию минуту. Это очень важное положение, так как пациенты стремятся сохранить плохо осознаваемую веру, безусловно, связанную с детским представлением о всемогущих родителях. Они надеются, что терапевт как-нибудь разглядит, что ничего плохого с ними не происходит, следовательно, им не нужно принимать свое существование всерьез. Во многих терапевтических практиках происходит размывание тревоги, отчаяния, трагических сторон жизни. Разве это неверный принцип, что мы должны доводить тревогу только до той степени, до которой мы уже ее смягчили? Сама жизнь порождает достаточно кризисов, и только эти кризисы являются реальными. Огромная заслуга экзистенциальной терапии заключается в том, что она открыто сталкивается с этими трагическими реалиями. Пациент действительно может разрушить себя, если его выбор будет таким. Терапевт может не говорить этого, это просто отражение факта, и здесь важно то, что этот факт не сбрасывается со счетов. Символ суицида как возможности обладает большой положительной ценностью. Ницше однажды заметил, что мысль о суициде спасла много жизней. Я сильно сомневаюсь, что кто-то серьезно относится к своей жизни до тех пор, пока не осознает, что самоубийство всецело в его власти[152].
Смерть в любых своих проявлениях делает бесценным тот миг, в котором мы сейчас живем. Один ученый сказал об этом так: "Я знаю только две вещи: первое – однажды я умру, второе – сейчас я не мертв. Есть только один вопрос: что мне делать между этими двумя точками?" Мы не можем более детально останавливаться на этом вопросе, мы только хотим подчеркнуть, что ядро экзистенциального направления – серьезное отношение к существованию, его принятие.
Нам осталось сказать о двух последних "но". Сначала мы бы хотели упомянуть об опасности, которая лежит в экзистенциальном подходе, опасности неопределенности. Было бы действительно жаль, если бы экзистенциальные понятия использовались терапевтами безотносительно к их конкретному, реальному значению. Следует признать, что есть искушение потеряться в словах этих сложных тем, с которыми имеет дело экзистенциальный анализ. В философию можно уйти так же, как и в технику. Особенно следует противостоять искушению употреблять эти слова в целях интеллектуализации, так как они относятся к вещам, имеющим дело с самым центром личностной реальности. Эти понятия могут дать иллюзию работы с подлинной реальностью. Необходимо признать, что некоторые авторы этого сборника могли в какой-то степени не устоять перед таким искушением, некоторым читателям может показаться, что и я не устоял. Я мог бы разъяснить необходимость объяснения большого числа вопросов в столь сжатой форме, но суть не в оправданиях. Смысл в том, что экзистенциальное направление в психотерапии становится все более влиятельным. Мы надеемся, что это влияние будет благотворным. Сторонники данного подхода должны стоять на страже и не допускать употребления этих понятий в целях интеллектуального отстранения. Именно по этим причинам экзистенциальные терапевты уделяют много внимания прояснению речевых высказываний пациентов. Они непрерывно проверяют наличие необходимой взаимосвязи между речью и действиями. "Логос должен быть превращен в плоть". Важное должно быть экзистенциальным.
Другое "но" связано с экзистенциальным отношением к бессознательному. В принципе многие экзистенциальные аналитики отрицают это понятие. По их мнению, все логические и психологические трудности связаны с доктриной бессознательного. Они выступают против расщепления бытия на части. Экзистенциальные аналитики утверждают: то, что называют бессознательным, все еще является частью данного человека. Ядро бытия неделимо. Сегодня следует признать, что доктрина бессознательного привела к возникновению современных тенденций рационализации поведения, избегания реальности собственного существования, к действиям, которые будто совершает человек, не сам творящий свою жизнь. (Человек с улицы, нахватавшийся профессиональных терминов, говорит: "Это сделало мое бессознательное".) По моему мнению, экзистенциальные аналитики правильно критикуют доктрину бессознательного как удобного бланка, на котором можно написать любую причину в качестве объяснения, или как резервуара, из которого можно вывести любую детерминистическую теорию. Но это взгляд на бессознательное на клеточном уровне. Нельзя допустить, чтобы подобные возражения перечеркнули весь вклад исторического смысла бессознательного, который содержится в позиции Фрейда. Великое открытие Фрейда и его огромный вклад должны были расширить сферу человеческой личности, выйти за пределы наличного волюнтаризма и рационализма викторианца, включить в эту расширенную область "глубины", то есть иррациональные, так называемые вытесненные, враждебные и неприемлемые побуждения, забытые стороны переживания ad infinitum[153]. Символом такого большого расширения области личности было "бессознательное".
Я не хочу пускаться в подробное обсуждение этого понятия, я лишь хочу предложить позицию. Справедливо, что бланковую, вырождающуюся, клеточную форму этого понятия следует отвергнуть. Но нельзя отказываться от идеи расширения личности, то есть истинного значения этого понятия. Бинсвангер замечает, что, говоря о времени, экзистенциальные терапевты не могут обойтись без понятия бессознательного. Я бы сказал, что бытие в некотором смысле неделимо, что бессознательное – это часть любого данного бытия, что клеточная теория бессознательного логически неверна и практически неконструктивна, но значение этого открытия, значение радикального расширения бытия – это один из самых великих вкладов современности, и мы должны об этом помнить.
3. Генри Элленбергер. КЛИНИЧЕСКОЕ ВВЕДЕНИЕ В ПСИХИАТРИЧЕСКУЮ ФЕНОМЕНОЛОГИЮ И ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ[154]
Что означают с клинической точки зрения феноменология и экзистенциальный анализ? Возможно, сперва было бы уместно сказать, чем они не являются. В отличие от распространенного предубеждения, они не являются вмешательством философии в область психиатрии. Это верно, что есть философское течение, называемое феноменологией, основанное Эдмундом Гуссерлем, и есть еще одно философское течение, называемое экзистенциализмом, главные представители которого Кьеркегор, Ясперс, Хайдеггер, Сартр. Но между философской феноменологией Гуссерля и психиатрической феноменологией Минковски существует огромная дистанция, как и между экзистенциальной философией и психиатрическим методом, который называют экзистенциальным анализом. Можно провести аналогию с физикой и медициной. В физике есть направление, изучающее рентгеновские лучи. Одно из направлений медицины – радиология – исследует применение рентгеновских лучей в медицинских целях. Но никто не станет утверждать, что радиология – это вмешательство физики в медицину. Таким же образом психиатрические феноменологи и экзистенциальные аналитики – это психиатры, использующие новые философские понятия в качестве инструментов для психиатрического исследования.
Почему эти психиатры почувствовали необходимость использовать определенные понятия, взятые из философии? Научный процесс строится так, что новые техники приводят к новым открытиям, которые в свою очередь ведут к новым проблемам. Потребность решать эти проблемы стимулирует поиск иных техник, что опять приводит к открытиям и новым проблемам ad infinitum.
I. ЦЕЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ НОВЫХ НАПРАВЛЕНИЙ
Если мы вернемся на восемнадцать веков назад, во времена Галена (Galen), то обнаружим, что психиатрия тогда находилась в зачаточной форме. Для примера мы здесь приводим историю случая, взятую из работ Галена:
"Мужчина, страдавший френией, жил в собственном доме в Риме со своим рабом-шерстяником. Он встал с постели и подошел к окну, через которое мог смотреть на проходящих мимо людей, и они тоже могли его видеть. Он показал им глиняные горшки, которые были его собственностью, и спросил, следует ли ему сбросить их вниз. Смеясь и хлопая в ладоши, прохожие стали его подбадривать, и мужчина стал бросать один горшок за другим под аплодисменты. Потом он спросил людей, должен ли он сбросить вниз своего раба, и так как они одобрили его предложение, то мужчина так и сделал. Когда наблюдавшие увидели падающего раба, они перестали смеяться и бросились к нему, но увидели только разбившегося несчастного"[155].
С точки зрения современной психиатрии нас поражает ненаучный оттенок этого короткого случая. Кажется, что даже в работе медицинского гения психиатрия ограничилась странными, причудливыми, необычными историями. Мнение Галена о его психическом пациенте похоже на то, что сейчас пишут в газетах. Однако в течение пятнадцати веков психиатрия занималась именно такими случаями.
Заметный прогресс в исследовании душевных болезней наметился только в XVII веке с появлением работ итальянского терапевта и юриста Паоло Дзаккиаса (Paolo Zacchias)[156]. Он был одним из основателей судебной медицины, составил план для анализа психиатрических случаев. Это была простая, но удобная схема, по которой можно было посмотреть симптомы душевной болезни и дать точную оценку как с медицинской, так и судебной точек зрения. В этой схеме были приведены не только заметные расстройства действий и поведения, но она также направляла внимание исследователя на специфические нарушения главных психологических функций – эмоций, восприятия, памяти.
Прогресс психологии в XVIII веке привел к появлению как новых открытий, так и новых проблем. Психологическая схема, которую мы обычно используем сегодня, сложилась в те времена. Психологические проявления были разделены на три главные группы, или "способности", – интеллект, эмоции и волю. В интеллекте различают такие функции, как ощущение, восприятие, ассоциацию, воображение, мышление, суждение. Эта психологическая схема постепенно вытеснила схему средневековых философов-схоластов и была принята психиатрами начала XIX века. Они стали систематически изучать душевные состояния с помощью этого нового инструмента, который значительно облегчал определение элементарных душевных расстройств. Например: "Галлюцинация – это восприятие в отсутствие объекта". "Иллюзия – это восприятие, не адекватное своему объекту". "Бред – это ошибочное суждение, высказываемое субъектом, несмотря на противоречащие ему доказательства". Даже понятие шизофрении Блейлера – это последнее детище психологии восемнадцатого века: главным симптомом шизофрении была "слабость ассоциаций". Это расстройство считалось основным, и из него выводились все остальные симптомы болезней.
Психиатрия Галена состояла только из описания наиболее выраженного поведения пациента. В психиатрии Заччи имелось две ступени: детальное описание поведения, за которым следовал краткий итог исследования главных психологических функций. Психиатрия XIX века содержала уже три ступени. Во-первых, изучение "элементов". Например, основные типы нарушений элементарных психологических функций, такие, как галлюцинации, иллюзии, иллюзорные идеи, компульсивные идеи и абулия. Во-вторых, изучение "форм", или "синдромов". Например, как симптомы, объединяясь, образуют такую клиническую картину, как депрессия, маниакальное состояние, душевная спутанность и слабоумие. В-третьих, попытка определить сущность особых душевных болезней, например прогрессивного паралича. История психиатрии XIX века – это история решения огромного числа задач, связанных с определением бесчисленных "элементов", или "симптомов", разнообразных "форм", или "синдромов", сущностей особых душевных болезней, а затем сведение их в нозологическую систему. Эскироль (Esquirol), Морель (Morel), Кальбаум (Kahlbaum), Крепелин (Kraepelin), Вернике (Wernicke), Блейлер (Bleuler) – вот имена великих пионеров того периода в психиатрии.
В XIX веке наряду с новыми техниками и подходами появились и новые проблемы. Среди этих новых тенденций были психиатрическая генетика, конституциональная психиатрия, эндокринологическая и биохимическая психиатрия, психологическое тестирование, психоанализ и феноменология. Многие считают, что психоанализ и феноменология противостоят друг другу. Иногда даже кажется, что некоторые феноменологи заявляют о своих антианалитических настроениях, и наоборот. Это происходит из-за неверного понимания проблемы. Психоанализ и феноменология не исключают друг друга, так же как не исключают друг друга физиология и морфология. Это две разные области, возникшие из разных исходных точек. В них используются различные методы и терминология. Они не только не исключают друг друга, более того, они друг друга очень хорошо дополняют.
Импульсом к возникновению психоанализа послужили наблюдения Шарко. Он обнаружил пробел между физиопатологией мозга, клиническими симптомами невроза и его демонстрацией того, что невроз является результатом так называемых реминисценций, бессознательных представлений травмы. Это навело Жане и Брейера на мысль излечения пациентов с помощью распутывания забытых реминисценций, а Фрейда натолкнуло на систематические исследования с использованием новых техник области вытесненных воспоминаний и бессознательной жизни человека.
Импульс для возникновения феноменологии был совершенно иным. Таким импульсом послужило глубокое осознание того, что классическая психологическая схема, взятая из XVIII века, больше не подходит для исследования многих психопатологических состояний. Например, в 1914 году французский философ Блондель опубликовал очень интересную книгу под названием "Болезненное сознание"[157]. В этой книге, основываясь на своих исследованиях психически больных пациентов, он показал, что мы не понимаем реальных переживаний страдающего психическим расстройством индивида. Когда мы говорим, что "галлюцинация – это восприятие в отсутствие объекта" или "бред – это ошибочное суждение, высказываемое субъектом, несмотря на противоречащие ему доказательства", то даем вербальные формулировки, которые, не являясь неверными с технической точки зрения, все же не позволяют нам понять, как на самом деле душевнобольной пациент переживает галлюцинацию или бред. Более того, эти определения создают ложное впечатление, будто мы понимаем пациента. Блондель подчеркивал, что эти пациенты живут в ином, субъективном мире. Мы не понимаем этот мир и не можем в него войти. Это относится не только к самим психозам, но и к чувствам смутной угрозы и деперсонализации, которые предшествуют началу острой стадии шизофрении. Если мы принимаем работы Блонделя, то обнаруживаем следующую дилемму: либо мы перестаем надеяться когда-либо понять субъективные переживания душевнобольных пациентов, либо находим более адекватные методы достижения нашей цели. Феноменологи считают, что они нашли новое направление, которое позволяет уловить суть субъективных переживаний пациента более полно, чем было сделано с помощью старой классической схемы.
Стимул для возникновения экзистенциального анализа был такой же, как и у психиатрической феноменологии. Некоторые психиатры, которые начали работать с феноменологическим методом, поняли, что экзистенциальная философия (прежде всего философия Хайдеггера) может предоставить им более широкую, по сравнению с феноменологией, схему. Экзистенциальный анализ не подменяет феноменологию, он интегрирует ее как часть целостной системы.
II. ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ ФЕНОМЕНОЛОГИЯ
В философии и психиатрии слово "феноменология" использовалось в разных значениях, а его философские и психиатрические аспекты не всегда четко разводились. Но мы здесь говорим только о психиатрической феноменологии и употребляем слово "феноменология" так, как его понимал Гуссерль.
Феноменология Гуссерля – это в основном методологический принцип, целью которого является обеспечение твердой основы для образования новой психологии и универсальной философии. В присутствии феномена (им может быть внешний объект или состояние ума) феноменолог применяет к нему абсолютно беспристрастный подход: он наблюдает феномен так, как он проявляет себя, и только так. Это наблюдение дополняется средствами умственной операции, которую Гуссерль называет эпохе, или "психологическо-феноменологической редукцией". Наблюдатель "ставит мир между скобок", то есть он исключает не только оценочные суждения о феноменах, но и любые утверждения об их причинах и об их прошлом. Он даже старается исключить различение объекта и субъекта, любое утверждение о существовании объекта и наблюдающего субъекта. Таким образом, наблюдение становится гораздо более сильным методом: менее явные элементы феноменов проявляются в более красочных и разнообразных формах, улучшается их градация по степени ясности, в конечном итоге те структуры феноменов, которые прежде были незаметны, могут стать явными.
В связи с этим мы можем провести сравнение методологического принципа Гуссерля и "основного правила"[158] Фрейда. Субъект, который следует "основному правилу" Фрейда, должен проговаривать все, что приходит ему на ум, оставляя в стороне соображения стыда, чувство вины, тревоги или любую другую эмоцию. Принцип Гуссерля – это беспристрастное созерцание феномена без участия интеллектуальных суждений. Можно провести следующую параллель: анализируемого пациента, который хочет следовать "основному правилу", вскоре начинают подавлять сопротивления. Задача аналитика – показать эти сопротивления в терминах переноса, защиты и т.п. О принципе Гуссерля Мерло-Понти[159] пишет, что "величайший урок редукции – это невозможность полной редукции"[160].
Мы можем продолжить это сравнение. Для психоаналитика материал доставляется свободными ассоциациями. Этот материал формирует основу для таких операций, как фокусирующие, усиливающие, подтверждающие, предполагающие интерпретации. Аналогично феноменолог может подвергнуть сырой материал, доставленный эпохе, структурному или категориальному анализу.
Гуссерль оказал огромное влияние на психологию и психопатологию. Богатство психологических исследований было представлено во всех областях психологии. Это было результатом прямого или косвенного влияния его философской школы. Среди многих других там были работы Давида Катца[161] по феноменологии цветов, Сартра[162] по эмоциям, Мерло-Понти[163] по восприятию. Поскольку Гуссерль и его ученики занимались тщательным описанием состояний сознания в их чистых формах, то есть так, как их переживает субъект, то нет ничего удивительного в том, что эти исследования привлекли внимание психопатологов, которые искали новые методы работы. Феноменологи в психиатрии переняли эти методы у школы Гуссерля или разработали новые, вдохновленные этими исследованиями.
Феноменолог уделяет особое внимание собственному состоянию сознания в присутствии пациента. Эуген Блейлер уже отмечал важность наблюдения особых субъективных чувств в присутствии пациента, страдающего шизофренией. Иногда чуткий экспериментатор может осознать "чувство" шизофрении до появления ее объективных симптомов в течение болезни. Анализ переноса в психоанализе – это, фактически, применение феноменологических методов. Однако основной акцент психиатрической феноменологии делается на исследовании субъективных состояний сознания пациента. С этой целью применяются три основных метода:
Описательная феноменология полностью полагается на описания, которые дает пациент о своих субъективных переживаниях.
Генетико-структурный метод постулирует фундаментальное единство в индивидуальном состоянии сознания и пытается найти общий знаменатель, то есть генетический фактор, с помощью которого можно постичь и воссоздать остальные факторы.
Категориальный анализ берет систему феноменологических координат, наиболее важными из которых являются время (или темпоральность), пространство (или пространственность), причинность и материальность. Исследователь анализирует, как пациент переживает каждое из них, с целью установления тщательной и детальной реконструкции внутреннего универсума переживаний пациента.
Теперь мы должны детально изучить все эти три метода.
А. Описательная феноменология
Описательная феноменология была первым применением феноменологии в психиатрических исследованиях. Карл Ясперс определил ее как тщательное и точное описание субъективных переживаний душевнобольных пациентов, в котором делается попытка как можно ближе прочувствовать (einfühlen) эти переживания. Ясперс и его последователи много времени уделили интервью с пациентами, когда у больных спрашивали об их внутреннем мире. Затем результаты сравнили с отчетами этих или других пациентов после их выздоровления. Эти данные можно найти в учебнике Ясперса по психопатологии.[164]
Позвольте это продемонстрировать одним клиническим примером. Существует мало состояний сознания более загадочных, чем субъективные переживания человека, страдающего кататонической шизофренией. Ясперс приводит прекрасный пример такого состояния, взятый из отчета пациентки Кронфелда, полученного после ее выздоровления.
"Во время периода возбуждения я не была настроена на неистовство, да даже никакого конкретного настроя и не было, – только чисто животное наслаждение от собственного движения. Это не похоже на дикое возбуждение того, кто собирается на кого-то наброситься. Вовсе нет! Это совершенно невинное чувство. Однако импульс бывал таким сильным, что я не могла удержаться и начинала прыгать. Я могла бы сравнить себя с диким кабаном или лошадью... Появлялись такая радость, переизбыток эмоций, удовольствие от жизни, которые я никогда не испытывала с подобной силой. Если говорить о памяти, то она была в порядке, хотя обычно я не помнила начало приступов возбуждения. Внешний стимул, например холодный пол, могли вернуть меня в сознание. Ты ориентируешься, все видишь, но не обращаешь на это внимания и никак не сдерживаешь свое возбуждение. Прежде всего ты не обращаешь внимания на людей, хотя ты их видишь и слышишь. С одной стороны, ты боишься о том, как бы не упасть... Когда тебя останавливают или кладут в постель, ты удивляешься внезапности перемены, ты чувствуешь себя обиженной и начинаешь защищаться. Двигательный выплеск, вместо прыжков, принимает форму ударов, но это не признак раздражения. Нет никакой концентрации ума. Иногда, в моменты просветления, ты это замечаешь. Но не всегда! Но потом ты замечаешь, что не можешь построить предложение... Мне кажется, что это период полного распада... У меня никогда не было чувства смущения или собственной неполноценности. Я никогда не считала, что во мне что-то не так, хаос был вне меня. Я никогда не тревожилась. Я помню, как в ванной строила в зеркало разные гримасы, дурачилась... А еще помню, как иногда по вечерам произносила длинные речи, но не помню, о чем говорила: все ушло из моей памяти, ...все мысли смешались, они такие бледные, нечеткие, нет ничего ясного..."
Такие великолепные описания показывают, как далеко мы ушли от Галена и старых психиатров, которые довольствовались поверхностными описаниями поведения. Но мы также далеки от анализа психопатологических состояний в терминах симптомов, синдромов и сущности болезни. Сейчас главный интерес и забота психиатра, который хочет понять состояния сознания пациента, чтобы установить с ним контакт, если это возможно, – это субъективные переживания данного пациента. Другими словами, Гален был удовлетворен поведенческим подходом, Заччи использовал два измерения – поведенческий и психологический подходы, психиатрия XIX века довольствовалась тремя измерениями, включая изучение симптомов, синдромов и причин болезней. Сегодня добавилось четвертое измерение, и психиатрическое исследование включает четыре ступени: (1) феноменологическое изучение состояний сознания, (2) клиническое изучение объективных симптомов, (3) синдромы и (4) сущности болезней.
Даже если влияние феноменологии было бы ограничено стимулированием усилий психиатров по достижению глубокого понимания их пациентов, то одно это было бы уже значительным прогрессом. Психиатры поздно обратили свое внимание к целому кругу самоописаний душевных состояний бывших психических больных, начиная с "Аврелии" французского поэта Жерара де Нерва – описание глубокого субъективного переживания человека, страдающего острой формой шизофрении, работа очень интересная с психологической точки зрения и необыкновенно красивая с литературной, – заканчивая знаменитой книгой Клиффорда Бирса "Разум, который нашел себя". Такие отчеты многие психиатры раньше не принимали всерьез, сейчас же их ищут, и над ними работают исследователи.
Одна из самых выдающихся работ в области описательной психиатрии – исследование помешательства и ониризма[165], выполненное Мейером-Гроссом. Это изучение нескольких модальностей изменения сознания, основанное на самоописаниях пациентов. Мы также можем упомянуть работы Якоба Вирча в Швейцарии. Он изучал, как пациенты, страдающие шизофренией, переживают свою болезнь, что значит для них эта болезнь в разных формах острой и хронической шизофрении[166].
Это все, что касается описательной феноменологии. Хотя работы Ясперса и его последователей были превосходны, однако способность описательной феноменологии обеспечить нас полноценным знанием о субъективных переживаниях пациента, вызывает сомнения. Немногие пациенты могут вспомнить, что они переживали, лишь некоторые из них могут найти подходящие слова для выражения своих переживаний. По этим причинам Минковски продолжил развитие феноменологического исследования. Он предложил исследовать структуры состояний сознания, используя методы структурного анализа и категориального анализа. Так описательная феноменология Ясперса стала первым шагом на пути к более точному исследованию.
Б. Генетико-структурная феноменология
Феноменологическое наблюдение не только предоставляет богатые данные, но и может привести к пониманию связей и взаимоотношений между этими данными. Может даже случиться, что в совокупном содержании сознания общая структура, или гештальт, спонтанно обнаруживает себя наблюдателю, который потом может попытаться описать и определить ее. Таким образом, наблюдатель делает то, что Минковски назвал структурным анализом[167], а фон Гебсаттель[168] – конструктивно-генетическим взглядом (konstruktive-genetische Betrachtung).
Цель структурного анализа Минковски – определить основное нарушение (trouble generateur), исходя из которого можно установить все содержание сознания и симптомы пациентов, фон Гебсаттель считал, что этот метод также может привести к пониманию глубоко скрытых биологических и психологических нарушений пациента.
Исследуя пациентов-меланхоликов, и Минковски, и фон Гебсаттель обнаружили одинаковый основной симптом: время не переживалось ими как движущаяся вперед энергия. Последовательность развивалась в направлении противоположном течению времени, подобно реке, на которой построили преграду: будущее воспринималось заблокированным, внимание пациента было привлечено к прошлому, а настоящее переживалось как застывшее. Из этого основного нарушения могли быть выведены многие другие симптомы в переживании времени.
Главной исследовательской сферой Минковски была психопатология шизофрении. Он интерпретирует ее в связи с основным нарушением – "утратой жизненного контакта с реальностью". Использование этого метода он излагает в своей книге по шизофрении[169].
Другим примером генетико-структурного анализа может послужить исследование мира компульсивных невротиков фон Гебсаттеля. Он начинает с классического разведения симптомов "нарушения" и симптомов "отвращения"[170]. С чем борется компульсивный невротик? С тем, что ему кажется ужасным, грязным, отвратительным, омерзительным. При более внимательном рассмотрении становятся очевидны другие проявления: мир компульсивного невротика лишен дружественных ему форм, и даже безвредных или нейтральных. В его мире все носит "физиогномический" характер; все объекты заражены распадом и разрушением. Фактически, пациент борется не столько с отвратительными "вещами", сколько с общей подоплекой отвратительного, "контрмира" распадающихся форм и разрушительных сил, который Фон Гебсаттель называет антиэйдос. В последнем анализе происхождение этого мира связывается с определенным типом препятствования самоосуществлению. Основные идеи фон Гебсаттеля, касающиеся мира компульсивных невротиков, представлены в данном сборнике. Еще одно исследование этой темы, в котором вы можете увидеть похожие выводы, – это монография Страуса, посвященная обсессиям[171].
В. Категориальная феноменология
Наряду с классической психологической схемой, где различаются интеллект, аффект, воля и т.п., также можно использовать категориальную схему. Это означает, что феноменолог пытается реконструировать внутренний мир пациентов с помощью анализа их способа переживания времени, пространства, причинности, материальности и других категорий (в философском смысле этого слова). Считается, что двумя основными категориями внутреннего мира являются время (темпоральность) и пространство (пространственность). Это очень важные категории, поэтому мы должны рассмотреть их более детально.
1. Темпоральность. В психиатрической практике изучение времени ограничено проверкой того, ориентируется ли пациент во времени и убыстрены или замедлены его психические реакции. Возможно, клинический психолог также измерит скорость реакций пациента и его оценку продолжительности времени. В феноменологическом исследовании темпоральность становится основной координатой, которая ставится в центр внимания.
Что такое время? В житейском смысле, в нашем повседневном опыте, время – это одна из форм более широкого понятия темпоральности, что можно легко продемонстрировать, сделав краткий обзор многочисленных концепций времени, разработанных философами, физиками, биологами и психологами.
Среди философов[172] Платон и идеалисты полагали, что время – это отражение вечности, истинного царства реальности. Бергсон провозгласил "длительность" сутью реальности, тогда как время у физиков – это проекция пространственных характеристик на понятие собственно времени. Для Канта время – это "априорная форма чувствительности", которую мы проецируем на наш взгляд на мир. Вдохновленный парапсихологическими исследованиями, Дюнн (Dunne)[173] предложил понятие многомерного времени.
Для физиков время – это абстрактный измеряемый континуум. Этот континуум однороден, непрерывен, и его можно разделить на бесконечное число тождественных и взаимоисключающих единиц. В противоположность физическому пространству у физического времени только одно измерение – "длительность", и у этого измерения есть только одно необратимое направление – вектор прошлое-будущее. Другим атрибутом времени является симультанность: например, в каждый момент времени может произойти несколько событий. Таким образом, момент можно рассматривать как расположенный на пересечении длительности и симультанности.
Понятие биологического времени было разработано биологом Леконтом де Нуи (Lecomte du Nouy)[174], который открыл, что с возрастом раны заживают медленнее, и вычислил математическую формулу этого биологического закона. Леконт де Нуи сделал вывод, что у каждого частного процесса есть "внутреннее психологическое время", собственная единица времени. Если мы измерим соотношение космического времени с этой единицей времени, то обнаружим, что дни и годы с возрастом становятся короче (что лишь приблизительно соответствует эмпирическому опыту). Руйер (Ruyer)[175] и неофиналисты утверждают, что определенные биологические явления нельзя определить без специального понятия "транстемпоральность".
Для психолога проблема времени совершенно иная, потому что мы имеем дело с непосредственным субъективным переживанием времени и с открытиями экспериментальной психологии. Главная проблема состоит в том, что психологическое время не подходит к жестким образцам физического времени, хотя они и связаны друг с другом. Бергсон[176] противопоставляет переживание длительности ("чистого качества" и вещества жизни) и "гомогенное время" физиков, что повлияло на психиатрическую феноменологию, особенно на Минковски. Жане (Janet)[177] различает две формы времени: последовательное и непоследовательное. Последовательное время происходит не из памяти, а из особой формы действия – устного отчета и ее продуктов – описания, повествования, истории. Из этого феномена появляются понятия временной последовательности и хронологического порядка. Непоследовательное время возникает тогда, когда повествование отделяется от своего первоначального источника и цели и становится игрой. Это происходит в поэзии, легендах и баснях.
Для феноменолога категория времени чрезвычайно важна. Она привлекала внимание Гуссерля[178] и Хайдеггера[179]. Также можно упомянуть работу Волкелта (Volkelt)[180]. Первая работа по феноменологии времени в клиническом случае была опубликована Минковски в 1923 году, читатель найдет перевод этой статьи в данном сборнике. Другие исследования Минковски были собраны в его книге 1933 года "Живое время"[181]. Научные изыскания Минковски были продолжены Страусом, фон Гебсаттелем, Фишером и другими.
Чтобы исследовать феноменологию времени в клинических случаях, давайте сначала посмотрим, как люди обращаются со временем. Многообразие вариантов поразительно. Вот перед нами активист, он озабочен тем, чтобы заполнить каждую минуту каждого дня как можно большей активностью. Его девизы: "Не трать время зря", "Не позволяй людям красть твое время", "Время – деньги". Напротив, есть мечтатели – итальянский Лацарони, Обломов, герой известного романа Гончарова. Между этими крайностями лежит созерцательный тип, поглощенный спокойным созерцанием Вселенной и молчаливым взращиванием своего глубинного "я". Еще есть псевдомистики. Они стремятся выйти за пределы привычного времени посредством наркотиков. В наркотическом дурмане они чувствуют, как за несколько часов проходят целые годы. Для некоторых невротических или психопатических личностей время – это скука. Они должны "убивать время" (возможно, это способ убить себя). Компульсивные невротики используют время совершенно иным образом: они тратят его на бесконечные откладывания на потом. Затем они становятся очень скупыми в отношении времени (как это показал фон Гебсаттель в своей статье ниже). Очевидно, что такие явные различия в поведении индивидов, касающемся времени, должны быть связаны с различными способами субъективного переживания времени.
Итак, мы подошли к феноменологическому исследованию переживания времени, субъективного времени внутреннего опыта. Что есть наличное, субъективное переживание времени? Это течение жизни, переживаемое как спонтанная, живая энергия. Это видно в таких метафорах, как "поток сознания" (Уильям Джеймс), "жизненный порыв" (Бергсон) и Werdzeit – "становящееся время" (фон Гебсаттель). Это течение непрерывно, оно существует само по себе, то есть независимо от последовательности событий, которые могут происходить в одно и то же время. Феноменологическое исследование показало, что основное и доставляющее наибольшее беспокойство переживание во время депрессивных состояний – это остановка или обратное течение потока времени.
Время переживается как текущее с определенной скоростью. Скорость времени, сложный и запутанный феномен, не следует путать с личным темпом движения и действий каждого индивида[182] или сознательной или бессознательной оценкой продолжительности времени[183]. Чувство скорости времени (Zeitgefühl) – это особый фактор, который ведет пульсирующую кривую линию через человеческую жизнь. Для ребенка течение времени кажется более замедленным, чем для взрослого. С возрастом эта скорость возрастает. Согласно Мартину Гшвинду (Martin Gschwind)[184], в жизни есть два периода, когда скорость времени резко увеличивается. Один начинается в конце пубертата и продолжается до 22-24 лет, а другой относится ко второй половине жизни. Чувство времени изменяется. Не нужно быть феноменологом, чтобы знать, что время замедляется, когда мы испытываем тревогу, скуку, горе или печаль, и ускоряется в моменты радости, счастья или приподнятого настроения. (Однако в определенных токсических условиях верно обратное. Например, при приеме опиума течение времени кажется весьма замедленным, несмотря на состояние эйфории.) Один из главных симптомов депрессии с феноменологической точки зрения – субъективное переживание времени как ужасно медленного, застывающего или даже остановившегося. Некоторые люди, страдающие шизофренией, воспринимают время зафиксированным в настоящем моменте. Отсюда возникает иллюзия бессмертия, которую с точки зрения нормального рассудка невозможно понять, но для искаженного переживания этих пациентов такая оценка кажется вполне логичной. Противоположное переживание – ускоренное время – часто встречается при мании. Согласно Мартину Гшвинду, то же самое переживают и пожилые люди – для них годы летят как дни. Однако при депрессивных состояниях в пожилом возрасте время течет так же медленно, как и для молодых депрессивных индивидов.
Течение времени автоматически структурируется в необратимую последовательность прошлого, настоящего и будущего, каждое из которых переживается совершенно иным способом. Настоящее "постоянно сейчас", прошлое "уходит от нас", оставаясь более или менее доступным в памяти, а будущее – это то, к чему мы направляемся, оно более или менее открывается нам в наших планах. Это субъективное переживание автоматического структурирования времени в большей или меньшей степени искажается психическим состоянием.
Настоящее в нашем жизненном опыте не имеет ничего общего с моментом физического времени – бесконечно малой частичкой между прошлым и будущим. Не следует его путать и с психофизиологическим "моментом", то есть с минимумом времени, которое необходимо для различения двух сенсорных стимуляций[185]. Уильям Джеймс[186] подчеркивал, что мы воспринимаем настоящее как определенный квант продолжительности, "правдоподобное настоящее"[187], которое является "опорой, а не острием ножа". Минковски[188] настаивал на различии между "прямо сейчас" и "собственно настоящим", то есть между пиком и плато. Но прежде всего настоящее переживается нормальным индивидом как осознание его собственной деятельности и внутреннего побуждения к этой деятельности. Жане писал: "Реальное настоящее" для нас является действием, неким сложным состоянием, которое мы постигаем, несмотря на его сложность и продолжительность, одним актом сознания"[189]. Жане назвал это действие presentification, это понятие похоже на термин, используемый немецкими авторами – Eigenaktivitat. Это акт мгновенного постижения определенного поля феноменального восприятия и определенного душевного состояния, акт их включения в отношения непрерывности прошлого опыта и будущих ожиданий. Некоторые феноменологи считают, что основная проблема при шизофрении – это ослабление presentification, которое приводит к разрыву связи между прошлым и будущим.
Для нормальных индивидов будущее открыто. Хотя все неопределенно, кроме того, что мы умрем, даже дата смерти неизвестна, но есть большая область, которая открыта нашим разумным ожиданиям и планам. Другими словами, более или менее точный план постоянно проецируется в будущее[190]. В определенных психических состояниях такое планирование может быть искажено. В маниакальной стадии, так же как и в психопатических состояниях, в будущее ничего не проецируется, оно пустое. Для страдающих депрессией оно недостижимо и заблокировано, что причиняет таким пациентам ужасные страдания.
Прошлое переживается как что-то, что мы оставляем позади, как что-то, хотя больше и несуществующее, но все еще являющееся для нас живой реальностью с некоторыми особенными качествами: их можно назвать доступностью, ценностью и изменчивостью. Мы можем наблюдать поразительные различия в переживании этих качеств среди людей. Что касается доступности, то память всегда неполная и несовершенная, психологи уже давно показали ее искажения. Но здесь важны индивидуальные различия. Некоторые люди обладают довольно хорошим и прочным знанием своего прошлого, а другие нет. Жане продемонстрировал, насколько размытыми и неточными были отчеты обычных пациентов парижских больниц и клиник о своей жизни. (Для Фрейда этот признак означал начало истерии.) Образованные люди более точно сознают свое прошлое. Этот факт был подтвержден теорией памяти Холбвочса (Halbwachs)[191]. Что касается ценности прошлого, то некоторые люди переживают его как тяжкий груз, который их угнетает или которого они стыдятся, для других – это шаг на пути к будущему[192]. Если же говорить об изменчивости прошлого, то общепринятое впечатление о прошлом заключается в том, что оно закрыто и не поддается изменению. Конечно, могут иметь место забытые или вытесненные воспоминания, их извлечение настолько же поразительно, как и открытие любого нового, неожиданного события. Однако у некоторых параноиков прошлое невероятно изменчиво, что наблюдается в "галлюцинациях памяти". Они считают, будто прошлое искусственно изменили. Это переживание можно сравнить с тем дистрессом, который испытывал герой Джорджа Оруэла ("1984"), когда он осознал, что "социальная рамка памяти" постоянно изменяется государственной полицией, или понять, если представив, что такие пациенты переживают многомерное время Дюнна.
У нормальных индивидов прошлое, настоящее и будущее образуют структурное целое, хотя каждое из них переживается по-разному. Прекрасный анализ этого целого был сделан Минковски[193]. Он выделил следующие зоны переживаемого времени (следует заметить, что эти зоны не имеют ничего общего с хронологическим временем):
Удаленное прошлое
Зона устаревшего (le depasse)
Среднее прошлое
Зона сожалений
Ближайшее прошлое
Зона раскаяний
Настоящее Ближайшее будущее
Зона ожиданий и деятельности
Среднее будущее
Зона желаний и надежд
Удаленное будущее ("горизонт")
Зона молитвы и этических действий
Каждая из этих зон должна переживаться особым образом, чтобы соответствовать нашему нормальному чувству времени. Но здесь возможны и различные искажения. Мы приведем только один пример. В определенных жизненных ситуациях – в ссылке[194] или при вынужденной длительной безработице[195] – индивиды становятся неспособными переживать ближайшее будущее. Образуется зазор между настоящим и средним и удаленным будущим, настоящее кажется застывшим и бессодержательным, человек не может организовать свою жизнь конструктивным образом.
То, что мы называем чувством смысла жизни, нельзя понять независимо от субъективного чувства переживаемого времени. Искажение чувства времени – это естественный результат искажения смысла жизни. В норме мы смотрим не только на будущее само по себе, но и заглядываем в него с надеждой на компенсацию и поправку прошлого и настоящего. Мы рассчитываем на будущее, говоря об уплате долгов, думая о достижении успеха, наслаждении жизнью, о том, чтобы стать добрыми христианами. Когда будущее становится пустым, как при маниакальном и психопатическом состояниях, то жизнь превращается в вечную игру, где принимается во внимание преимущество текущей минуты. Когда будущее становится недостижимым или заблокированным, как при депрессивном состоянии, то исчезает надежда, и жизнь теряет смысл.
Взгляд на будущее и прошлое подразумевает отрезок времени, который в некоторой степени нами не сознается. Де Грифф (Е. de Greeff)[196] резюмирует это следующим образом: годовалый ребенок живет в настоящем, трехлетней ребенок сознает, что день делится на регулярные часы, в четыре года приходит понятие "сегодня", а в пять – понятия "вчера" и "завтра". В восемь лет ребенок умеет считать недели, каждая из которых кажется ему бесконечной. В пятнадцать лет единицей времени является месяц, количество которых в год получается около двадцати, а сорокалетний человек считает уже годами и десятилетиями. В качестве одной из характеристик слабоумия де Грифф называет неспособность посмотреть на двадцать дней вперед и назад. Сужение осознания прошлого и будущего можно обнаружить у нестабильных и психопатических индивидов, при некоторых видах шизофрении. Арифметика де Гриффа может показаться приблизительной, подверженной индивидуальным изменениям. Более того, люди в разной степени интересуются своим прошлым и будущим.
Последнее замечание привело некоторых авторов к выделению двух отдельных типов: проспективных и ретроспективных. Первые с нетерпением ждут будущего, вторые склоняются к прошлому, как говорят французы. Было бы неверно уравнять проспективный тип с молодыми и здоровыми людьми, а ретроспективный – со старыми и больными. Некоторые дети демонстрируют гораздо больший интерес к своему прошлому, семейным традициям и истории. Некоторые пожилые люди сконцентрированы на будущем, на работе для своих потомков и грядущих веков. Уэльс (Н.G.Wells) называл эти типы "законным" и "законодательным, конструктивным", Портеус (Porteus) и Бабкок (Babcock) – "ретровертом" и "антевертом"[197]. Буман (Bouman) и Грюнбаум (Grunbaum)[198] показали клинические результаты такого разделения на типы. Вместо того чтобы четко выделить два противоположных типа, они заключили, что каждый индивид – это "временной комплекс", имеющий проспективные и ретроспективные черты, согласно формуле, специфичной для каждого индивида. Минковски считает, что выделение проспективного и ретроспективного типов так же важно, как выделение экстравертов и интровертов. Однако не следует забывать, что существуют разные способы обращения к будущему и к прошлому. Как говорил Израэли, индивид, беспокоящийся о будущем, может быть "конструктивным", "переживающим катастрофу", "запутавшимся", "заблуждающимся" и пр.
Из других феноменологических заключений о времени мы упомянем только одно. Мы чувствуем, что время течет не только для нас, но и для всего остального мира. Наше личное время должно быть встроено в социальное, историческое и космическое время. Минковски утверждает, что шизоиды живут преимущественно в своем личном времени, а не в мировом. Это особенно верно для некоторых видов шизофрении, когда больные полностью перестают сознавать мировое время. С другой стороны, пациенты, страдающие меланхолией, сознают обе формы времени, но их личное время течет гораздо медленнее мирового.
2. Пространственность. В общей психиатрической практике рассмотрение пространства ограничивается определением того, ориентируется ли пациент в пространстве или есть ли у него явные симптомы, например микропсия[199]. В феноменологической психиатрии исследование пространственности должно быть таким же основательным и тщательным, как и исследование темпоральности.
В житейском смысле, в нашей повседневной жизни пространство – это одна из форм более широкого понятия, понятия пространственности. Многие формы пространственности были описаны философами, физиками, математиками и психологами.
Одни философы отождествляют пространство с материей (Декарт) или с одним из атрибутов Бога (Спиноза), другие видят в нем абстракцию или "априорную форму чувственности" (Кант), которую мы проецируем на наш взгляд на мир.
В связи с прогрессом астрономии и физики сильно изменились и физические понятия пространства. Вавилоняне и ранние греки (Анаксимандр) представляли пространство, имеющим абсолютный верх и абсолютный низ. Парменид представлял пространство как конечную сферу, за пределами которой не могло быть ни чего-то (так как все бытие было внутри), ни ничего (так как ничего не существует), а в центре этой сферы находилась Земля. Вместе с Галилеем и Ньютоном пришло понятие однородного (гомогенного) и бесконечного пространства (Паскаль сказал: "Сфера, центр которой везде, а периферия нигде"). В наше время Эйнштейн представил понятие пространства как гетерогенного и конечного.
С другой стороны, для математиков пространство – это абстрактный измеримый континуум, в котором каждая часть является внешней по отношению к каждой другой части. Атрибуты такого пространства – однородность, непрерывность, бесконечность и изотропизм (последний термин означает, что три оси, в которых может быть измерено пространство, имеют одинаковые свойства). Евклидово пространство трехмерно и гомолоидно (это означает, что на любой шкале можно построить одинаковые фигуры). Эти два свойства исчезают при переходе к так называемым неевклидовым пространствам, или гиперпространствам. Математики вычисляют свойства четырехмерных, пятимерных, n-мерных пространств, где постулаты Евклида больше не действительны. Это означает, что в таких пространствах через одну точку можно провести несколько параллельных данной линий или нельзя провести вообще ни одной.
Исследования экспериментальной психологии восприятия пространства, его генетического развития, индивидуальных особенностей, искажений и т.п. были так многочисленны, что мы вынуждены их опустить. Но среди работ феноменологов (не говоря уже о Гуссерле и Хайдеггере) очень важными являются труды Страуса[200], Бинсвангера[201], Минковски[202] и книга Мерло-Понти по восприятию пространства[203].
Говоря о клинических исследованиях пространственности, мы должны начать с наиболее явного отношения индивида к пространству. У индивидов, страдающих агрофобией или клаустрофобией, явно должно быть расстройство субъективного переживания пространства, но существует множество других способов взаимодействия с пространством. Один человек хочет захватить его или исследовать, другой пытается сохранить и защитить его, третий – организовать и использовать, четвертый – очертить и измерить. Некоторые люди "расширяют себя", им нужен большой Lebensraum (жизненное пространство – нем.). Другие "ограничивают себя", они живут в узких пространствах. Кто-то может "пустить корни" в данном месте, а кто-то – "не иметь корней", бродяжничать. Кто-то может оставить свое место, пытаться бежать либо в реальном пространстве, то есть эмигрировать, сбежать, странствовать и т.д., либо с помощью сублимированной или несублимированной фантазии. Но такое рассмотрение – это только предварительный шаг на пути к соответствующему феноменологическому исследованию переживания пространственности. Человек может переживать пространственность самыми разными способами, мы бы хотели очертить здесь главные из них.
Ориентированное пространство – это наиболее привычный для нас модус пространственности. Даже если мы считаем, что "истинное пространство" – абстрактный, однородный, бесконечный и пустой континуум математиков, то все равно наш повседневный опыт, – это опыт ориентированного пространства. В противоположность изотропизму математического пространства ориентированное пространство "анизотропично", то есть каждое измерение имеет разные, особенные качества. Есть вертикальная ось, имеющая верх и низ. Есть широкая, горизонтальная ось, где можно выделить спереди и сзади, право, и лево. Две линии одинаковой длины имеют разную ценность, если они находятся в нашем "ближайшем пространстве" или в "удаленном пространстве", между двумя объектами или между нами и объектом. В ориентированном пространстве "большой" и "маленький" – это не относительные меры, а хорошо определенные, количественно отличающиеся размеры. Мы не можем представить ориентированное пространство как пустой континуум: у него есть границы и содержание, оно размечено объектами (у которых есть внутри и снаружи), расстояниями, направлениями, дорогами и границами. Мы знаем, что горизонт и небесный свод – это ненаучные понятия, но для каждодневного опыта и для феноменологии это очень важные данности[204].
Одна из главных характеристик ориентированного пространства заключается в том, что его точка отсчета сама по себе мобильна – это тело. Человеческое тело управляет нашим переживанием пространства. Вертикальная ось с ее низом и верхом открывается нам в эффектах гравитации при смене положения тела и при прямохождении. Так как у нас есть разнообразные сенсорные органы, то мы способны различать ближайшее пространство (с помощью осязания) и удаленное пространство (с помощью слуха и зрения). Поскольку органы чувств находятся на разных частях подвижного тела, то мы сознаем направления в пространстве. Координация различных областей восприятия и тот факт, что мы способны передвигаться в пространстве, приводит к созданию нашего ориентированного пространства.
Многие исследования экспериментальных психологов и феноменологов были посвящены изучению различных подтипов пространства, связанных с той или иной сенсорной функцией. Были описаны кинестетическое, тактильное, зрительное, слуховое пространства, а также те особые виды переживания пространства, которые были обнаружены у слепых, глухих и калек. Мы не будем вдаваться в дальнейшие детали, но должны здесь сказать, что феноменология занимается и другими модусами пространственности самой различной природы.
Настроенное пространство (gestimmter Raum) было описано Бинсвангером[205] как пространственное переживание, определяемое чувственным настроем или эмоциональным напряжением. В один и тот же момент человек переживает ориентированное пространство, точкой отсчета которого является его собственное тело и особое качество пространства в соответствии со своим настроением. Настрой или напряжение внутренне ориентированного пространства может быть настроем полноты или пустоты, человек может ощущать пространство расширяющимся или сужающимся. Внешне ориентированное пространство может иметь глухой или богатый, выразительный, "физиогномичный" тон[206]. Любовь, например, "связывает пространство": любящий человек ощущает себя близким с любимым, несмотря на расстояние, потому что в пространственной модальности любви расстояние трансцендируется. Счастье расширяет настроенное пространство, вещи кажутся увеличенными (но это совсем не макропсия!). Печаль ограничивает настроенное пространство, а отчаяние опустошает его. При шизофреническом переживании настроенное пространство теряет свою согласованность либо прогрессирующим образом (как в случае Эллен Вест, описанным в этой книге), либо внезапно (это Weltuntergangsgefuhl, чувство конца света при некоторых видах шизофрении).
Бинсвангер указал на тот факт, что при органических заболеваниях мозга пациент страдает от ухудшения ориентированного пространства, при маниакально-депрессивном психозе и шизофрении большее искажение приходится на настроенное пространство. При экспериментальных психозах (после употребления гашиша, мескалина и др.) искажения претерпевают оба вида пространственности.
Бинсвангер говорил о том, что его понятие настроенного пространства включает в качестве подтипов различные варианты пространственности, которые были описаны другими авторами. Хороший пример – это описание "танцевального пространства", выполненное Страусом[207]. Танец не может существовать в чистом состоянии, ему нужна музыка, которая наполняет и объединяет пространство. В пространстве танца, как и во всех видах настроенного пространства, нет "исторического движения", есть движение прилива и отлива. Танцевальное пространство не детерминировано расстоянием, направлением, размером и границами, это выборочный посредник ритма и демонстрируемых движений. Расстояние – это не количество, а качество этого пространства. Мы отсылаем читателя к статье Страуса по эстезиологии, включенной в этот сборник.
Минковски[208] описал пространство как ясное и темное, что позволяет нам выделить еще два подтипа настроенного пространства. Ясное пространство – это не только пространство горизонта, перспективы и отчетливости, это фундаментальная характеристика того, что Минковски назвал distance vecue (переживаемое расстояние): люди ощущают между собой "свободное пространство", которое допускает случайности, непредвиденные обстоятельства, эмоционально-нейтральные события и образует радиус жизни (мы бы сказали шире – "игровую площадку жизни"). Темное пространство мы переживаем как будто в смутном состоянии или тумане, это не просто отсутствие света, горизонта и перспективы. Феноменологически темнота – это темная, плотная, мрачная субстанция. Так как переживаемое расстояние исчезает, то больше нет радиуса жизни, жизненное пространство сужается, десоциализируется, оно сгущается вокруг индивида и даже проникает в его тело. По мнению Минковски, этот вид переживания пространства является субстратом бреда преследования. "Нормальная противоположность бреду преследования – не ощущение благожелательности... а чувство легкости жизни, неважно, хороша или плоха для нас жизнь, это чувство близко связано с феноменом переживаемого расстояния и радиуса жизни" (Минковски). Так, определенный тип параноидальных галлюцинаций становится понятным, если почувствовать незримое присутствие темного пространства, дополняющего обычное ясное пространство пациента.
К темному и ясному пространству можно добавить еще третий вид – светящееся пространство, где субъект находится будто бы ослепленный очень сильным светом. По-видимому, этот модус пространственности лежит в основе мистических и экстатических переживаний. Есть несколько работ, посвященных "мистическому опыту". Апостол Павел говорит о "ширине, длине, глубине и высоте" Любви Божьей. Иудейские мистики средневековья посвятили трактат измерению Славы Божьей, подсчитанной с помощью мистических единиц измерения[209] . Эти странные теории несомненно выражали глубинное переживание, которое мистики не могли выразить в более понятной форме. О переживаниях мистического пространства говорили многие пророки в разных странах во все времена. Гуидо Хьюбер[210] собрал тексты по этой теме и попытался определить общие характеристики, приписываемые мистическому пространству. Признаками этого пространства стали слияние субъекта и объекта в "космическом сознании", переживание совершенно иного пространства, в котором расстояние и размер трансцендированы, где огромные пространства умещаются в маленьких, где Вселенная в одно и то же время пуста и наполнена ослепляющим светом и т.д. Это переживание, которое Фрейд называл океаническим чувством, по-видимому, является подтипом переживания мистического пространства.
В своем исследовании Бинсвангер[211] определяет другие модусы пространственности (историческая, мифическая, эстетическая, техническая и т.п.), мы не можем здесь остановиться на них поподробнее, однако об их существовании следует помнить. Теперь мы должны вернуться к вопросу об ориентированном пространстве и упомянуть, что есть, по крайней мере теоретически, бесконечное разнообразие ориентированных пространств, отличающихся от ориентированного пространства нашего повседневного опыта, которое мы описали выше.
Давайте рассмотрим структуру пространства в некоторых картинах Шагала. Мы замечаем, что это пространство менее анизотропично по сравнению с привычным нам, то есть три измерения пространства не строго дифференцированы. В картине "Преклонение Эйфелевой башне" деревья пересекают воздух по горизонтальной линии слева направо и справа налево; ангелы проплывают сквозь оконное стекло, тогда как дома и люди находятся на вертикальной оси, а Эйфелева башня слегка завернута. В других картинах Шагала отсутствуют размер и пропорции, вещи наложены одна на другую, при этом их можно различить. Подводя итог, можно сказать, что это еще один тип ориентированного пространства, отличающийся от нашего повседневного опыта, как неевклидово пространство отличается от Евклидова.
Еще один пример: люди, которые ходят на объемное (трехмерное) кино (синерама), часто бывают поражены странностью картинок. Хотя эти картины красивее естественных, однако они кажутся нереальными. Внимательное наблюдение показывает, что в таком пространстве меньше прямых линий и больше кривых, чем в обычном, и это пространство гиперсимметрично (не говоря уже о преобладании некоторых цветов). Этих небольших модификаций достаточно для того, чтобы придать миру странный оттенок нереальности.
Вероятно, теперь мы лучше подготовлены к вопросу о клиническом применении пространственности. Вековиц (Weckowicz)[212] показал, что с точки зрения ориентированного пространства у многих пациентов, страдающих шизофренией, наблюдаются аномалии зрительного восприятия, а Хамфри Озмонд (Osmond)[213] продемонстрировал, что эти аномалии подтверждают заключения, важные для архитектуры психиатрических больниц. Но при шизофрении не менее важны искажения настроенного пространства (вспомним описание роли темного пространства как субстрата бреда преследования). В одной группе пациентов, страдающих шизофренией, основное пространственное расстройство похоже на незаконное вторжение математического пространства в ориентированное. Минковски[214] описал "болезненный геометризм", склонность к гиперсимметрии при некоторых видах шизофрении. В другой группе, страдающих шизофренией, пациентам кажется, что за ними наблюдают невидимые наблюдатели, которые находятся за пределами трехмерного пространства. Пациенты слышат голоса, в реальности которых они не сомневаются, хотя и признают, что никого нет согласно законам нашей действительности. Такие явления можно было бы понять, если бы мы приняли положение, что эти пациенты переживают четырехмерный тип пространственного характера, и им открыто четвертое измерение. Именно из этого измерения за ними наблюдают и говорят.
Одно из главных открытий феноменологии заключается в том, что галлюцинации и бред нельзя понять, не обладая знанием пространственного переживания пациента. Это превосходно описал Мерло-Понти[215]: "Что охраняет здорового человека от бреда или галлюцинаций, так это структура его пространства, а не проверка реальности"[216].
Эта структура пространственности сложна, и она сильно отличается у разных индивидов. Феноменологический анализ ориентированного пространства должен изучить его составляющие элементы, а именно: его границы, расстояния вправо и влево, направления и вертикальную ось.
По мнению Бинсвангера[217] и Башляра[218], вертикальная ось – это основная ось человеческого существования, наши главные жизненные переживания связаны именно с ней. Жизнь ощущается как постоянное движение вверх или вниз. Движение вверх метафорически выражается как светлеющее, поднимающееся, направленное вверх к царству мира и света; о движении вниз говорят как о понижении, падении, утяжелении, угнетении, подавлении.
Расстояние также имеет феноменологические значения. Альфред Адлер[219] описал различные способы, с помощью которых невротик устанавливает дистанцию между собой и своей жизненной целью, миром, другими людьми. Минковски[220] проанализировал другой тип переживаемого расстояния: свободное пространство, которое мы в норме ощущаем вокруг себя, которое дает нам полноту жизни и которого сильно не хватает многим невротикам и пациентам, страдающим шизофренией. Интересные клинические данные, основанные на феноменологическом анализе, были опубликованы Роландом Куном[221] и Д. Каргнелло (Cargnello)[222].
Зоопсихологи[223] выделили два особых типа расстояния – расстояние бегства (расстояние, с которого животное убегает от человека) и расстояние угрозы (оно, конечно, короче; это расстояние, с которого животное переходит на контратаку). У каждого вида животных есть такое характерное для него расстояние, его можно довольно точно измерить. Прекрасно зная эти расстояния, дрессировщик способен управлять и приручать животных. Недавно эти понятия были применены к исследованию хронических психически больных, находящихся в больнице[224]. Оказалось возможным сравнить использование пространственного расстояния дрессировщиком с использованием психологического расстояния психотерапевтом. Разве психотерапевт, изучая защиты пациента, не чувствует то эмоциональное расстояние, которое спровоцирует у пациента уход в себя (расстояние бегства), и то, которое вызовет агрессивную реакцию (расстояние угрозы)?
В рамках этой статьи у нас нет возможности изложить богатейший феноменологический материал по проблеме симметрии и асимметрии (и символическому значению правого и левого)[225], а также представить данные о границах и пределах[226].
3. Причинность. В опыте нормального цивилизованного человека область причинности разделена на три принципа: детерминизм, случайность и интенциональность (под которой мы имеем в виду биологическую конечность или свободные осознанные намерения человека). Мы знаем, что детерминизм преобладает в субъективных переживаниях меланхоликов, а случайность – в переживаниях, характерных для лиц, находящихся в маниакальной стадии. Последние живут в мире полной безответственности, этот мир не очерчен ни прошлым, ни будущим, в нем все происходит абсолютно случайно. Меланхолики, напротив, чувствуют себя подавленными грузом прошлого, им кажется, что они ничего не могут изменить, так как не осталось почти ничего случайного или произвольного. Эти два принципа – детерминизм и случайность – теряют свое значение у некоторых параноиков, которые даже в совершенно случайных событиях видят след намерений.
4. Материальность (субстанция). Рассмотрев темпоральность, пространственность и причинность, феноменологический анализ должен перейти к вопросу субстанции самого мира, изучить, как он проявляется в своих физических качествах: консистенция (жидкий, мягкий, вязкий); напряжение, масса, тяжесть и освещенность; горячесть и холодность; свет, цвет (например, депрессивные пациенты все видят "в черном цвете", а маниакальные – "в розовом") и т.д. Проводя экзистенциальный анализ скачки идей у маниакальных пациентов, Бинсвангер[227] обнаружил следующие черты миров его пациентов: консистенция характеризовалась как светящаяся, мягкая, гибкая, полиморфная, были выделены такие оптические качества, как яркость, красочность, розовость и яркая освещенность.
Более того, феноменологический анализ должен рассмотреть распределение и относительное преобладание четырех элементов – огня, воздуха, воды и земли – в субъективных мирах пациентов. Большое значение имеет исследование Башляра[228]. В случае Эллен Вест, который описан в этом сборнике, читатель увидит, какую роль Бинсвангер приписывает элементам "воздуха" и "земли" в мирах субъективного переживания пациентов.
Исследование категории материальности можно расширить, включив сюда растительное и животное царства. Примером такого анализа может послужить работа Башляра[229], посвященная французскому поэту-сюрреалисту Лотреамону. Анализируя его метафоры, Башляр обнаружил, что многие из них были взяты из животного мира, в них говорилось о когтях и сосунках. Из такого "животного кода" Башляр сделал много выводов относительно внутреннего универсума и глубинной личности Лотреамона. Такой подход напоминает нам, что феноменологически ориентированный психолог иногда может обнаружить в "животных ответах" теста Роршаха.
5. Реконструкция внутренних миров. Каким бы ни был метод феноменологического анализа, его целью всегда является реконструкция внутреннего мира переживаний субъекта. У каждого человека свой способ переживания темпоральности, пространственности, причинности и материальности, но каждое из этих направлений необходимо понять в его связи с другими направлениями и с внутреннем миром в целом.
Возьмем для примера случай депрессивного пациента Минковски, страдающего шизофренией (он представлен в этом сборнике). Минковски начинает свой анализ с переживания пациентом времени, что дает ему ключ к исследованию. Он также приходит к мысли, что "ум пациента утратил способность останавливаться и фиксироваться на границах предметов" (искажение пространственности) и что пациент не верит, что события могут быть случайными (причинность). В бреде пациента не упоминается воздух, вода или огонь, но есть ссылки на металлические и земляные субстанции (материальность).
Не менее важно рассмотреть и относительную значимость феноменологических координат по сравнению друг с другом. Минковски[230] обнаружил, что при некоторых видах шизофрении временной или пространственный код изменяются: пациенты снижали ценность времени и переоценивали пространство. Это выражалось в "пространствезации мысли" и в "болезненном геометризме" этих пациентов. Читая газету, один из них заявил, что расширение вокзала – пространственное событие – гораздо важнее изменений финансовой ситуации – темпорального события. Этим пациентам не хватало способности ассимилировать любые виды движений и длительности. Одному из них хотелось иметь "промежуточный" день между "бездной" прошлого и "горой" будущего. Их ненависть к изменениям объяснялась склонностью к жесткому планированию времени, ригидным и упрямым отношением к жизни. "Пространственная мысль" проявлялась в их любви к симметрии, в "архитектурных характеристиках" их объяснений, в предпочтении больших ящиков, массивных каменных зданий, толстых стен и запертых дверей. Эта любовь к симметрии заходила так далеко, что один из них сожалел о том, что его тело не является сферой, то есть совершенной геометрической фигурой.
Особые феноменологически миры были описаны не только в психопатологии. Эдуард Реннер (Eduard Renner)[231], приверженец этнофеноменологии, считал, что нет такого явления, как примитивный ум, а есть два фундаментальных, антагонистических контура мира: магический и анимистический миры. Он дал прекрасный феноменологический анализ[232] этих двух миров. Реннер пишет, что в магическом мире время и пространство – это свойства субстанций. В анимистическом мире время и пространство не только содержат субстанции, но они сами субстанциализированы, наделены качествами субстанции и их чудесными свойствами. Эти понятия Реннера кажутся очень далекими от психиатрии, но на самом деле "магический" и "анимистический" миры поразительно похожи на некоторые пространственно-временные структуры, которые феноменологи случайно обнаруживают в сновидениях и некоторых видах шизофрении.
Замечания. Хотя феноменология фокусируется на субъективных состояниях сознания, во многих случаях она пересекается с открытиями поведенческой и экспериментальной психологии. С другой стороны, психоанализ внес большой вклад во многие экзистенциальные находки. Но феноменология совершенно игнорирует психологическую и физическую причинность, отличаясь этим от психоанализа, даже когда рассматривает переживание времени и пространства[233]. Феноменологические и психоаналитические исследования могут взаимно обогатить друг друга, так как они обладают стереоскопическим эффектом, рассматривая один вопрос с двух разных точек зрения.
III. ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
Реконструкция внутреннего мира пациента для феноменолога может быть целью самой по себе, но если он экзистенциальный аналитик, то это только часть его задачи. Однако здесь необходимо прояснить различие между экзистенциальной философией, экзистенциальной терапией и экзистенциальным анализом Бинсвангера, так как в связи с этими тремя областями возникает большая путаница.
А. Экзистенциальная философия
Экзистенциализм – это философское направление мысли, центром интереса которого является рассмотрение данного существования человека, его собственное существование. Экзистенциальное мышление зародилось в незапамятные времена во многих религиозных и философских системах. Кьеркегор первым четко описал основные положения этого направления. В наше время эти концепции разрабатывались Ясперсом, Хайдеггером, Сартром и религиозными экзистенциалистами (Марсель, Бердяев, Тиллих). Больше всех на психиатрию повлиял Хайдеггер.
Мы можем выделить три главных источника мысли Хайдеггера.
Точка отсчета – это старая проблема "бытие или существование". Античные философы противопоставляли сущность и существование. Абстрактное понятие и знание о треугольнике открывает нам "сущность" треугольника; нарисованный треугольник являет его "существование". Философия сущностей Платона утверждала, что все, что существует, – это отражение сущности, или "идеи". Современные философы, особенно Дильтей, сконцентрировали проблему на том факте, что понятие существования должно сильно различаться у неодушевленных предметов и у человеческих существ. Философия Хайдеггера основывается на противопоставлении существования как Vorhandensein (характеристика вещей) и как Dasein (для человеческих существ). Непереводимое слово Dasein обозначает модус существования, характерный для людей. Таким образом, философия Хайдеггера – это Daseinanalytik (анализ структуры Dasein).
Кьеркегор выделил некоторые основные черты структуры человеческого существования. Человек – это не готовое бытие, человек становится тем, кого он из себя делает, не более того. Человек создает себя, выбирая то или иное, потому что он обладает свободой витального выбора, прежде всего он свободен выбрать аутентичную или неаутентичную форму существования. Неаутентичное существование – это модус человека, который живет под тиранией plebs (толпы, безликой массы). Аутентичное существование – это модус, в котором человек принимает ответственность за свое существование. Чтобы перейти от неаутентичного существования к аутентичному, человек должен вынести тяжелое испытание отчаяния и экзистенциальной тревоги, то есть тревоги человека, который столкнулся с границами своего существования со всеми вытекающими последствиями: смерть, ничто. Кьеркегор называет это "болезнью насмерть" или "смертельной болезнью".
Хайдеггер был учеником Гуссерля, у которого перенял принципы феноменологии. В основном философия Хайдеггера – это феноменология человеческого Dasein[234]. Это неповторимо тонкий и глубокий анализ, одно из самых великих достижений философской мысли.
Данная философская система повлияла на психиатрию тремя способами: (1) она стимулировала развитие экзистенциальной психотерапии; (2) она повлияла на таких психиатров, как Альфред Сторч[235] и Ганс Кунц[236]; (3) она вдохновила Людвига Бинсвангера на разработку новой психиатрической системы Daseinsanalyse (экзистенциальный анализ).
Б. Экзистенциальная психотерапия
Экзистенциальная психотерапия – это простое приложение некоторых экзистенциальных понятий к психотерапии, безотносительно к феноменологии и психоанализу. Ее не следует путать с экзистенциальным анализом Бинсвангера. В экзистенциальной психотерапии нет стандартной системы или метода, но три ее понятия заслуживают особого внимания.
Понятие экзистенциального невроза, то есть болезни, возникающей не столько из-за вытесненной травмы, слабого эго или жизненного стресса, сколько из-за неспособности индивида увидеть смысл жизни, поэтому он продолжает жить в неаутентичном экзистенциальном модусе. Человек должен найти смысл жизни и перейти в аутентичный модус существования[237].
Экзистенциальный психотерапевт предпочитает психоаналитическому переносу другое межличностное переживание – встречу. Встреча[238] – это не случайное свидание или первое знакомство двух индивидов, а решающее внутреннее переживание, имеющее значение для одного из двух индивидов (иногда для обоих). Открывается нечто совершенно новое, становятся видны новые горизонты, Weltanschauung (мировоззрение – нем.) пересматривается, иногда перестраивается вся личность. Такие встречи могут быть очень разнообразными, например: с философом, который открывает новый способ мышления, или с человеком, обладающим большим жизненным опытом, практическим пониманием человеческой природы, героическими достижениями, независимой личностью. Встреча может принести неожиданную свободу от равнодушия или иллюзии, расширить духовные горизонты и придать жизни новый смысл.
Очевидно, что у встречи нет ничего общего с переносом в строгом смысле этого слова, как его определил Фрейд. Встреча вовсе не является ожившими межличностными отношениями далекого прошлого, она работает своей новизной. С другой стороны, ее не следует смешивать с отождествлением. Если личность субъекта меняется, то это не означает, что он копирует модель. Это означает, что модель служит катализатором, в чьем присутствии человек приходит к осознанию своих лучших скрытых способностей и начинает формировать собственное "я" (в терминологии Юнга дополняет прогресс своей индивидуацией).
Некоторые психотерапевты используют такое экзистенциальное понятие – kairos. Это греческое слово в медицинской системе Гиппократа означало характерный момент, когда в ходе тяжелой болезни ожидалось изменение к лучшему или худшему; на короткое время проявлялись "критические" симптомы, обозначая новое направление. Опытный врач мог доказать свой профессионализм, сумев справиться с этой ситуацией. Этому давно забытому понятию дали вторую жизнь Пауль Тиллих (Р.Tillich)[239], введя его в свое теологическое поле, и Артур Кьелхолц (А.Kielholz)[240], представив в курсе психотерапии.
Хорошие психотерапевты всегда знали, что есть особое время, когда конкретный пациент внутренне готов к данному виду вмешательства, и такое вмешательство в этот момент будет успешным, тогда как до этого момента оно было бы преждевременным, а после – бесперспективным. Сотрудники общества трезвости часто демонстрируют свою способность выбирать подходящее время для интервью с алкоголиками. Они стараются выбрать такой момент, когда пьяница близок к отчаянию, когда он сознает, что катится в пропасть и уже не способен себе помочь, но у него все еще есть желание спастись. Согласно Кьелхолцу, подобные примеры критических, решающих моментов – kairos – не редко встречаются и среди невротиков, психопатов и даже психотиков. К сожалению, понимание психотерапевтического лечения часто связывается с идеей стандартного развивающего курса, который включает в себя постепенную проработку и разбор переноса, и где уделяется мало внимания тем моментам, когда время неожиданно приобретает совершенно иное качество и ценность. Такие критические моменты, если ими управлять надлежащим образом, позволяют опытному психотерапевту удивительно быстро вылечить пациента, случай которого считался тяжелым или даже безнадежным.
В. Экзистенциальный анализ Бинсвангера
То, что Бинсвангер назвал Daseinsanalyse (экзистенциальный анализ), представляет собой синтез психоанализа, феноменологии и экзистенциальных идей, модифицированных новым взглядом. Это реконструкция внутреннего мира переживаний психиатрических пациентов, осуществляемая с помощью понятийной схемы, в основе которой лежат исследования структуры человеческого существования, проведенные Хайдеггером.
Бинсвангер, психиатр школы Эугена Блейера, был одним из первых последователей Фрейда в Швейцарии. Тогда, в начале двадцатых годов, вместе с Юджином Минковски он стал одним из первых сторонников психиатрической феноменологии. Его движение в сторону экзистенциального анализа началось с работы "Сновидение и существование" (1930) и исследований мании (1931-1932). Собственную систему он изложил в своей главной работе[241], а затем проиллюстрировал серией клинических случаев. Первый из этих случаев – "Элен Вест", впервые опубликован на английском языке в этом сборнике.
На Бинсвангера также повлияла книга Мартина Бубера "Я и Ты"[242]. Бубер весьма поэтично описал два разных значения местоимения "я" в зависимости от его отношения к "ты" или к "нему". В сфере Я-Ты, "я" выражается всем существом и подразумевает ответ. Это сфера "встречи" первичных человеческих отношений и Духа. В сфере Я-Ему "я" выражается только частью бытия. Это сфера утилитарных отношений. Бинсвангер развил эти идеи, описал "дуальный" и "множественный" модусы существования и добавил к ним "сингулярный" и "анонимный".
Между феноменологией и экзистенциальным анализом существуют некоторые различия:
Экзистенциальный анализ не ограничивается исследованием состояний сознания, он принимает во внимание всю структуру существования индивида.
Тогда как феноменология подчеркивала единство внутреннего мира переживаний индивида, экзистенциальный анализ утверждает", что один индивид может жить в двух и более, иногда конфликтующих, "мирах".
Феноменология принимает во внимание только непосредственные субъективные миры переживаний. Бинсвангер подчеркивал тот факт, что это исследование подразумевает изучение биографии, проводимое психоаналитическими методами.
Таким образом, экзистенциальный анализ отличается от феноменологии тем, что он работает по более широкой схеме.
В своем первом экзистенциальном исследовании Бинсвангер развел Umwelt, Mitwelt и Eigenwelt своих пациентов. Позднее центром его анализа стала более широкая область: различение "экзистенциальных модусов".
"Экзистенциальный модус" – это измерение Dasein, соответствующее Mitwelt (миру других людей). В противоположность классической психологии, которая утверждает о непрерывности и тождественности субъекта, экзистенциальный анализ принимает во внимание тот факт, что "я" изменяется в соответствии с различными видами "дуальным", "множественным", "сингулярным" и "анонимным" экзистенциальных модусов.
Дуальный экзистенциальный модус очень приблизительно соответствует понятию "близость" и является расширением взглядов Бубера на отношения Я-Ты. Этот модус включает в себя отношения матери и ребенка, брата и сестры, любящего и возлюбленного и даже (по мнению Бубера) верующего и Бога. Бинсвангер дает обширный анализ двух видов таких отношений, дуального модуса любви и дружбы[243]. Он утверждает, что в дуальном модусе любви пространство представляет парадокс: оно является одновременно бесконечным, и в тот же момент оно все здесь. Расстояние и близость трансцендируются особенным пространственным модусом, который несет в себе такое же отношение к пространству, какое вечность – ко времени. Дуальный модус любви – это манифест острой необходимости вечности, не только будущего, но и прошлого. Момент совпадает с вечностью, исключая при этом мимолетное течение времени. Этот Heimat (внутренняя родина любви), который выходит за пределы пространства и в котором растворяются момент и вечность, по мнению Бинсвангера, образует ядро нормального экзистенциального существования.
Экзистенциальные аналитики рассмотрели многие проблемы в свете дуального экзистенциального модуса. Босс[244] проанализировал аспекты брака: нормальный брак имеет дуальный модус, а в "деградирующих видах брака" партнеры живут во множественном или сингулярном экзистенциальном модусе.
Множественный модус приблизительно соответствует области формальных отношений, сфере конкуренции и борьбы. Здесь близость "Ты и Я" уступает место со – существованию "я и других" или двух существ, которые "соперничают" друг с другом. Бинсвангер описывает разные способы "понимания" и "уступок" другому человеку с помощью чувствительности, страсти, нравственности, репутации и т.п. Таким образом, многие психопатологические проблемы были рассмотрены в новом свете.
Сингулярный модус – это отношения человека с самим собой (включая его тело). Психоанализ говорит о нарциссизме, самообвинении и саморазрушающем поведении. Понятие Бинсвангера гораздо шире, оно включает большой круг интрапсихических отношений, который он очень тонко анализирует. Эти исследования также проливают свет на определенные проблемы, например, внутренние конфликты рассматриваются как различные варианты наложения сингулярного модуса на множественную модель. Аутизм – это не просто дефицит отношений с другим человеком, а особая форма отношений с самим собой.
Бинсвангер сделал только наброски анонимного модуса. Дальнейшее развитие этот вид получил в работах Куна[245] по интерпретации масок в тесте Роршаха. Это форма индивидуальной жизни и действий в безликой массе, например, как участника маскарада или солдата, убивающего и погибающего от рук тех, кого он не знает. Некоторые индивиды ищут в этом модусе прибежище, что для них является способом бегства или борьбы с другими людьми. Как показывает Биндер (Binder)[246], в последнем случае мы имеем дело с авторами анонимных писем.
IV. ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ЗНАЧЕНИЯ
Мы должны выделить несколько моментов, говоря о значениях экзистенциального анализа для психотерапии.
Необходимо понимать, что деятельность экзистенциального аналитика обычно внешне не отличается от работы обычного психиатра или психоаналитика. Он изучает поведение пациента, его речь, письмо, сновидения и свободные ассоциации, восстанавливает его биографию. Делая это, он несколько иначе наблюдает за пациентом и классифицирует наблюдения в соответствии с представлениями экзистенциального анализа. Часто это дает возможность более глубокого понимания и постепенно может привести к созданию новых подходов в психотерапии. Экзистенциальный аналитик в своих межличностных отношениях с пациентом сознает феномен "встречи" и отличает его от переноса и контрпереноса (в первичном строгом смысле этих терминов).
Феноменология открывает дорогу к новому типу психотерапии, которая все еще находится на ранних стадиях своего развития. У каждого индивида есть собственный субъективный "мир". Исследования в области восприятия, например работы Гарднера Мерфи, показывают связь между личностью индивида и тем, как он воспринимает сенсорный мир. Исследования Мерфи демонстрируют, что ошибки восприятия могут быть исправлены, а воспринимающий – переобучен. Это относится и к феноменологии в общем. Подход индивида к темпоральности, пространственности и т.п. может быть пересмотрен и изменен, конечно, независимо от других методов, которые сохраняют свою ценность. Возьмем случай агорафобии. Психоаналитическое исследование раскроет психогенез симптомов и будет лечить их причину. Феноменология покажет субъективные расстройства переживания пространственности, которые можно вылечить, как и при аналитическом подходе. Кун в упомянутой выше статье описывает, как он лечил девушку, страдающую от анорексии, используя понятие "расстояние". Это не означает, что ее нельзя было вылечить аналитически ориентированной психотерапией или с помощью обоих направлений одновременно. Удивительно, насколько доступны необразованные или очень больные пациенты для феноменологических вопросов. Перед нами лежит огромное поле исследований и открытий.
Реконструкция субъективного мира пациента – это гораздо больше, чем просто академическое упражнение. Пациенты – это не инертный материал, они так или иначе реагируют на любое действие. Возьмем для примера пациента, страдающего тяжелой формой регрессивной шизофрении. Если психиатра интересует только интеллектуальное, одностороннее научное исследование, то пациент почувствует, что его личность не принимается во внимание. Такое исследование может оказаться вредным. С другой стороны, если оно проводится с подлинным интересом к личности пациента, то пациент почувствует себя понятым. Он будет походить на засыпанного после взрыва землей шахтера. Он слышит, что помощь уже рядом. Он не знает, смогут ли они до него добраться и спасти, но он знает, что они работают, делают все, что могут, и чувствует уверенность.
Я думаю, что лучшим заключением будут слова профессора Манфреда Блейлера[247] о значении экзистенциального анализа в исследовании шизофрении. Он написал их несколько лет назад:
"В отношении шизофрении экзистенциальный анализ занял независимую и очень значимую позицию...
Экзистенциальный анализ вполне серьезно относится к высказываниям пациентов, в нем не больше предубеждения или пристрастия, чем в обычном разговоре нормальных людей... Экзистенциальный анализ отказывается исследовать патологические выражения с точки зрения их странности, абсурдности, нелогичности или других дефектов. Он пытается понять тот конкретный мир переживаний, на который указывают эти переживания, понять, как этот мир формируется и как распадается... Экзистенциальный аналитик воздерживается от любых оценок... Из внимательного и неустанного восприятия того, что выражается в диалоге, другими словами, эмпирическим путем пациент трансформируется, для него становится ясным совершенно иное существование... Из описаний, которые давали сами пациенты, говоря об изменениях в их мире существования, можно прекрасно логически понять их разнообразные выражения, галлюцинации, жесты и движения.
Значимым результатом экзистенциального аналитического исследования шизофрении является открытие того, что даже при шизофрении человеческий дух не расщепляется на части... Все выражения шизофрении (лингвистические, кинестетические, иллюзорные и т.п.) безошибочно взаимосвязаны друг с другом, как разные части гештальта... Экзистенциальный анализ открывает новые возможности, сравнимые с первыми попытками Бургхолцли (Burgholzli) понять симптомы шизофрении...
В душевной жизни человека, страдающего шизофренией, экзистенциальный аналитик показывает не просто усыпанное осколками поле, а сохранившуюся структуру. Тогда становится ясно, что его психическую жизнь надо описывать не как набор симптомов, а как целое, как гештальт...
Экзистенциальный анализ... также помогает – и это я обнаруживаю в своей повседневной работе – в лечении людей, страдающих шизофренией. Отношение экзистенциального аналитика может иногда очень неожиданно помочь найти правильное слово в разговоре с замкнутым в себе или "отсутствующим" пациентом. Если аналитик употребит такое слово правильным образом и в правильное время, то он создаст мост через пропасть между пациентом и доктором. Таким образом, есть надежда, что систематическую психотерапию можно построить на основе тщательного экзистенциального аналитического обследования пациента. В то же время, как не уставал говорить Людвиг Бинсвангер, такая психотерапия сама по себе будет недостаточной для практических обоснований методологии, ей нужно высветить всю историю жизни пациента, особенно в психоаналитическом смысле".
7. Людвиг Бинсвангер. ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ШКОЛА МЫСЛИ[248] I. ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ – ЕГО ПРИРОДА И ЦЕЛИ
Под экзистенциальным анализом мы понимаем антропологический[249] тип научного исследования, то есть такой тип, который направлен на изучение сущности человеческого бытия. Название и философская основа происходят из работы Хайдеггера "Daseins Analytics". Это его заслуга, хотя еще не полностью признанная, – открытие фундаментальной структуры существования и описания его сущностных частей, то есть структуры бытия-в-мире. Отождествляя основное условие, или структуру, существования с бытием-в-мире, Хайдеггер тем самым хочет сказать об условии возможности существования. Формулировка "бытие-в-мире", использованная Хайдеггером, лежит в природе онтологического тезиса, утверждения о сущностном условии, которое определяет существование в общем. Из открытия и представления этого сущностного условия экзистенциальный анализ получил решающий стимул, философское основание и разъяснение, а также методологические указания. Однако сам экзистенциальный анализ – это не онтология и не философия, следовательно, его нельзя определять как философскую антропологию. Как читатель скоро поймет, в данной ситуации подходит только название феноменологическая антропология.
Экзистенциальный анализ не предлагает онтологического тезиса о сущностном условии, определяющем существование, но он заявляет о существующем, то есть утверждает о фактических открытиях, которые касаются действительно появляющихся форм и конфигураций существования. В этом смысле экзистенциальный анализ – это эмпирическая наука, имеющая собственный метод и идеал точности, а именно, метод и идеал точности феноменологических эмпирических наук.
Сегодня мы должны признать тот факт, что существуют два типа эмпирического научного знания. Один – это дискурсивное индуктивное знание в смысле описания, объяснения и контроля естественных событий, а второе – это феноменологическое эмпирическое знание в смысле методического, критического использования или понимания содержания феномена. Это старая полемика между Гете и Ньютоном, которая сейчас, уже совсем не волнуя нас, превратилась благодаря нашему глубокому проникновению в природу переживания из "или-или" в "а также". Одно и то же феноменологическое эмпирическое знание используется независимо от того, имеем ли мы дело с литературным содержанием поэмы или драмы, с содержанием я-и-мир в тесте Роршаха или с содержанием психотической формы существования. В феноменологическом опыте дискурсивное знание разлагает естественные объекты на их характеристики, или качества; их индуктивная доработка до типов, понятий, умозаключений, выводов и теорий заменяется приданием содержанию выражения того, что дается чисто феноменально, следовательно, в любом случае не является частью природы как таковой. Но феноменальное содержание может найти свое выражение и, будучи выраженным, раскрыться только в том случае, если мы проводим исследование с помощью феноменологического метода, в противном случае мы получим не научно обоснованный и проверенный результат, а просто случайное мимолетное впечатление. Здесь, как и в любой науке, все зависит от метода исследования, то есть от способов и средств феноменологического метода переживания.
За последние несколько десятилетий концепция феноменологии несколько изменилась. Сегодня мы можем провести строгое различие между чистой, или эйдетической, феноменологией Гуссерля как трансцендентальной дисциплиной и феноменологическим пониманием форм человеческого существования как эмпирической дисциплиной. Но понимание последней невозможно без знания первой.
Здесь нам необходимо воздержаться от того, что Флобер назвал la rage de vouloir conclure, то есть преодолеть страстное желание делать заключения, формировать мнения или высказывать оценки – нелегкая задача, учитывая нашу одностороннюю естественно-научную интеллектуальную подготовку. Вместо размышлений о чем-то мы должны разрешить этому чему-то высказаться самому, или, опять цитирую Флобера, "выразить вещь как она есть". Однако как она есть содержит несколько фундаментальных онтологических и феноменологических проблем. Мы, смертные, можем получать информацию о как вещи только в соответствии с миро-проектом, который руководит нашим пониманием вещей. Следовательно, я снова должен вернуться к тезису Хайдеггера о существовании как бытии-в-мире.
Онтологический тезис, что базисный проект, или структура существования, – это бытие-в-мире, не является философским взглядом, а, скорее, представляет очень последовательное развитие и расширение фундаментальных философских теорий, а именно, теории Канта об условиях возможности опыта (в естественно-научном смысле), с одной стороны, и теории Гуссерля о трансцендентальной феноменологии – с другой. Я не буду разбирать в деталях эти связи. Я хочу подчеркнуть здесь только тождество бытия-в-мире и трансцендирования, так как через это отождествление мы можем понять, что означает "бытие-в-мире" и "мир" в их антропологическом смысле. В немецком языке трансцендирование выражается словом Ueberstieg (перелезть, переливаться через край, выходить из берегов). Ueberstieg требует, во-первых, того, к чему оно направлено, а во-вторых, того, что ueberstiegen, или трансцендируется. Первое, то есть то, к чему направлено трансцендирование, мы называем "миром", а второе, то, что трансцендируется, бытием (das Seiende selbst), особенно то, в форме чего существует человеческое существо. Другими словами, не только "мир" строит себя в акте трансцендирования, будь это только заря мира или объективированное знание, но и само "я" тоже.
Почему мне приходится упоминать здесь такие, казалось бы, сложные и запутанные вопросы? Только потому, что роковой дефект всей психологии, дефект теории разделения мира на субъекта и объекта, был преодолен через понятие бытия-в-мире как трансцендирования и таким образом был расчищен путь для антропологии. Благодаря этой теории человеческое существование было полностью сведено к субъекту, к субъекту без мира, с которым происходят всевозможные события, случайности; который наделен самыми разнообразными функциями, всеми видами черт и типами действий. Однако никто не был в состоянии сказать (несмотря на все теоретические построения), как субъект вообще может встретиться с "объектом", как он может общаться и достигать понимания с другими субъектами. В противоположность этому, бытие-в-мире всегда подразумевает существование в мире вместе с такими же, как я, существами, то есть сосуществование. Хайдеггер в его концепции бытия-в-мире как трансцендирования не только вернулся к моменту, предшествовавшему субъект-объектной дихотомии знания, не только уничтожил разрыв между миром и "я", но он также показал структуру субъективности как трансцендирование. Таким образом, он открыл новый горизонт понимания, дал новый импульс научному исследованию человеческого существования и его особым модусам бытия. Вместо расщепления бытия на субъекта (человека, личность) и объекта (вещь, окружающую среду) теперь у нас есть единство существования и "мира", обеспечиваемое трансцендированием[250].
Трансцендирование подразумевает гораздо большее и нечто более особенное, чем знание, даже большее, чем интенциональность в понимании Гуссерля, так как "мир" стал достижимым для нас в первую очередь с помощью нашего "ключа" (Stimmung). Если мы на минуту вспомним определение бытия-в-мире как трансцендирования и рассмотрим с этой позиции наш психиатрический анализ существования, то мы поймем, что, исследуя структуру бытия-в-мире, мы также можем заниматься изучением психозов; более того, сознаем, что должны понимать психозы как особые модусы трансцендирования. В таком контексте мы не говорим: психические заболевания – болезнь мозга (хотя, конечно, с медицинской точки зрения это так); но мы говорим: в психических заболеваниях мы сталкиваемся с модификациями фундаментальных, или сущностных, структур и структурных связей бытия-в-мире как трансцендирования. Одна из задач психиатрии заключается в исследовании и установлении этих отличий точным научным способом.
Как можно увидеть из нашего анализа, пространственные и временные характеристики существования играют в экзистенциальном анализе важную роль. Я здесь ограничусь более значимой проблемой времени. Особую значимость этой проблеме придает тот факт, что трансцендирование уходит своими корнями в саму природу времени, в его раскрытие в будущее, в то, что уже было (Gewesenheit), и настоящее. Это поможет объяснить, почему в нашем антропологическом анализе психотических форм человеческого бытия мы не можем удовлетвориться своим исследованием, пока не достигнем хоть какого-то понимания разных вариантов структуры времени нашего пациента...
В тех формах бытия-в-мире, которые обычно называют психотическими, мы обнаружили два типа модификаций "миро"-устройства. Один из них характеризуется скачками (упорядоченная скачка идей) и метаниями (неупорядоченная скачка идей), а другой – уменьшением и одновременным сужением существования вместе с его обращением в трясину и прах (Verweltlichung)[251]. Последнее мы можем описать следующим образом: свобода, разрешающая "миру" быть, заменяется несвободой подавленности при помощи того или иного "миро-проекта". Например, в случае Эллен Вест свобода формирования "возвышенного" мира была замещена все возрастающей несвободой погружения в тесный могильный и заболоченный мир. Однако "мир" обозначает не только миро-устройство и его пре-проект, но – исходя из пре-проекта и образа модели – он обозначает как бытия-в-мире и отношение к миру. Так можно определить трансформацию возвышенного в приземленное при изменении существования, отражающуюся в том, что прекрасная птица существует в форме ползучего слепого червя.
Все это подводит нас только к внешним вратам фундаментальной онтологии Хайдеггера, или к "Daseins Analytics", непосредственно к порогу антропологического, или экзистенциального, анализа, порожденного первым и базирующимся на нем. Но я спешу описать метод экзистенциального анализа и область его научных функций. В этой связи я должен упомянуть, что моя позитивная критика теории Хайдеггера позволила мне расширить ее: бытие-в-мире как бытие существования ради меня (обозначенное Хайдеггером как Sorge, "забота") было соотнесено с бытием-за-пределами-мира как бытием существования ради нас (обозначенным мною как "любовь"). Это изменение системы Хайдеггера следует учитывать особенно при анализе психотических форм существования, где мы часто наблюдаем модификации трансцендирования скорее в смысле "сверхскачка"[252] любви, чем "сверхподъема" заботы. Позвольте нам только напомнить огромный комплекс сужения экзистенциальной структуры, который мы, обобщая, называем "аутизм".
II. РАЗЛИЧИЕ МЕЖДУ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ СУЩЕСТВОВАНИЕМ И СУЩЕСТВОВАНИЕМ ЖИВОТНОГО
"Мир" в его экзистенциально-аналитическом значении и "окружающий мир" (Umwelt) в его биологическом значении
Хотя наше описание было довольно общим, а наши высказывания неполными, я надеюсь, что они все же сумели обозначить, почему в нашем анализе понятие "мир" – в смысле миро-устройства или "миро-проекта" ("мунданизация" Гуссерля [Mundanisierung]) – представляет одно из основных и наиболее важных понятий и даже используется как методологический ключ. Что миро-проекта всегда предоставляет информацию о как бытия-в-мире и как бытия собой. Чтобы прояснить природу миро-проекта, я сопоставлю его с некоторыми миро-понятиями биологической природы. Первым вспоминается биологическое миро-понятие фон Уэкскюля, особенно потому, что оно обладает определенным сходством в методологическом применении. С него я и начну. Фон Уэкскюль выделяет мир восприятия (Merkwelt), внутренний мир и мир действий животных, соединяя мир восприятия и мир действий под общим названием "окружающий мир" (Umwelt, или "мир-вокруг"). "Круговую интеракцию" между этими мирами он обозначает как функциональное кольцо. Как мы говорили, что невозможно описать психозы человека, не привлекая его "миры", так же и фон Уэкскюль утверждает: "Невозможно описать биологию животных, пока мы полностью не привлечем их функциональные кольца"[253]. Мы продолжили: "Следовательно, наше принятие существования числа миров по числу психотиков совершенно оправдано" вместе с фон Уэкскюлем: "Следовательно, совершенно оправдано принятие существования числа окружающих миров по числу существующих животных"[254]. Он очень близко подходит к нашей точке зрения, когда говорит: "Чтобы понять каждое действие человека, мы должны посетить его "особое место действия""[255].
Понятие окружающего мира фон Уэкскюля слишком узкое, чтобы применить его к человеку, потому что он понимает под этим просто "остров ощущений", то есть сенсорное восприятие, которое "обрамляет человека как одежда". Нас не удивляет, что в своем блестящем описании окружающих миров его коллег он постоянно нарушает границы этого узкого понятия и, таким образом, показывает, как эти коллеги действительно находятся "в-мире" как человеческие существа.
Мы также согласны с утверждением фон Уэкскюля, что "именно психическая инертность принимает существование одного объективного мира (мы, психиатры, наивно называем его реальностью), как можно ближе подгоняя его под наш собственный окружающий мир и расширяя во всех направлениях во времени и в пространстве"[256].
Однако фон Уэкскюль не видит того факта, что у человека в противоположность животному есть и его собственный мир, и объективный, общий для всех. Это было известно уже Гераклиту, который говорил, что в состоянии бодрствования у нас есть общий мир, но во время сна, как и в страсти, эмоциональных состояниях, чувственном вожделении и в опьянении, каждый из нас отворачивается от общего мира и поворачивается к своему собственному. Мы, психиатры, уделяем слишком много внимания отклонениям наших пациентов от жизни в общем для всех мире, вместо того чтобы в первую очередь сосредоточиться на собственных или частных мирах пациентов, что впервые стал систематически делать Фрейд.
Однако есть один фактор, который не только отличает наше экзистенциальное аналитическое понимание мира от биологической концепции фон Уэкскюля, но даже делает его диаметрально противоположным. Верно, что в теории Фон Уэкскюля животное и его окружающий мир образуют подлинную структуру в рамках функционального кольца и что они появляются там как сделанные на заказ друг под друга. Однако фон Уэкскюль все еще рассматривает животное как субъект, а его окружающий мир – как отделенный от него объект. Единство животного и окружающего мира, субъекта и объекта, согласно фон Уэкскюлю, гарантировано различными "проектами" (действие-планами, а также восприятие-планами) животного, которые, в свою очередь, являются частью "всеохватывающей, огромной плановой системы". Теперь становится ясно, что для перехода от теории фон Уэкскюля к экзистенциальному анализу надо совершить кантиано-коперниковский переворот; вместо того чтобы начинать с природы и ее плановой системы и иметь дело с природной наукой, необходимо начать с трансцендентальной субъективности и перейти к существованию как трансцендированию. Фон Уэкскюль складывает обоих в один мешок, так как выводит их из следующих идей (которые сами по себе очень впечатляют):
"Давайте возьмем для примера дуб и спросим себя, каким видом объекта будет дуб в окружающем мире совы, которая сидит в дупле этого дуба; в окружающем мире певчей птицы, которая гнездится на его ветках; лисы, у которой есть нора под его корнями; дятла, который его долбит кору; в окружающем мире самой коры; муравья, который бежит по его стволу и т.д. И наконец, мы спросим себя, какова роль дуба в окружающем мире охотника, молодой романтичной девушки и банального торговца деревом. Дуб, будучи закрытой плановой системой, включен в новые планы многочисленных стадий окружающего мира, изучение которых – настоящая задача науки о природе".
Фон Уэкскюль – ученый-натуралист, а не философ. Поэтому не стоит вменять ему в вину, что он, как большинство ученых-натуралистов, проясняет главное отличие человека от животных, не "оставляя тайны" их различия. Как раз здесь это различие становится почти осязаемым. Во-первых, животное связано своим "проектом". Оно не может выйти за его пределы, тогда как человеческое существование не только имеет многочисленные возможности модусов бытия, но его основы находятся во множественной потенциальности бытия. Человеческое существование дает возможность быть охотником, романтиком, бизнесменом, то есть оно свободно в самосозидании в соответствии с различными цотенциальностями бытия. Другими словами, существование может "трансцендировать" бытие – в данном случае бытие, которое называется "дуб", – или делать его достижимым для себя с помощью самых разнообразных миро-проектов.
Во-вторых, мы помним, теперь полностью отойдя от биологической точки зрения, что трансцендирование подразумевает не только миро-проект, но в то же время и само-проект, потенциальные модусы бытия для себя. Человеческое существование – это совершенно особое бытие для себя, в зависимости от того, строит ли оно свой мир как мир охотника и при этом является охотником, или как мир молодой девушки, и тогда оно романтично, или как мир торговца деревом, и тогда оно прозаично-меркантильное. Все это – различные способы бытия в мире и потенциальных модусов "я", к которым присоединяются многие другие, особенно модусы истинной потенциальности бытия собой и потенциальности бытия мы в смысле любви[257].
У животного, не способного быть я-ты-мы (оно даже не может сказать этого), нет никакого мира. Ибо "я" и "мир" – это взаимозависимые понятия. Когда мы говорим об окружающем мире (Umwelt), который имеет инфузория-туфелька, земляной червь, головоногие, лошадь и даже человек, то значение этого имеет очень отличается от того, которое мы подразумеваем, когда говорим, что у человека есть мир. В первом случае имеет означает установление "проекта", особенно организации-восприятия-и-действия, ограниченного природой вполне определенными возможностями стимуляции и реагирования. Животное имеет свой окружающий мир благодаря природе, а не свободе выходить за рамки ситуации[258]. Это означает, что оно не может ни конструировать мир, ни открывать его, ни независимо решать, как действовать в той или иной ситуации. Оно есть и было раз и навсегда детерминировано ситуационным кольцом[259]. С другой стороны, для человека обладать "миром" означает, что человек, хотя он сам не закладывал основы своего бытия, а был брошен в него, как и животное, обладает окружающим миром, но у него есть возможность трансцендирования своего бытия, а именно: подняться над ним в заботе и воспарить за его пределами в любви.
К нашей точке зрения ближе теории фон Уэкскюля стоит понятие фон Вейзакера "гештальт-цикл" как автономный биологический акт.
"Поскольку живое существо через свои движения и восприятие интегрирует себя в окружающий мир, постольку эти движения и восприятие формируют целостную единицу – биологический акт"[260].
Как и фон Уэкскюль, фон Вейзакер также гордится тем, что "сознательно представил субъекта как вопрос биологического исследования и поддержал его признание таковым"[261]. То, что создает отношения между субъектом и объектом, теперь называется не функциональным кольцом, а гештальт-циклом. Согласно фон Вейзакеру, фундаментальное условие – это субъективность (что уже показывает более глубокий подход, чем ссылка на субъекта). Но фундаментальное условие нельзя признать явно, потому что в самом себе оно не может стать объектом; это "суд высших апелляций", сила, которая "может переживаться либо как бессознательная зависимость, либо как свобода". Фон Вейзакер отвергает "внешний субстанциональный дуализм Души и Природы (Физиса)"; он верит в его замещение "полярным единством субъекта и объекта". "Но, – очень правильно объясняет фон Вейзакер, – субъект – это не устойчивая собственность; кто-то непрерывно приобретает его, чтобы владеть им". Фактически, только отмечается, что при кризисе человеку угрожает потеря самого себя, а затем он может снова обрести себя благодаря своей силе и гибкости. "Одновременно с субъект-скачком происходит объект-скачок, и хотя единство мира еще под вопросом, каждый субъект собирает по крайней мере свой окружающий мир (Umwelt), объекты которого он связывает вместе в маленький универсум союза-монады".
Все эти теории вызывают не только большой интерес психологии и психопатологии, но, помимо этого, они ставят в центр внимания тот факт, что только понятие бытия-в-мире как трансцендирования является подлинно логичным и глубоким; в то же время они демонстрируют, что это понятие может быть применено только к человеческому существованию.
Наконец, я бы хотел напомнить читателю концепцию мира Гольдштейна, которая оказалась очень полезной для понимания органических нарушений головного мозга. Даже там, где он употребляет слово "окружение" вместо "мира", мы все равно имеем дело с подлинно биологической концепцией мира. Как мы знаем, одно из его основных положений заключается в том, что "поврежденный организм... может производить организованное поведение только посредством таких ограничений его окружения, которые соответствуют его дефекту"[262]. В другом месте он говорит о "потере свободы" и о "затягивании веревки на окружающем мире" из-за дефекта. Мы помним о том, что пациенты с определенными органическими нарушениями больше не могут ориентироваться и вести себя в мире идей соответствующим образом, тогда как они прекрасно могут делать это в мире действий или практических заданий, где, как недавно показал Гольдштейн, "результат может проявиться при конкретных действиях с материалами, которые пациент держит в руке". Говоря словами Хеда о "нарушениях символического выражения" или согласно Гельбу о "нарушениях определенного поведения", Гольдштейн в обоих случаях формулирует только модификацию бытия-в-мире как трансцендирование.
В этой главе я попытался показать ту степень, в которой биологическое мышление стремится рассматривать и исследовать организм и мир как единицу в единой целостности, символом которой является круг. Преобладает идея о том, что все со всем связано, что в рамках круга не может быть изменений частей без изменения целого и что изолированные факты больше не существуют. Это, однако, несет с собой изменения понятия самого факта и методов изучения фактов. Вывод заключений путем индукции через простое накопление фактов больше не является целью исследования; теперь цель исследования – проникновение в природу и содержание единичного феномена. Гольдштейн прекрасно это сознает, когда говорит: "В формировании биологического знания единичные связи, интегрированные в целое, нельзя оценивать просто количественно, будто бы знание будет тем точнее, чем больше связей мы установим. Скорее, все единичные факты имеют большую или меньшую качественную ценность". Он продолжает: "Если в биологии мы видим науку, имеющую дело с феноменом, который может быть установлен одними аналитическими естественно научными методами, то мы должны отказаться от всех инсайтов, которые постигают организм как целое, а вместе с этим и от любого проникновения в процессы жизни"[263].
Это уже близко подводит нас к феноменологическому взгляду на жизнь в широком смысле, взгляду, который направлен на постижение жизненного содержания феноменов, а не их фактического значения в рамках точно описанной объектной области[264].
III. ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ШКОЛА МЫСЛИ В ПСИХИАТРИИ
По сравнению с биологическим исследованием, которое занимается или объясняет жизненное содержание феномена, экзистенциально-аналитическое исследование имеет двойное преимущество. Во-первых, оно не обязано иметь дело с таким неясным понятием, как жизнь, оно работает с такой широко и хорошо проработанной структурой существования, как бытие-в-мире и за-пределами-мира. Во-вторых, оно может позволить существованию самому говорить за себя. Другими словами, феномены, которые должны быть проинтерпретированы, – это в основном языковые феномены. Мы знаем, что содержание существования нигде нельзя увидеть более ясно или более точно, чем в языке; именно в языке устраивается и оформляется наш миро-проект, следовательно, именно, там он может быть обнаружен и передан другим людям.
Что касается первого преимущества, то знание структуры или базового проекта существования дает нам систематический ключ для практического экзистенциально-аналитического исследования. Сейчас мы знаем, на что надо обращать внимание при изучении психоза и что делать дальше. Мы знаем, что должны установить определенный тип пространственных и временных характеристик, освещения и цвета; текстуру или материал и род перемещения того миро-проекта, к которому направлена данная форма существования или его индивидуальная конфигурация. Такой методологический ключ может быть предоставлен только структурой бытия-в-мире, потому что эта структура отдает в наше распоряжение норму и таким образом позволяет определять отклонения от этой нормы тем способом, которым это делают точные науки. К нашему большому удивлению, выяснилось, что в психозах, которые были очень хорошо изучены, такие отклонения нельзя понимать просто с негативной точки зрения, то есть как ненормальность. Они, в свою очередь, представляют новую норму, новую форму бытия-в-мире. Например, если мы можем говорить о маниакальной форме жизни, или, скорее, существования, то это означает, что мы могли бы установить норму, которая охватывает и управляет всеми модусами выражения и поведения, обозначенного нами как мания. Именно эту норму мы называем "миром" человека, страдающего манией. Это верно и для гораздо более сложных бесчисленных миро-проектов пациентов, страдающих шизофренией. Исследовать и установить миры этих пациентов означает, как и везде, исследовать и установить, каким образом все, то есть люди и вещи, достижимы для этих форм существования. Мы достаточно хорошо знаем, это доступно человеку только через определенный миро-проект.
Что касается второго преимущества, возможности исследования языковых феноменов, то именно в сущности речи и высказываний они выражают и передают определенное содержание значения. Это содержание значения, как мы знаем, бесконечно разнообразно. Все зависит от точного критерия, с помощью которого мы исследуем языковые проявления наших пациентов. Мы не концентрируемся, как психоаналитики, на историческом содержании, на пережитые или предполагаемые образы внутренней истории жизни. Мы совсем не смотрим на содержание ради всевозможных ссылок на факты, имеющие отношения к жизненным функциям, как делают психопатологи, фокусируясь на функциях нарушения речи или мышления. В экзистенциальном анализе наше внимание привлекает содержание языковых выражений и проявлений, так как они указывают на миро-проект или на построения, в которых говорящий живет или жил, одним словом, на их миро-содержание. Под миро-содержанием мы подразумеваем содержание фактов, имеющих отношение к мирам; то есть содержание ссылок на способ, которым данная форма или конфигурация существования открывает проекты мира и сам мир и находится или существует в другом мире. Более того, миросодержание указывает способы, при помощи которых существование выходит за-пределы-мира; то есть как оно есть или его нет в вечности (Ewigkeit) и прибежище (Heimat) любви.
Обстоятельства в "Случае Элен Вест", моем первом исследовании, запланированном как пример применения экзистенциального анализа в психиатрии, были особенно благоприятны для экзистенциального анализа. В этом случае я имел в своем распоряжении необычное изобилие спонтанных и сразу же понимаемых вербальных проявлений, таких, как самоописания, записи сновидений, дневник, стихотворения, письма, автобиографические заметки, рисунки, тогда как обычно в случаях прогрессирующей шизофрении мы вынуждены получать материал для экзистенциального анализа путем настойчивого и систематического исследования наших пациентов в течение многих месяцев и лет. Прежде всего наша задача состоит в том, чтобы убедиться, что действительно имеют в виду наши пациенты под своими вербальными выражениями. Только тогда мы можем осмелиться подойти к нашей научной задаче распознания "миров", в которых пребывают наши пациенты, или, другими словами, понять, как все частные связи экзистенциальной структуры становятся понятными через целостную структуру, как целостная структура строит себя из частных связей. Здесь, как и в любом другом научном исследовании, бывают ошибки, тупики, преждевременные интерпретации; но, как и в других исследованиях, здесь есть способы и средства исправления этих ошибок. Одно из самых впечатляющих достижений экзистенциального анализа показывает, что даже в области субъективности нет ничего случайного, что существует определенным образом организованная структура, в которой каждое слово, каждая мысль, рисунок, действие или жест получает свой особый отпечаток – инсайт, которым мы непрерывно пользуемся в экзистенциально-аналитических интерпретациях теста Роршаха или Тесте словесных ассоциаций". Это всегда один и тот же миро-проект, который противостоит нам в спонтанных манифестациях пациента, в систематическом исследовании его ответов на тест Роршаха и Тест словесных ассоциаций, его рисунков и сновидений. Только после сбора и сопоставления этих миров вместе мы можем понять форму существования нашего пациента в смысле того, что мы называем неврозом или психозом. Только тогда мы можем попытаться понять единичные, частные связи тех форм мира и существования (клинически оцениваемых как симптомы), исходя из форм и способов целостного бытия-в-мире пациента.
Связи истории жизни тоже играют важную роль, но, как мы скоро поймем, совсем не такую, как в психоанализе. Для психоанализа они – цель исследования, в экзистенциальном анализе они просто предоставляют материал исследования.
Следующие примеры проиллюстрируют тот тип миро-проекта, с которым мы должны иметь дело в психопатологии; но число таких отклонений бесконечно. Мы все еще находимся в начале их описания и исследования.
Для моей первой клинической иллюстрации я выбрал случай молодой девушки, которая в возрасте пяти лет пережила неожиданный приступ тревоги и слабости, случившийся когда при катании на коньках ее каблук, примерзнув к металлическому основанию, оторвался от ботинка[265]. С тех пор девушка, которой сейчас 21 год, страдала приступами непреодолимой тревоги, когда от ее туфель отрывался каблук, или когда кто-нибудь наступал ей на пятки, или только говорил о каблуках. В таких ситуациях, если она не могла уйти, то чувствовала дурноту.
Психоанализ ясно и убедительно доказал, что за страхом потери каблука были спрятаны фантазии рождения – фантазия ее собственного рождения и последующего отделения от матери, а также фантазия рождения ее ребенка. В разнообразных нарушениях непрерывности, которые психоанализ определил как пугающие для девушки, самым страшным и основным был разрыв матери и ребенка. (Я полностью пропускаю маскулинную составляющую.) До Фрейда мы бы сказали, что инцидент на катке, сам по себе безвредный, вызвал "фобию каблуков". Фрейд последовательно продемонстрировал, что патогенный эффект вызывается фантазиями, связанными с самим случаем и предшествующим ему. В обоих периодах могло быть приведено и другое объяснение, учитывая тот факт, что специфическое событие или фантазия имели такие далеко идущие последствия для этого человека, а именно, объяснение конституцией или предрасположенностью. Каждый из нас переживал "травму рождения", но только у некоторых при потере каблука развивается истерическая фобия.
Мы, конечно, не предлагаем решить проблему предрасположенности во всех ее аспектах; но осмелюсь сказать, что мы можем пролить свет на эту проблему, когда рассмотрим ее с "антропологической"[266] стороны. В последующих работах мы сумели показать, что мы можем выйти даже за пределы фантазии, поскольку можем проследить и исследовать миро-проект, который делает возможным существование этих фантазий и фобий.
Ключом к миро-проекту нашей пациентки служит категория непрерывности, непрерывной связи и удержания. Она вызывает ужасное ограничение, упрощение и истощение содержания мира, крайне сложной целостности ситуации пациентки. Все, что делает мир значимым, подчиняется правилу той единственной категории, которая одна поддерживает ее "мир" и бытие. Это и вызывает сильнейший страх нарушения непрерывности, разрыва, отделения, страх быть отделенной, оторванной. Вот почему отделение от матери, переживаемое всеми как самое важное отделение в человеческой жизни, стало таким главенствующим, что любая ситуация отделения рассматривается как символ страха отделения от матери, а затем она активирует фантазии и грезы.
Следовательно, нам не нужно объяснять возникновение фобии слишком сильной "доэдиповой" привязанностью к матери, скорее, мы понимаем, что такая сильная дочерняя привязанность возможна только в том случае, когда миро-проект основывается исключительно на связанности, сцепленности, непрерывности. Такой способ переживания "мира", всегда подразумевающий подобный ключ[267], не обязательно должен быть сознательным. Но мы не должны называть его и "бессознательным" в психоаналитическом понимании, так как он находится вне этих противоположностей. Он не относится ни к чему психологическому, он имеет отношение к тому, что только делает возможным психический факт. Здесь мы сталкиваемся с тем, что действительно является "ненормальным" в этом существовании, но мы не должны забывать, что там, где миро-проект сужен и ограничен до такой степени, там и "я" ограничено, там оно встречает препятствия на пути своего взросления. Предполагается, что все останется таким, каким было раньше. Если случится что-то новое и непрерывность разорвется, то результатом может быть только катастрофа, паника, приступ страха. Тогда мир рушится, не остается ничего, что могло бы его поддержать. Внутренняя, или экзистенциальная, зрелость и подлинная ориентация времени на будущее замещаются преобладанием прошлого, того, что уже было. Здесь мир должен остановиться, ничто не должно происходить, ничто не должно изменяться. Все должно остаться как есть. Именно этот тип ориентации во времени позволяет элементу неожиданности принять такое огромное значение, так как неожиданность – это качество времени, которое нарушает непрерывность, разрубает ее на части, выбивает раннее существование из его колеи и выставляет его перед ужасностью[268], перед голым страхом. В психопатологии в самом простом и общем виде мы называем это приступом страха (тревоги).
Ни потеря каблука, ни внутриутробные фантазии, ни фантазии рождения не объясняют возникновения фобии. Скорее, они обрели такое значение, потому что привязанность к матери означала для существования ребенка, что для маленьких детей естественно, связь с миром. Случай на катке приобрел свою травматическую значимость из-за того, что мир неожиданно изменился, открылся со стороны неожиданности, со стороны чего-то совершенно нового, отличающегося. Для всего этого не было места в детском мире; оно не могло войти в ее миро-проект; оно всегда оставалось снаружи; им нельзя было управлять. Другим словами, вместо того чтобы быть принятым внутренней жизнью таким образом, что значение и содержание этого неожиданного могли бы быть встроены в ее структуру, оно снова и снова появлялось, не имея для существования никакого значения, повторяющееся вторжение неожиданности в недвижимость миро-часов. Этот миро-проект не заявлял о себе до травматического события, он проявился только по случаю того события. Как априорные или трансцендентальные формы[269] человеческого разума делают опыт только тем, чем он является, так и форма того миро-проекта сначала должна была создать условия для возможности случая на катке, чтобы он был пережит как травматический.
Следует сказать, что этот, случай не единственный. Мы знаем, что страх может быть связан с разными видами нарушения непрерывности; например, он может появиться как ужас при виде отрывающейся пуговицы, висящей на нитке, или разрыве нити слюны. Какими бы ни были события истории жизни, с которыми связан этот страх, мы всегда имеем дело с одним и тем же опустошением бытия-в-мире, его сужением до одной категории непрерывности. В этом конкретном миро-проекте с его конкретным бытием-в-мире и его конкретным "я" мы видим с экзистенциальной точки зрения ключ к пониманию происходящего. Мы не останавливаемся, подобно биологу и невропатологу, на единичном факте, единичном нарушении, симптоме, мы продолжаем искать то целое, внутри которого факт может быть понят как частный феномен. Но это целое не является ни функциональным целым – "гештальт-циклом", ни целым в смысле комплекса. На самом деле оно вовсе не объективное целое, но целое в смысле единства миро-проекта.
Мы увидели, что не сможем продвинуться в нашем понимании страха, если будем рассматривать его только как психопатологический симптом. Коротко говоря, мы никогда не должны отделять "страх" от "мира", и мы должны помнить, что страх всегда возникает тогда, когда мир становится шатким или угрожает исчезновением. Чем более пустой, простой и ограниченный тот миро-проект, с которым связано наше существование, тем скорее появится страх и тем сильнее он будет. "Мир" здорового человека с его изменяющейся структурой и сочетанием обстоятельств никогда не сможет стать шатким и зыбким. Если ему угрожают в одной части, то другая часть подставит плечо, на которое можно опереться. Но вполне естественно, что там, где "мир", как в этом и во многих других случаях, полностью детерминирован одной или несколькими категориями, угроза их сохранности приводит к усилению тревоги.
Фобия – это всегда попытка охраны ограниченного, обедненного "мира", где страх выражает потерю этой охраны, крушение "мира", и, таким образом, путь существования к ничто – к нестерпимому, ужасному, "голому страху". Мы должны строго разграничить исторически- и ситуационно-обусловленную точку прорыва страха и экзистенциальный источник страха. Фрейд провел похожее различение, когда он дифференцировал фобию как симптом и собственное либидо пациента как действительный объект его страха[270]. Однако в нашей концепции теоретический конструкт либидо замещен феноменологически-онтологической структурой существования как бытия-в-мире. Мы не считаем, что человек боится собственного либидо, мы утверждаем, что существование как бытие-в-мире детерминировано ужасностью и ничто. Источник страха – само существование[271].
Если в предыдущем случае мы имели дело со статичным "миром", миром, в котором ничто полагалось "наступить" или случиться, в котором все должно было оставаться неизменным, в этом союзе вмешательство разделения было невозможно, то в следующем примере[272] мы встретимся с мучительно разнородным, дисгармоничным "миром", начало которого опять в раннем детстве. Пациент, демонстрирующий псевдоневротический синдром полиморфной шизофрении, страдал от всех видов, сомато-, ауто- и аллопсихических фобий[273]. "Мир", в котором все-что-есть (alles Seiende) был для него доступен, был миром нажима и давления, нагруженным энергией до максимальной точки – точки взрыва. В том мире нельзя ступить шагу, чтобы не столкнуться с опасностью быть ударенным или ударить кого-то в реальной жизни или в фантазии. Временной характеристикой этого мира была спешка (Rene Le Senne), пространственной – ужасные многолюдность, теснота и закрытость, давление существования на "тело и душу". Это стало совершенно очевидно по результатам теста Роршаха. В одном случае пациент видел части мебели, "о которые человек мог разбить голень"; на другой карточке он видел "барабан, который ударяется по чьей-то ноге"; на третьей – "зажимающих вас в своих клешнях лобстеров", "что-то, обо что вы оцарапались", и наконец, "центрифужные шары махового колеса, которые бьют меня по лицу, из всех людей только меня, хотя эти шары целые десятилетия были неподвижны; только когда я попадаю туда, что-то случается".
Мир людей вел себя так же, как и мир вещей; везде была скрыта опасность и неуважение толпы или насмехающиеся зрители. Все это, конечно, указывает на сходство с бредом "вмешательства", или "вторжения".
Очень полезно понаблюдать за отчаянными попытками пациента проконтролировать дисгармоничный, переполненный энергией угрожающий мир, искусственно привести его к гармонии, уменьшить его, чтобы избежать постоянно грозящей катастрофы. Пациент делает это, держась на как можно большем расстоянии от мира, полностью рационализируя это расстояние. Этот процесс, как и везде, сопровождается снижением ценности и опустошением мирового богатства жизни, любви и красоты. Это особенно хорошо видно из результатов Теста словесных ассоциаций. Ответы на тест Роршаха также свидетельствуют об искусственной рационализации его мира, его симметричности и механистичности. Если в нашем первом случае все-что-есть (alles Seiende) было доступно в мире, сведенном к категории непрерывности, то здесь мы видим мир, сведенный к механической категории силы и давления. Неудивительно, что в этом существовании и в этом мире нет покоя, его жизненный поток не течет спокойно, здесь все, от простейших жестов и движений до вербальных выражений, результатов мышления и волевых решений движется толчками и рывками. У пациента все происходит отрывисто и резко, а в промежутках между единичными толчками и рывками царствует пустота. (Читатель заметит, что мы описываем в экзистенциально-аналитических терминах то, что в клинике называется шизоидным и аутичным.) Поведение пациента в тесте Роршаха очень типично. Он чувствует желание "сложить карточки в окончательном порядке и подшить их", то же самое он хотел бы сделать и с миром, или он больше не сможет его контролировать.
Но этот "окончательный порядок" до такой степени утомляет его, что пациент становится абсолютно пассивным и вялым. В первом случае именно непрерывность существования должна была быть сохранена любой ценой, в данном случае – это динамический баланс. Здесь тоже в целях сохранения задействован тяжелый щит фобии. Там, где он не срабатывает, даже если это происходит в фантазии, там появляется страх, он обрушивается на человека, и тогда полное отчаяние берет верх. Этот случай, чей экзистенциальный проект мира может быть здесь упомянут только в самых общих чертах, был опубликован под названием Juerg Zuend как второе исследование шизофрении.
Если в предыдущем случае мы увидели мир, в котором существовал "бред вмешательства и вторжения"[274], то третий случай, случай Лолы Восс[275], позволяет проникнуть в миро-проект, в котором возможен бред преследования. Этот случай предоставляет нам редкую возможность пронаблюдать появление сильного галлюцинаторного бреда преследования, которому предшествовала фобическая фаза. Это выражалось в очень сложной суеверной системе консультаций с прорицателями слов и слогов, чьи позитивные или негативные изречения руководили ею при выполнении или пропуске определенных действий. Она чувствовала себя вынужденной разбивать названия вещей на слоги, затем заново их соединять, но уже в соответствии с собственной системой. В зависимости от результата этих комбинаций она либо устанавливала контакт с людьми и вещами, либо сторонилась их как чумы. Все это предохраняло существование и ее миры от катастрофы. Но в этом случае катастрофа была не в разрыве непрерывности мира и не в нарушении его динамического баланса, а во вторжении невыразимого словами Сверхъестественного и Ужасного. "Мир" пациентки не был динамически нагружен конфликтующими силами, которые нужно было искусственным образом привести в гармонию. Ее "мир" не был миро-проектом, сведенным к толчкам и давлению, он был сведен к категориям знакомости и неизвестности или сверхъестественности (Vertrautheit und Unvertrautheit – oder Unheimlichkeit). Существованию постоянно угрожала незаметно подкрадывающаяся безличная враждебная сила. Невероятно тонкая и непрочная сеть искусственных комбинаций слогов служила защитой от опасности быть подавленной этой силой и от невыносимой угрозы встречи с ней.
Очень информативным было наблюдение того, как одновременно с исчезновением этих защит появлялись новые, совершенно отличные, появлялся бред преследования.
Место безличной силы бездонного Сверхъестественного (Unheimlichen) теперь держалось в секрете личными врагами. Пациентка могла защищаться против этого с помощью обвинений, контрнападений, попыток бегства. Все это казалось детской игрой по сравнению с беспомощным бытием, которому угрожала ужасная сила непостижимого Сверхъестественного. Но такая безопасность существования сопровождалась полной потерей экзистенциальной свободы, ожиданием враждебного отношения со стороны других людей, что в психопатологии называется бредом преследования.
Я описываю этот случай с целью продемонстрировать, что мы не сможем понять этот бред, если начнем наше исследование с изучения самого бреда. Мы должны обратить внимание на то, что предшествует бреду, то есть что происходило за несколько месяцев, недель, дней или часов до появления бреда. Тогда мы точно обнаружим, что бред преследования, похожий на фобии, представляет защиту существования от вторжения чего-то невероятно Страшного, по сравнению с которым даже тайный сговор врагов кажется вполне терпимым, потому что враги в отличие от непостижимого Страшного могут . быть "приведены к чему-то"[276] за счет их восприятия, предчувствия, отталкивания или борьбы с ними.
Помимо этого, случай Лолы Восс показывает, что нам больше не докучает контраст психической жизни, который мы можем прочувствовать, а можем не прочувствовать. Теперь в нашем распоряжении есть метод, научный инструмент, с помощью которого мы можем ближе подойти к систематическому научному пониманию даже так называемой непостижимой психической жизни.
Конечно, от воображения некоего исследователя или терапевта все же зависит, насколько верно он способен посредством своих способностей вновь пережить и выстрадать весь потенциальный опыт, который ему методично и планомерно открывает экзистенциально-аналитическое исследование.
Однако во многих случаях оказывается недостаточным рассмотреть только один миро-проект, как мы делали до сих пор ради простоты изложения. Если это служит нашей цели в случаях патологических депрессий, в таких, как мания и меланхолия, то в нашем исследовании того, что в клинике известно как шизофренические процессы, мы не можем упустить из виду различные миры, в которых живут наши пациенты, чтобы показать изменения в их "бытие-в-мире" и "за-пределами-мира". В случае Элен Уэест мы видели существование в форме ликующей птицы, парящей в небе, это полет в мире света и бесконечного пространства. Мы видели существование как стояние и хождение по земле в мире решительных действий. И наконец, мы видели его в виде слепого земляного червя, ползающего по грязной земле, по гниющим кучам, по узким норам. Прежде всего, мы видели, что "душевная болезнь" для "ума" действительно означает, как реагирует человеческий разум при таких условиях, как изменяются его формы. В этом случае это была перемена к точно прослеживаемому сужению, опустошению или исчерпанию существования, мира. Наконец, за пределами мира от всего духовного богатства мира пациента, изобилия любви, красоты, истины, добра, разнообразия, роста и расцвета "не осталось ничего, кроме пустой, ничем не заполненной дыры". Что действительно осталось, так это животная навязчивость набить желудок едой, нестерпимое инстинктивное желание до предела наполнить живот. Все это могло быть показано не только в модусах и изменениях пространственного характера, цвета, материальности и динамики различных миров, но также и в модусах и изменениях временного характера, вплоть до состояния "вечной пустоты" так называемого аутизма.
Что касается маниакально-депрессивного психоза, то я отсылаю читателя к моим исследованиям, описанным в "Скачке идей"[277], а также к исследованиям разнообразных форм депрессивных состояний, проведенных Ю. Минковски[278], Эрвином Страусом и фон Гебсаттелем. Хотя они и не являются экзистенциально-аналитическими в полном смысле этого слова, однако они были выполнены согласно эмпирико-феноменологической традиции. Упоминая Минковски, мы должны с благодарностью признать, что он был первым ученым, который ввел феноменологическое направление в психиатрию в практических целях. Особенно плодотворным оказалось использование феноменологии в области шизофрении[279]. Я бы еще хотел упомянуть работы Эрвина Страуса и фон Гебсаттеля, посвященные компульсиям и фобиям, и более позднюю работу Франца Фишера "Пространственная и временная структура существования у людей, страдающих шизофренией" (Franz Fisher, Space and Time Structure in the Existence of the Schizophrenic). Использование экзистенциально-аналитического мышления можно найти в прекрасных исследованиях фон Гебсаттеля "Мир компульсивного"[280] (Von Gebsattel, The World of the Compulsive) и Роланда Куна "Интерпретация маскировок в тесте Роршаха" (Roland Kuhn, Interpretations of Masks in the Rorschach Test, 1945).
Экзистенциальный анализ необходим не только для углубления нашего понимания психозов и неврозов, но и для психологии и характерологии. Что касается характерологии, то здесь я ограничусь анализом скупости. Считается, что скупость заключается в том, что человек упорно продолжает оставаться в состоянии потенциальности, в "борьбе против реализации", и зависимость от денег можно понять только с этой стороны (Эрвин Страус). Но это слишком рационалистическое объяснение. Скорее, мы должны анализировать существование и миро-проект скупого человека; должны исследовать, какую основу для скупости дают миро-проект и миро-толкование, или каким образом то-что-есть (Seiende) доступно жадному человеку.
Наблюдая за поведением скупого и читая описания о нем в литературе (произведения Мольера и Бальзака), мы обнаруживаем, что его в первую очередь интересует наполнение, а именно, наполнение "золотом" чемоданов и коробок, чулок и сумок; а отказ тратить и желание сохранять деньги – вторичны. "Наполнение" – это априорная или трансцендентальная связь, которая позволяет нам соединить испражнения и деньги через общий знаменатель. Только она дает психоанализу эмпирическую возможность рассмотрения денежной зависимости как "происходящей" из удержания испражнений. Но удержание испражнений ни коим образом не является "причиной" жадности.
Упомянутые выше пустые пространства созданы не только для того, чтобы их наполнили, но также и для того, чтобы там можно было спрятать их содержание от глаз других людей. Скупой человек "сидит" на своих деньгах "как курица на яйцах". (Мы можем многое узнать из идиоматических выражений, так как язык развивается скорее феноменологически, чем дискурсивно.) Удовольствие от траты денег, от процесса их отдачи, возможно только в дружеских отношениях с другим человеком, заменяется удовольствием от тайного созерцания, перебирания, касания, как физического, так и умственного, подсчитывания золота. Таковы тайные оргии скупца, к которым можно добавить вожделение блестящего, сверкающего золота, так как это единственная искорка жизни и любви, которая осталась у скаредного человека. Преобладание заполнения и соответствующей ему полости указывает на нечто "подобное Молоху"[281] в таком мире и существовании. Это, естественно, несет с собой (согласно единой структуре бытия-в-мире) определенную подобную Молоху форму "я"-мира, а в этом случае особенно форму мира тела и мира сознания, как было правильно подчеркнуто психоанализом. Что касается временного характера, то само упоминание того, что кто-то может быть "жадным до времени" доказывает, что время скупца имеет пространственный характер в смысле Молоха, поскольку маленькие отрезки времени постоянно экономятся, накапливаются и ревностно охраняются. Из этого следует неспособность "отдавать время". Конечно, все это подразумевает потерю возможности истинного или экзистенциального временного характера, возможности взросления личности. Отношение жадного человека к смерти, которое здесь, как и во всех экзистенциально-аналитических исследованиях, имеет огромное значение, в этом контексте может не обсуждаться. Оно тесно связано с его отношением к другим людям, а также с недостатком любви[282].
Таким же образом, как мы исследуем и понимаем черты характера, мы исследуем и понимаем то, что в психиатрии и психопатологии в общем называется чувствами и настроениями. Чувство или настроение не описывается надлежащим образом, как и не описывается, как человеческое существование, которое его имеет или в нем находится, присутствует в-мире, "обладает" миром и существует. (См. в моей работе "Скачка идей" описание оптимистических настроений и чувств оживленного веселья.) Что здесь следует рассмотреть помимо временного и пространственного характера, тени, света, материальности, так это прежде всего динамику данного миро-проекта. Все это можно исследовать как через индивидуальные вербальные проявления, так и через метафоры, поговорки, идиоматические выражения и с помощью языка писателей и поэтов. Идиоматический язык и поэзия – это неисчерпаемые источники для экзистенциального анализа.
Особую динамику мира чувств и настроений, их подъемы и спуски, их движение вверх и вниз я обрисовал в своей работе "Сновидение и существование"[283]. Доказательства такого движения можно найти как в состояниях бодрствования, так и в сновидениях, интроспективных описаниях, в ответах на тест Роршаха. Гастон Башляр в своей книге L'Air et les Songes дает блестящее глубокое представление вертикали существования, de la vie ascensionnelle (восхождение), с одной стороны, и de la chute (падение) – с другой[284].
Он прекрасно показывает экзистенциально-аналитическую значимость фундаментальных метафор de la hauteur (надменность), de l'elevation (величие), de la profondeur (проникновенность), de la chute (падение) (ранее упомянутую Ю.Минковски в его книге Vers une Cosmologie). Башляр вполне корректно говорит о психологии, мы называли ее антропологией, – ascensionnelle. Без этой основы нельзя научно понять и описать ни чувства, ни "ключи" (Stimmung), ни "ключевые точки" (gestimmte) ответов на тест Роршаха[285]. Башляр тоже осознавал то, что так повлияло на нас в случае Элен Вест, что воображение подчиняется "закону четырех элементов". Каждый элемент воображается в соответствии с его особым динамизмом. Мы особенно рады увидеть понимание Башляром того факта, что те формы бытия, которые характеризуются падением, общим жизненным спуском, неизменно ведут к imagination terrestre, к приземленности или к увязанию существования. Это, в свою очередь, имеет огромное значение для понимания результатов теста Роршаха.
Эта materialite (материальность) миро-проекта, происходящая из "ключа" (Gestimmtheit) существования, не ограничивается окружающей средой, миром предметов или Вселенной вообще, но относится равно ко всему миру соплеменников (Mitwelt) и к "я"-миру (Eigenwelt) (как было показано в случае Элен Вест). Для них "я"-мир и окружающий мир были доступны только в форме твердого, заряженного энергией материала, тогда как мир их соплеменников был доступен только как заряженное энергией, твердое и непроницаемое сопротивление. Когда поэт говорит о "скучном сопротивлении мира", он показывает, что мир ближних может быть пережит не только в форме метафоры, но и в форме действительно и остро чувствуемого твердого и сопротивляющегося материала. Эта же идея выражается в таких выражениях, как "крепкий парень" ("tough guy") и "мужлан" ("roughneck").
Наконец, какую роль призван сыграть экзистенциальный анализ в целостной картине психиатрических исследований?
Экзистенциальный анализ – это не психопатология, не клиническое исследование и не какой-либо вид объективного исследования. Его результаты сначала должны быть переведены психопатологией в соответствующие ей формы психического организма или даже психического аппарата, чтобы быть спроецированными на физический организм[286]. Этого нельзя достигнуть без чрезмерного упрощения и редукции, при этом наблюдаемые экзистенциально-аналитические феномены лишаются своего феноменального содержания, их адаптируют для объяснения функций психического организма, психических "механизмов" и т.д. Однак о психопатология рыла бы себе могилу, если бы не стремилась проверять свои понятия функций, противопоставляя их феноменальным содержаниям. Эти понятия применяются к данным содержаниям, обогащаются и пополняются через них. Экзистенциальный анализ удовлетворяет требованиям более глубокого проникновения в природу и происхождение психопатологических симптомов. Если в этих симптомах мы признаем факты коммуникации, а именно, нарушения и трудности в общении, то мы должны сделать все, что есть в наших силах, чтобы проследить их причины, что означает прийти к тому факту, что душевнобольные люди живут в "мирах", отличающихся от наших. Следовательно, знание и научное описание тех "миров" становится главной задачей психопатологии, которую она может решить только с помощью экзистенциального анализа. Экзистенциальный анализ не только научно объясняет пропасть, разделяющую наш "мир" и "мир" душевнобольных людей и затрудняющую их общение, но и на научной основе строит через нее мост. Нас больше не останавливает так называемая граница между той психической жизнью, которую мы можем прочувствовать, и той, которую не можем. Сообщения о различных случаях показывают, что наш метод успешно применяется не только при общении с пациентами, как мы изначально думали, но и при проникновении в их историю жизни, при понимании и описании их миро-проекта даже в тех случаях, в которых раньше такое казалось невозможным. По моему опыту, это особенно относится к случаям ипохондричных параноиков, понять которых иными способами очень сложно. Таким образом, мы также выполняем и требование терапии.
Это понимание, что миро-проект отличает душевнобольных людей от здоровых и препятствует их общению, дает новый взгляд на проблему проекции[287] психопатологических симптомов на особые процессы головного мозга. Сейчас не так важно локализовать отдельные психические симптомы в мозге, первоочередной задачей является расположение фундаментальных психических нарушений, которые мы узнаем по изменению "бытия-в-мире". "Симптом" (например, скачка идей, психомоторное подавление, неологизм, стереотип и т.д.) оказывается распространяющимся изменением души, изменением целостной формы существования и всего стиля жизни.
Примечания
1
Везде в тексте ссылки в круглых скобках относятся к библиографии в конце книги.
(обратно)2
См. вторую часть настоящего издания. – Прим. ред. рус. изд.
(обратно)3
Adrian van Kaam, "The impact of existential phenomenology on the psychological literature of western Europe" ("Влияние экзистенциальной феноменологии на психологическую литературу западной Европы"), Review of Existential Psycology and Psychiatry, no 1, 1961, pp. 62-91.
(обратно)4
Ван Каам употребляет термин "существование" здесь и далее в своем прямом этимологическом значении "выделять" из чего-то, имея в виду способ отношения к миру ("ex-sistere"). Разные психологи, например, могут иметь разные способы отношения к миру. – Ролло Мэй.
(обратно)5
J.Linschonten, "Op weg een fenomenologische Psychologie". Utrecht: Bijleveld, 1959 и "Die Psychology von William James. Berlin: De Gruyter, 1961.
(обратно)6
Это как раз точка зрения Бинсвангера по поводу случая с Эллен Вест, приведенного в сборнике "Экзистенция" (см. втору часть данного издания). Обсуждая психологическую болезнь и суицид Эллен Вест, он задается вопросом, случалось ли когда-нибудь такое, что существование, для того чтобы реализовать себя, должно было себя разрушить. В этом случае Бинсвангер, как и множество его европейских коллег – психиатров и психологов, обсуждали его скорее с целью добиться понимания некоторых проблем человеческого бытия, чем с целью проиллюстрировать, как с этим случаем справиться терапевтически. В данном случае мы, как редакторы сборника "Экзистенция", предположили, что этот, как и многие другие случаи, могли бы быть поняты на основе тех целей и предположений, которые изложил автор; но это было нереалистичное предположение. Этот случай обсуждался почти всеми в этой стране – и с этой же точки зрения справедливо критиковался, – с точки зрения, того, что же должна была дать терапия Эллен Вест. Если бы целью Бинсвангера было бы обсуждение техник терапии, он бы не взял это дело из архива сорокапятилетней давности. Он искал ответ на самый глубокий вопрос: есть ли у человека такие потребности и ценности, которые выходят за пределы его собственного выживания, и нет ли ситуаций, когда существование для того, чтобы реализовать себя, должно себя разрушить? Вовлечение этого вопроса является наибольшим противопоставлением простой адаптации, продолжительности жизни и выживанию как основной цели. Это близко точке зрения Ницше, указанной выше, и также близко акцентам Маслоу, когда он выявил, что "самоактуализирующиеся личности", которых он изучал, сопротивляются акультурализации.
(обратно)7
Курсив Бинсвангера.
(обратно)8
Под "трансцендентным" Бинсвангер, конечно же, не подразумевает ничего эфирного или магического: он имеет в виду предположения, которые "лежат вне", за пределами данных фактов, предположения, детерминирующие цели чьей-либо активности.
(обратно)9
Я, конечно, не возражаю против причинности, как генетической, так и какой-либо другой. Я возражаю против пассивного, "жертвенного" отношения к этим "обстоятельствам" чьей-либо судьбы.
(обратно)10
"The ego and the id" (London, 1927).
(обратно)11
The Theory of Psychoanalitic Therapy, New York, 1958.
(обратно)12
Caprio F.S., "A study of some psycological reactions during prepubescence to the idea of death", Psychiat. Quart., 1950, 24, 495-505; G.Zilboorg, "Fear of death", Psychoanal. Quart., 1945, 12, 465-475.
(обратно)13
Bromberg W., Schilder P., "The attitudes of psychoneurotics toward death", Psychoanal. Rev., 1936, 23,1-28; J.D.Teicher, "Combat fatique or death anxiety heurosis", J. Nerv. Ment. Dis., 1953, 117, 234-243; Boisen A., Jenkins R.L., Lorr M., "Schizofrenic ideation as a striving toward the solution of conflict", J. Clin. Psychol. 1954, 10, 388-391.
(обратно)14
Fenichel O., The psychoanalytic theory of neuroses (New York: Norton, 1945).
(обратно)15
Wahl C.W., "The fear of death", Bull. Menninger Clin., 1958, 22, 214-223.
(обратно)16
Jackson E.N., "Grief and religion", в книге Фейфела, указанной выше; Gorer G., "The pornografy of death", Encounter, 1955, 5, 49-52
(обратно)17
Marcure H., "The ideology of death", в книге Фейфела, указанной выше.
(обратно)18
Книга Bromberg & Scholider, указанная выше.
(обратно)19
Hager D.J., "Religious conflict", J. Soc. Issues, 1956, 12, 3-11.
(обратно)20
Aronson G.J., "Treatment of dying person", в книге Фейфела, указанной выше.
(обратно)21
Hocking W.E., The meaning of immorality in human expierence (New York: Harper, 1957).
(обратно)22
Beigler J., "Anxiety as an aid in the prognostication of impending death", A.M.A. Arch. Neurol. Psychiat., 1957, 77, 171-177.
(обратно)23
Murphy G., "Discussion", в цитированном ранее труде.
(обратно)24
Eissler К.R., The psychiatrist and the dying patient (New York: International Univ. Press, 1955).
(обратно)25
Taubes J., "Mortality and anxiety". Неопубликованная работа, 1956.
(обратно)26
Murphy G., в цитированном ранее труде.
(обратно)27
Murphy G., в цитированном ранее труде.
(обратно)28
Эта пациентка и ее основные симптомы вкратце обсуждались в главе 1.
(обратно)29
Rogers С.R., Kell W.L., McNeil H., "The role of self-understending in the prediction of behavior", Jour. Consult. Psychol., 1948, 12, 174-186.
(обратно)30
Я бы хотел выразить благодарность докторам Генри Элленбергеру (Henri Ellenberger), Лесли Фарберу (Leslie Farber), Карлу Роджерсу (Carl Rogers), Эрвину Страусу (Erwin Straus), Паулю Тиллиху (Paul Tillich) и Эдит Вайгерт (Edith Weigert) за их участие в работе над этими главами, а также за высказанные идеи
(обратно)31
Binswanger L., "Existential Analysis and Psychotherapy", в Progress in Psychotherapy, ed. by Fromm-Reichmann and Moreno (New York: Grune&Stratton, 1956), p. 144.
(обратно)32
Из личных бесед с Людвигом Лефебром, экзистенциальным терапевтом, учеником Юнга и Босса.
(обратно)33
Binswanger L., op. cit., p. 145.
(обратно)34
Включена в этот сборник, впервые опубликована в 1945 г.
(обратно)35
Grundformen und Erkenntnis menschlichen Daseins (Zurich: Niehans, 1942).
(обратно)36
L.Binswanger, Erinnerungen an Sigmund Freud, только что опубликованной в США под названием Sigmund Freud: Reminiscences of Friendship, trans., by Norbert Guterman (New York: Grune and Stratton, 1957).
(обратно)37
См. стр. 126.
(обратно)38
Methodological Problems in the Assessment of Intrapsychic Change in Psychotherapy (в печати).
(обратно)39
Allport G., Becoming, Basic Considerations for a Psychology of Personality (New Haven: Yale University Press, 1955). Как указывает Олпорт, особенность, идущая от философии Локка, заключается в подчеркивании того положения, что наш разум – это tabula rasa, на которой опыт затем записывает все, что происходит, тогда как в рамках философии Лейбница разум рассматривается как имеющий собственное потенциально активное ядро.
(обратно)40
Для иллюстрации этого положения достаточно просто назвать имена создателей новых теорий: Фрейд, Адлер, Юнг, Ранк, Штекель, Райх, Хорни, Фромм и другие. Два исключения – это школы Гарри Стэка Салливана и Карла Роджерса. Салливан имел косвенное отношение к работам Адольфа Мейера, уроженца Швейцарии. Даже Роджерс частично подтверждает наше положение: хотя его направление представляет собой ясное и последовательное изложение взглядов на природу человека, центральной идеей скорее является практическая сторона, чем чисто научная, если мы можем провести подобное разграничение. Помимо этого, его теория природы человека многим обязана Отто Ранку. Мы не пытаемся разграничить практическую научную тенденцию в Америке и чистые научные тенденции в Европе. Мы хотим показать, что перед нами стоит серьезная проблема, выходящая далеко за пределы психологии и психиатрии. Несколько лет назад профессор Уайтхэд (Whitehead) из Гарварда в своем обращении на церемонии вступления в должность директора Гарвардской школы экономики назвал двадцать выдающихся личностей, таких, как Эйнштейн, Фрейд, внесших вклад в область интеллектуального и научного развития западной цивилизации за последние три века. Все эти люди приехали из Европы или Ближнего Востока, ни один из них не был рожден в Америке. По мнению Уайтхэда, этот факт нельзя объяснять только тем, что Европа воспитывает своих ученых гораздо большее время, так как за последние четыре десятилетия в Америке появилось больше ученых и инженеров, чем во всей остальной западной цивилизации, вместе взятой. Так как европейский источник чистой науки может иссякнуть, то эта "практическая" склонность в будущем может стать для нас серьезной проблемой.
Безусловно, мы вовсе не хотим определить эту проблему как "Европа против Америки". Мы все являемся частью современной западной культуры, и по вполне понятным историческим причинам определенные аспекты исторической судьбы западного человека в большей степени легли на плечи Европы, чем Америки. Именно в таком контексте экзистенциальное направление может сделать важный и значимый вклад, так как оно сочетает основной научный вопрос понимания структуры человеческого существования как с подозрением абстракции, так и с правдой, рожденной в действии. Оно ищет теорию не в области абстракций, а в области конкретного человеческого существа, живущего здесь. Таким образом, оно обладает важным потенциалом (хотя еще и неосуществленным), используя который американские гении могут соединить мысль и действие (как это великолепно показал Уильям Джеймс). Следующие главы могут помочь в поиске того чистого научного базиса, который так важен и нужен в науках о человеке.
(обратно)41
Цит. по: Tillich P., "Existential Philosophy" в Journal of the History of Ideas, 1944, 511, 44-70.
(обратно)42
Wild J., The Challenge of Existentialism (Blooming: Indiana University Press, 1955). Современные физики (Гейзенберг, Бор) изменили это положение, развивая, как мы увидим дальше, параллельное экзистенциализму направление. Здесь мы говорим о традиционных идеях западной науки.
(обратно)43
Реальность вносит изменения в человека, у которого есть яблоки, – это экзистенциальная сторона, – но для верности математического результата это не имеет значения. Возьмем более серьезный пример. Все люди умирают, и это правда. Когда мы говорим, что такой-то процент людей умирает в таком-то возрасте, мы придаем этому положению статистическую точность. Но ни одно из этих утверждений ничего не говорит о том, что действительно происходит с большинством из нас, о том, что я один на один должен встретиться с тем фактом, что в какой-то неизвестный момент в будущем мы все умрем. В противоположность положениям о сущности эти последние являются экзистенциальными фактами.
(обратно)44
Spence Kenneth W., Behavior Theory and Conditioning (New Haven: Yale University Press, 1956).
(обратно)45
Paul Tillich, op. cit.
(обратно)46
Это примечание предназначено для читателей, которые хотели бы получить дополнительную историческую справку. Зимой 1841 года Шеллинг читал свой знаменитый цикл лекций в Берлинском университете. В его аудитории присутствовали Кьеркегор, Беркхард, Энгельс, Бакунин. Целью Шеллинга было низвержение Гегеля, чья система рационализма, которая, как мы уже говорили, включала отождествление истины с реальностью и соединение всей истории в "абсолютное целое", была очень популярна в Европе в середине девятнадцатого века. Хотя многие слушатели Шеллинга были сильно разочарованы его ответами Гегелю, можно сказать, что экзистенциальное движение зародилось именно там. Кьеркегор, вернувшись в Данию, в 1844 году опубликовал свои "Философские заметки", а два года спустя он написал декларацию независимости экзистенциализма "Заключительное ненаучное послесловие". В том же 1844-м увидело свет и второе издание работы Шопенгауэра "Мир как желание и идея", эта работа была важна для нового направления, так как ее центральным понятием была жизнь, "желание" наряду с "идеей". В 1844-1945-м Карл Маркс написал две работы, относящиеся к этой теме. Ранний Маркс имеет большое значение для данного движения, так как выступал против абстрактной истины, понимаемой как "идеология". Гегель был его "мальчиком для битья". Динамический взгляд Маркса на историю как на арену, на которой люди и группы вносят истину в бытие и его значимые моменты, его понимание того, как экономика современного индустриализма превращает людей в вещи, ведет к дегуманизации современного человека, также очень важен для экзистенциального направления. И Маркс, и Кьеркегор взяли диалектический метод Гегеля, но использовали его для совершенно иных целей. В поздних работах Гегеля присутствовало гораздо больше экзистенциальных элементов, чем признают его противники.
В последующие десятилетия об этом направлении ничего не было слышно. Кьеркегор оставался совершенно неизвестным, работы Шеллинга были презрительно забыты, Маркса и Фейербаха понимали как материалистов-догматиков. Новая волна началась в 1880 году с работы Дильтея, а особенно – с Фридриха Ницше, движения "Философия жизни" и работ Бергсона.
Третий, современный этап развития экзистенциализма начался после шока, вызванного первой мировой войной. Были заново открыты Кьеркегор и ранний Маркс. Викторианское самодовольное спокойствие больше не могло прятаться от серьезных вызовов Ницше, брошенных им спиритуалистическим и психологическим основам. Специфику этого периода во многом обусловила феноменология Эдмунда Гуссерля, которая дала Хайдеггеру, Ясперсу и остальным тот инструмент, с помощью которого они могли показать необоснованность разрыва между объектом и субъектом, и который долгое время был блокирующим звеном в науке, в том числе и в психологии. Налицо очевидное сходство между экзистенциализмом в его подчеркивании правды, произведенной в действии, с такими философскими течениями, как система Уайтхеда и американский прагматизм, особенно у Уильяма Джеймса.
Тех, кто хочет узнать больше об экзистенциальном направлении, я отсылаю к классической работе Пауля Тиллиха "Экзистенциальная философия". Большую часть этой исторической справки я написал, опираясь на книгу Тиллиха.
Можно добавить, что отчасти путаница в этой области связана с неправильным пониманием названий книг. "Краткая история экзистенциализма", написанная Воулом (Wahl) действительно краткая, но она вовсе не является историей экзистенциализма, так же как и книга Сартра, опубликованная под заголовком "Экзистенциальный психоанализ", имеет очень мало отношения к психоанализу или к экзистенциальной терапии.
(обратно)47
"Бытие и время" вместе с введением и заключением Вернера Брока (Werner Brock) опубликовано в Existence and Being (Chicago: Henry Regnery Co., 1949). Хайдеггер перестал называть себя экзистенциалистом после того, как этот термин стал отождествляться с работами Сартра. Строго говоря, он должен был назвать себя филологом или онтологом. Но в любом случае мы должны быть достаточно экзистенциальны, чтобы не попасть в сети противоречий, связанных с разными терминами, мы должны улавливать смысл и дух работы каждого автора, а не то, как она написана. Мартина Бубера не называют экзистенциалистом, хотя в его работах прослеживается очевидная близость с этим течением. Читатель, у которого есть терминологические трудности в этой области, действительно оказался в хорошей компании!
(обратно)48
The Courage to Be (New Haven: Yale University Press, 1952) является экзистенциальной работой, так как здесь продемонстрировано живое приближение к кризису в отличие от книг об экзистенциализме. Тиллиха, как и большинство мыслителей, упомянутых выше, нельзя назвать только экзистенциалистом, ведь это – способ подхода к проблеме, сам по себе он не дает ответов, не задает какие-либо нормы. У Тиллиха присутствуют и рациональные нормы – структура причины всегда постоянна в его анализе, – и религиозные. Некоторые читатели не согласятся с религиозными элементами в "Мужестве быть". Важно отметить очень значимый момент, что эти религиозные идеи, согласны вы с ними или нет, действительно иллюстрируют аутентичное экзистенциальное направление. Это видно в концепции Тиллиха "Бог за пределами Бога" и "абсолютная вера". Вера находится не в каком-то содержание и не в каком-то человеке, вера – это состояние бытия, способ отношения к реальности, характеризуемый смелостью, принятием, полной преданностью и т.п. Теистические доказательства "бытия Бога" не только не относятся к этой теме, но они дают пример наиболее испорченной стороны привычного западного мышления о Боге как о субстанции или объекте, существующем в мире объектов, по отношению к которому мы являемся субъектами. Это "плохая теология". Тиллих, указывая на это, приходит к следующему заключению: "Ницше говорил, что Бога должны были убить, потому что никто не может выносить бытие объектом абсолютного знания и абсолютного контроля" (р. 185).
(обратно)49
"Existential Aspects of Modern Art" в Christianity and the Existentialists, под ред. Carl Michalson (New York: Scribners, 1956) p. 138.
(обратно)50
Ortega у Gasset, The Dehumanization of Art, and Other Writings on Art and Culture (New York: Scribners, 1956), pp. 135-137.
(обратно)51
Pensees of Pascal (New York: Peter Pauper Press, 1946), p. 36.
(обратно)52
Неудивительно, что это направление обращается особенно к современным горожанам, которые осознают свою эмоциональную и духовную дилемму. Норберт Виннер, например, утверждает в своей автобиографии, что научная деятельность привела лично его к "позитивному" экзистенциализму. При этом его реальные научные труды могут значительно отличаться от позиций экзистенциализма. Он пишет: "Мы не боремся за определенную победу в неопределенном будущем. Самая великая из возможных побед – это возможность быть, свершиться (курсив мой). Никакое поражение не может отнять у нас успех существования в какой-то момент времени во Вселенной, которая кажется равнодушной к нам". I am a Mathematician (New York: Doubleday).
(обратно)53
Bynner W., The Way of Life, according to Laotzu, an American version (New York: John Day Company, 1946).
(обратно)54
См.: Barrett W., ed., Zen Buddhism, the Selected Writings of D.T.Suzuki (New York: Doubleday Anchor, 1956), Introduction, p. xi.
(обратно)55
Kierkegaard S., The Sickness Unto Death, trans. By Walter Lowrie (New York: Doubleday&Co., 1954).
(обратно)56
Schachtel E., On Affect, Anxiety and the Pleasure Principle, готовится к печати.
(обратно)57
Cassirer E., An Essay on Man (New Haven: Yale University Press, 1944), p. 21.
(обратно)58
Scheler M., Die Stellung des Menschen im Kosmos (Darmstadt: Reichl, 1928), pp. 13f.
(обратно)59
Ср.: Civilization and its Discontents.
(обратно)60
Kaufmann W.A., Nietzsche. Philosopher, Psychologist, AntiChrist (Princeton: Princeton University Press, 1950), p. 140.
(обратно)61
The Meaning of Anxiety (New York: Ronald Press, 1950), pp. 31-45. Этот отрывок можно порекомендовать в качестве краткого обзора идей Кьеркегора, важных для психологически ориентированного читателя. Самыми значимыми для психологии работами являются две книги Кьеркегора: "Понятие тревоги" (на английский язык она переведена как "Понятие ужаса", возможно, этот термин ближе по смыслу, но он не является психологическим понятием) и "Смертельная болезнь". Для дальнейшего знакомства с работами Кьеркегора советуем обратиться к книге A Kierkegaard Anthology, ed. by Bretall.
(обратно)62
Глава 9
(обратно)63
Kaufmann, op. cit., p. 135.
(обратно)64
Таким образом, сам рост правды может привести к уменьшению безопасности человеческих существ, если они позволят объективному росту правды занять место их собственной преданности, их собственного отношения к правде своего опыта. Кьеркегор писал: "Тот, кто видел современное поколение, конечно же, не будет отрицать, что в нем есть несоответствие, а причина тревоги и беспокойства в том, что правда растет количественно, отчасти в абстрактной ясности, тогда как уверенность постоянно уменьшается".
(обратно)65
См.: Lowrie W., A Short Life of Kierkegaard (Princeton: Princeton University Press, 1942).
(обратно)66
Цит. по: "Concluding Unscientific Postscript", in A Kierkegaard Anthology, Robert Bretall, ed. (Princeton: Princeton University Press, 1951), pp. 210-211. (У Кьеркегора весь этот отрывок выделен курсивом, мы же выделили только часть, чтобы оттенить новый элемент, а именно субъективное отношение к правде). Очень интересно отметить, что далее Кьеркегор приводит пример знания Бога к говорит (чем уберегает нас от бесконечной путаницы и ненужных споров) о том, что попытка доказать существование Бога как "объекта" совершенно бесплодна, правда скорее лежит в природе отношения ("даже если из-за этого он становится связанным с тем, что не является правдой"!). Конечно, Кьеркегор вовсе не утверждает, что объективность правды не имеет значения. Это было бы абсурдом. Он ссылается, как он замечает в послесловии, на "правду, которая существенно связана с существованием".
(обратно)67
См.: "On the Essence of Truth" в Existence and Being, by Martin Heidegger, edited by Werner Brock, op. cit.
(обратно)68
Из речи Werner Heisenberg, Washington University, St. Louis, Oct. 1954.
(обратно)69
Скорее всего это возможно продемонстрировать, а, может быть, это уже было сделано, в экспериментах по восприятию: интерес и увлеченность наблюдателя увеличивают точность восприятия. Подобные признаки можно обнаружить и в ответах на тест Роршаха. Когда испытуемый эмоционально вовлечен в ситуацию, его восприятие форм становится более, а не менее точным. (Я, безусловно, говорю о случаях, не связанных с невротическими эмоциями, там действуют совершенно другие факторы.)
(обратно)70
И Кьеркегор, и Ницше знали, что "человек не может снова погрузиться в нерефлексивную непосредственность, не потеряв себя; но он может идти по этой дороге до конца, не разрушая рефлексию, но скорее приходя к тем своим основаниям, в которых коренится рефлексия". Так говорит Карл Яс-перс в своем блестящем обсуждении сходств Ницше и Кьеркегора, которых он считает двумя великими мыслителями девятнадцатого века. См. его книгу Reason and Existence, Chapter I, "Origin of the Contemporary Philosophic Situation (the Historical Meaning of Kierkegaard and Nietzsche)" (The Noonday press, 1955, trans. From the German edition of 1935 by William Earle). Эта глава была издана в брошюре в Meridian book, Existential from Dostoevsky to Sartre, Walter Kaufmann, ed., 1956.
(обратно)71
Экзистенциальные мыслители в целом воспринимают эту утрату сознания как центральную проблему трагедии наших дней, вовсе не ограниченную только психологическим контекстом неврозов. Ясперс полагает, что силы, разрушающие личное сознание в наше время, – это неумолимые, безжалостные процессы конформности и коллективизма, сметающие все на своем пути, которые могут привести к еще большей потере индивидуального сознания современного человека.
(обратно)72
И Кьеркегор, и Ницше оба разделили сомнительную честь отстранения в некоторых предположительно научных кругах, где их считали патологическими субъектами! Я полагаю, что этот бесполезный вопрос не стоит дальнейшего обсуждения. Бинсвангер цитирует Марселя, рассматривая в своей статье мнение тех, кто говорил о крайней степени психоза у Ницше: "Человек свободен ничему не учиться, если он этого желает". Более полезной будет другая линия исследования, если мы хотим рассмотреть психологический кризис Кьеркегора и Ницше, где мы спрашиваем, может ли человеческое существо поддерживать силу самосознания за пределами определенной точки, и нельзя ли оплатить творческие порывы (что является одним из проявлений этого самосознания) психологическим крушением?
(обратно)73
Kaufmann, op. cit.. p. 93.
(обратно)74
См. отзыв Пауля Тиллиха на "God Is Dead" Ницше, сноска, р. 16.
(обратно)75
Kaufmann, op. cit., pp. 133-134
(обратно)76
Там же, стр. 229.
(обратно)77
Там же, стр. 168.
(обратно)78
Там же, стр. 239.
(обратно)79
Kaufmann, op. cit., p. 169.
(обратно)80
Там же, стр. 136.
(обратно)81
Genealogy of Morals, p. 217.
(обратно)82
Там же, стр. 102.
(обратно)83
Там же, стр. 247.
(обратно)84
The Life and Work of Sigmund Freud, by Ernest Jones, Basic Books, Inc., Vol. II, p. 344. Dr. Ellenberger, поясняя сходство Ницше с психоанализом, говорит: "Фактически, аналогии настолько поразительны, что я с трудом могу поверить, что Фрейд никогда его не читал, как он заявлял. Либо он забыл, что читал его, либо он читал его в косвенной форме. Работы Ницше широко обсуждались в то время, сотни раз цитировались в книгах, журналах, газетах, разговорах повседневной жизни, поэтому практически невозможно, чтобы Фрейд, тем или иным образом, не воспринял его идеи". Чтобы ни утверждали по этому поводу, точно можно сказать следующее: Фрейд читал Эдварда фон Гартмана (об этом говорит Крис), который написал книгу "Философия бессознательного". И фон Гартман, и Ницше заимствовали идеи о бессознательном у Шопенгауэра, большинство работ которого также можно отнести к экзистенциальному направлению.
(обратно)85
Ibid., Vol. II, p.344.
(обратно)86
Ibid., Vol. I, p. 295.
(обратно)87
Ibid., Vol. II, p.432.
(обратно)88
Указание на то, что Фрейд имеет дело с homo natura, было сделано Бинсвангером в связи с его приглашением в Вену по случаю восьмидесятилетия Фрейда.
(обратно)89
См. стр. 126.
(обратно)90
Мы можем переживать такое состояние в отношениях с нашими друзьями или любимыми. Это переживание дано не раз и навсегда, в любых развивающихся отношениях оно может и, возможно, должно – в том случае, если это значимые отношения – возникать постоянно.
(обратно)91
Sartre J.-P., Being and Nothingness, trans., by Hazel Barnes (1956), p. 561. Сартр продолжает: "...либо приглядываясь к человеку, мы встречаемся с бесполезной противоречивой метафизической субстанцией, либо сущность, которую мы ищем, исчезает в тени явлений, соединенных внешними связями. Но каждый из нас в самом этом усилии понять другого требует того, чтобы он никогда не обращался к идее субстанции, которая является негуманной, потому что вполне возможно это и есть та самая сторона человека" (р. 52). Далее: "Если мы признаем, что человек есть единство, то у нас нет надежды переделать его, добавляя или формируя различные тенденции, которые мы открыли в нем эмпирическим путем..." Сартр утверждает, что каждая установка человека в некоторой степени отражает это единство. "Беспокойство об определенном свидании, в котором субъект утвердился в истории отношений с некой женщиной, для того, кто знает, как это расценивать, означает целостное отношение к миру, посредством которого индивид утверждает себя как "я". Другими словами, эта эмпирическая установка сама по себе выражает "выбор интеллигибельного (ясного) характера". В этом нет никакой тайны" (р. 58).
(обратно)92
Marcel G., The Philosophy of Existence (1949), p. 1.
(обратно)93
Ibid. Курсив мой. Сведения по вопросу "губительных эффектов вытеснения" смысла бытия можно найти у Fromm, Escape form Freedom, and David Reisman, The Lonely Crowd.
(обратно)94
Ibid., p. 5.
(обратно)95
Pascal's Pencas, Gertrude B. Burfurd Rawlings, trans., and ed. (Peter Pauper Press), p. 35. Паскаль продолжает: "Таким образом, все наше величие лежит в мысли. Мы должны подняться с помощью мысли, а не с помощью пространства и времени, которые мы не можем заполнить. Давайте же жаждать того, чтобы хорошо мыслить – в этом и есть принцип нравственности". Возможно, будет уместным заметить, что под мыслью он, конечно, подразумевает не интеллектуальный или технический разум, а самосознание, разум, который также знает доводы сердца.
(обратно)96
Так как наша цель заключается в том, чтобы просто проиллюстрировать одно явление, а именно восприятие смысла бытия, то мы не будем сообщать диагноз или другие детали случая.
(обратно)97
Мы напомним для некоторых читателей отрывок из Исхода 3:14, где Моисей, после того как ему явился Яхве в горящем кусте и призвал его освободить израильтян из Египта, требует, чтобы Бог назвал свое имя. И Яхве дает знаменитый ответ: "Я есть тот, кто я есть" ("I am that I am" (библ.), "Я есмь сущий"). Это классическое, экзистенциальное предложение (по случайности у пациента не было сознательного знания этих слов) несет большую символическую силу, идущую из древних времен, так как Бог здесь утверждает, что квинтэссенцией божественности является сила быть. Мы не можем здесь рассматривать ни многочисленные значения этого ответа, ни сложности перевода. Здесь мы можем только указать, что с древнееврейского это предложение так же может быть переведено как "Я буду тем, кем я буду". Этот перевод близок к тому, что мы писали выше: бытие отнесено к будущему времени и неотделимо от становления. Бог – это создающая potentia, сущность силы становления.
(обратно)98
Мы опускаем вопрос о том, будет ли правильно назвать это переносом или просто человеческим доверием. Мы не отрицаем ценность концепции переноса, если он верно определен, но нет смысла говорить о чем-то как о "просто переносе", будто это все просто принесено из прошлого.
(обратно)99
Healy, Bronner and Bowers, The Meaning and Structure of Psychoanalysis (1930), p. 38. Здесь мы приводим цитату из стандартного описания классического психоанализа периода становления не потому, что мы не осознаем последующую доработку теории эго, а потому что мы хотим показать сущность понятия эго, сущность, которая была доработана, но не изменена
(обратно)100
Ibid., р. 41.
(обратно)101
Ibid., p. 38.
(обратно)102
Если здесь появляется возражение, что понятие "эго" по крайней мере более точное, а значит, в большей степени удовлетворяет научным требованиям по сравнению со "смыслом бытия", то мы можем только повторить то, что уже говорили выше: точность легко дается на бумаге. Но вопрос всегда является мостиком между понятием и действительностью человека, и научный вызов заключается в том, чтобы найти понятие, способ понимания, который не совершает насилия над действительностью, даже если оно будет менее точным.
(обратно)103
Это интерпретация Хайдеггера, сделанная Вернером Броком в предисловии к Existence and Being (Regnery, 1949), p. 77. Для тех, кто интересуется логическими аспектами проблемы бытия-небытия, можно добавить, что диалектическое "да-нет", как говорит Тиллих в Courage to Be, присутствует в различных формах во всей истории мысли. Гегель утверждал, что небытие является интегральной частью бытия, особенно он подчеркивал это в антитезисе его диалектической концепции "тезис, антитезис, синтез". Шеллинг, Шопенгауэр, Ницше и другие говорили о значимости воли как онтологической категории, что показывает силу бытия "отрицать себя, не теряя себя". Тиллих, давая собственное заключение по данной проблеме, утверждает, что на вопрос о связи бытия и небытия можно ответить только метафорически: "Бытие объемлет и себя, и небытие". Выражаясь нашим повседневным языком, бытие охватывает небытие в том смысле, что мы можем сознавать смерть, принимать ее, даже призвать ее с помощью самоубийства, то есть можем постичь смерть с помощью самоосознания.
(обратно)104
Характеристики онтологического страха даны здесь в форме эпиграммы. Дабы не увеличивать чрезмерно объем работы, мы вынуждены опустить некоторые эмпирические данные, которые можно было бы привести по каждой характеристики. Более полное развитие некоторых аспектов этого подхода к страху можно найти в моей книги "Значение тревоги" (The Meaning of Anxiety).
(обратно)105
Мы здесь говорим о страхе как о субъективном состоянии, различая субъективное и объективное, что может быть не совсем логично, но показывает точку зрения, с которой человек наблюдает это. Объективная сторона переживания страха, что мы можем наблюдать извне, проявляется в некоторых случаях тяжелых расстройств, катастрофического поведения (Гольдштейн), в случаях невротического образования симптомов или в случаях "нормальных" личностей, испытывающих скуку, навязчивую активность, совершающих бессмысленные поступки, переживающих сужение осознания.
(обратно)106
Обсуждение этого феномена можно посмотреть в главе, написанной Минковски далее в этой книге.
(обратно)107
Это интересный вопрос: в англоговорящих странах существуют прагматические тенденции избегания реакций на тревожные переживания. В Британии это выражается в стоицизме, здесь, в Штатах, мы стараемся не плакать или не показывать страх. Возможно, это одна из причин, по которой у нас нет достаточно развитого словаря переживаний.
(обратно)108
См.: Meaning of Anxiety, p. 32.
(обратно)109
Human Nature in the Light of Psychopathology (Cambridge: Harvard University Press, 1940).
(обратно)110
Boss M., Psychoanalyse und Daseinsanalytik (Bern and Stuttgart: Verlag Hans Huber, 1957). Я благодарен доктору Эриху Хэйдту, ученику и коллеге Босса, за перевод некоторых разделов этой книги и за обсуждение со мной взглядов Босса.
(обратно)111
См. стр. 314.
(обратно)112
Дэвид Бакан (David Bakan) использовал это понятие для описания переживания изолированности западного человека от собственного мира. По его мнению, данная изоляция происходит от скептицизма, унаследованного нами от английских эмпириков – Локка, Беркли и Юма. Он убежден, что их ошибка заключалась в понимании "мыслителя как существующего в одиночестве, нежели как члена или участника некоего мыслящего сообщество". ("Clinical Psychology and Logic", The American Psychologist, December 1956, p. 656). Интересно отметить, что Бакан объясняет эту ошибку только с социальной точки зрения, то есть с точки зрения отделения от общности. Но это скорее симптом, а не причина. Наверное, точнее было бы сказать, что изоляция от общности – это один из способов проявления всеобъемлющей базисной изоляции.
(обратно)113
См.стр.254.
(обратно)114
Вещи протяженные (лат.). – Редакторы.
(обратно)115
Читатели, интересующиеся историей развития этих идей, вспомнят важный и внушительный символ из знаменитой доктрины Лейбница, где он утверждает, что вся действительность состоит из монад. У монад нет ни окон, ни дверей, каждая отделена, изолирована от другой. "Каждая простая субстанция одинока, у нее нет прямых связей с другими единицами. Ужас, исходящий от этой идеи, был преодолен гипотезой о вселенской гармонии, согласно которой весь мир потенциально присутствует в каждой монаде, и каждый индивид развивается в естественной гармонии со всеми остальными индивидами. Здесь мы видим наибольшую глубину метафизической ситуации буржуазной цивилизации раннего периода. Мы обнаруживаем явное соответствие данной ситуации и буржуазной цивилизации, так как несмотря на растущее социальное разделение, люди все еще жили в общем мире" (Tillich P., The Protestant Era, p. 246). Эта доктрина "доустановленной гармонии" не что иное, как понятие провидения в религии. Отношение между человеком и миром было каким-то образом предопределено. Декарт также считал, что Бог, чье существование, по его мнению, он доказал, гарантировал отношения между сознанием и миром. Социоисторическая ситуация того времени была такова, что "вера" Лейбница и Декарта работала, то есть отражала существование общего мира (Тиллих). Но сейчас, когда Бог не только "умер", но над его могилой уже и реквием спели, стали очевидны полная изоляция и отчуждение в отношениях между человеком и миром. Проще говоря, когда культурное явление, о котором речь шла выше, наряду с гуманистическими и иудео-христианскими ценностями потеряли свою значимость, то проявились неотъемлемые черты данной ситуации.
(обратно)116
Хайдеггер использует термины "пребывать" и "проживать" вместо "быть", "находиться", когда говорит о человеке, находящемся в каком-то месте. Он употребляет слово "мир" в значении греческого космоса, что означает "универс", с которым мы взаимодействуем. Хайдеггер упрекает Декарта за чрезмерную поглощенность res extensa, за то, что он проанализировал все объекты и вещи в мире, но забыл о самом важном – о самом мире, о значимых отношениях между этими объектами и человеком. Современная мысль в этом вопросе практически полностью следует за Декартом, что во многом ухудшает наше понимание человека.
(обратно)117
См.: Бинсвангер, стр. 313-314
(обратно)118
В житейском смысле понятие "культуры" обычно противопоставляется индивиду, например, "влияние культуры на индивида". Вероятно, такое словоупотребление – неизбежный результат субъект-объектной дихотомии, так как понятия "индивида" и "культуры" возникли в ее рамках. При этом упускается очень важный факт: в каждый момент времени индивид формирует свою культуру.
(обратно)119
Далее Шехтель пишет: "Открытость мира является отличительной характеристикой сознательной жизни человека". В ясной и доступной форме он описывает жизненное пространство и жизненное время, которые характеризуют и отличают мир человека от мира растений и животных. "У животных влечения и аффекты в большой степени остаются связанными с врожденной инстинктивной организацией. Животное "встроено" в эту организацию и соответствующий ей замкнутый мир (J.V.Uexkull's "Wekwelt" и "Wirkwelt"). Отношение человека к его миру является открытым, влияние инстинктов незначительно. В основном отношение человека к миру управляется его исследовательской деятельностью, в ходе которой он устанавливает сложные, меняющиеся и развивающиеся отношения с другими людьми, с миром природы и культуры вокруг него. Шехтель говорит о том, что "человек и его мир настолько сильно взаимосвязаны, что все наши аффекты возникают из... пространственных и временных пробелов, образующихся между нами и нашим миром". "On Affect, Anxiety and the Pleasure Principle", готовится к печати, pp. 101 – 104.
(обратно)120
"The Existential Analysis School of Thought", p. 191. В этой главе важно отметить параллель, которую Бинсвангер проводит между своей концепцией мира и концепцией мира Курта Гольдштейна.
(обратно)121
Здесь и далее "заброшенный" (от англ. "throw") означает скорее не состояние покинутости или одиночества, а положение оказавшегося где-то не по своей воле, посланного туда. – Прим. перев. на рус. яз.
(обратно)122
В этом отношении важно отметить, что Кьеркегор и Ницше в противоположность большинству мыслителей XIX века, могли серьезно исследовать тело. Они видели в нем не совокупность абстрактных субстанций или мотивов, но одну из форм человеческой действительности. Таким образом, когда Ницше говорит: "Мы думаем с помощью наших тел", он имеет в виду нечто совершенно отличное от идей бихевиористов.
(обратно)123
Мартин Бубер развил представление о Mitwelt в своей философии Я и Ты. См. его лекции, прочитанные в Школе психиатрии в Вашингтоне, напечатанные в Psychiatry, May 1957, vol. 20, No. Two. Особое внимание следует обратить на лекцию о "Расстоянии и отношении".
(обратно)124
Первым эту формулировку предложил Уильям Джеймс. Он определил "я" как "сумму различных ролей, которые играет личность". Хотя в то время это был значительный шаг вперед, так как было преодолено представление о фиктивном "я", существующем в вакууме, но сейчас такое определение неадекватно и ошибочно. Если быть последовательным в этом определении, то перед нами появляется картина неинтегрированного, "невротичного" "я", а также у нас возникают всевозможные трудности при суммировании этих ролей. Мы предлагаем определять "я" не как сумму играемых ролей, а как способность знать, что вы тот, кто играет эти роли. Это единственная точка интеграции, согласно которой роли – это манифестации (проявления) "я".
(обратно)125
Во многих психологических и психиатрических дискуссиях о любви не хватает трагического элемента. Для введения трагедии в общую картину необходимо понимать индивида во всех трех формах мира – в мире биологических влечений, судьбы и детерминизма (Umwelt), в мире ответственности перед своими товарищами (Mitwelt) и в мире, в котором индивид может осознать (Eigenwelt) судьбу, с которой он борется в данный момент один на один. Eigenwelt – это суть любого переживания трагедии, так как индивид должен сознавать свою самобытность посреди огромного числа действующих на него природных и социальных сил. Было верно сказано, что в современном мире нам не хватает чувства трагедии, поэтому у нас появляются неправдоподобные трагедии в драме и других видах искусства. Мы утратили чувство индивидуальной идентичности и сознания посреди всепоглощающих экономических, политических, социальных и природных сил. В экзистенциальной психиатрии и психологии важно еще и то, что они возвращают человеку трагедию, открыто рассматривают и понимают ее в ее справедливости.
(обратно)126
Kierkegaard S., Fear and Trembling, trans., by Walter Lowrie (New York: Doubleday & Co., 1954), p. 55.
(обратно)127
"Findings in a Case of Schizophrenic Depression", p. 127. Minkowski's book, Le Temps Vecu (Paris: J.L.L. d'Artrey, 1933), к сожалению, его концепция "прожитого времени" не переведена на английский.
(обратно)128
Это понимание времени также отражено в "философских процессах", например у Уайтхеда, и имеет очевидные аналоги в современной физике.
(обратно)129
Ср. с Тиллихом: "Существование отличается от сущности своей временной характеристикой". Хайдеггер, ссылаясь на осознание человеком того, что он существовует во времени, говорит: "Временность – это истинное значение заботы (Sorge)". Tillich, "Existential Philosophy", Journal of the History of Ideas, 511, 61, 62, 1944.
(обратно)130
"Time as a Determinant in Integrative Learning", in Learning Theory and Personality Dynamics, selected papers by O.Hobart Mowrer (New York: Ronald Press, 1950).
(обратно)131
Bergson, Essai sur les Donnees Immediates de la Conscience, quoted by Tillich, "Existential Philosophy", p. 56.
(обратно)132
Работа Хайдеггера "Бытие и время" посвящена, как видно из названия, анализу взаимоотношений указанных феноменов. Основная тема этой работы – "оправдание времени для бытия" (Страус). Он называет три формы времени: прошлое, настоящее и будущее, "три экстаза времени". Термин "экстаз" Хайдеггер употребляет в его этимологическом смысле – "стоящий за пределами". Сущностная характеристика человеческого бытия – это способность выходить за пределы данной формы времени. Хайдеггер утверждает, что наше беспокойство об объективном времени на самом деле бегство. Люди предпочитают видеть себя с точки зрения объективного времени, объективной статистики, в количественном измерении, в "среднем" и т.д., потому что они боятся открыто постичь свое существование. Более того, объективное время, у которого есть свое место среди количественных мер, можно понять только на основе мгновенно пережитого времени, а не наоборот.
(обратно)133
Надо отличать не только экзистенциальных психологов и психиатров, но и экзистенциальных мыслителей в целом по тому признаку, что они серьезно относятся к исторической культурной ситуации, влияющей на психологию и духовные проблемы любого индивида. Но они подчеркивают, что, чтобы познать историю, мы должны действовать в ней. Ср. высказывание Хайдеггера: "История берет начало не в "настоящем", не из того, что "реально" только сегодня, а из будущего. "Отбор" того, что станет объектом истории производится действительным, "экзистенциальным" выбором... историка, в котором и рождается история". Brock, op. cit., p.110. В терапии пациент из прошлого отбирает то, что определено будущим.
(обратно)134
Fear and Trembling, p. 130. От предыдущих поколений мы узнаем факты. Мы можем выучить их после неоднократных повторений, подобно таблице умножения, или вспомнить события или переживания, произведшие на нас сильное впечатление. Кьеркегор не умаляет значения этого. Он хорошо осознавал, что в технических областях существует прогресс от одного поколения к другому. Он говорит именно об "истинно человеческом", в частности о любви.
(обратно)135
Я столкнулся с этим неприятием, когда перед публичным представлением одной из моих последних статей я отдал ее для чтения руководителю дискуссионной группы. В статье был параграф, посвященной концепции Гольдштейна о нейробиологических аспектах способности организма трансцендировать наличную ситуацию. Я не говорил ничего провокационного. Однако слово "трансцендирование", использованное при представлении темы, подействовало на моего оппонента как красная тряпка на быка, и он красным карандашом вывел огромное "Нет!!", а на полях написал различные восклицания и замечания по поводу этого термина. Кажется, в самом этом слове есть что-то, подстрекающее к мятежу.
(обратно)136
Straus Е.W., "Man, a Questioning Being", UIT Tijdchrift voor Philosophie, 17e Jaargang, No. 1, Maart 1955.
(обратно)137
Practical and Theoretical Aspects of Psychoanalysis (New York: International Universities Press, 1950), p. 19.
(обратно)138
Medard Boss, op. cit.
(обратно)139
The Sickness Unto Death, p. 163. Далее: "Воображение – это отражение процесса бесконечности, следовательно, старый Фихте правильно полагал, пусть даже по отношению к знанию, что воображение – начало категорий. "Я" – это рефлексия, и воображение – это рефлексия; именно поддельная форма самопрезентации и есть возможность "я".
(обратно)140
См.: "Эллен Вест", стр. 444.
(обратно)141
Термин "анализировать" сам по себе отражает суть проблемы. У пациентов могут быть не только семантические трудности как способ выражения сопротивления, когда они убеждаются, что идея "быть проанализированным" превращает их в объектов, "над которыми работают". Этот термин включен в словосочетание "экзистенциальный анализ" отчасти потому, что он стал стандартом для глубинной психотерапии со времен рождения психоанализа, отчасти потому, что сама экзистенциальная мысль (вслед за Хайдеггером) – это "анализ реальности". Безусловно, этот термин отражает нашу культурную тенденцию в целом. Эту тенденцию называют "Эпоха анализа" по названию одного из последних обзоров современной западной мысли. Хотя я не считаю этот термин очень удачным, я использовал выражение "экзистенциальный аналитик", потому что название "феноменологические и экзистенциальные психологи и психиатры" слишком длинное и неудобное.
(обратно)142
Я хочу поблагодарить Dr.Ludwig Lefebre и Dr.Hans Hoffman, обучающихся экзистенциальной терапии, за их помощь в работе над техниками Daseinanalyse.
(обратно)143
Psychoanalyse und Daseinanalytic. Данные цитаты – приблизительный перевод, сделанный Dr. Erich Heydt.
(обратно)144
См. стр. 130.
(обратно)145
Ulrich Sonnemann, in Existence and Therapy (New York: Grune & Stratton, 1951). P. 343, цит. из Kolle. Мы можем добавить, что книга Зонеманна была первой работой на английском языке, в которой шла речь непосредственно об экзистенциальной теории и терапии, в ней излагался необходимый полезный материал. Тем более печально, что книга написана в трудно читаемом стиле.
(обратно)146
Quoted by Sonnemann, op. cit., p.255, из Binswanger L., "Uber Psychotherapie", в Ausgewahlte Vortrage und Aufsatze, pp. 142-143.
(обратно)147
Rogers C.R., "Persons or Science? A Philosophical Question", American Psychologist, 10: 267-268, 1955.
(обратно)148
Этой позиции последовательно придерживаются феноменологи. Они считают, что полностью понимать, что мы делаем, чувствовать это, переживать всем нашим существом гораздо важнее, чем знать, почему мы это делаем. Они утверждают: если мы полностью понимаем что, то почему придет само собой. Это можно часто наблюдать в психотерапии: у пациента может быть только смутная интеллектуальная идея о причине того или иного стереотипа поведения, но по мере того, как он все больше и больше исследует и переживает разные стороны и фазы этого стереотипа, причина может неожиданно стать для него реальной, а не абстрактной формулировкой. Причина становится реальным интегральным аспектом целостного понимания того, что делает пациент. Это направление еще имеет и очень важное культурное значение: мы так часто задаемся вопросом почему, тем самым отстраняясь, избегая беспокоящей, тревожащей нас альтернативы идти до конца с что. Наше современное западное общество слишком озабочено причинностью и функциональностью. Это создает потребность в абстрагировании себя от реальности данного переживания. Мы обычно спрашиваем почему, чтобы получить власть над явлением (помните изречение Бэкона – "знание – сила"?), а особенно знание природы, то есть власть над природой. С другой стороны, спрашивая что, мы участвуем в явлении.
(обратно)149
Это можно определить как экзистенциальное время – время, которое необходимо для того, чтобы что-то стало реальным. Это может произойти мгновенно, а может потребоваться час разговора или некоторое время молчания. В любом случае чувство времени, которое терапевт тратит при обдумывании интерпретации, основывается не только на негативном критерии, – сколько времени может занять пациент, но и на позитивном – реально ли оно для пациента? Как и в примере, приведенном выше, достаточно ли ярко и остро пациентка пережила то, что она делает с терапевтом, появилась ли у прошлого динамическая реальность, которая дает ей силу измениться?
(обратно)150
См. стр. 142.
(обратно)151
Здесь приводится точка зрения Бинсвангера в интерпретации д-ра Хоффмана.
(обратно)152
Мы не затрагиваем здесь практической стороны этого вопроса, то есть не говорим о том, что делать с пациентами с действительной суицидальной угрозой, так как в этой области появляется большое количество деталей, не относящихся прямо к нашей теме. Осознание, о котором мы говорим, отличается от всеобъемлющей постоянной депрессии с самодеструктивными импульсами. Самоосознание не устраняет эту депрессию, что создает базу для реального суицида.
(обратно)153
До бесконечности (лат.). – Редакторы.
(обратно)154
Я бы хотел здесь поблагодарить Людвига Бинсвангера, Хейнца Граумана, Ролло Мэя, Карла Меннингера, Юджина Минковски, Гарднера Мерфи, Пола Прюйсера, Эрвина Страуса, ван дер Ваалса за их поддержку и предложения. Я бы хотел выразить особую благодарность Энн Уилкинс за ее неоценимую помощь в подготовке и редактировании этой статьи.
(обратно)155
Daremberg Ch. (ed.), Oeuvres anatomiques, physiologiques et medlcales de Gallen (French trans.) (Paris: Bailliere, 1854-56). Vol 2, p. 588.
(обратно)156
Vallon Ch. and Genil G. – Perrin, "La Psychiatrie medicolegale dans l'oeuvre de Zacchias", Revue de Psychiatrie, vol. 16, 1912, pp. 46-84, 90-106.
(обратно)157
Blondel Ch., La Conscience morbide (Paris: Alcan, 1914).
(обратно)158
Примечательно, что Гуссерль (1859-1938) и Фрейд1 (1856-1939) родились и умерли почти в одно и то же время, они опубликовали свои главные работы (Freud, The Interpretation of Dreams, Husserl, The Logische Untersuchungen) в один год – 1900-й. Гуссерль был самым выдающимся учеником Франца Брентано, чьи философские лекции в течение двух лет посещал Фрейд.
(обратно)159
Merleau-Ponty M., Phenomenologle de la perception (Paris: Gallimard, 1945). P. viii.
(обратно)160
После первой редукции, эпохе или психологическо-феноменологической редукции, Гуссерль ввел два новых вида – "эйдетическую редукцию" и "трансцендентальную редукцию". Нам не нужно разбираться в его философской системе, поэтому англоговорящих читателей, интересующихся этим вопросом, мы отсылаем к книге Farber Marvin, The Foundation of Phenomenology (Cambridge, Mass.: Harvard Univ. Press, 1913). Также можно посмотреть периодическое издание Philosophy and Phenomenologucal Research, издаваемое University of Buffalo, Buffalo, N.Y.
(обратно)161
Katz David, Der Aufbau der Farbwelt (Leipzig: Barth, 1930).
(обратно)162
Jean-Paul Sartre, Esquisse d'une theorie des emotions. Actualites scientifiques et indastrielles, No. 838 (Paris: Hermann, 1948).
(обратно)163
M. Merleau-Ponty, op. cit.
(обратно)164
Jaspers K., Allgemeine Psychopathologel (Berlin: Springer, 1913).
(обратно)165
Mayer-Gross W., Selbstschilderungen der Verwlrrtheit. Die oneiroide Erlebnisform (Berlin: Springer, 1924).
(обратно)166
Wyrsch J., Ueber akute schizophrene Zustande, ihren psychopathologlschen Aufbau und ihre praktische Bedeutung (Basel and Leipzig: Karger, 1937); "Ueber die Psychopatologie einfacher Schizophrenien", Monatsschrift fur Psychiatre and Neurologic, Vol. 102, 1940, pp. 75-106; "Zur Theorie und Klinik der paranoiden Schizophrenie", Monatsschrift fur Psychiatre and Neurologic, Vol. 106, 1942, pp. 57-101.
(обратно)167
Minkowski E., "La Notion de trouble generateur et l'analyse structurale des troubles mentaux", в Le Temps vecu (Paris: d'Artrey, 1933), pp. 207-254.
(обратно)168
Von Gebsattel V.E., "Zeitbezogenes Zwangsdenken in der Melancholie", в Prolegomena einer medizinischen Anthropologoe (Berlin: Springer, 1954), pp. 1-18.
(обратно)169
Minkowski E., La Schizophrenie (Paris: Payot, 1927).
(обратно)170
От англ. "ward off" – отвращать (опасность). – Прим. перев.
(обратно)171
Straus Erwin, On Obsessions, Nervous and Mental Disease Monographs, 1948, No. 73.
(обратно)172
Хороший обзор различных философских теорий был сделан Werner Cent в его книге Das Problem der Zeit. Eine historische and systematische Untersuchung (Frankfurt a.M.: Schulte-Bulmke, 1934).
(обратно)173
Dunne J.W., An Experiment with Time (New York: Macmillan, 1927); The Serial Universe (London: Faber, 1934).
(обратно)174
Du Nouy Lecomte, Le Temps et la vie (Paris: Gallimard, 1936).
(обратно)175
Ruyer R., Elements de psycho-biologie (Paris: PUF, 1946); Neo-Finalisme (Paris: PUF, 1952).
(обратно)176
Bergson H., Essai sur les donnees immediates de la conscience (Paris: Alcan, 1889).
(обратно)177
Janet P., L'Evolution de la memoire et la notion de temps (Paris: Chahine, 1928).
(обратно)178
Husserl E., Vorlesungen zur Phanomenologie des inneren Zeitbewusstseins (Ed. by M. Heidegger) (Halle: Niemeyer, 1928).
(обратно)179
Heidegger M., Sein und Zelt (Halle: Niemeyer, 1927).
(обратно)180
Volkelt Johannes, Phanomenologie und Metaphysik, der Zeit (Munich: С.Н.Beck, 1925).
(обратно)181
Minkowski E., Le Temps vecu.
(обратно)182
Уильям Штерн был одним из первых, кто уделил соответствующее внимание этому феномену. Более поздние исследования показали, что "личный темп" – это постоянная характеристика индивида, которая не изменяется с возрастом, в некоторой степени она является наследственной. См.: Ida Frischelsen-Kohler, Das personliche Tempo (Leipzig: Thieme, 1933).
(обратно)183
Бессознательная оценка времени – это очень сложный феномен. Эксперименты показали, что в большой степени эта оценка зависит от клеточного метаболизма: после приема тироксина продолжительность времени кажется длиннее, чем на самом деле, а после хинина – короче. С другой стороны, полусознательная оценка времени производится разными средствами: будучи голодными, воспринимая дневной свет, слыша пение птиц, мы по-разному оцениваем время. Наконец, есть доказательства удивительно точных, абсолютно бессознательных оценок времени. Речь идет о "внутреннем будильнике", который позволяет некоторым индивидам по желанию просыпаться в нужное им время, о выполнении постгипнотического внушения точно в требуемое время, даже спустя недели или месяцы после внушения, и о "секретном календаре" (Штекель), согласно которому некоторые счастливые события происходят на годовщины определенных событий нашей жизни.
(обратно)184
Gschwind M., Untersuchungen uber Veranderungen der Chronognosie im Alter, Basel, Diss. Med. 1948.
(обратно)185
Эта характеристика специфична для каждого вида. Cf. G.А.Brecher, Zeitschrift fur vergleichende Physiologie, Vol. 18, 1932, p.204.
(обратно)186
James W., Principles of Psychology (New York: Holt, 1890).
(обратно)187
Уильям Джеймс взял это выражение у Клея (Е.G.Clay), который, однако, употреблял его в несколько ином смысле в своей книге The Alternative (1882).
(обратно)188
Minkowski E., Le Temps vecu, pp.30-34.
(обратно)189
Janet P., Les Obsessions et la psychasthenie (Paris: Alcan, 1903), Vol. I, p. 481.
(обратно)190
Натан Израэли (Nathan Israeli) предпринял экспериментальное изучение этого вопроса. Он просил людей пожилого возраста и психотиков написать их "будущую автобиографию". Abnormal Personality and Time (1936).
(обратно)191
Холбвочс утверждал, что в наших истинных, сознательных воспоминаниях нет почти никакой информации о прошлом. То, что мы называем памятью прошлого – это всегда реконструкция, основанная на социальных нормах и конкретных остатках прошлого. См. его книгу Les Cadres sociaux de la memoire (Paris: Alcan, 1924).
(обратно)192
Pfahler G., Der Mensch und seine Vergagenheit (Stuttgart: Klett, 1950).
(обратно)193
Minkowski E., Le Temps vecu, pp. 72-120, 138-158.
(обратно)194
Solanes J., "Exit et temps vecu", L'Hygiene mentale, 1948, pp. 62-78.
(обратно)195
Lazarfeld-Jahonda M. and Zeisl H., Die Arbeitslosen von Marienthal (Leipzig: Hirzel, 1933), pp. 59-69.
(обратно)196
De Greeff E. "La personnalite du debile mental", Journal de Psychologie, Vol. 24, 1927, pp. 434-439.
(обратно)197
Цит. по: Israeli N., Abnormal Personality and Time, p. 118.
(обратно)198
Bouman Leendert and Grunbaum A.A., "Eine Storung der Chronolognosie und ihre Bedeteunug im betreffenden Symptomenbild", Monatsschrift fur Psychiatrie und Neurologie, Vol. 73, 1929, pp. 1-39.
(обратно)199
Нарушение зрения, при котором окружающие предметы воспринимаются пропорционально уменьшенными по сравнению с их реальной величиной. – Редакторы.
(обратно)200
Straus Е., "Die Formen des Raumlichen. Ihre Bedeutung fur die Motoric und die Wahrnehmung", Der Nervenarzt, Vol. 3, 1930, pp. 633-656.
(обратно)201
Binswanger L., "Das Raumproblem in der Psychopathologie (1932)", Ausgewählte Vortrage and Aufsatze (Bern: Francke, 1955), Vol. II, pp. 174-225. Бинсвангер первым детально описал исследование по феноменологии пространственного характера в клиническом состоянии мании в своей книге Uber Ideenflucht (Zurich: Orell-Fussli, 1933).
(обратно)202
Minkowski E., "Vers une psychopathologie de l'espace vecu", в Le Temps vecu, pp. 366-398.
(обратно)203
Merleau-Ponty M., Phenomenologie de la perception.
(обратно)204
Дж.Линдсхотен (J.Lindschoten) провел фноменологическое исследование горизонта, а Гуздорф (Gusdorf) – небесного свода в работе Situation (Utrecht: 1954), vol. I.
(обратно)205
Binswanger L., Ausgewählte Vortrage und Aufsatze, Vol. II, pp. 174-225.
(обратно)206
Мы сожалеем, что рамки этой главы не позволяют нам обсудить феноменологически очень важное различие между "сигналом" и "индексом", на котором настаивал Гуссерль. Выражение и физиогномию не следует путать с сигналом и коммуникацией. В качестве иллюстрации "физиогномического аспекта мира" можно посмотреть работу фон Гебсаттеля, в которой он показывает, как у компульсивных невротиков физиогномический аспект мира становится всепоглощающим, в то же самое время принимая вид распада. Страус противопоставляет этому "физиогномию чудесного", типичную для субъективного переживания при острой интоксикации гашишем.
(обратно)207
Straus E., op. cit., pp. 633-656.
(обратно)208
Minkowski E., "Vers une psychopathologie de l'espace vecu", in Le Temps vecu, pp.366-398.
(обратно)209
Scholem Gershon G., Major Trends in Jewish Mysticism (New York: Shocken Books, 1946), pp. 63-70.
(обратно)210
Huber G., Akaca - der mystische Raum (Zurich: Origo-Verlag, 1955).
(обратно)211
Binswanger L., "Das Raumproblem in der Psychopathologie."
(обратно)212
Weckowicz Т.Е., Size Constancy in Schizophrenic Patients. (Unpublished, communicated by the author.)
(обратно)213
Osmond Humphrey, Function as the Basis of Psychiatric Ward Design. (Unpublished, communicated by the author.)
(обратно)214
Minkowski E., La Schizophrenic.
(обратно)215
Merleau-Ponty M., Phenomenologie de la perception, p. 337.
(обратно)216
Искажения переживаемого пространства конечно же случаются в психиатрических случаях. Прекрасное исследование таких искажений провел Tellenbach Hubert, "Die Raumlichkeit der Melancholie", Nervenarzt, Vol. 27, 1956, pp. 12-18, 289-298.
(обратно)217
Binswanger L., "Traum und Existenz." In Ausgewahlte Vortrage und Audsatze. Vol. I, pp. 74-97.
(обратно)218
Bachelard Gaston, L'Air et les songes (Paris: Corti, 1943).
(обратно)219
Adler Alfred, "Das Problem der "Distanz", in Praxis und Theorie der Individual Psychologie (Munich: Bergmann, 1924), pp. 71-76.
(обратно)220
Minkowski E., Le Temps vecu, pp. 366-398.
(обратно)221
Kuhn R., "Zur Daseinanalyse der anorexia mentalis", Nervenarzt, Vol. 22, 1951, pp. 11-13.
(обратно)222
Cargnello Danilo, "Sul Problema psicopatologico della "Distanza" esistenziale", Archivio di psicologia, Neurologia e Psichiatria, Vol. 14, 1953, pp. 435-463.
(обратно)223
Hediger Heini, Skizzen zu einer Tierpsychologie im Zoo und im Zircus (Zurich: Buchergilde Gutenberg, 1954), pp. 214-244.
(обратно)224
Staehelin В., Gesetzmassigkeiten im Gemeinschaftsleben schwer Geisteskranker, Schweizer Archiv fur Nuerologie und Psychiatrie, Vol. 72, 1953, pp. 277-298.
(обратно)225
Вероятно, Штекель был первым, кто указал на значение правого и левого в символизме сновидений и невротических симптомов. Ср.: Die Sprache des Traumus (Munich: Bergmann, 1911).
(обратно)226
Ср.: Kuhn R., "Daseinanalytische Studie uber die Bedeutung von Grenzen im Wahn", Monatsschrift fur Psychiatrie und Neurologie, Vol. 124, 1952, pp. 354-383.
(обратно)227
Binswanger L., Uber Ideenflucht.
(обратно)228
Bachelard Gaston, La Psycheanalyse du feu (Paris: Gallimard, 1938); L'Eau et les reves (Paris: Corti, 1942); L'Air et les songes (Paris: Corti, 1943); La Terre et les reveries du repos (Paris: Corti, 1948); La Terre et les reveries de la volonte. (Paris: Corti, 1948).
(обратно)229
Bachelard Gaston, Lautreamont (Paris: Corti, 1939).
(обратно)230
Minkowski E., La Schizophrenie.
(обратно)231
Renner Eduard, Goldener Ring uber Uri (Zurich: M. S. Metz, 1941).
(обратно)232
Пример. В сказке "Питер Шлемиль" (Peter Schlemihl) Чемисса (Chamisso), дьявол достает из кармана набор первой помощи – телескоп и лошадь. В популярной сказке каждый год в канун Рождества на несколько минут открывалось сокровище заколдованного замка. Женщина вошла туда, чтобы взять немного золота, но забыла там своего ребенка. На следующий год она вернулась туда в то же самое время и нашла своего ребенка живым и здоровым на том же самом месте. Он не изменился, потому что время там не шло. В другой сказке путешественник проводит несколько дней на заколдованном острове, а возвращаясь домой, обнаруживает, что прошло пятьдесят лет, все его приятели либо уже умерли либо сильно состарились, а он ничуть не изменился. Все эти примеры характеризуют магический мир, где время и пространство – свойства вещей.
(обратно)233
W.Clifford M.Scott в своей работе "Some Psycho-dynamic Aspects of Disturbed Perception of Time", British Journal of Medical Psychology, Vol. 21, Part 2, 1918, pp. 111-120 дает хороший пример искажений восприятия времени в зависимости от бессознательных тенденций. Эти искажения исчезают при аналитическом раскрытии их психогенеза.
(обратно)234
Heidegger Martin, Sein und Zeit (Halle: Niemeyer, 1926).
(обратно)235
Storch Alfred, "Fie Welt der beginnenden Schizophrenie", Zeitschrift fur die gesammte Neurologie und Psychiatrie, Vol. 127, 1930, pp. 799-810.
(обратно)236
Kunz Hanz, "Die Grenze der phychopathologischen Wahninterpretationen", Zeitschrift fur die gesammte Neurologie und Psychiatrie, Vol. 135, 1931, pp. 671-715.
(обратно)237
Frankl Victor, Theorie und Therapie der Neurosen (Wien: Urban und Schwarzenberg, 1956)
(обратно)238
См. о "встрече": Buytendijk F. J., "Zur Phanomenologie der Begegngung", Eranos-Jahrbuch, Vol. 19, 1950, pp. 431-486 – посвящено психотерапевтическим выводам, Trub Hans, Heilung aus der Begegngung ("Лечение через встречу") (Stuttgart: Klett, 1951).
(обратно)239
Tillich Paul, Kairos (Darmstadt: Reichl, 1926).
(обратно)240
Kielholz A., "Vom Kairos", Schwetzerishe Medizinische Wochenschrift. Vol. 86, 1956, pp. 982-984.
(обратно)241
Binswanger L., Grundformen und Erkenntnis menschlichen Daseins (Zurich: Max Niehans, 1942).
(обратно)242
Buber Martin, Ich und Du (Leipzig: Inselverlag, 1923).
(обратно)243
Binswanger L., Grundformen und Erkenntnis menschlichen Daseins, pp. 23-265.
(обратно)244
Boss Medard, Die Gestalt der Ehe und ihre Zerfallsformen (Bern: Huber, 1944).
(обратно)245
Kuhn R., lieber Maskendeutungen im Rorschachschen Versuch (Basel: S.Karger, 1944).
(обратно)246
Binder Hans, "Das anonyme Briefschreiben", Schweizer Archiv fur Neurologie und Psychiatrie, 1948, Vol. 61, pp. 41-134, Vol. 62, pp. 11-56.
(обратно)247
Bleuler Manfred, "Research and Changes in Concepts in the Study of Schizophrenia", Bulletin of the Isaak Ray Medical Library, Vol. 3, Nos. 1-2, 1955, pp. 42-45.
(обратно)248
Перевод Эрнста Энджела. "Uber die daseinsanalytische Forschungsrichtung in der Psychiatrie", Schweizer Archiv fur Neurologie und Psychiatrie, Vol. 57, 1946, pp. 209-225. Переиздано в Ausgewahlte Vortrage und Aufsatze. Vol. I (Beme; Francke, 1947), pp. 190-217.
(обратно)249
Бинсвангер использует это слово не в привычном для Америки значении культурной антропологии – сравнительного исследования наций, нравов и т.д., а, скорее, в более строгом этимологическом смысле, то есть антропология как изучение человека (anthropos) и особенно, как он сам далее говорит, как изучение сущностного значения и характеристик человеческого бытия. – Переводчик.
(обратно)250
Где мы говорим о "мире" в терминах экзистенциального анализа, там "мир" всегда означает то, к чему стремится существование и в соответствии с чем оно конструирует себя. Другими словами, способ и форма, в которых мир существует (Seiende), становится достижимым для существования. Однако мы используем слово "мир" не только в трансцендентальном, но и в объективном смысле, например когда говорим о "длительном сопротивлении мира", об "искушениях мира", "уходе из мира" и т.д., тем самым имея в виду в первую очередь мир наших соплеменников. Сходным образом мы говорим об окружающей среде человека и о его собственном мире как о конкретных зонах того, что существует в объективном мире, а не как о трансцендентальных структурах мира. Терминологически это сложное место, но оно больше не подлежит каким-либо изменениям. Следовательно, там, где значение не самоочевидно, мы всегда будем писать "мир" в кавычках или использовать термин "миро-проект".
(обратно)251
См.: Л.Бинсвангер, "Случай Эллен Вест", глава 9.
(обратно)252
Это буквальный перевод термина Uberschwung. Бинсвангер имеет в виду тип трансцендирования, который сопутствует любви, он противопоставляет его трансцендированию, исходящему из "заботы" (Sorge, одно из понятий Хайдеггера). Его мысль заключается в том, что люди, страдающие психотическими расстройствами, отличаются как раз этим. – Редакторы.
(обратно)253
Theoretische Biologie, II Aufl., 1928, s. 100.
(обратно)254
Ibid., p. 144.
(обратно)255
Nie geschaute Welten. Die Umwelten meiner Freunde, p. 20.
(обратно)256
См.: Umwelt und Innewelt der Tiere, 2, Aufl., 1921, p. 4: "Только при поверхностном наблюдении кажется, будто все морские животные жили в однородном мире, общем для всех них. Более близкое изучение показывает нам, что каждая их тех тысяч форм жизни обладает своим особым окружающим миром, который управляется и, в свою очередь, сам управляет "строительным планом" животного". Также, см. Theoretische Biologie, p. 232: "Сейчас мы знаем, что существует не одно пространство и не одно время, но столько пространств и времен, сколько есть субъектов, так как каждый субъект живет в своем собственном окружающем мире, который обладает собственным пространством и временем. Каждый из этих тысяч миров предлагает сенсорному восприятию новую потенциальность для их раскрытия".
(обратно)257
Следовательно, в структуре существования как бытия-в-мире мы различаем: (а) способы создания и построения мира, то есть способы миро-проекта и образов мира; (в) способы его существования как "я", то есть само-утверждение или не утверждение; (с) способы трансцендирования как такового, то есть способы, которыми существование есть в мире (например, действие, мышление, творческий акт, желание). Таким образом, проведение экзистенциального анализа в области психиатрии означает исследование и описание того, как различные формы психических болезней и каждая для самой себя конструируют мир, утверждают свое "я" и – в широком смысле – действуют и любят.
(обратно)258
То есть трансцендировать. Объяснение этого термина см. в главе I. – Редакторы.
(обратно)259
Эту мысль уже подчеркивал Herder в своем очерке "On the Origin of Language": у каждого животного есть свой круг, к которому он принадлежит от рождения до самой смерти, то есть в течение всей жизни. (Ausgew. Werke Reclam. III, S. 621.)
(обратно)260
"Der Gestaltkreis", Theorie der Einheit vom Wahrnehmen und Bewegen, 1940, p. 177.
(обратно)261
Цитаты в этом отрывке приведены из работ фон Вейзакера. – Редакторы.
(обратно)262
Der Aufbau des Organismus, 1934, p. 32.
(обратно)263
Ibid., p. 255.
(обратно)264
Viz. Goldstein, Der Aufbau des Organismus, s. 242: "Биологический инсайт – это непрерывный процесс, через который мы переживаем идею организма, что-то вроде знания, которое всегда опирается на почву эмпирических фактов".
(обратно)265
Viz. "Analyse einer hysterischen Phobie", Jahrbuch Bleuler und Freud, III.
(обратно)266
См. стр. 308, понимание Бинсвангером этого термина как используемого в феноменологическом и экзистенциальном анализе. – Переводчик.
(обратно)267
Или настройки (Gestimmheit). – Переводчик.
(обратно)268
Это прилагательное используется как существительное "Ужасность" и означает абстрактную квинтэссенцию всего ужасного, представляет в сжатой форме все ужасы. Это и подобные выражения, встречающиеся на этой странице и в этой работе, такие, как "Неожиданность", "Жуткость", "Сверхъестественность", были написаны с заглавной буквы, чтобы обозначить субстанциональное качество существительного у этих прилагательных. – Редакторы.
(обратно)269
Бинсвангер здесь использует выражения Канта. – Редакторы.
(обратно)270
"Neue Folge der Vorlesungen zur Einfuhrung in die Psychoanalyse", s. 117 (Ges. Schr., XII, 238 f.)
(обратно)271
Viz. Sein und Zeit, 40, S. 184 ff.
(обратно)272
Здесь Бинсвангер ссылается на случай "Juerg Zuend", Schweizer Archiv fuer Neurologie und Psychiatrie, Vols. LVI, LVII, LIX, Zurich, 1947. – Редакторы.
(обратно)273
Ссылка на понятия Вернике, означающие простые фобии, имеющие отношении к собственному телу пациента, его психике и внешнему миру. – Переводчик.
(обратно)274
В швейцарской школе разграничивают бред вмешательства и вторжения (Beeintraechtigung) и бред преследования.
(обратно)275
"Der Fall Lola Voss", Schweizer Archiv fuer Neurologie und Psychiatrie, Vol. LXIII, Zurich, 1949.
(обратно)276
Понятие Хайдеггера, которое в данном контексте подчеркивает то, что пациент может "управлять" этими врагами. – Переводчик.
(обратно)277
Binswanger L., Uber Ideenflucht (Zurich: 1933).
(обратно)278
Английский перевод приведен в I части этой книги. – Редакторы.
(обратно)279
Особо должны быть упомянуты его книги Le Temps Vecu (1932) и Vers une cosmologie (Ed. Montaigne, 1936). Последняя представляет собой прекрасное введение в "космологическое" мышление в феноменологических терминах.
(обратно)280
Опубликовано в этой книге в сокращенном виде (глава 4).
(обратно)281
Автор имеет в виду не жестокие стороны культа Молоха, а пустоту идола, которую надо наполнить. – Редакторы.
(обратно)282
Viz. L.Binswanger, "Geschehnis und Erlebnis", Monatsschrift f. Psychiatrie, s. 267 ff.
(обратно)283
Neue Schweizerische Rundschau, 1930, IX, s. 678.
(обратно)284
Но мы также знаем горизонталь существования, особенно в ответах на тест Роршаха. Она характеризуется дорогой, рекой, равниной. Она не дает "ключ" к существованию, но показывает способы ее "жизненного пути", то есть способы, которыми она может или не может оставаться в жизни.
(обратно)285
Однако, исследования Башляра все же основываются на воображении (Je forces imaginantes de notre esprit, viz., L'Eau et les reves [Jose Corti, 19427; La Psychanalyse du feu [Gallimard, 1938]; Lautreamont, [Corti, 1939]). В последней книге приведена примерная интерпретация случая, интересного для психиатра. В этих исследованиях не хватает антропологического, даже более того – онтологического базиса. Башляр еще не осознает, что его "воображение" не что иное, как определенная форма бытия-в-мире и бытия-за-его-пределами. Но он приближается к такому пониманию, когда объясняет, что (L'Air et les songes, p. 13): "l'imagination est une des forces de l'audace humaine", и когда он видит в verticalite, характерной для жизненного подъема, не просто метафору, но "un principe d'ordre, une loi de filiation". Работа Башляра сегодня требует литературной критики как лингвиста, так и психиатра.
(обратно)286
Здесь мы говорим о роли психопатологии внутри целостной схемы психиатрических медицинских исследований. Мы не отрицаем того факта, что в психоаналитическом исследовании, как и в чистом "понимании" психопатологии, всегда могут быть найдены зачатки экзистенциально-аналитических взглядов. Однако, они не являются признаками ни методологической научной процедуры, ни знания причин и способов отличия экзистенциального анализа от исследований жизненно-исторических связей и от "эмпатических" или "интуитивных" проникновений в психическую жизнь пациента.
(обратно)287
Немецкий термин "проекция" здесь используется в смысле локализации или определения. – Переводчик.
(обратно)
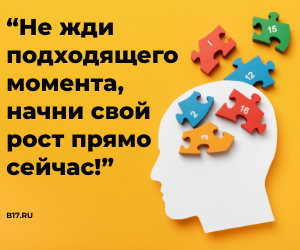

Комментарии к книге «Экзистенциальная психология», Ролло Р. Мэй
Всего 0 комментариев