Жан Пиаже Психология интеллекта
Предисловие к первому изданию.
Книга под названием «Психология интеллекта» могла бы охватить добрую половину всего предмета психологии. Но на страницах этой книги автор ограничится тем, что очертит одну общую концепцию, а именно концепцию образования «операций», и покажет, возможно более объективно, ее место в ряду других принятых в психологии концепций. Сначала речь пойдет о том, чтобы охарактеризовать роль интеллекта в его отношении к адаптивный процессам в целом (гл. I), затем — о том, чтобы, рассматривая «психологию мышления», показать, что деятельность интеллекта состоит, по существу, в «группировке» операций в соответствии с определенными структурами (гл. II). Психология интеллекта, понимаемая как особая форма равновесия, к которой тяготеют все познавательные процессы, ставит такие проблемы, как взаимоотношение интеллекта и восприятия (гл. III), интеллекта и навыка (гл. IV), а также вопросы развития интеллекта (гл. V) и его социализации (гл. VI).
Несмотря на обилие ценных работ в этой области, психологическая теория интеллектуальных механизмов еще только появляется па свет, и пока можно лишь смутно догадываться, какой степенью точности она будет обладать. Отсюда и то чувство поиска, которое я пытался здесь выразить.
Эта маленькая книга излагает наиболее существенное из курса лекций, который я имел честь прочитать в «Коллеж де Франс» в 1942 г., в то время, когда все преподаватели университета стремились перед лицом насилия выразить свою солидарность и свою верность непреходящим ценностям. Оформляя эту книгу, я не могу забыть прием, оказанный мне моей аудиторией тех лет, так же как и те контакты, которые я имел с моим учителем П. Жане и с моими друзьями А. Пьероном, А. Валлоном, П. Гиномом, Г. Башелнром, П. Массон-Урселем. М. Мауссом и многими другими, не говоря уже о моем дорогом И. Мейерсоне, который «сопротивлялся» совсем в другом месте[1].
Ж. П.Предисловие ко второму изданию.
Прием, оказанный этому маленькому сочинению, был в общем вполне благосклонным, что побудило нас переиздать его без изменений. Вместе с тем по поводу нашей концепции интеллекта было высказано много критических замечаний в связи с тем, что она связана с высшей нервной деятельностью и с процессом ее формирования в онтогенезе. Нам кажется, что этот упрек основан на простом недоразумении. Как понятие, «ассимиляции», так и переход от ритмических действий к регуляциям, а от них к обратимым вариациям требуют и нейрофизиологической, а вместе с тем и психологической (и логической) интерпретаций. Отнюдь не являясь противоречащими друг другу, эти две интерпретация, в конце концов, могут быть согласованы. В другом месте мы остановимся на этом существенном моменте, но ни в коем случае не считаем себя вправе приступать к решению этого вопроса, пока не будут завершены детальные психогенетические исследования, обобщением которых является эта маленькая книга.
Ж. П.Октябрь 1948 г.
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ПРИРОДА ИНТЕЛЛЕКТА.
Глава I. Интеллект и биологическая адаптация.
Всякое психологическое объяснение рано или поздно завершается тем, что опирается на биологию или логику (или на социологию, хотя последняя сама, в конце концов, оказывается перед той же альтернативой). Для некоторых исследователей явления психики понятны лишь тогда, когда они связаны с биологическим организмом. Такой подход вполне применим при изучении элементарных психических функций (восприятие, моторная функция и т. д.), от которых интеллект зависит в своих истоках. Но совершенно непонятно, каким образом нейрофизиология сможет когда-либо объяснить, почему 2 и 2 составляют 4 или почему законы дедукции с необходимостью налагаются на деятельность сознания. Отсюда другая тенденция, которая состоит в том, чтобы рассматривать логические и математические отношения как несводимые ни к каким другим и использовать их для анализа высших интеллектуальных функций. Остается только решить вопрос: сможет ли сама логика, понимаемая как нечто выходящее за пределы экспериментально-психологического объяснения, тем не менее послужить основой для истолкования данных психологического опыта как такового? Формальная логика, или логистика, является аксиоматикой состояний равновесия мышления, а реальной наукой, соответствующей этой аксиоматике, может быть только психология мышления. При такой постановке задач психология интеллекта должна, разумеется, учитывать все достижения логики, но последние никоим образом не могут диктовать психологу его собственные решения: логика ограничивается лишь тем, что ставит перед психологом проблемы.
Двойственная природа интеллекта, одновременно логическая и биологическая, — вот из чего нам следует исходить. Две последующие главы имеют своей целью очертить эти предварительные вопросы и прежде всего — в максимальной степени показать единство (насколько это возможно при современном состоянии знаний) этих двух, на первый взгляд не сводимых друг к другу, основных аспектов жизни мышления.
Место интеллекта в психической организации.
Всякое поведение, идет ли речь о действии, развертывающемся во вне, или об интериоризованном действии в мышлении, выступает как адаптация, или, лучше сказать, как реадаптация. Индивид действует только в том случае, если он испытывает потребность в действии, т. е. если на короткое время произошло нарушение равновесия между средой и организмом, и тогда действие направлено на то, чтобы вновь установить это равновесие, или, точнее, на то, чтобы реадаптировать организм (Клапаред). Таким образом, «поведение» есть особый случай обмена (взаимодействия) между внешним миром и субъектом. Но в противоположность физиологическим обменам, носящим материальный характер и предполагающим внутреннее изменение тел, «поведения», изучаемые психологией, носят функциональный характер и реализуются на больших расстояниях — в пространстве (восприятие и т. д.) и во времени (память и т. д.), а также по весьма сложным траекториям (с изгибами, отклонениями и т. д.). Поведение, понимаемое в смысле функциональных обменов, в свою очередь, предполагает существование двух важнейших и теснейшим образом связанных аспектов: аффективного и когнитивного.
Вопрос об отношениях между аффективной сферой и знанием был предметом многочисленных дискуссий. Согласно П. Жане, следует различать «первичное действие», или отношение между субъектом и объектом (интеллект и т. д.), и «вторичное действие», или реакцию субъекта па свое собственное действие: эта реакция, образующая элементарные чувства, состоит в регуляции первичных действий и обеспечивает выход избыточной внутренней энергии. Однако нам кажется, что наряду с регуляциями такого рода, которые, по существу, определяют энергетический баланс или внутреннюю экономику поведения, должно существовать место и для таких регуляций, которые обусловливали бы финальность поведения, устанавливали бы его ценности. И именно такими ценностями должен характеризоваться энергетический или экономический обмен субъекта с внешней средой. По Клапареду, чувства предписывают поведению цель, в то время как интеллект ограничивается тем, что снабжает поведение средствами («техникой»). Но существует и такое понимание, при котором цели рассматриваются как средства и при котором финальность действия беспрерывно меняется. Поскольку чувство в какой-то мере направляет поведение, приписывая ценность его целям, психологу следует ограничиться констатацией того факта, что именно чувство дает действию необходимую энергию, в то время как знание налагает на поведение определенную структуру. Отсюда возникает решение, предложенное так называемой «психологией формы»: поведение представляет собой «целостное поле», охватывающее и субъект, и объект; динамику этого поля образуют чувства (Левин), в то время как его структуризация обеспечивается восприятием, моторной функцией и интеллектом. Мы готовы согласиться с такой формулировкой при одном уточнении: и чувства, и когнитивные формы зависят не только от существующего в данный момент «поля», но также от всей предшествующей истории действующего субъекта. И в связи с этим мы бы просто сказали, что всякое поведение предполагает как аспект энергетический, или аффективный, так и структурный, или когнитивный, что, на наш взгляд, действительно объединяет изложенные выше точки зрения.
В самом деле, ведь все чувства выступают или как регуляторы внутренней энергии («фундаментальные чувства» у П. Жане, «интерес» у Клапареда и т. д.), или как факторы, регулирующие у субъекта обмен энергией с внешней средой (всякого рода реальные или фиктивные «ценности», затем «желаемости», связанные с «целостным полем» К. Левина, «валентности» С. Рассела, вплоть до межиндивидуальных или социальных ценностей). Сама воля может пониматься как своего рода игра аффективных и, следовательно, энергетических операций, направленных на создание высших ценностей и на то, чтобы сделать эти ценности обратимыми и сохраняемыми (моральные чувства и т. д.); эти операции существуют параллельно системе логических операций, с помощью которых создаются понятия.
Но если во всяком без исключения поведении заложена «энергетика» (или «экономика»), представляющая его аффективный аспект, то вызываемые этой «энергетикой» обмены со средой необходимо предполагают существование некой формы или структуры, определяющей те возможные пути, по которым проходит связь субъекта с объектом. Именно в таком структурировании поведения и состоит его когнитивный аспект. Восприятие, сенсомоторное научение (навык и т. д.), акт понимания, рассуждение и т. д. — все это сводится к тому, чтобы тем или иным образом, в той или иной степени структурировать отношения между средой и организмом. Именно на этом основании все они объединяются в когнитивной сфере поведения и противостоят явлениям аффективной сферы. Мы будем говорить об этом в связи с когнитивными функциями, понимаемыми в самом широком смысле (включая сюда сенсомоторные адаптации организма).
Аффективная и когнитивная жизнь являются, таким образом, неразделимыми, оставаясь в то же время различными. Они неразделимы, поскольку всякий взаимообмен со средой предполагает одновременно и наложение структуры, и создание ценностей (структуризацию и валоризацию); но от этого они не становятся менее различными между собой, поскольку эти два аспекта поведения никак не могут быть сведены друг к другу. Вот почему даже в области чистой математики невозможно рассуждать, не испытывая никаких чувств, и, наоборот, невозможно существование каких бы то ни было чувств без известного минимума понимания или различения. Акт интеллекта предполагает сам по себе известную энергетическую регуляцию как внутреннюю (интерес, усилие, легкость и т. д.), так и внешнюю (ценность изыскиваемых решений и объектов, на которые направлен поиск), которые обе по своей природе аффективны и сопоставимы со всеми другими регуляциями подобного рода. И наоборот, никакая из интеллектуальных или перцептивных реакций не представляет такого интереса для когнитивной жизни человека, как те моменты восприятия или интеллекта, которые обнаруживаются во всех проявлениях эмоциональной жизни. То, что в жизни здравый смысл зовет «чувством» и «умом», рассматривая их как две «способности», противостоящие одна другой, суть две разновидности поведения, одна из которых направлена на людей, а другая — на идеи или вещи. При этом каждая из этих разновидностей, в свою очередь, обнаруживает и когнитивный, и аффективный аспекты действия, аспекты, всегда объединенные в действительной жизни и ни в какой степени не являющиеся самостоятельными способностями.
Более того, сам интеллект невозможно оторвать от других когнитивных процессов. Он, строго говоря, не является одной из структур, стоящей наряду с другими структурами. Интеллект — это определенная форма равновесия, к которой тяготеют все структуры, образующиеся на базе восприятия, навыка и элементарных сенсомоторных механизмов. Ведь в самом деле, нужно понять, что если интеллект не является способностью, то это отрицание влечет за собой необходимость некой непрерывной функциональной связи между высшими формами мышления и всей совокупностью низших разновидностей когнитивных и моторных адаптации. И тогда интеллект будет пониматься как именно та форма равновесия, к которой тяготеют все эти адаптации. Это, естественно, не означает ни того, что рассуждение состоит в согласовании перцептивных структур, ни того, что восприятие может быть сведено к бессознательному рассуждению (хотя оба эти положения могли бы найти известное обоснование), так как непрерывный функциональный ряд не исключает ни различия, ни даже гетерогенности входящих в него структур. Каждую структуру следует понимать как особую форму равновесия, более или менее постоянную для своего узкого поля и становящуюся непостоянной за его пределами. Эти структуры, расположенные последовательно, одна над другой, следует рассматривать как ряд, строящийся по законам эволюции таким образом, что каждая структура обеспечивает более устойчивое и более широко распространяющееся равновесие тех процессов, которые возникли еще в недрах предшествующей структуры. Интеллект — это не более чем родовое имя, обозначающее высшие формы организации или равновесия когнитивных структурирований.
Этот способ рассуждения приводит нас к убеждению, что интеллект играет главную роль не только в психике человека, но и вообще в его жизни. Гибкое и одновременно устойчивое структурное равновесие поведения — вот что такое интеллект, являющийся по своему существу системой наиболее жизненных и активных операций. Будучи самой совершенной из психических адаптаций, интеллект служит, так сказать, наиболее необходимым и эффективным орудием во взаимодействиях субъекта с окружающим миром, взаимодействиях, которые реализуются сложнейшими путями и выходят далеко за пределы непосредственных и одномоментных контактов, для того чтобы достичь заранее установленных и устойчивых отношений. Однако, с другой стороны, этот же способ рассуждения запрещает нам ограничить интеллект его исходной точкой: интеллект для нас есть определенный конечный пункт, а в своих истоках он неотделим от сенсомоторной адаптации в целом, так же как за ее пределами — от самых низших форм биологической адаптации.
Адаптивная природа интеллекта.
Если интеллект является адаптацией, то нам, прежде всего, следует дать определение последней. Чтобы избежать чисто терминологических трудностей финалистского языка, мы бы охарактеризовали адаптацию как то, что обеспечивает равновесие между воздействием организма на среду и обратным воздействием среды. Действие организма на окружающие его объекты можно звать ассимиляцией (употребляя этот термин в самом широком смысле), поскольку это действие зависит от предшествующего поведения, направленного на те самые или на аналогичные объекты. В самом деле, ведь любая связь живого существа со средой обладает той характерной особенностью, что это существо, вместо того чтобы пассивно подчиняться среде, само активно ее преобразует, налагая на нее свою определенную структуру. Физиологически это означает, что организм, поглощая из среды вещества, перерабатывает их в соответствии со своей структурой. Психологически же происходит, по существу, то же самое, только в этом случае вместо изменений субстанциального порядка, происходят изменения исключительно функционального порядка, обусловленные моторной деятельностью, восприятием и взаимовлиянием реальных или потенциальных действий (концептуальные операции и т. д.). Таким образом, психическая ассимиляция есть включение объектов в схемы поведения, которые сами являются не чем иным, как канвой действий, обладающих способностью активно воспроизводиться.
С другой стороны, и среда оказывает на организм обратное действие, которое, следуя биологической терминологии, можно обозначить словом «аккомодация». Этот термин имеет в виду, что живое существо никогда не испытывает обратного действия как такового со стороны окружающих его тел, но что это действие просто изменяет ассимилятивный цикл, аккомодируя его в отношении к этим телам. В психологии обнаруживается аналогичный процесс: воздействие вещей на психику всегда завершается не пассивным подчинением, а представляет собой простую модификацию действия, направленного на эти вещи. Имея в виду все вышесказанное, можно было бы определить адаптацию как равновесие между ассимиляцией и аккомодацией, или, что по существу одно и то же, как равновесие во взаимодействиях субъекта и объектов.
В случае органической адаптации эти взаимодействия, будучи материальными, предполагают взаимопроникновение между той или иной частью живого тела и той или иной частью внешней среды. В противоположность этому психическая жизнь, как мы уже видели, начинается с функциональных взаимодействий, т. е. с того момента, когда ассимиляция не изменяет более ассимилируемые объекты физико-химическим образом, а включает их в формы своей собственной деятельности (равным образом можно сказать, что она начинается с того момента, когда аккомодация влияет только на эту деятельность). И тогда становится понятным, каким образом на прямое взаимопроникновение организма и среды с появлением психической жизни налагаются опосредствованные взаимодействия субъекта и объектов, осуществляющиеся на все более значительных пространственно-временных расстояниях и по все более сложным траекториям. Все развитие психической деятельности от восприятия и навыков к представлениям и памяти вплоть до сложнейших операций умозаключения и формального мышления является, таким образом, функцией от все увеличивающихся масштабов взаимодействий и тем самым функцией от равновесия между ассимиляцией организмом все более и более удаленной от него действительности и его аккомодацией к ней.
И именно в этом смысле можно было бы сказать, что интеллект с его логическими операциями, обеспечивающими устойчивое и вместе с тем подвижное равновесие между универсумом и мышлением, продолжает и завершает совокупность адаптивных процессов. Ведь органическая адаптация в действительности обеспечивает лишь мгновенное, реализующееся в данном месте, а потому и весьма ограниченное равновесие между живущим в данное время существом и современной ему средой. А уже простейшие когнитивные функции, такие, как восприятие, навык и память, продолжают это равновесие как в пространстве (восприятие удаленных объектов), так и во времени (предвосхищение будущего, восстановление в памяти прошлого). Но лишь один интеллект, способный на все отклонения и все возвраты в действии и мышлении, лишь он один тяготеет к тотальному равновесию, стремясь к тому, чтобы ассимилировать всю совокупность действительности и чтобы аккомодировать к ней действие, которое он освобождает от рабского подчинения изначальным «здесь» и «теперь».
Определение интеллекта.
Чтобы определить интеллект (что, без сомнения, весьма важно, ибо необходимо ограничить область, выступающую под этим названием, если собираются ею заниматься), достаточно указать на степень сложности тех дистантных взаимодействий, начиная с которых мы будем употреблять термин «интеллектуальный». Здесь серьезным препятствием является то, что нижняя граница сложности всегда остается произвольной. Для одних ученых, таких, как Клапаред и Штерн, интеллект — это психическая адаптация к новым условиям. Клапаред в силу этого противопоставляет интеллект инстинкту и навыку, которые являются наследственными или приобретенными адаптациями к повторяющимся условиям. Для него интеллект начинается с простейших эмпирических поисков, являющихся источником тех интериоризованных поисков, которые затем, уже на высшей уровне, характеризуют деятельность по созданию гипотезы. Для Бюлера, который также делит структуры на три типа (инстинкт, дрессура, интеллект), это определение слишком широко: интеллект возникает только вместе с актом внезапного понимания (Аha-Егlеbnis), в то время как поиск относится к навыку. Так же поступает и Кёлер, сохраняя термин «интеллект» только для актов резкого изменения структур и исключая из него поиск. Несомненно, что поиск появляется вместе с возникновением простейших навыков, которые сами в момент их выработки являлись адаптациями к новым условиям. С другой стороны, вопрос, гипотеза и проверка, совокупность которых, по Клапареду, и образует интеллект, находятся в зародыше уже в потребностях, пробах и ошибках, так же как и в эмпирических утверждениях, свойственных наименее развитым сенсомоторным адаптациям. Остается, следовательно, одно из двух: либо удовлетвориться функциональным: определением, рискуя включить в интеллект почти все когнитивные структуры, либо избрать критерием какую-нибудь одну особую когнитивную структуру, но при таком (конечно, условном) выборе мы рискуем пренебречь естественной преемственностью этих структур.
Имеется, однако, возможность определить интеллект тем направлением, на которое ориентировано его развитие, и не настаивать при этом на решении вопроса о границах интеллекта; последние при таком подходе предстают как определяемые последовательными стадиями или формами равновесия. Тогда можно одновременно исходить из точек зрения как функциональной ситуации, так и структурного механизма. Исходя из первой, можно сказать, что поведение тем более «интеллектуально», чем сложнее и многообразнее становятся траектории, по которым проходят воздействия субъекта на объекты, и чем к более прогрессирующим композициям они ведут. Кривые, по которым осуществляется восприятие, очень просты, даже при большой удаленности воспринимаемого объекта. Навык представляется чем-то более сложным, но его пространственно-временные звенья сочленены в единое целое, части которого не могут ни существовать самостоятельно, ни образовывать друг с другом особые сочетания.
В отличие от них, интеллектуальный акт — состоит ли он в том, чтобы отыскать спрятанный предмет или найти скрытый смысл образа — предполагает определенное число путей (в пространстве и времени), одновременно самостоятельных и способных к сочетанию друг с другом (т. е. к композиции). С точки зрения структурного механизма простейшие сенсомоторные адаптации неподвижны и одноплановы, тогда как интеллект развивается в направлении обратимой мобильности. Именно в этом, как мы увидим далее, и состоит существенная черта операций, характеризующих живую логику в действии. Но одновременно мы видим, что обратимость — это не что иное, как сам критерий равновесия (как этому нас учат физики). Определить интеллект как прогрессирующую обратимость мобильных психических структур — это то же самое, что в несколько иной формулировке сказать, что интеллект является состоянием равновесия, к которому тяготеют все последовательно расположенные адаптации сенсомоторного и когнитивного порядка, так же как и все ассимилятивные и аккомодирующие взаимодействия организма со средой.
Классификация возможных интерпретаций интеллекта.
С точки зрения биологии, интеллект появился как один из видов деятельности организма, тогда как объекты, к которым он адаптируется, образуют особую сферу окружающей среды. Но по мере того как вырабатываемые интеллектом знания приводят к некоему привилегированному равновесию как к необходимому пределу сенсомоторного взаимодействия и представления и по мере того как расстояния, на которых реализуется это равновесие, бесконечно расширяются во времени и пространстве, интеллект порождает саму научную мысль, включая и биологическое знание. Следовательно, вполне естественно, что психологические теории интеллекта располагаются как бы между биологическими теориями адаптации и общими концепциями познания. В том, что существует родство между психологическими теориями и эпистемологическими учениями, нет ничего удивительного, ибо, хотя психология и освободилась от философской опеки, к счастью, еще остались пути, связывающие изучение психических функций с исследованием процессов научного познания.
Существует также параллелизм (и даже довольно тесный) между важнейшими биологическими учениями об эволюционной изменчивости (а следовательно, также и об адаптации) и узкоспециальными теориями интеллекта как явления чисто психологического; в этом смысле особенно интересен следующий момент. Дело в том, что очень часто психологи сами не осознают тех биологических течений, которые вливают жизнь в их чисто психологические концепции, что, впрочем, наблюдается и у биологов, которые иной раз незаметно для самих себя принимают среди прочих возможных также и психологическую позицию (например, роль навыка у Ламарка или борьбы за существование и конкуренции у Дарвина). Естественно, что, чем родственнее проблемы, тем более вероятно сходство в их решениях, причем одно из них подкрепляет другое.
В биологии отношение между организмом и средой имеет сейчас шесть возможных интерпретаций, строящихся как комбинации нижеприведенных исходных положений (все эти положения определяют различные — классические или современные — решения).
Идея эволюции в собственном смысле этого слова либо (1) отбрасывается, либо (2) принимается; с другой стороны, в обоих случаях (1 и 2) адаптация может приписываться (1) факторам, внешним для самого организма, (2) внутренним факторам или (3) их взаимодействию. С неэволюционистской («фиксистской») точки зрения (1) адаптацию можно выводить (1.1) как из «предустановленной гармонии» между организмом и свойствами среды, так и из (1.2) преформизма, полагающего, что организм реагирует на любую ситуацию, актуализируя свои потенциальные структуры, или даже из (1.3) «эмержентности» структурированного целого, не сводимого к своим элементам и определяемого одновременно изнутри и извне[2]. Что касается эволюционистских взглядов, то они объясняют адаптивные изменения либо (2.1) влиянием среды (ламаркизм), либо (2.2) эндогенными мутациями с последующим отбором (мутационизм)[3], либо (2.3) прогрессирующим вмешательством внешних и внутренних факторов.
Просто поразительно, сколько существует общих течений мысли, по-разному объясняющих как познание само по себе, так и отношение между мыслящим субъектом и объектами. Так, предустановленной гармонии креационистского витализма отвечает тот вид (1.1) реализма, который видит в разуме врожденные идеи, адекватные вечным формам или сущностям. С преформизмом согласуется априоризм (1.2), объясняющий знание наличием внутренних структур, предшествующих опыту. Концепции эмержентного возникновения внутренних структур, не создающихся генетически, соответствует современная феноменология (1.3), которая просто анализирует различные формы мышления, отказываясь выводить их генетически одну из другой или различать в них субъективный и объективный аспекты.
Эволюционистские истолкования находят себе место в тех эпистемологических течениях, которые стоят на точке зрения постепенного создания и совершенствования разума. Ламаркизм вполне отвечает эмпиризму (2.1), который объясняет знание воздействием внешних объектов. Мутационизму соответствуют конвенционализм и прагматизм (2.2), которые объясняют явление адекватности духа реальности тем, что происходит свободное и необусловленное создание субъективных идей, а затем — отбор их на основе принципа наибольшего удобства. Наконец, концепция интсракционизма влечет за собой релятивизм (2.3), рассматривающий познание как продукт совместной деятельности неразрывно связанных друг с другом опыта и дедукции.
Не настаивая на отмеченном параллелизме (в его наиболее общей форме), следует, однако, подчеркнуть тот факт, что современные теории интеллекта, как общие, так и собственно психологические, в действительности вдохновляются идеями одних и тех же течений, вне зависимости от того, преобладает ли в этих теориях чисто биологический подход или они испытывают на себе сильное влияние философских систем (в отношении истолкования познания как такового).
Нет, однако, никакого сомнения в том, что все интерпретации интеллекта можно разделить, исходя из одного существенного признака, на две группы: 1) те, которые хотя и признают сам факт развития, но не могут рассматривать интеллект иначе, чем как некое исходное данное, и, таким образом, сводят всю психическую эволюцию к своего рода постепенному осознанию этого исходного данного (без учета реального процесса его создания), и 2) те интерпретации, которые стремятся объяснить интеллект исходя из его собственного развития. При этом отметим, что оба направления ведут совместную работу по нахождению и анализу новых экспериментальных данных. Именно потому-то и следует различать все современные истолкования интеллекта в соответствии с тем, в какой мере все они стремятся осветить тот или иной особый аспект подлежащих истолкованию фактов; линию же разграничения между психологическими теориями и философскими учениями надо усматривать в различном отношении к опыту, а не в исходных гипотезах.
Среди «фиксистских» теорий следует, прежде всего, отметить те, которые, несмотря ни на что, остаются верными идее, что и интеллект представляет собой способность непосредственного, прямого знания физических предметов и логических или математических идей, т. е. знания, обусловленного «предустановленной гармонией» — между интеллектом и действительностью (1.1). Надо признать, что весьма немногие из психологов-экспериментаторов придерживаются этой гипотезы. Но вопросы, возникшие на границах психологии и анализа математического мышления, дали возможность некоторым логикам, как например Б. Расселу, наметить подобного рода концепцию интеллекта и даже попытаться применить ее к психологии как таковой[4].
Более распространенной является гипотеза (1.2), согласно которой интеллект определяется как совокупность внутренних структур; эти структуры также не создаются, а постепенно проявляются в процессе развития психики, благодаря осознанию мышлением самого себя. Эта априористская идея пронизывает большую часть работ немецкой школы «психологии мышления» (Denkpsychologie) и лежит в основе многочисленных экспериментальных исследований процесса мышления, осуществлявшихся по методам, известным под названием «провоцируемой интроспекции» и разрабатывающимся с 1900—1905 гг. до сего времени. Но сказанное выше вовсе не означает, что всякое применение подобных методов в экспериментальном исследовании должно с необходимостью привести к такому объяснению природы интеллекта; работа Бинс свидетельствует об обратном. Однако у К. Бюллера, Зельца и ряда других интеллект, в конце концов, становится неким «зеркалом логики», причем последняя привносится извне без какого бы то ни было возможного каузального объяснения.
И наконец, эмержентным и феноменологическим взглядам (1.3), при том влиянии, которое оказали последние на историю науки, соответствует сравнительно недавно выдвинутая теория интеллекта, весьма ярко поставившая ряд новых проблем, — «теория формы» (Gestalt'a). Основанная на экспериментальных исследованиях в области восприятия, концепция «формы целого» исходит из того, что целостность не может быть сведена к составляющим ее элементам, поскольку существование последних регулируется ее же собственными законами организации и равновесия. Подвергнув анализу эти законы структуризации в области восприятия, а затем, обнаружив их существование в моторной сфере, памяти и т. д., теория формы стала прилагаться к самому интеллекту, как к его рефлексивной стороне (логическое мышление), так и к сенсомоторной сфере (интеллект детей до развития у них речи, интеллект животных). Именно поэтому и Вертгеймер по поводу силлогизма, и Кёлер по поводу психики шимпанзе — оба одинаково говорили о «мгновенных реструктурированиях», стремясь в обоих случаях объяснить акт понимания «прегнантностью» высокоорганизованных структур, которые не являются ни эндогенными, ни экзогенными, а объединяют субъекта и объекта как звенья одной целостной цепи. Более того, эти гештальты, которые суть одни и те же для восприятия, моторной деятельности и интеллекта, согласно взглядам сторонников «теории формы», не эволюционируют, а являются постоянно существующими формами равновесия, независимыми от развития психики (в этом можно увидеть все промежуточные звенья между априоризмом и «теорией формы», хотя последняя обыкновенно исходит из физического или физиологического реализма своих структур).
Таковы три главные теории интеллекта. Можно утверждать, что первая из них сводит когнитивную адаптацию к чистой аккомодации, поскольку мышление является для нее не чем иным, как «зеркалом» уже созданных идей, вторая сводит адаптацию к чистой ассимиляции, поскольку интеллектуальные структуры рассматриваются ею как исключительно эндогенные, а третья — соединяет аккомодацию с ассимиляцией в единое целое, поскольку единственное, что существует с точки зрения гештальтистской концепции, — это цепь, связывающая объекты с субъектом, причем отрицается как самостоятельная активность последнего, так и обособленное существование первых.
Что касается генетических интерпретаций, то среди них есть такие, которые объясняют интеллект, исходя из одной внешней среды (например, ассоцианистский эмпиризм, соответствующий ламаркизму), такие, которые исходят из идеи собственной активности субъекта (теория слепого поиска в плане индивидуальных адаптации, соответствующая мутационизму, если брать его в плане наследственных изменений), а также и такие интерпретации, которые объясняют интеллект взаимодействием субъекта с объектами (операциональная теория).
Эмпиризм (2.1) в его ассоцианистской форме поддерживается сейчас лишь несколькими авторами, главным образом физиологического направления, которые полагают, что интеллект можно свести к «игре обусловленных актов поведения». Но эмпиризм в более гибких формах мы встречаем и в интерпретациях Риньяно, который сводит рассуждение к психическому опыту, и в особенности в интересной теории Спирмена, одновременно статистической («анализ факторов» интеллекта) и описательной.
В этом втором аспекте Спирмен сводит все операции интеллекта к «восприятию опыта» и к «выявлению» отношений и «коррелят», т. е. к более или менее полному учету отношений, данных в действительности. Но эти отношения не создаются интеллектом, а открываются посредством простой аккомодации к внешней среде.
Концепция «проб и ошибок» (2.2) приводит к ряду интерпретаций научения и интеллекта. Теория поиска, разработанная Клапаредом, пошла в этом отношении дальше других; интеллектуальная адаптация состоит в поисках или гипотезах, которые создаются в процессе деятельности субъекта и в процессе последующего отбора, производимого под воздействием результатов опыта (т. е. «успехов» и «неудач»). Этот эмпирический контроль вначале производит отбор среди попыток субъекта, затем интериоризируется в форме предвосхищения, производимого в осознании отношений. Таким же образом чисто двигательный поиск продолжается в представлении или в работе воображения по созданию гипотез.
Наконец, подход, при котором упор делается на взаимодействие организма и среды, приводит к операциональной теории интеллекта (2.3). Согласно этой точке зрения, интеллектуальные операции, высшей формой которых являются логика и математика, выступают как реальные действия в двояком смысле: как результат действий субъекта самого по себе и как результат возможного опыта, возникающего из взаимодействия с окружающей действительностью. И тогда основная проблема сводится к тому, чтобы понять, каким образом, начиная с материального действия, происходит выработка этих операции и посредством каких законов равновесия регулируется их эволюция. Операции, таким образом, выступают обязательно сгруппированными в целостные системы, которые можно сравнить с «формами» гештальт-психологии, но, в отличие от последних, эти системы отнюдь не являются неподвижными и данными изначально. Напротив, они мобильны, обратимы и определяются как таковые только в конце процесса своего создания. Этот одновременно индивидуальный и социальный генетический процесс определяет характер таких операциональных систем[5].
Сформулированная шестая точка зрения является как раз той, которую мы собираемся развить в данной книге. Что касается «теорий поиска» и эмпирических концепций, то мы разберем их главным образом в связи с сенсомоторной стороной интеллекта и его взаимоотношением с навыком (гл. IV). «Теория формы» нуждается в особом обсуждении, которое мы предпримем в связи с рассмотрением отношений между восприятием и интеллектом (гл. III). Что же касается, наконец, двух учений, трактующих интеллект как нечто изначально приспособленное к существующим «в себе» логическим сущностям или как мышление, отражающее некую априорную логику, то мы рассмотрим их в начале следующей главы. В обоих учениях в действительности ставится вопрос, который можно назвать «предварительной проблемой» психологического изучения интеллекта: можно ли надеяться на то, чтобы найти объяснение природы интеллекта в собственном смысле этого слова, или он — явление первичного порядка, не сводимое ни к чему иному, некое зеркало действительности, предшествующее всякому опыту и само являющееся логикой?
Глава II. «Психология мышления» и психологическая природа логических операций
Возможность психологического объяснения интеллекта зависит от того, как мы будем интерпретировать логические операции: будем ли мы понимать их как отражение уже готовой реальности или как выражение подлинной деятельности. Избежать этой альтернативы позволяет, несомненно, лишь аксиоматика: реальным операциям мышления можно дать генетическую интерпретацию (полностью сохраняя при этом несводимый характер их формальных связей) только в том случае, если они анализируются аксиоматически. Логик выступает как геометр, дедуктивно конструирующий пространство а психолога можно уподобить физику, измеряющему пространство самого реального мира. Иными словами, психолог изучает, каким образом устанавливается фактическое равновесие действий и операций, тогда как логик анализирует само равновесие в его идеальной форме, т. е. каким оно должно нормативно быть в сознании при условии его полной реализации.
Интерпретация Б. Рассела.
Начнем с теории интеллекта Б. Рассела, в которой психология максимально подчинена логистике. «Когда мы воспринимаем белую розу, говорит Рассел, мы постигаем одновременно два понятия — понятия розы и белизны. Это происходит в результате процесса, аналогичного процессу восприятия: мы схватываем непосредственно и как бы извне «универсалии», соответствующие ощущаемым объектам, которые «существуют» и ощущаются независимо от мышления субъекта. Ну, а как быть в этом случае с ложными идеями? Это такие же мысли, как и любые другие, и свойства ложности и истинности прилагаются к понятиям так же, как свойства красноты и белизны к розам. Что касается законов, управляющих универсалиями и регулирующих их отношения, то они вытекают только из логики, и психология может лишь склониться перед этим предварительным знанием, которое дано ей в совершенно готовом виде».
Такова гипотеза Рассела. Бессмысленно было бы относить ее к метафизике или метапсихологии на том основании, что она противоречит здравому смыслу экспериментаторов; ведь здравый смысл математиков приспосабливается к ней вполне успешно, а психология должна считаться с математиками. Однако столь радикальный тезис заставляет задуматься. Прежде всего, он устраняет понятие операции, потому что если универсалии берутся извне, то их не надо конструировать. В выражении «1 + 1 = 2» знак «+» не означает тогда ничего иного, кроме отношения между двумя единицами, и не включает никакой деятельности, порождающей число «2»; как предельно четко говорит Кутюра, понятие операции по существу «антропоморфно». Следовательно, теория Рассела а fortiori резко отделяет субъективные факторы мышления (убежденность и т. л.) от факторов объективных (необходимость, вероятность и т. п.). Наконец, этот тезис устраняет генетическую точку зрения: стремясь подчеркнуть бесполезность исследований мышления ребенка, один английский сторонник Рассела сказал как-то, что «логик интересуется истинными мыслями, тогда как психолог находит удовольствие в том, чтобы описывать мысли ложные».
Однако мы не случайно начали настоящую главу с обращения к концепции Рассела: это было сделано для того, чтобы сразу показать, что пограничная линия между логистическим знанием и психологией не может безнаказанно нарушаться логистикой. Ибо если даже, как это делают сторонники аксиоматической точки зрения, признать операцию лишенной значения, то уже сам присущий ей «антропоморфизм» превращает ее в психическую реальность. В самом деле, генетически операция является действием в собственном смысле слова, а не только констатацией или постижением отношений. Прибавляя один к одному, субъект объединяет эти единицы в единое целое, хотя мог бы оставить их изолированными. Это действие, осуществляясь в мысли, несомненно, приобретает характер sui generis, отличающий его от любого другого действия; оно обратимо, т. е. после того, как субъект объединил две единицы, он может их разъединить и вернуться, таким образом, в исходную точку. Но, тем не менее, оно остается действием в собственном смысле слова, весьма отличным от простого чтения такого отношения, как «2 > 1».
Сторонники Рассела возражают против этого довода лишь экстрапсихологическим аргументом: это действие, по их мнению, иллюзорно, потому что «1 + 1» объединяются в «2» испокон веков (или, как говорят Карнап и фон Витгенштейн, потому что «1 + 1 = 2» — это не что иное, как тавтология, характерная для такого языка, каким является «логический синтаксис», и не относящаяся к реальному мышлению, функционирование которого является специфически эмпирическим). Вообще математическое мышление самообольщается, считая, что оно нечто конструирует или изобретает; в действительности оно ограничивается тем, что раскрывает различные аспекты мира, рассматривая его как законченный и неизменный (и, добавляют сторонники «Венского кружка», как полностью тавтологический). Но если даже отказать психологии интеллекта в праве заниматься природой логико-математических сущностей, то индивидуальная мысль все равно не могла бы проявить пассивность ни по отношению к идеям (или знакам логическою языка), ни по отношению к физическим сущностям, и для того чтобы их ассимилировать, она должна реконструировать их посредством психологически реальных операций.
Добавим, что утверждения Б. Рассела и представителей «Венского кружка» о независимом существовании логико-математических сущностей от породивших их операций и с чисто логической точки зрения являются не менее произвольными, чем с точки зрения психологической: в самом деле, эти утверждения постоянно наталкиваются на кардинальную трудность, порождаемую признанием реальности классов, отношений и чисел, — трудность антиномий «класса всех классов» и бесконечного актуального числа. С операциональной же точки зрения, напротив, бесконечные сущности являются лишь выражением операций, способных к бесконечному повторению.
Наконец, гипотеза непосредственного постижения мышлением универсалий, существующих независимо от него, еще более химерична с генетической точки зрения. Допустим, что ложные мысли взрослого аналогичны в плане своего существования мыслям истинным. Как быть в таком случае с теми понятиями, которые ребенок последовательно конструирует на различных стадиях своего развития? А «схемы» довербального практического интеллекта? «Существуют» ли они вне субъекта? А схемы интеллекта животного? Если зарезервировать «вечное существование» за одними только истинными мыслями, то в каком возрасте начинается их постижение? И вообще, если этапы развития просто показывают последовательное приближение интеллекта к овладению неизменными «идеями», то где доказательство того, что нормальному взрослому или логику из школы Рассела уже удалось постичь эти идеи и что последующие поколении не будут без конца превосходить их в таком постижении?
«Психология мышления». К. Бюлер и О. Зельц.
Трудности, с которыми мы только что столкнулись в концепции Б. Рассела, отчасти вновь возникают в той интерпретации интеллекта, которую дает немецкая «психология мышления» (Denkpsychologie), хотя на этот раз речь идет уже о работах чистых психологов. Правда, с точки зрения сторонников этой школы, логика вносится в сознание не извне, а изнутри. Это, несомненно, смягчает конфликт между требованиями психологического объяснения и требованиями дедукции, характерной для логики, но, как мы сейчас увидим, полностью он не устраняется. Тень формальной логики как чего-то заданного и ни к чему не сводимого продолжает довлеть над объяснительным и каузальным исследованием психолога; и так продолжается до тех пор, пока он безоговорочно не встанет на генетическую точку зрения. Однако, немецкие «психологи мышления» в действительности руководствуются либо собственно априористскими, либо феноменологическими концепциями (в чем особенно заметно влияние Гуссерля}, со всеми промежуточными вариантами между тем и другим.
Как метод «психология мышления» зародилась одновременно во Франции и Германии. Бине, полностью отказавшись от ассоциационизма, который он отстаивал в своей небольшой книге «Психология умозаключения», вновь вернулся к вопросу о взаимоотношении мышления и образов и, опираясь на весьма интересное использование процесса провоцируемой интроспекции, открыл наличие безобразного мышления: оказалось, что отношения, суждения, занимаемые позиции и т. п. выходят за пределы системы образов, и тогда процесс мышления уже не может быть сведен к «созерцанию галереи образов», как писал Бине еще в 1903 г. Что же касается определения этих актов мышления, не укладывающихся в рамки ассоциалистской интерпретации, то здесь Бине весьма осторожен. Он ограничивается констатацией наличия близости между интеллектуальными и моторными «позициями» и приходит к выводу, что рассмотренное с точки зрения одной лишь интроспекции, «мышление представляет собой неосознанную деятельность сознания». Урок бесконечно поучительный, но, несомненно, вводящий в заблуждение относительно возможностей метода, который плодотворен скорее для постановки проблем, чем для их решения. В 1900 г. Марбе также задался вопросом, чем отличается суждение от ассоциации, и равным образом надеялся решить вопрос на основе метода провоцируемой интроспекции. Марбе имеет дело с самыми различными состояниями сознании — вербальными представлениями, образами, ощущениями движений, занимаемыми позициями (сомнение и т. д.), — но не обнаруживает при этом ничего устойчивого. Постоянно отмечая, что необходимым условием суждения является интенциональный характер отношения, он не считает это условие достаточным и в конечном итоге приходит к отрицательному утверждению, напоминающему формулу Бине: не существует такого состояния сознании, которое было бы всегда связано с суждением и могло бы расцениваться как его детерминант. Однако Марбе добавляет (и добавление это, по нашему мнению, прямо или косвенно оказало влияние на всю немецкую Denkpsychologie), что суждение подразумевает вмешательство экстрапсихологического фактора, присущего чистой логике. Теперь ясно, что мы не преувеличиваем, когда говорим, что в этой новой плоскости вновь возникают трудности, внутренне присущие еще логицизму платоников.
Затем появились работы Уатта, Мессера и К. Бюлера, отразившие на себе влияние Кюльпе и представляющие концепцию «вюрцбургской школы». Уатт, изучая ассоциации, возникающие у субъекта в связи с определенным предписанием (например, ассоциации посредством субординации и т. п.), и неизменно опираясь при этом на провоцируемую интроспекцию, обнаруживает, что предписание может действовать или в сопровождении образов, или через безобразное сознание (Bewusstheit), или, наконец, в неосознанном виде. Исходя из этого, он выдвинул гипотезу, что «интенция», о которой говорит Марбе, — это как раз и есть результат предписаний (внешних или внутренних), и надеялся решить проблему суждения, превратив его в последовательный ряд состояний, которые обусловлены психическим фактором, осознанным ранее и в течение длительного времени сохраняющим свое влияние.
Мессер находит описание Уатта слишком расплывчатым (поскольку оно с равным успехом приложимо к регулируемому функционированию и к суждению) и, вновь возвращаясь к этой проблеме и используя аналогичную технику, проводит различие между регулируемой ассоциацией и самим суждением, представляющим собой принимаемое или отвергаемое отношение. Основные работы Мессера посвящены анализу различных мыслительных типов суждения.
И, наконец, завершение трудов вюрцбургской школы связано с именем К. Бюлера. Скудность начальных результатов метода провоцируемой интроспекции, по его мнению, объясняется тем, что предлагаемые вопросы относятся к слишком простым процессам; поэтому он начинает анализировать, каким образом испытуемые осуществляют решение проблем в собственном смысле этого слова. Выделенные в результате этого элементы мышления распределяются им на три категории: образы (роль которых оказывается вспомогательной, а не основной, вопреки утверждениям ассоцианизма), интеллектуальные чувства и занимаемые позиции и, наконец, сами мысли (Веwusstheit). Эти последние, со своей стороны, предстают либо в форме «сознания отношений» (например, «А < В»), либо в форме «сознания правил» (например, думать о некоторой величине как о квадрате какого-то расстояния, не зная, ни о каких объектах, ни о каких расстояниях идет речь), либо в форме «чисто формальных интенций» (в схоластическом смысле), например, думать о построении системы. Итак, психология мышления, понимаемая таким образом, завершается точным и подчас весьма тонким описанием интеллектуальных состояний, но описание это строится параллельно логическому анализу и совершенно не объясняет операций как таковых.
В противоположность этому в работах Зельца результаты, достигнутые вюрцбургской школой, превзойдены по линии анализа самой динамики мышления, а не только его изолированных состояний. Зельц, подобно Бюлеру, изучает, как субъект осуществляет решение проблем, но он скорее стремится выяснить, каким образом удается достичь решений, чем описывает элементы мышления. Изучив, таким образом, в 1913 г. «репродуктивное» мышление, он в 1922 г. делает попытку проникнуть в тайну умственного конструирования. Небезынтересно констатировать, что в той мере, в какой исследователи обращаются к активности мышления, как таковой, они (уже благодаря самому этому обстоятельству) отходят от логического атомизма, сводящегося к классификации изолированных отношений, суждений и схем, и приближаются к анализу живых целостностей, модель которых предложена психологией формы (с этой моделью мы встретимся вновь, хотя по своему виду она будет отлична от той, которая имела место при анализе операций).
В самом деле, согласно Зельцу, всякая работа мышления состоит в том, чтобы дополнить «комплекс» (Komplexerganzung): решение проблемы не сводится к схеме стимул — реакция, а состоит в том, чтобы заполнить пробелы, существующие внутри «комплексов» понятий и отношений. Когда проблема поставлена, может иметь место один из двух случаев. Либо речь будет идти лишь о восстановлении в памяти (реконструкции), не требующей новой конструкции, тогда решение состоит просто в обращении к уже существующим «комплексам»; в этом случае имеет место «актуализация знания», следовательно, просто «репродуктивное» мышление. Либо же речь идет о подлинной проблеме, обнаруживающей наличие пробелов в составе ранее приобретенных комплексов; в таком случае необходимо актуализировать уже не знания, а методы решения (применение известных методов к новому случаю) или даже вычленять, строить новые методы, отталкиваясь от старых. В двух последних случаях речь идет о продуктивном мышлении, которое в том собственно и состоит, чтобы дополнять уже существующие целостности или комплексы. Что касается «заполнения пробелов», то оно всегда направляется «антиципирующими схемами» (сравнимыми с «динамическими схемами» Бергсона), которые создают между новыми данными и соответствующим комплексом систему предварительных глобальных отношений, образующих канву искомого решения (и, следовательно, направляющую гипотезу). Наконец, эти отношения сами детализируются на базе механизма, подчиняющегося точным законам; эти последние представляют собой не что иное, как законы логики, по отношению к которым мышление является по сути дела зеркальным отображением. Здесь уместно вспомнить и работу Линдворского, которую можно поместить между двумя работами Зельца, поскольку в ней повторяются выводы последнего. Что касается очерков Клапареда относительно генезиса гипотезы, то к ним мы вернемся в связи с анализом поиска вслепую (гл. IV).
Критика «психологии мышления».
Не вызывает сомнения, что перечисленные работы немало способствовали изучению интеллекта. Они освободили анализ мышления от преклонения перед образом, рассматриваемым в качестве конститутивного элемента, и вторично после Декарта открыли, что суждение является актом. Они дали точное описание различных состояний мышления и тем самым показали, вопреки мнению Вундта, что интроспекция может быть возведена в ранг позитивного метода, когда она «спровоцирована», т. е. фактически находится под контролем наблюдателя.
Правда, вюрцбургская школа даже в плане простого описания слишком упрощает отношения между образом и мышлением. Но это не умаляет того ее открытия, что образ не составляет элемента самого мышления, а лишь сопровождает мышление и служит для него символом — индивидуальным символом, дополняющим коллективные знаки языка. «Школа значения», вышедшая из логики Брэдли, ясно показала, что любое мышление представляет собой систему значений, и именно эту концепцию Делакруа и его ученики, в частности И. Мейерсон, распространили на область взаимоотношений между мышлением и образом. В самом деле, значения включают в себя не только «обозначаемые», представляющие собой мысли как таковые, но также «обозначающие», образованные вербальными знаками или образными символами, создающимися в тесной связи с самим мышлением.
Но, с другой стороны, несомненно, что сам метод «психологии мышления» не дает ее сторонникам возможности выходить за пределы чистого описания и что они терпят провал, когда пытаются объяснить интеллект в его собственно конструктивных механизмах, поскольку интроспекция, даже контролируемая, относится, несомненно, только к продуктам мышления, а не к его формированию. Более того, этот метод применим лишь к субъектам, способным к рефлексии, тогда как тайну интеллекта, быть может, следовало бы искать как раз до 7—8 лет! «Психология мышления», которой недостает, таким образом, генетической перспективы, анализирует исключительно конечные стадии интеллектуальной эволюции. И нет ничего удивительного, что, оставаясь в рамках завершенных состояний и завершенного равновесия, она приходит в конечном итоге к панлогизму и вынуждена прервать психологический анализ перед лицом ни к чему не сводимой данности законов логики. Логическое остается необъяснимым в рамках психологии для всех этих авторов, начиная с Марбе, который просто обращается к логическому закону как к фактору экстрапсихологическому, вмешивающемуся каузально и заполняющему пробелы психической каузальности, и вплоть до Зельца, который пришел в конечном итоге к своего рода логико-психологическому параллелизму, превратив мышление в зеркало логики.
Конечно, Зельц частично освобождается от слишком узкого метода анализа состояний и элементов, стремясь следовать динамизму интеллектуального акта. Поэтому ему и удается открыть как целостности, которые характеризуют системы мышления, так и роль, которую играют в решении проблем антиципирующие схемы. Но, постоянно фиксируя аналогии между этими процессами, с одной стороны, и органическими и моторными механизмами — с другой, он не реконструирует их генетического формирования. Поэтому и он приходит к панлогизму вюрцбургской школы и даже делает это весьма парадоксальным образом. Этот пример особенно поучителен: он дает пищу для размышлений всякому, кто хочет освободить психологию от пут логистического априоризма, не утрачивая при этом стремления объяснить логический аспект проблемы.
В самом деле, раскрывая существенную роль целостностей в функционировании мышления. Зельц мог бы отсюда сделать вывод о том, что классическая логика неспособна перевести рассуждение в действие, т. е. показать его в том виде, в каком оно выступает и образуется в «продуктивном мышлении». Классическая логика, даже в той существенно более гибкой форме, которую ей придает тонкая и точная техника логистического исчисления, остается атомистической. Классы, отношения, высказывания анализируются здесь с точки зрения элементарных операций (логические сложение и умножение, импликации и несовместимости и т. п.). Чтобы выразить функционирование антиципирующих схем и дополнение комплекса (Komplexerganzung), т. е. интеллектуальных целостностей, которые вторгаются в живое и действенное мышление, Зельцу следовало бы использовать логику самих целостностей, и тогда проблема взаимоотношений между интеллектом как явлением психологическим и логикой, как таковой, была бы поставлена в тех новых рамках, которые могли бы привести к собственно генетическому решению. Зельц же, напротив, слишком педантично придерживается априорных логических рамок, несмотря на их прерывный и атомистический характер, и в конечном итоге приходит, естественно, к тому, что берет их в качестве субстрата психологического анализа, обусловленного в своих деталях психической деятельностью.
Короче говоря, «психология мышления» завершается тем, что превращает мышление в зеркало логики, и именно здесь лежит источник тех трудностей, которые она не в состоянии преодолеть. Но тогда возникает вопрос: нельзя ли просто перевернуть проблему и сделать из логики зеркало мышления, чтобы восстановить его конструктивную независимость?
Логика и психология.
Из предшествующего изложения выяснилось, что вначале над нами долгое время довлел постулат несводимости логических принципов, которым вдохновлялись сторонники «психологии мышления». Изучение формирования операций у ребенка привело нас, напротив, к убеждению, что логика является зеркалом мышления, а не наоборот[6].
Иными словами, логика — это аксиоматика разума, по отношению к которой психология интеллекта — соответствующая экспериментальная наука. Нам представляется необходимым остановиться на этой стороне дела несколько подробнее. Аксиоматика — это наука исключительно гипотетическо-дедуктивная, т. е. такая, которая сводит обращение к опыту до минимума (и даже стремится полностью его устранить), с тем, чтобы свободно строить свой предмет на основе недоказуемых высказываний (аксиом) и комбинировать их между собой во всех возможных вариантах и с предельной строгостью. Так, например, геометрия сделала большой шаг вперед, когда, стремясь отвлечься от какой бы то ни было интуиции, построила самые различные пространства, просто определив первичные элементы, взятые гипотетически, и операции, которым они подчинены. Аксиоматический метод является, таким образом, преимущественно математическим методом и находит многочисленные применения как в чисто математических науках, так и в различных областях прикладной математики (от теоретической физики до математической экономики). Аксиоматика по самому своему существу имеет значение не только для доказательства (хотя строгий метод она образует лишь в этой области): когда речь идет о сложных областях реальности, не поддающихся исчерпывающему анализу, аксиоматика дает возможность конструировать упрощенные модели реального и тем самым предоставляет незаменимые средства для его детального изучения. Одним словом, аксиоматика, как это хорошо показал Ф. Гонсет, представляет собой «схему» реальности, и уже в силу одного того, что всякая абстракция ведет к схематизации, аксиоматический метод в целом является продолжением самого интеллекта.
Но именно вследствие своего «схематического» характера аксиоматика не может претендовать ни на то, чтобы образовать фундамент, ни тем более на то, чтобы выступить в качестве замены соответствующей экспериментальной науки, т. е. науки, относящейся к той области реальности, схематическим выражением которой является аксиоматика. Так, например, аксиоматическая геометрия бессильна показать нам, что представляет собой пространство реального мира (точно так же, как «чистая экономика» никогда не исчерпает сложности конкретных экономических фактов). Аксиоматика не могла бы заменить соответствующую ей индуктивную науку по той основной причине, что ее собственная чистота является лишь пределом, который полностью никогда не достигается. Как это говорил еще Гонсет, в самой очищенной схеме всегда сохраняется интуитивный остаток (и точно так же во всякую интуицию входит уже элемент схематизации). Уже одного этого вывода достаточно для того, чтобы стало совершенно ясно, почему аксиоматика никогда не сможет «образовать фундамента» экспериментальной науки и почему всякой аксиоматике может соответствовать экспериментальная наука (соответственно, конечно, и наоборот).
На этой основе проблема отношений между формальной логикой и психологией интеллекта получает решение, аналогичное тому, которое после многовековой дискуссии положило конец конфликту между дедуктивной геометрией и геометрией реальной, или физической. Как и в случае этих двух дисциплин, логика и психология мышления вначале совпадали, не будучи дифференцированы. Аристотель, формулируя законы силлогизмов, несомненно считал, что он создал естественную историю разума (как, впрочем, и самой физической реальности). Когда же психология стала независимой наукой, психологи хорошо поняли (на что, однако, потребовалось немалое время), что рассуждения о понятии, суждении и умозаключении, содержащиеся в учебниках логики, не освобождают их от необходимости искать разгадку каузального механизма интеллекта. Однако в силу сохранившегося воздействия первоначальной нерасчлененности они еще продолжали рассматривать логику как науку о реальности, лежащую, несмотря на ее нормативный характер, в той же плоскости, что и психология, но занимающуюся исключительно «истинным мышлением», в противоположность мышлению вообще, взятому в абстракции от каких бы то ни было норм. Отсюда та иллюзорная перспектива «психологии мышления», согласно которой мышление в качестве психологического явления представляет собой отражение законов логики. Напротив, как только мы поняли, что логика представляет собой аксиоматику, сразу же — в результате простого переворачивания исходной позиции — исчезает ложное решение проблемы отношений между логикой и мышлением.
Итак, совершенно очевидно, что в той мере, в какой логика отрекается от неопределенности словесного языка, для того чтобы под названием логистики заняться построением алгоритмов, по точности не уступающих математическому языку, она оказывается трансформированной в аксиоматическую технику. Вместе с тем известно, насколько быстро эта техника слилась в наиболее общих чертах с математикой, благодаря чему логистика приобрела в настоящее время научную ценность, независимую от философских систем тех или иных логиков (платонизма Рассела или номинализма «Венского кружка»). Уже один тот факт, что философские интерпретации оставляют внутреннюю технику логистики неизменной, показывает, что техника эта достигла аксиоматического уровня. Логистика является, таким образом, не чем иным как идеальной «моделью» мышления.
Но тогда отношения между логикой и психологией значительно упрощаются. У логистики нет необходимости прибегать к психологии, потому что ни один фактический вопрос никак не вторгается в гипотетико-дедуктивную теорию. И напротив, было бы абсурдно обращаться к логистике, чтобы решать такой вытекающий из опыта вопрос, как вопрос о реальном механизме интеллекта. Тем не менее в той мере, в какой психология стремится анализировать конечные состояния равновесия мышления, имеет место не параллелизм, а соответствие между экспериментальным знанием психологии и логистикой, подобно тому как существует соответствие между схемой и той реальностью, которую она представляет. Каждому вопросу, поднимаемому одной из этих дисциплин, соответствует тогда вопрос в другой, хотя ни их методы, ни специфические для них решения не могут совпадать.
Такая независимость методов может быть проиллюстрирована на очень простом примере, анализ которого к тому же будет полезен нам для дальнейшего (гл. V и VI). Обычно говорят, что мышление (реальное) «использует принцип противоречия». При буквальном понимании это предполагало бы вмешательство логического фактора в каузальный контекст психологических явлений и противоречило бы, следовательно, тому, что мы только что утверждали. Таким образом, если буквально следовать терминологии, подобное утверждение, по сути дела, лишено смысла. Действительно, принцип противоречия сводится к тому, что запрещает одновременно утверждать и отрицать определенное свойство: А несовместимо с не-А. Но в функционировании мышления реального субъекта трудность возникает тогда, когда встает вопрос, можно ли одновременно утверждать А и В, поскольку логика сама никогда не определяет, имплицирует ли В не-А. Можно ли, например, говорить о горе, высота которой только сто метров, или это является противоречием? Можно ли представить себе квадрат с неравными углами? И т. д. Чтобы решить этот вопрос, существует лишь два способа. Логический способ состоит в том, чтобы формально определить А и В и попытаться выяснить, имплицирует ли В не-А или не имплицирует. Но тогда принцип противоречия применяется исключительно к определениям, т. е. к аксиоматизированным, а не к живым понятиям, которыми фактически оперирует мышление. Второй способ, тот, которому следует реальная мысль, состоит, напротив, не в рассуждении относительно одних только определений, что не представляет для этого способа большого интереса (определение является с этой точки зрения всего лишь ретроспективным осознанием, к тому же часто неполным), а в том, чтобы действовать и оперировать, конструируя понятия согласно возможностям композиции этих действий или операций. В самом деле, понятие является не чем иным, как схемой действия или операции, и только выполняя действия, порождающие А и В, мы можем констатировать, совместимы они или нет. Далекие от того, чтобы «применять принцип», эти действия организуются согласно внутренним условиям связи между ними, и именно структура этой организации составляет реальное мышление и соответствует тому, что в аксиоматическом плане принято называть принципом противоречия.
Правда, помимо индивидуальной связи действий, в мышление вторгаются межиндивидуальные действия коллективного порядка и, следовательно, «нормы», навязанные самим этим сотрудничеством. Но кооперация — это не что иное, как система действий или даже операций, выполняемых коллективно, поэтому только что приведенные рассуждения можно отнести и к коллективным представлениям, которые также остаются в плоскости реальных структур, в противоположность аксиоматизации формального порядка.
Таким образом, для психологии в полной мере сохраняется необходимость выяснения того, при помощи какого механизма удается интеллекту конструировать связные структуры (structures coherentes), допускающие операциональные композиции. Взывать в этом случае к «принципам», которые непосредственно прилагаются к интеллекту, совершенно бесполезно, потому что логические принципы относятся к теоретической схеме, сформулированной постфактум, когда мысль уже сконструирована, а не к самому живому конструированию. Интеллект, как тонко заметил Л. Бруншвиг, можно сравнить с победами на поле брани или со сложнейшим процессом поэтического творчества, тогда как логическая дедукция может быть уподоблена описанию военной стратегии или поэтического искусства, которое лишь выражает прошлые победы в области действия или духа в кодифицированной форме, не обеспечивая при этом поля для будущих завоеваний[7].
Между тем и именно потому, что аксиоматическая логика схематизирует постфактум реальную работу разума, всякое открытие в одной из этих двух областей может порождать проблему в другой. Нет сомнения, что логические схемы, если они искусно построены, всегда помогают анализу психологов; хорошим примером этого служит психология мышления. Однако после того как психологи вместе с Зельцем, «гештальтистами» и другими открыли роль целостностей и структурированных организаций в работе мышления, уже нет никакого основания рассматривать ни классическую логику, ни даже современную логистику (которые остановились на прерывном и атомистическом способе описания мышления) как не подлежащие изменению и окончательные, а тем более делать из них эталон, «зеркалом» которого было бы мышление. Напротив, если мы хотим, чтобы логика служила схемой, адекватной состояниям равновесия сознания, то следует построить особую логику целостностей и проанализировать операции, не сводя их к изолированным элементам, недостаточным с точки зрения психологических требований.
Операции и их «группировки».
Основным камней преткновения для теории интеллекта, базирующейся на анализе высших форм мышления, является то гипнотическое действие, которое оказывают на сознание исследователей возможности вербального мышления. П. Жане блестяще показал, как язык отчасти заменяет действие, — настолько, что наибольшей трудностью, стоящей перед интроспекцией, становится распознавание (при помощи одних лишь ее средств) того, что язык выступает еще и как подлинное поведение. Вербальное поведение — это действие, пусть сокращенное и интериоризованное, некий эскиз действия, который даже рискует постоянно оставаться в состоянии проекта, но это все равно действие, которое просто замещает вещи знаками, а движения — их восстановлением в памяти, и которое функционирует в структуре мышления при помощи этих посредников. Пренебрегая этим действенным аспектом вербального мышления, интроспекция не видит в нем ничего, кроме рефлексии, рассуждения и понятийного представления; отсюда возникают как иллюзия интроспективных психологов, сводящая интеллект к этим привилегированным конечным состояниям, так и иллюзия логиков, согласно которой наиболее адекватной логистической схемой является, по существу, теория высказываний.
Поэтому, чтобы понять реальное функционирование интеллекта, следует перевернуть только что охарактеризованный путь исследования и дать анализ с позиций самого действия: только тогда предстанет в полном свете роль такого интериоризованного действия, каким является операция. И благодаря самому этому факту будет твердо установлена преемственность, связывающая операцию с подлинным действием — источником и средой интеллекта. Эта перспектива наиболее ясно вырисовывается при анализе языка такого типа, как математический язык, все еще остающийся языком, но языком чисто интеллектуальным, максимально четким и чуждым обманчивости образа. В любом выражении, например, таком, как «х2 + у = z — u», каждый термин обозначает в конечном счете действие: знак «=» выражает возможность замены, знак «+» — объединение, знак «—» — разделение; квадрат «х2» — действие, состоящее в том, что х берется х раз, а каждая из величин «u, x, у, z» — действие воспроизведения единицы некоторое число раз. Каждый из этих символов относится, таким образом, к действию, которое могло бы быть реальным, но в отношении которого математический язык ограничивается тем, что выражает его абстрактно в форме интериоризованных действий, т. е. операции мышления[8].
И если это обстоятельство очевидно в случае математического мышления, то оно не менее реально и в логическом мышлении, и даже в разговорном языке, причем с двоякой точки зрения — логистического анализа и анализа психологического. Так, например, два класса могут быть сложены как два числа. В высказывании «позвоночные и беспозвоночные суть животные» слово «и» (или логистический знак «+») представляет действие объединения, которое может быть осуществлено материально в виде образования совокупности объектов, но мысль может произвести это действие и в уме. Аналогичным образом можно классифицировать, учитывая одновременно несколько оснований, как это, например, имеет место в таблице с двойным входом, и такая операция (которую логистика называет логическим умножением: знак «×») столь естественна для сознания, что психолог Спирмен усмотрел в ней одну из характерных особенностей интеллектуального акта (назвав ее «выявлением коррелят»): «Париж находится во Франции, подобно тому как Лондон — в Великобритании». Можно произвести сериацию отношений: А < В; В < С, и тогда двойное отношение, позволяющее заключить, что С больше А, является воспроизведением в мысли действия, которое мы могли бы осуществить материально, если бы расположили в ряд три объекта по их возрастающим величинам. Равным образом можно упорядочить объекты, учитывая одновременно ряд отношений, и тогда мы будем иметь дело с другой формой логического умножения, или корреляции, и т. д.
Если теперь обратиться к терминам как таковым, т. е. к так называемым элементам мышления, к понятиям классов или отношений, то так же, как и в случае их комбинаций, мы вновь столкнемся с их операциональным характером. Понятие класса психологически является не чем иным, как выражением идентичности реакции субъекта по отношению к объектам, которые объединяются им в один класс; логически эта активная ассимиляция выражается качественной эквивалентностью всех элементов класса. Точно так же асимметричное отношение («более (менее) тяжелый», «больше», «меньше») выражает различные степени интенсивности действия, т. е. различия по отношению к эквивалентностям, что логически выражается структурами сериации.
Короче говоря, основное свойство логического мышления состоит в том, что оно операционально, т. е. продолжает действие, интериоризируя его. По этому вопросу объединяются мнения представителей самых различных течений, начиная с эмпирических и прагматических теорий, которые ограничиваются этим элементарным утверждением, приписывая мышлению форму «умственного опыта» (Мах, Риньяно, Каслин), и вплоть до интерпретаций априористского внушения (Делакруа). Более того, такая гипотеза согласуется с логическими схематизациями в тех случаях, когда эти последние ограничиваются лишь конструированием техники и не превращаются в философию, отрицающую существование самих операций, которыми практически постоянно пользуются.
Однако этим сказано отнюдь не все, поскольку операция не сводится к любому действию; и хотя операциональный акт вытекает из акта действия, однако расстояние между этими актами остается пока еще весьма значительным, что мы и рассмотрим детально, кода будем изучать развитие интеллекта (гл. IV и V). Операцию разума можно сравнить с простым действием только при условии, что она рассматривается изолированно. Но спекуляция на изолированных операциях — это как раз и есть основная ошибка эмпиристских теорий «психического опыта»: единичная операция не является операцией, а остается на уровне простого интуитивного представления. Специфическая природа операций, если их сравнивать с эмпирическими действиями, заключается, напротив, в том, что они никогда не существуют в дискретном состоянии. Об «одной» операции мы можем говорить только в результате абсолютно незаконной абстракции: единичная операция не могла бы быть операцией, поскольку сущность операций состоит в том, чтобы образовывать системы. Именно здесь и необходимо особенно энергично возразить против логического атомизма, схема которого ложилась тяжким бременем на психологию мышления. Чтобы осознать операциональный характер мышления, надо достичь систем как таковых, и если обычные логические схемы не позволяют увидеть такие системы, то нужно построить логику целостностей.
Остановимся прежде всего на наиболее простом примере. Психология, как и классическая логика, рассматривает понятие в качестве элемента мышления. Сам по себе один «класс» не мог бы существовать даже независимо от того, что его определение требует обращения к другим понятиям. В качестве инструмента реального мышления абстрагированный от своего логического определения класс представляет собой элемент «структурированный», а не «структурирующий», или во всяком случае он уже структурирован настолько, чтобы быть структурирующим: реальностью он обладает только в зависимости от всех тех элементов, которым противостоит или в которые включен (или которые включает сам). «Класс» предполагает «классификацию», и основным является именно это, потому что именно операции классификации порождают отдельные классы. Вне связи с классификацией целого родовой термин обозначает не класс, а лишь интуитивно схватываемую совокупность.
Аналогичным образом асимметричное транзитивное отношение (типа А < В) не существует в качестве отношения (но может расцениваться лишь как перцептивная или интуитивная связь), пока не построена вся последовательность других отношений, расположенных в ряд, таких, как А < В < С... И когда мы говорим, что оно не существует в качестве отношения, то это отрицание нужно понимать в самом конкретном смысле слова, поскольку, как мы увидим (гл. V), ребенок не способен мыслить отношениями до тех пор, пока он не научился проводить «сериации». Сериация является, таким образом, первичной реальностью, любое асимметричное отношение которой есть лишь временно абстрагированный элемент.
Можно привести другие примеры подобного рода: «коррелят» в понимании Спирмена (собака по отношению к волку является тем же, чем кошка по отношению к тигру) имеет смысл только применительно к таблице с двойным входом; отношения родства (брат, дядя и т.д.) входят в совокупность, образованную генеалогическим древом, и т. д. Равным образом не вызывает сомнения, что целое число как психологически, так и логически существует (вопреки мнению Рассела) только в системе натурального ряда чисел (порождаемого операцией «+1»), что пространственное отношение предполагает целостность пространства, а временное отношение включает понимание времени как единой схемы. И, обращаясь к другой сфере, нужно ли доказывать тот факт, что величина имеет значение только применительно к полной «шкале» величин, временной или постоянной?
Короче говоря, в любой области конституированного мышления (в прямую противоположность неравновесным состояниям, характеризующим его генезис) психологическая реальность состоит из операциональных систем целого, а не из изолированных операций, понимаемых в качестве предшествующих этим системам элементов. Следовательно, только в качестве действий или интуитивных представлений операции организуются в такие системы, в которых они приобретают — уже в силу одного факта своей организации — природу «операций». Основная проблема психологии мышления в таком случае состоит в том, чтобы выявить законы равновесия этих систем; точно так же, как центральная проблема логики, если она хочет быть адекватной реальной работе сознания, состоит, по нашему мнению, в том, чтобы формулировать законы этих целостностей как таковых.
Ведь математический анализ уже давно открыл эту взаимную зависимость операций, образующих некоторые строго определенные системы; понятие «группы», которое применяется к последовательности целых чисел, к пространственным, временным структурам, к алгебраическим операциям и т. п., становится в результате этого центральным понятием в самой структуре математического мышления. В случае же качественных систем, характерных для простейших форм логического мышления (таких, как простые классификации, таблицы с двойным входом, сериации отношений, отношения генеалогического древа и т. п.), мы будем называть соответствующие системы целого «группировками». Психологически «группировка» состоит в определенной форме равновесия операций, т. е. действий, интериоризованных и организованных в структуры целого, и проблема сводится к тому, чтобы охарактеризовать это равновесие одновременно и по отношению к различным генетическим уровням, которые его подготавливают, и в противопоставлении к формам равновесия с иными, нежели у интеллекта, функциями (перцептивные или моторные «структуры» и т. п.). С логистической же точки зрения «группировка» представляет собой структуру, строго определенную (родственную структуре «группы», но отличную от нее в ряде существенных моментов) и выражающую последовательность дихотомических различий. Операциональные правила «группировки» образуют, таким образом, как раз ту логику целостностей, которая выражает в аксиоматической или формальной схеме фактическую работу разума на операциональном уровне его развития, т. е. в конечной форме его равновесия.
Функциональное значение и структура «группировок».
Попытаемся связать только что проведенные рассуждения с тем, что дает нам «психология мышления». Согласно Зельцу, решение определенной проблемы предполагает прежде всего «антиципирующую схему», соединяющую поставленную цель с «комплексом» понятий, в котором проблема создает определенный пробел; затем происходит «заполнение» этой антиципирующей схемы при помощи понятий и отношений, дополняющих «комплекс» и располагающихся в нем согласно законам логики. Здесь возникает ряд вопросов: каковы организации целого «комплекса»? Какова природа антиципирующей схемы? Можно ли устранить дуализм между формированием антиципирующей схемы и конкретными процессами, которые определяют ее заполнение?
Возьмем в качестве примера интересный опыт, поставленный нашим сотрудником Андре Рей. На квадратном листе бумаги (со сторонами от 10 до 15 см) нарисован квадрат величиной в несколько сантиметров. Испытуемому предлагается нарисовать квадраты, самый маленький, какой только он может начертить карандашом, и самый большой, какой только возможно изобразить на этом листе. Взрослым (и детям старше 7—8 лет) удается сразу нарисовать как квадрат сторонами в 1—2 мм, так и квадрат, почти дублирующий края бумаги. Дети же в возрасте менее 6—7 лет сначала рисуют квадраты лишь ненамного меньше или больше, чем модель, а затем продвигаются вперед путем постепенного и нередко бесплодного поиска вслепую. Это заставляет думать, что ни в какой момент ребенок этого возраста не предвосхищает конечного решения. Таким образом, мы непосредственно видим, что действие «группировки» асимметричных отношений, (А < В < С...) имеет место у детей старшего возраста и, по-видимому, отсутствует в возрасте менее 7 лет: с появлением «группировки» воспринимаемый квадрат располагается в мышлении в ряду возможных квадратов, соответственно все больших и все меньших по сравнению с первым. Исходя из этого, можно допустить, во-первых, что антиципирующая схема — это не что иное, как схема самой «группировки», т. е. осознание упорядоченной последовательности возможных операций; во-вторых, что заполнение схемы является результатом простого приведения в действие этих операций и, в-третьих, что организация «комплекса» предварительных понятий зависит от самих законов «группировки». Таким образом, если предложенное решение имеет общий характер, то можно говорить о том, что понятие «группировки» устанавливает единство между предшествующей системой понятий, антиципирующей схемой и ее контролируемым заполнением.
Обратимся теперь к ряду конкретных проблем, которые ставит мышление. Что это такое? Это больше или меньше, тяжелее или легче, дальше или ближе? И т. п. Где? Когда? По какой причине? С какой целью? Сколько? И т. д. и т. п. Мы констатируем, что каждый из этих вопросов обязательно является функцией предварительных «группировок» или «групп»: каждый индивид обладает классификациями, сериациями, системами объяснений, субъективным пространством и хронологией, шкалой ценностей и т. п., точно так же, как и математизированными пространством и временем, чистыми рядами и т. д. И эти «группировки» и «группы» возникают не в связи с тем или иным частным вопросом, а сохраняются на протяжении всей жизни; с детства мы классифицируем, сравниваем (различия эквивалентности), упорядочиваем в пространстве и во времени, объясняем, оцениваем наши цели и наши средства, считаем и т. п. По отношению ко всем этим системам целого проблемы ставятся только в той мере, в какой появляются новые факты, которые еще не классифицированы, не подверглись сериации и т. д. Вопрос, который направляет антиципирующую схему, вытекает, таким образом, из предварительной «группировки», и сама антиципирующая схема есть не что иное, как направление, предписанное для поиска самой структуры этой «группировки». Каждая проблема, как в отношении антиципирующей гипотезы решения, так и в отношении детальной проверки этого решения, состоит, следовательно, в особой системе операций, которые должны быть осуществлены в рамках соответствующей целостной «группировки».
Чтобы продвигаться вперед, нет необходимости проводить реконструкцию всего пространства, достаточно просто дополнить его определенную сферу. Чтобы предвидеть какое-либо событие, починить велосипед, рассчитать свой бюджет или составить программу действия, нет необходимости резко изменять уже принятые представления о причинности и времени, пересматривать все принятые ценности и т. д. Искомое решение является лишь продолжением и дополнением отношений, сгруппированных ранее, — в этом случае достаточно лишь исправить отдельные ошибки в «группировке» и прежде всего расчленить и дифференцировать эту «группировку», не изменяя при этом ее в целом. Что же касается проверки, то она возможна только согласно самой «группировке», путем согласования новых отношений с предшествующей системой.
Действительно, в этой непрерывной ассимиляции интеллектом реальности особенно примечательно равновесие ассимилирующих рамок, образованных «группировкой». В процессе своего формирования мышление находится в состоянии неравновесия или неустойчивого равновесия: всякое новое приобретение видоизменяет предшествующие понятия или рискует повлечь за собой противоречие. Начиная же с операционального уровня, напротив, постепенно возникающие рамки классификации и сериации (пространственные, временные и т. д.) беспрепятственно включают новые элементы; та отдельная клеточка, которую нужно найти и дополнить, не колеблет тогда прочности целого, а находится в гармонии с ним. Возьмем наиболее характерный пример такого равновесия понятий. Точная наука, несмотря на все те «революционные скачки» и существенные изменения, которые она стремится подчеркнуть для доказательства своей жизненной силы, тем не менее, представляет собой некоторый свод понятий, отдельные аспекты которых сохраняются и даже сужаются с каждым новым добавлением фактов или принципов, поскольку новые принципы, какими бы революционными они ни были, поддерживают старые как свои собственные первые аппроксимации. Непрерывный и не поддающийся предвидению процесс создания нового, знаменующий развитие науки, бесконечно связан, таким образом, с ее собственным прошлым. С тем же явлением, хотя и в неизмеримо меньшем масштабе, мы сталкиваемся в мышлении каждого сложившегося человека.
Более того, в сравнении с частичным равновесием перцептивных или моторных структур, равновесие «группировок», в сущности, является «подвижным равновесием»; поскольку операции — это действия, то равновесие операционального мышления отнюдь не представляет собой некоего состояния покоя, а является системой уравновешивающихся обменов и трансформаций, бесконечно компенсирующих друг друга. Это равновесие полифонии, а не системы инертных масс, и оно не имеет ничего общего с той ложной стабильностью, которая возникает иногда с возрастом в результате замедленности умственной деятельности.
Следовательно, вся проблема «группировки» состоит именно в том, чтобы определить условия этого равновесия и получить затем возможность выяснить генетически, каким образом оно образуется. Эти условия могут быть открыты одновременно психологическим наблюдением и психологическим опытом и сформулированы в соответствии с теми уточнениями, которых требует аксиоматическая схема. Они образуют, таким образом, с психологической точки зрения факторы каузального порядка, объясняющие механизм интеллекта, в то время как логистическая схематизация дает правила логики целостностей. Таких условий для «групп» математического порядка — четыре, а для «группировок» качественного порядка — пять.
1. Два любых элемента «группировки» могут быть соединены между собой и порождают в результате этого новый элемент той же «группировки»; два различных класса могут быть объединены в один целостный класс, который их включает; два отношения А < В и В < С могут быть соединены в отношение А < С, в которое они входят, и т. д. Психологически это первое условие выражает возможную координацию операций.
2. Всякая трансформация обратима. Например, два класса или два отношения, объединенные на какое-то время, могут быть снова разъединены; так, в математическом мышлении каждая прямая операция группы предполагает обратную операцию (вычитание для сложения, деление для умножения и т. д.). Несомненно, что эта обратимость является наиболее характерной особенностью интеллекта, ибо, хотя моторике и восприятию известна композиция, они, однако, остаются необратимыми. Моторный навык действует в одном-единственном направлении, и умение осуществлять движение в другом направлении означает уже приобретение нового навыка. Восприятие необратимо, поскольку при каждом появлении в перцептивном поле нового элемента имеет место «перемещение равновесия», и, если даже объективно восстановить исходную ситуацию, восприятие все равно оказывается видоизмененным промежуточными состояниями. Интеллект же, напротив, может сконструировать гипотезы, затем их отстранить и вернуться к исходной точке, пройти путь и повторить его в обратном направлении, не меняя при этом используемых понятий. И как раз (мы увидим это в гл. V), чем меньше ребенок, тем в большей степени необратимо и тем ближе к перцептивно-моторным или интуитивным схемам начального интеллекта его мышление; обратимость характеризует, следовательно, не только конечные состояния равновесия, но и сами эволюционные процессы.
3. Композиция операций «ассоциативна» (в логическом смысле термина), т. е. мышление всегда сохраняет способность к отклонениям (detours), и результат, получаемый двумя различными путями, в обоих случаях остается одним и тем же. Эта особенность также свойственна только интеллекту; для восприятия, как и для моторики, всегда характерна единственность путей действия, поскольку навык стереотипен и поскольку в восприятии два различных пути действия завершаются разными результатами (например, одна и та же температура, воспринимаемая при сравнении с различными тепловыми источниками, не кажется одинаковой). Появление отклонения является характерным признаком уже сенсомоторного интеллекта, и чем активней и мобильней мышление, тем большую роль в нем играют отклонения; однако только в системе, обладающей постоянным равновесием, эти отклонения приобретают способность сохранять инвариантность конечного результата поиска.
4. Операция, соединенная со своей обратной операцией, аннулируется (например: «+ 1 — 1 = 0» или «× 5 / 5 = × 1»). В начальных же формах мышления ребенка, напротив, возврат в исходное положение не сопровождается сохранением этого исходного положения; например, после того как ребенок высказал гипотезу, которую затем отбросил, он не может восстановить проблему и прежнем виде, потому что она оказывается частично деформированной гипотезой, хотя последняя и отвергнута.
5. Когда речь идет о числах, то единица, прибавленная к самой себе, в результате композиции (см. п. 1) дает новое число: имеет место итерация. Качественный же элемент, напротив, при повторении не трансформируется; в этом случае имеет место «тавтология»: А + А = А.
Если выразить эти пять условий «группировки» в логистической схеме, то мы придем к следующим простым формулам:
1) Композиция: х + х' = у; у + у' = z, и т. д.
2) Обратимость: у — х = х' или у — х' = х.
3) Ассоциативность: (х + х') + у' = х + (х' + у') = (z).
4) Общая идентичная операция: х — х = 0, у — у = 0, и т.д.
5) Тавтология, или специальная идентичная операция: х + х = х; у + у = y, и т.д. Само собой разумеется, что в этом случае возможно исчисление трансформаций, но для этого необходимо — из-за наличия тавтологий — определенное число правил, в детали которых мы здесь не будем входить[9].
Классификация «группировок» и основных операций мышления.
Изучение проявлений мышления ребенка в эволюции ведет к признанию не только существования «группировок», но и их взаимосвязи, т. е. отношений, позволяющих классифицировать и располагать «группировки» в определенном порядке. В самом деле, психологическое существование «группировки» легко опознать по явно выраженным операциям на которые способен субъект. И даже более того: пока нет «группировки», нет и сохранения совокупностей или целостностей, в то время как появление «группировки» характеризуется появлением принципа сохранения. Например, субъект, способный с появлением структуры «группировки» к операциональному рассуждению, будет заранее убежден, что целое сохранится независимо от расположения его частей, тогда как раньше это оспаривал. Формирование этих принципов сохранения мы будем изучать в главе V, где покажем роль «группировки» в развитии интеллекта. Но для ясности изложения важно прежде всего описать конечные состояния равновесия мышления, с тем чтобы затем проанализировать генетические факторы, способные объяснить образование этого равновесия. Поэтому, даже рискуя дать несколько абстрактное и схематическое изложение, мы дополним предыдущие рассуждения перечислением основных «группировок», вместе с тем оговаривая, что эта картина будет представлять собой лишь конечную структуру интеллекта и что полностью сохраняется проблема объяснения процессов формирования этих «группировок».
I. Первая система «группировок» образована так называемыми логическими операциями, т. е операциями, которые имеют исходным пунктом индивидные элементы, рассматриваемые в качестве инвариантных; при осуществлении таких операций ограничиваются тем, что классифицируют эти элементы, подвергают их сериации и т. п.
1. Самая простая логическая «группировка» — это «группировка» классификации, или иерархического включения классов. Она покоится на первой основной операции — объединении индивидов в классы и классов между собой. Классическим образцом такой «группировки» являются зоологические или ботанические классификации, однако по той же дихотомической схеме строятся и любые другие качественные классификации.
Возьмем вид А, составляющий часть рода В семейства С и т. д. В род В, помимо А, входят и другие виды: назовем их А' (при этом А' = В — А). Аналогично и семейство С будет включать, помимо В, и другие роды: назовем их В' (где В' = С — В) и т. д. Мы имеем тогда композицию: А + А' = В; В + В' = С; С + С' = D и т.д.; обратимость: В — А' = А и т. д.; ассоциативность: (А + А') + В' = А + (А' + В') = С и т. д., и все остальные признаки группировки. Именно эта первая группировка и порождает классический силлогизм.
2. Вторая элементарная «группировка» использует операцию, состоящую не в объединении индивидов, рассматриваемых как эквивалентные (как в первой группировке), а в соединении асимметричных отношений, которые выражают различия этих индивидов. Объединение этих различий предполагает тогда последовательный порядок, и, следовательно, «группировка» образует «качественную сериацию».
Если отношение 0 < А назвать а, отношение 0 < В — b, а отношение 0 < С — соответственно с, то отношение А < В можно назвать тогда а', отношение B < С — b' и т. д., и мы получаем группировку а + а' = b; b + b' = с и т. д. Обратная операция состоит в вычитании отношения, что эквивалентно прибавлению обратного отношения. Группировка эта, таким образом, параллельна предыдущей, с той единственной разницей, что операция сложения в этом случае включает порядок последовательности (и, следовательно, не является коммутативной); на транзитивности, свойственной этой сериации, основывается умозаключение А < В, В < С, следовательно А < С.
3. Третья основная операция — это операция замещения, основа эквивалентности, которая объединяет в составной класс различные простые классы, полученные в результате предшествующего объединения.
В самом деле, между двумя элементами А1 и А2 одного и того же класса В нет такого же равенства, какое имеет место между равными числами в математике; в этом случае мы имеем дело просто с качественной эквивалентностью, т. е. возможным замещением, но лишь в той мере, в какой можно заменить А2 (т. е. «другие» по отношению к А2 элементы) на А1, (т. е. «другие» по отношению к А1 элементы). Отсюда группировка: А1 + А'1 = А2 + А'2 (= В); B1 + B'1 = B2 + B'2 (= С) и т. д.
4. Если операции предшествующей «группировки» перевести в отношения, то они порождают реципрокность, свойственную симметричным отношениям. Эти последние являются не чем иным, как отношениями, объединяющими между собой элементы одного и того же класса, т. е. отношениями эквивалентности (в противоположность асимметричным отношениям, которые выражают различие). Симметричные отношения (например, родственные отношения между братьями, двоюродными братьями и т. п.) группируются, следовательно, по образцу предшествующей «группировки», но обратная операция в этом случае идентична прямой, что выражается, по существу, в самом определении симметрии: (Y = Z) = (Z = Y).
Четыре рассмотренные группировки — это «группировки» аддитивного порядка, причем две из них (первая и третья) относятся к классам, а две другие — к отношениям. Существуют, кроме того, еще четыре «группировки», в основе которых лежат мультипликативные операции, т. е. операции, относящиеся одновременно к более чем одной системе классов или отношений. Эти «группировки» строго соответствуют первым четырем.
5. Прежде всего, если дано два ряда включенных друг в друга классов А1B1C1... и А2B2C1..., то можно располагать индивиды, исходя из двух рядов одновременно: в этом состоит метод таблиц с двойным входом. «Мультипликация классов», которая образует операцию, свойственную этому роду группировки, играет существенную роль в механизме интеллекта; именно ее под названием «выявление коррелят» описал в психологических терминах Спирмен.
Прямая операция двух классов B1 и B2 — это произведение B1 × B2 = B1B2 (= А1А2 + А1А'2 + А'1А2 + А'1А'2). Обратная операция — это логическое деление B1B2 / B2 = B1, что соответствует «абстракции» («B1B2, абстрагированное от B2, есть B1»).
6. Точно так же можно умножить друг на друга два ряда отношений, т. е. найти все отношения, существующие между расположенными в ряд объектами, исходя одновременно из двух типов отношений. Наиболее простым случаем такой группировки является качественное «взаимно-однозначное соответствие».
7 и 8. Наконец, можно сгруппировать индивиды не по принципу таблиц с двойным входом, как в двух предыдущих случаях, а путем приведения одного члена в соответствие многим (например, отец по отношению к сыновьям). В этом случае «группировка» принимает форму генеалогического древа и строится или для классов (7), или для отношений (8), причем эти последние асимметричны, если их рассматривать с точки зрения одного из данных двух элементов (отец и т. п.), и симметричны с точки зрения другого (братья и т. п.).
Таким образом, мы получаем посредством простейших комбинаций восемь основных логических «группировок», одни из которых (1—4) — аддитивны, другие (5—8) — мультипликативны; одни относятся к классам, другие — к отношениям; и наконец, одни выражаются во включениях, сериациях или простых соответствиях (1, 2 и 5, 6), а другие в реципрокности и одно-многозначных соответствиях (3, 4 и 7, 8). Итак, всего имеется 2 × 2 × 2 = 8 возможностей.
Заметим также, что лучшее доказательство естественного характера целостностей, образованных этими «группировками» операций, состоит в том, что достаточно объединить между собой «группировки» простого включения классов (1) и сериации (2), чтобы получить уже не качественную «группировку», а «группу», образованную последовательностью целых (положительных и отрицательных) чисел. В самом деле, объединение индивидов в классы означает, что они рассматриваются как эквивалентные, в то время как их сериация в соответствии с некоторым асимметричным отношением выражает их различия. При рассмотрении свойств объектов нельзя одновременно группировать их и как эквивалентные, и как различные; но если абстрагироваться от свойств, то уже тем самым мы делаем эти индивиды эквивалентными между собой и способными к сериации соответственно некоторому числовому порядку; мы, таким образом, трансформируем их в упорядоченные «единицы», а именно в этом и состоит конститутивная аддитивная операция целого числа. Аналогичным образом объединяя мультипликативные «группировки» классов (5) и отношений (6), мы получаем мультипликативную «группу» положительных (целых и дробных) чисел.
II. Приведенные выше различные системы не исчерпывают всех элементарных операций интеллекта. Действительно, интеллект не ограничивается оперированием с объектами для объединения их в классы, сериации или пересчета. Сфера его действия распространяется равным образом и на построение объекта как такового, и этот процесс начинается (как мы увидим в гл. IV) уже с появления сенсомоторного интеллекта. Разложить объект и вновь его составить — это, таким образом, действия, свойственные второй совокупности «группировок», основные операции которых могут быть названы «инфралогическими», потому что логические операции комбинируют объекты, рассматриваемые как инвариантные. Эти инфралогические операции имеют не меньшее значение, чем операции логические, поскольку они являются конститутивными элементами понятий пространства и времени, построение которых занимает почти все детство. И как бы резко они ни отличались от логических операций, они в точности им параллельны. Вопрос о генетических взаимоотношениях между этими двумя операциональными системами образует, таким образом, одну из наиболее интересных проблем развития интеллекта.
1. Включению классов соответствует включение в иерархические целостности частей, ранее просто объединявшихся; конечный предел таких включений — объект в целом (при этом неважно, на какой ступени он берется — вплоть до пространственно-временного универсума). Именно эта первая «группировка» сложения частей дает возможность сознанию до какого бы то ни было собственно научного опыта понять атомистическую композицию — атомарное строение объектов.
2. Сериации асимметричных отношений соответствуют операции размещения (пространственного или временного) и качественного перемещения (простого изменения порядка, независимо от меры).
3—4. Логическим подстановкам и симметриям соответствуют пространственно-временные симметричные подстановки и отношения.
5—8. Мультипликативные операции представляют собой просто комбинации предшествующих операций в соответствии со многими системами или элементами.
Подобно тому, как числовые операции могут рассматриваться как выражение простого слияния группировок классов и асимметричных отношений, так и операции измерения представляют собой объединение в единое целое операций деления и перемещения.
III. Аналогичная ситуация имеет место и в операциях, относящихся к ценностям; эти операции выражают отношения средств и целей, которые играют существенную роль в практическом интеллекте (и квантификация которых характеризует экономические ценности).
IV. Наконец, совокупность этих трех систем операций (I-III) может быть выражена в форме простых высказываний, что приводит к логике высказываний, построенной на основе импликаций и несовместимостей между пропозициональными функциями; именно эта система образует как логику в обычном смысле этого слова, так и гипотетико-дедуктивные теории, характерные для математики.
Равновесие и генезис.
Цель настоящей главы состояла в том, чтобы найти такую интерпретацию мышления, которая не приходила бы в столкновение с логикой, заданной как первичная и ни к чему не сводимая система, а учитывала бы характер формальной необходимости, присущей аксиоматической логике, полностью сохраняя при этом за интеллектом его психологическую, по существу активную и конструктивную природу.
Существование «группировок» и возможность их строгой аксиоматизации удовлетворяет первому из этих двух условий: теория «группировок», упорядочивающая совокупности логических элементов и операций в целостности, способна достичь формальной точности именно потому, что эти целостности аналогичны тем общим системам, которые использует математика.
Вместе с тем, с психологической точки зрения операции являются действиями, способными к композиции и обратимыми, но все же еще действиями, что обеспечивает преемственность между актом интеллекта и совокупностью адаптивных процессов.
Однако в предшествующем рассмотрении нам удалось только поставить проблему интеллекта, и перед нами еще в полной мере остается задача найти ее решение. Из факта существования описанных выше «группировок» вытекает лишь то, что мышление на определенном уровне достигает состояния равновесия. Мы узнали также свойства этого равновесия; оно является одновременно мобильным и постоянным, так что структура операциональных целостностей сохраняется при ассимиляции новых элементов. Кроме того, мы знаем, что это подвижное равновесие предполагает обратимость (именно это, впрочем, и составляет содержание определения состояния равновесия, которое дается в физике, и обратимость механизмов сложившегося интеллекта следует рассматривать именно исходя из этой реальной физической модели, а не из абстрактной обратимости логистической схемы). Но ни констатация этого состояния равновесия, ни даже формулировка его необходимых условий не составляют еще объяснения.
Психологическое объяснение интеллекта состоит том, чтобы очертить путь его развития, показать, каким образом он с необходимостью завершается охарактеризованным равновесием. С этой точки зрения труд психолога можно сравнить с трудом эмбриолога: сначала это — описание, сводящееся к анализу фаз и периодов морфогенеза вплоть до конечного равновесия, образованного морфологией взрослого; но как только факторы, обеспечивающие переход от одной стадии к следующей, выявлены, исследование сразу же становится «каузальным». Наша задача, следовательно, вполне ясна; необходимо реконструировать генезис или фазы формирования интеллекта, пока мы, таким образом, не дойдем до конечного операционального уровня, формы равновесия которого мы только что описали. И поскольку высшее нельзя свести к низшему (если только не искажать высшее или не обогащать низшее за счет высшего), постольку генетическое объяснение может состоять только в том, чтобы показать, каким образом на каждой новой ступени механизм уже имеющихся факторов, приводя к еще неполному равновесию, подводит само уравновешивание этих факторов к следующему уровню. Так мы подходим шаг за шагом к тому, чтобы понять постепенное образование операционального равновесия, не преформируя его с самого начала и не вызывая его из небытия.
Таким образом, объяснение интеллекта сводится к тому, чтобы поставить высшие операции мышления в преемственную связь со всем развитием, рассматривая при этом само это развитие как эволюцию, направляемую внутренней необходимостью к равновесию. Такая функциональная преемственность вполне согласуется с различиями между последовательными структурами. Как мы видели, иерархию поведений, рефлексов и восприятий, глобальных с самого начала, можно представить в качестве прогрессирующего расширения расстояний и прогрессирующего усложнения путей, характеризующих обмены между организмом (субъектом) и средой (объектами); каждое из этих расширений или усложнений представляет, таким образом, новую структуру, тогда как их преемственность подчиняется требованиям равновесия, которое должно быть в зависимости от сложности все более мобильным. Операциональное равновесие осуществляет эти условия при максимуме возможных расстояний (ибо интеллект стремится охватить универсум) и максимальной сложности путей действия (ибо дедукция способна на самые большие из «отклонений»). Это равновесие должно, следовательно, пониматься как предел эволюции, этапы которой нам необходимо установить.
Организация операциональных структур, таким образом, уходит своими корнями за пределы рефлексивного мышления, достигая источников самого действия. И поскольку операции сгруппированы во вполне структурированные целостности, их следует сравнивать со всеми структурами низшего уровня — перцептивными и моторными. Итак, путь, по которому должно идти наше исследование, полностью определен: сначала следует проанализировать взаимоотношения интеллекта с восприятием (гл. III) и моторным навыком (гл. IV), затем изучить формирование операций в мышлении ребенка (гл. V) и его социализацию (гл. VI). Только после такого исследования структура «группировки», характеризующая живую логику в действии, выявит свою подлинную природу, либо врожденную, либо эмпирическую и просто навязанную средой, либо, наконец, являющуюся выражением все более многочисленных и сложных обменов между субъектом и объектами — обменов сначала неполных, нестабильных и необратимых, но затем вследствие самой необходимости равновесия, которой они подчинены, приобретающих постепенно форму обратимой композиции, свойственной «группировке».
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ИНТЕЛЛЕКТ И СЕНСОМОТОРНЫЕ ФУНКЦИИ.
Глава III. Интеллект и восприятие.
Восприятие — это знание, приобретаемое нами об объектах или их движениях в результате прямого и непосредственно осуществляющегося контакта с ними, тогда как интеллект — это знание, существующее лишь тогда, когда в процессе взаимодействия субъекта с объектом имеют место различного рода отклонения и когда возрастают пространственно-временные расстояния между субъектом и объектами. В силу этого можно было бы предположить, что интеллектуальные структуры и, в частности, операциональные «группировки», характеризующие конечное равновесие в развитии интеллекта, с самого начала существуют целиком или частично в форме организаций, общих восприятию и мышлению. Такова, в частности, центральная мысль «теории формы», сторонники которой — как бы они ни игнорировали понятие обратимой группировки — описали тем не менее законы структурирования целого, которые, по этой теории, одновременно управляют как восприятием, моторностью и элементарными функциями, так и самим умозаключением, в частности силлогизмом (Вертгеймер). Нам также следует исходить из перцептивных структур, чтобы выяснить, возможно ли вывести из них объяснение всего мышления, включая «группировки», как таковые.
Исторический экскурс.
Гипотеза о тесной связи между восприятием и интеллектом всегда поддерживалась одними и отвергалась другими. Мы здесь будем упоминать лишь тех авторов, которые проводили экспериментальные исследования, и не будем останавливаться на взглядах многочисленных философов, ограничивающихся лишь рассуждениями по этому поводу. При этом мы будем излагать взгляды как тех экспериментаторов, которые объясняют восприятие вмешательством интеллекта, так и тех, кто стремится вывести интеллект из восприятия. Первым проблему отношений между перцептивными и операциональными структурами (в ее современной форме) поставил, несомненно, Гельмгольц. Известно, что визуальное восприятие способно достигать определенной «константности». Этому посвящалось и посвящается немало работ. Величина воспринимается нами более или менее правильно в перспективе, несмотря на заметное уменьшение образа на сетчатке и перспективное уменьшение; форму мы различаем и при изменении положения, а цвет узнаем не только при полном освещении, но и в тени и т. д. Гельмгольц стремился объяснить эту перцептивную константность вмешательством «неосознанного рассуждения», которое, по его мнению, корректирует непосредственное ощущение, опираясь на приобретенные знания. Стоит вспомнить, сколько внимания уделял Гельмгольц образованию понятия пространства, чтобы стало ясно то значение, которое имела для него эта гипотеза. И не случайно Кассирер (в свою очередь занимавшийся этими вопросами) предположил, что крупный физиолог, физик и геометр стремился объяснить перцептивную константность вмешательством своего рода геометрической «группы», внутренне присущей интеллекту, еще не осознанному, поскольку речь идет о восприятии.
Сказанное представляет немалый интерес для проводимого нами сравнения интеллектуальных и перцептивных механизмов. В самом деле, перцептивную константность в сенсомоторном плане можно сравнить с различными понятиями «сохранения», характеризующими первые достижения интеллекта (сохранение совокупностей, сохранение вещества, веса, объема и т. д. при деформациях, осуществляемых в созерцании). Эти понятия сохранения обязаны своим происхождением вмешательству «группировки» или «группы» операций, и поэтому, если бы визуальную константность можно было приписать неосознанному рассуждению в форме «группы», то в результате этого имела бы место непосредственная структурная преемственность между восприятием и интеллектом.
Однако Геринг в свое время уже ответил Гельмгольцу, что вмешательство интеллектуального знания не видоизменяет восприятия: та же оптическая иллюзия или иллюзия веса и т. д. остаются и тогда, когда нам известны объективные величины воспринимаемых объектов. Отсюда можно сделать вывод, что рассуждение отнюдь не вмешивается в восприятие и что константности обязаны своим происхождением чисто физиологическим регуляциям.
Однако и Гельмгольц, и Геринг были убеждены в наличии ощущений, предшествующих восприятию, и рассматривали в силу этого перцептивную константность как корректирование ощущений, которое Гельмгольц приписывал интеллекту, а Геринг — нервным механизмам. По-новому проблема была поставлена после того, как Эренфельс в 1891 г. открыл целостные перцептивные гештальты — гештальты-качества (Gestaltqualitaten). Таким гештальтом является, например, мелодия, которая узнается, несмотря на транспозицию, изменяющую все ноты (в этом случае, следовательно, ни одно элементарное ощущение не может остаться тем же самым). Это открытие положило начало двум психологическим школам, одна из которых продолжила идеи Гельмгольца в его обращении к интеллекту, а другая — идеи Геринга в отрицании им роли этого последнего.
В самом деле, «школа Граца» (Мейнонг, Бенусси и др.) основывалась на ощущениях, и поэтому гештальты-качества интерпретировались как продукт синтеза: будучи транспонированы, они воспринимаются как вызываемые интеллектом. Мейнонг даже построил, исходя из этой интерпретации, развернутую теорий мышления, основанную на идее целостности («коллективные объекты», обеспечивающие связи перцептивного и концептуального). В противоположность этому «Берлинская школа», идеи которой лежат у истоков «психологии формы», исходит из совершенно иной позиции: ощущения не рассматриваются этой школой в качестве элементов, предшествующих восприятию или независимых от него (они суть не «структурирующие», а «структурированные содержания»), и целостная форма (понятие которой теперь обобщается для всякого восприятия) понимается не как результат синтеза, а как первооснова, функционирующая неосознанно и обладающая физиологической природой не в меньшей мере, чем психологической. Целостные формы (гештальты) существуют, согласно взглядам «Берлинской школы», на всех ступенях психической жизни, и поэтому можно надеяться на объяснение интеллекта, исходя из перцептивных структур, вместо того чтобы совершенно непонятным образом вмешивать рассуждение в восприятие, как таковое.
В последующих исследованиях так называемая школа Gestaltkreis, к которой принадлежали фон Вейцзекер, Ауэрсперг и др., пыталась расширить идею структуры целого, с самого начала включая в нее восприятие и движение, которые рассматриваются как действующие по необходимости совместно; в этом случае восприятие предполагает вмешательство антиципации и моторных восстановлений в памяти, которые, не предопределяя собой интеллекта, тем не менее, возвещают о нем. Таким образом, это направление можно рассматривать как продолжающее (в несколько обновленном виде) гельмгольцевскую традицию, тогда как другие современные авторы, дающие чисто физиологическую интерпретацию восприятия (Пьерон и др.), остаются под влиянием Геринга.
Теория формы и ее интерпретация интеллекта.
Теория формы заслуживает специального рассмотрения. Дело не только в том, что большое количество проблем ставится в ней в обновленном виде. Основное — это то, что она дает развернутую теорию интеллекта, которая остается даже для ее противников образцом последовательной, психологической интерпретации.
Центральная идея теории формы сводится к тому, что системы психики никогда не образуются путем синтеза или объединения элементов, данных до их соединения изолированно, а с самого начала представляют собой организованные целостности — гештальты или структуры целого. Именно в силу этого восприятие не является синтезом предшествующих ощущений, а управляется на всех уровнях «полем», элементы которого зависимы друг от друга уже благодаря тому, что они воспринимаются вместе. Например, черная точка на большом листе бумаги, даже будучи единственной, не может быть воспринята как изолированный элемент потому что она выделяется в качестве «фигуры» на «фоне», образованном бумагой, и это отношение «фигура» ? «фон» предполагает организацию всего визуального поля. Это тем более верно, что, строго говоря, лист бумаги можно воспринимать как объект («фигуру»), а черную точку — как отверстие, т. е. как единственную видимую часть «фона». Почему же тогда предпочтение отдается первому способу восприятия? И почему если вместо одной точки мы видим три или четыре на достаточно близком расстоянии друг от друга, то невозможно воспрепятствовать их объединению в возможные формы треугольников или четырехугольников? Это происходит потому, что элементы, воспринимаемые в одном и том же поле, немедленно объединяются в структуры целого, подчиняющиеся точным законам — «законам организации».
Эти законы организации, управляющие всеми отношениями поля, являются в гештальтистской гипотезе ни чем иным, как законами равновесия; они управляют одновременно как нервными токами, возникающими вследствие психического контакта субъекта с внешними объектами, так и самими этими объектами, включенными в целостную цепь, охватывающую, следовательно, одновременно и организм, и его ближайшую среду. С этой точки зрения перцептивное (или моторное и т. п.) «поле» сравнимо с силовым (электромагнитным и т. п.) полем и управляется аналогичными принципами: принципом минимума, наименьшего действия и т. д. При наличии множества элементов мы придаем им такую форму целого, которая является не любой, а предельно простой формой, выражающей структуру поля: воспринимаемую форму в этом случае будут определять правила простоты, регулярности, близости, симметрии и т. д. Отсюда вытекает основной закон целостных форм (так называемый закон «прегнантности»): из всех возможных форм та форма, которая реализуется, всегда является «наилучшей», т. е. наилучшим образом уравновешенной.
Более того, «хорошая форма» всегда способна к «транспозиции», как мелодия, у которой переменили все ноты. Такая транспозиция, свидетельствующая о независимости целого по отношению к частям, также объясняется законами равновесия: в этом случае имеют место те же самые отношения между новыми элементами, и завершаются они той же самой формой целого, что и отношения, которые были между предшествующими элементами, причем происходит все это не благодаря акту сравнения, а вследствие повторного образования равновесия (подобно тому как вода в канале после открытия шлюзов вновь принимает горизонтальную форму, но уже на другом уровне). Характеристике таких «хороших форм» и изучению их транспозиций посвящено огромное число экспериментальных работ, представляющих определенный интерес, однако в детали этих работ здесь не стоит углубляться.
Следует, однако, подчеркнуть наиболее существенную часть рассматриваемой теории, а именно то, что законы организации характеризуются ее сторонниками как независимые от развития и, следовательно, как общие для всех уровней. Это утверждение следует с неизбежностью, если ограничиваться рассмотрением лишь функциональной организации или «синхронным» равновесием поведений, так как необходимость такого равновесия выступает в качестве закона для всех уровней развития, а отсюда вытекает и функциональная непрерывность, на которой мы всегда настаивали. Но обычно такому инвариантному функционированию противопоставляют последовательные структуры, рассматриваемые с «диахронной» точки зрения, которые как раз и изменяются от одного уровня к другому. Сущность же гештальта — в объединении функции и структуры в единое целое под названием организации и в рассмотрении ее законов как неизменных. Поэтому сторонники теории формы стремятся показать, привлекая внушительный материал, что перцептивные структуры — одни и те же не только у маленького ребенка и взрослого, но вообще у позвоночных всех категорий, а единственное различие между ребенком и взрослым состоит лишь в относительной значимости некоторых общих факторов организации (например, фактора близости), тогда как в совокупности эти факторы остаются одними и теми же, а вытекающие из них структуры подчиняются одинаковым законам.
В частности, в решении гештальтистами знаменитой проблемы константности восприятия следует выделить два момента: во-первых, константность (например, константность величины) не корректирует начального искажения ощущения, возникающего из-за уменьшения образа на сетчатке, поскольку не существует начального изолированного ощущения и поскольку образ на сетчатке — это лишь рядовое звено в целостной цепи, соединяющей объекты с мозгом посредством соответствующих нервных токов; следовательно, объекту, воспринимаемому в перспективе, немедленно и непосредственно гарантируется его реальная величина просто в силу законов организации, делающих именно эту структуру наилучшей. Во-вторых, перцептивная константность, следуя этой теории, не приобретается субъектом, а дана в готовом виде на всех уровнях развития, равным образом и у животного, и у грудного младенца, и у взрослого. Явные же исключения, обнаруживаемые при экспериментах, объясняются сторонниками этой концепции тем, что перцептивное поле не всегда достаточно структурировано: константность является наилучшей тогда, когда цель (объект восприятия) составляет часть «конфигурации» целого (как это имеет место в последовательном ряду объектов).
Интеллект в этом случае получает изумительно простую интерпретацию, которая, окажись она верной, дала бы возможность почти непосредственно связать высшие структуры (в частности, рассмотренные нами в гл. II «операциональные группировки») с наиболее элементарными гештальтами сенсомоторного и даже перцептивного порядка. Особого внимания заслуживают три применения теории формы к изучению интеллекта: применение теории формы Кёлером к сенсомоторному интеллекту, Вертгеймером — к структуре силлогизма и Дункером — к интеллектуальному акту в целом.
По Кёлеру, о появлении интеллекта можно говорить тогда, когда восприятие не продолжается непосредственно в движениях, способных обеспечить достижение цели. Шимпанзе, находящийся в клетке, стремится достать фрукт, до которого невозможно дотянуться рукой; в этом случае необходимо промежуточное средство, употребление которого и определит то усложнение, которое свойственно интеллектуальному действию. В чем же оно состоит? Если палка, предоставленная обезьяне, помещена параллельно руке, она тотчас же воспринимается ею как возможное продолжение руки, тогда как в любом другом положении она будет рассматриваться как индифферентный объект. Таким образом, палка, бывшая до определенного момента нейтральной, фактически приобретает значение только в результате ее включения в структуру целого. В результате этого происходит «переструктурирование» поля, и именно такие внезапные переструктурирования и характеризуют, по Кёлеру, интеллектуальный акт. В переходе от структуры менее хорошей к лучшей структуре состоит сущность этого «схватывания»; интеллект, следовательно, оказывается простым продолжением восприятия, но продолжением опосредованным или косвенным.
С аналогичным принципом объяснения мы встречаемся у Вертгеймера в его гештальтистской интерпретации силлогизма. Большая посылка является «формой», которую можно сравнить с перцептивной структурой: «все люди» образуют в соответствии с этим совокупность, расположенную внутри совокупности «смертных». Подобный же принцип положен в основу и меньшей посылки: «Сократ» — это индивид, расположенный внутри круга «людей». Операция получения из этих посылок заключения — «следовательно, Сократ смертен» сводится просто к переструктурированию целого путем удаления промежуточного круга («люди»), после того как этот круг вместе с его содержанием помещен внутрь большого круга («смертные»). Умозаключение, следовательно, представляет собой, согласно Вертгеймеру, «перецентровку»: «Сократ» как бы децентрируется из класса «людей», для того чтобы оказаться перецентрированным в класс «смертных». Силлогизм, таким образом, подчиняется общей организации структур; в этом он аналогичен переструктурированиям, характеризующим практический интеллект, по Келеру, с той только разницей, что здесь мы имеем дело уже не с действием, а с мышлением.
Наконец, Дункер, изучая отношение к опыту внезапных пониманий (Einsicht, или интеллектуальных переструктурирований), нанес решительный удар ассоцианистскому эмпиризму, которому в принципе чуждо понятие гештальта. Для этого Дункер проанализировал различные сферы интеллекта и пришел к выводу, что во всех сферах приобретенный опыт играет в рассуждении лишь вспомогательную роль: он может иметь значение для мышления только в отношении к уже имеющейся организации. Именно эта последняя, т. е. структура актуального поля, и определяет возможные обращения к прошлому опыту, либо делая его бесполезным, либо используя его. Рассуждение, таким образом, является «битвой, которая кует свое собственной оружие»; оно, согласно Дункеру, полностью объясняется законами организации, независимыми от истории индивида и обеспечивающими целому присущее ему единство структур любого уровня, начиная от элементарных перцептивных форм и вплоть до самых развитых форм мышления.
Критика психологии формы.
Теперь нам следует рассмотреть обоснованность утверждений, выдвигаемых теорией формы. Характер «целостности», свойственный психическим структурам (как перцептивным, так и интеллектуальным), существование законов «хорошей формы», сведение изменений структуры к формам равновесия и т. д. обоснованы столь многочисленными экспериментальными работами, что эти понятия с полным правом широко используются в современной психологии. В частности, способ анализа, в ходе которого факты помещаются в рамки целостного «поля», является единственно приемлемым методом психологического исследования, тогда как сведение их к атомизированным элементам всегда искажало единство реальной действительности.
Нужно, однако, твердо усвоить, что если не выводить законы организации из абсолютно общих «физических форм», т. е. не выносить их за сферу психологии и биологии (Келлер)[10], то язык целостностей оказывается всего лишь способом описания, и наличие целостных структур в этом случае требует объяснения, которое отнюдь не заключено в самом факте существования целостностей. Именно из этого мы исходили при рассмотрении наших «группировок», и это следует также принять и для элементарных форм или структур.
Что же касается общего и даже физического существования законов организации, то оно подразумевает по меньшей мере их инвариантность в ходе психического развития (и теоретики формы первые это утверждают). Поэтому предварительным вопросом ортодоксальной доктрины формы (а здесь мы ограничиваемся именно ею, хотя некоторые более осторожные сторонники гештальт-психологии, такие, как Гельб и Гольдштейн, отвергают гипотезу «физических форм») является вопрос о неизменяемости в процессе психического развития некоторых основных форм организации, в частности форм перцептивных «константностей».
Однако по этому основному вопросу приходится констатировать, что имеющиеся в настоящее время факты явно противоречат такому утверждению. В самом деле, не входя в детали и все время оставаясь на почве психологии ребенка и рассматривая лишь константность величин, можно выявить следующее:
1. Г. Франк[11] считал, что константность величин можно установить у одиннадцатимесячного ребенка. Но не говоря уже о том, что техника его экспериментов вызвала дискуссию (Бёрл), даже если этот факт в общих чертах и точен, одиннадцать месяцев — это уже значительное развитие сенсомоторного интеллекта. Э. Брунсвик и Круикшанк констатировали прогрессирующее развитие этой константности в течение первых шести месяцев жизни ребенка.
2. Совместно с Ламберсье мы провели опыты на детях от 5 до 7 лет; дети должны были сравнивать высоту пары предметов, расположенных на разном расстоянии в глубину. Эти опыты позволили нам выявить фактор, который экспериментаторы ранее не принимали в расчет: во всяком возрасте существует «систематическая ошибка эталона», которая состоит в том, что элемент, выбранный в качестве эталона, подвергается переоценке по отношению к тем переменным величинам, которые он измеряет; и вызвано это именно тем, что он функционирует в качестве эталона (это относится как к случаям, когда он помещен в глубине, так и к тем случаям, когда он расположен вблизи испытуемого). Эта систематическая ошибка субъекта в сочетании с его оценками, относящимися к перспективе, может вызвать, казалось бы, явную (но, однако, иллюзорную) константность: со скидкой на «ошибку эталона» наши испытуемые 5—7 лет давали в среднем заметную недооценку величины при сравнении предметов в глубину, тогда как взрослые в среднем приходят в конечном итоге к «сверхконстантности» («surconstance»)[12].
3. Бурцлаф[13], который также получил вариации в попарных сравнениях предметов в зависимости от возраста, считал, что гештальтистская гипотеза константности величин подтверждается в том случае, когда сравниваемые элементы включены в «конфигурацию» целого и особенно когда они расположены в ряд. Однако Ламберсье, который по нашей просьбе путем тщательно подготовленных опытов проверил сравнение предметов в глубину по рядам[14], сумел показать, что константность, относительно независимая от возраста, существует только в одном случае (единственном случае, правильно отмеченном Бурцлафом): когда эталон равен среднему из сравниваемых элементов. И напротив, если берется эталон, заметно больший или меньший, чем средний элемент, сразу же возникают систематические искажения при сравнении расположенных в глубине предметов. В результате этого становится совершенно ясным, что константность среднего элемента зависит от иных причин, чем константность в глубину: инвариантность среднего элемента обеспечивается именно его привилегированным положением (он обесценивается всеми элементами, высшими по отношению к нему, и симметрично восстанавливается всеми низшими элементами, откуда и вытекает его стабильность). Измерения же, проведенные на остальных элементах, лишний раз показывают, что у ребенка не существует специфической константности при сравнении расположенных в глубине предметов, тогда как с возрастом можно установить заметное возрастание регуляций, стремящихся к образованию такой константности.
4. Известно, что Бёрл[15], анализируя константность величины у школьников, обнаружил, что в среднем такая константность возрастает приблизительно до 10 лет, т.е. до уровня развития, начиная с которого реакции ребенка становятся, наконец, аналогичными реакциям взрослого (та же самая эволюция была отмечена Э. Брунсвиком и в отношении константности формы и цвета).
Существование связанной с возрастом эволюции механизмов, завершающихся перцептивными константностями (а в дальнейшем мы увидим немало других генетических трансформаций восприятия), требует, несомненно, пересмотра тех объяснений, которые дает теория формы. Прежде всего, если подтверждается реальная эволюция перцептивных структур, то тогда невозможно уклониться ни от проблемы их образования, ни от возможного влияния опыта на процесс их генезиса. В отношении последнего Э. Брунсвик выявил частоту «эмпирических форм (Gestalt)» по сравнению с «геометрическими формами». Так, например, фигура, занимающая промежуточное положение между образом открытой руки и геометрической схемой с пятью точно симметричными ответвлениями, дала в тахископическом видении у взрослого 50 на 100 в пользу руки («эмпирическая форма») и 50 на 100 в пользу геометрической «хорошей формы».
После того как отброшена гештальтистская гипотеза о неизменных «физических формах», основной становится проблема генезиса «форм». В этой связи прежде всего следует отметить незаконность самой дилеммы: «целостность» или атомизм изолированных ощущений. В действительности имеются не две, а три возможности: или восприятие — это синтез элементов, или оно образует единую целостность, или же, наконец, — это система отношений (при этом каждое отношение само является целостностью, но целостностью совокупности, которую можно анализировать, отнюдь не впадая при этом в атомизм). Поэтому нет никаких препятствий для того, чтобы понимать целостные структуры как продукт прогрессирующего конструирования, появляющийся не в результате «синтеза», а вследствие аккомодирующих дифференциаций и комбинированных ассимиляций, и ничто тогда не препятствует поставить, это конструирование в связь с интеллектом, понимаемым как реальная деятельность, а не как функционирование предустановленных структур.
Что касается восприятия, то здесь узловым моментом является вопрос о транспозиции. Должны ли мы вместе со сторонниками теории формы интерпретировать транспозиции (например, транспозиции мелодии из одного тона в другой или одной визуальной формы в другую) как простые повторения одной и той же формы равновесия между новыми элементами, сохраняющими, однако, прежние отношения (сравните взаимоотношения между горизонтальными уровнями в системе шлюзов), или же здесь следует видеть продукт ассимилирующей деятельности, которая интегрирует подобные элементы в одну и ту же схему? Нам представляется, что второе решение подсказывается уже тем фактом, что чем старше ребенок, тем легче ему даются транспозиции (см. конец настоящей главы). Более того, к обычно рассматриваемым транспозициям, которые являются внешними по отношению к анализируемым фигурам, следует, несомненно, добавить внутренние транспозиции между элементами одной и той же фигуры, объясняющие роль факторов регулярности, равенства, симметрии и т. д., внутренне присущих «хорошей форме».
Таким образом, две указанные интерпретации транспозиции содержат весьма различную оценку отношений между восприятием и интеллектом и совершенно различное понимание природы интеллекта.
«Теория формы» в своем стремлении свести механизмы интеллекта к механизмам, характеризующим перцептивные структуры, которые сами сводятся к «физическим формам», в сущности приходит, хотя и значительно более рафинированным путем, к классическому эмпиризму. Единственное различие (которое, как бы значительно оно ни было, уже не играет большой роли после такого сведения) состоит в том, что новая доктрина заменяет «ассоциации» структурированный «целостностями». Но и в том и в другом случае операциональная деятельность растворяется в чувствовании и подменяется пассивностью автоматических механизмов.
Нет необходимости ломиться в открытую дверь, настаивая на том, что операциональные структуры связаны со структурами перцептивными целым рядом промежуточных ступеней; мы охотно соглашаемся с этим. Следует, однако, подчеркнуть, что имеется существенное смысловое различие между неподвижностью воспринятой «формы» и обратимой мобильностью операций. В силу этого оказывается явно недостаточным сравнение, которое стремился провести Вертгеймер между силлогизмом и статическими «формами» восприятия. Самое существенное в механизме группировки (из чего и выводится силлогизм) — это не структуры, воплощенные в посылках или характерные для заключений, а сам процесс композиции, позволяющий переходить от посылок к заключениям. Этот процесс, несомненно, продолжает перцептивные переструктурирования и перецентровки (такого рода, как, например, те, которые позволяют видеть «двухплановый» рисунок попеременно то в одном, то в другом плане). Однако для понимания этого процесса композиции надо идти еще дальше: он образуется совокупностью подвижных и обратимых операций включения и исключения (A + A' = В; А = В — А'; А' = В — А; В — А — A' = 0 и т. д.). Таким образом, не статические формы, имеющиеся в интеллекте, и не простой однонаправленный переход из одного состояния в другое (или колебание между двумя состояниями) порождают структуры: они обусловливаются общей мобильностью и обратимостью операций. Отсюда следует, что рассматриваемые нами структуры весьма различны: для перцептивной структуры характерна, как на этом настаивают и сами сторонники теории формы, ее несводимость к аддитивной композиции; она, следовательно, необратима и неасоциативна. В системе умозаключений мы видим нечто большее, чем простую «перецентровку» (Umzenfierung): здесь имеет место общая децентрация, которая полагает как бы «растворение» или «оттаивание» статических перцептивных форм в формы операциональной мобильности. На этой основе возможно безграничное конструирование новых структур, как относящихся к восприятию, так и выходящих за пределы какого бы то ни было реального восприятия.
Совершенно очевидно, что в сенсомоторном интеллекте, проанализированном Кёлером, перцептивные структуры играют значительно более важную роль, и сам тот факт, что теория формы рассматривает эти структуры в качестве непосредственно вытекающих из ситуаций как таковых, без учета их генезиса, вынудили Кёлера вывести из сферы интеллекта, с одной стороны поиск вслепую, который предшествует открытию решений, а с другой стороны — корректирование и контроль, которые следуют за решением. Изучение первых двух лет жизни ребенка подводит нас к совершенно иному выводу: в сенсомоторном интеллекте ребенка, конечно, имеют место также и структуры целого или «формы», но они весьма далеки от того, чтобы быть статичными и не имеющими истории; они образуют «схемы», которые сменяют друг друга в результате последовательной дифференциации и интеграции и которые, таким образом, должны непрерывно аккомодироваться к ситуациям (путем поиска вслепую и корректирований), одновременно ассимилируя их. Отсюда становится ясным, что проанализированное Кёлером поведение обезьяны с палкой на самом деле подготовлено целой серией предшествующих схем, таких, как схема притягивания к себе цели при помощи «продолжений» палки (бечевки или подставки) или схема удара одним предметом по другому.
Таким образом, к рассмотренному выше тезису Дункера следует сделать следующие оговорки. Не вызывает сомнений то обстоятельство, что интеллектуальный акт определяется прошлым опытом лишь в той мере, в какой он обращается к этому опыту. Но установление такой связи предполагает наличие схем ассимиляция, которые, в свою очередь, произошли путем дифференциации и координации из предшествующих схем. Схемы, следовательно, имеют историю: им внутренне присуще взаимодействие между прошлым опытом и актуальным актом интеллекта, а не одностороннее воздействие прошлого на настоящее, как бы этого ни хотелось эмпиризму, и не одностороннее обращение настоящего к прошлому, как этого хочет Дункер. Это взаимоотношение между настоящим и прошлым можно уточнить, сказав, что равновесие достигается тогда, когда все прошлые схемы включены в настоящие и когда, следовательно, интеллект может с равным успехом реконструировать схемы прошлого при помощи настоящего, и наоборот.
В итоге мы приходим к выводу, что теория формы, не вызывающая сомнения в определении ею форм равновесия или вполне структурированных целостностей, не может быть, однако, принята, так как и в перцептивной сфере, и в сфере интеллекта она не принимает во внимание ни реальности генетического развития, ни действенного конструирования, которое характеризует это развитие.
Различия между восприятием и интеллектом.
Теория формы поставила несколько по-новому проблему отношения между интеллектом и восприятием, показав преемственность между специфическими структурами этих двух сфер. Однако для того чтобы разрешить эту проблему, учитывая сложность генетических факторов, необходимо, прежде чем прибегать к аналогиям, ведущим к возможным объяснениям, систематизировать сами различия между восприятием и интеллектом.
Перцептивная структура — это система зависимых друг от друга отношений. Идет ли речь о геометрических формах, о весе, цвете или звуках, всегда можно выразить целостность в отношениях, не нарушая при этом единства целого как такового. В таком случае, для того чтобы выявить как различия, так и сходства между перцептивными и операциональными структурами, достаточно выразить эти отношения на языке «группировки», аналогично тому, как это делают физики, когда они, формулируя термодинамические явления в терминах обратимых процессов, констатируют при этом, что эти явления, в сущности, не могут быть выражены на таком языке ввиду их необратимости. Фактическое несоответствие символического языка тому, что на нем выражается, ярко подчеркивает существующие здесь различия. Для уяснения этого обстоятельства достаточно обратиться к хорошо известным геометрическим иллюзиям (варьируя имеющиеся факторы) или к фактам, вытекающим из закона Вебера, и т. д. И сформулировать в терминах «группировки» все имеющиеся в данном случае отношения, а также их трансформации, вызываемые внешними модификациями.
Результаты, которые можно получить, идя этим путем, совершенно ясны. На уровне перцептивных структур не осуществляется ни одно из пяти условий «группировки». В тех же случаях, когда восприятие приближается к осуществлению этих условий, что имеет место, например, в области «константностей», предвещающих операциональное сохранение, то здесь операция заменяется простыми регуляциями, обратимыми лишь частично. Такие регуляции, следовательно, находятся на полпути между спонтанной необратимостью и операциональным регулированием.
Возьмем в качестве примера упрощенную форму иллюзии Дельбёфа[16]: окружность А1 с радиусом в 12 мм, помещенная внутри окружности В с радиусом в 15 мм, кажется большей, чем расположенная изолированно окружность А, равная А1. Начнем изменять внешнюю окружность В, последовательно уменьшая ее радиус с 15 до 13 мм, а затем увеличивая с 15 до 40 или 80 мм. При изменении радиуса окружности с 15 до 13 мм, а также с 15 до 36 мм иллюзия уменьшается и совсем исчезает при радиусе В, равном 36 мм (т. е. когда диаметр А оказывается равным отрезку, заключенному между В и А1), а за этим пределом становится отрицательной (действительные размеры внутренней окружности А1 преуменьшаются).
1. Если выразить отношения, действующие в этих перцептивных трансформациях, на операциональном языке, то, прежде всего, очевидно, что их композиция не может быть аддитивной из-за отсутствия сохранения элементов системы. Впрочем, именно в этом заключается важнейшее открытие теории формы, выраженное в понятии перцептивной «целостности». Мы действительно не можем установить равенство А1 + А' = В (где А' обозначает промежуточную зону между А1 и В), поскольку А1 деформируется в силу того, что оно включено в В, в свою очередь В деформируется тем, что оно включает в себя А1, а зона А' в большей или меньшей степени увеличивается или уменьшается в зависимости от отношений между А1 и В. Это несохранение целостности можно доказать следующим образом. Если, взяв в качестве исходных определенные значения величин А1, А' и В, а затем, оставив В постоянным, начать расширять (объективно) А1, уменьшая тем самым А', то в результате этого В будет выглядеть то меньше, чем в исходном пункте (оно будет, следовательно, что-то терять в процессе трансформации), то больше (в этом случае оно нечто приобретает). Таким образом, задача сводится к тому, чтобы сформулировать эти «некомпенсированные трансформации».
2. Выразим с этой целью трансформации в терминах композиции отношений, и это даст нам возможность констатировать необратимую природу этой композиции; в другой форме эта необратимость будет выражаться в отсутствии аддитивной композиции. Обозначим увеличение сходства (по размеру) между А1 и В через r, а увеличение различия между ними (по размеру) — через d. Эти два отношения в исходном пункте должны быть обратными по отношению друг к другу и оставаться такими в дальнейшем, т. е. + r = — d и + d = — r (где минус указывает на уменьшение сходства или различия). Начав с нулевой иллюзии (при А1 = 12 мм и B = 36 мм), мы приходим к выводу, что при увеличении объективного сходства между окружностями (при их сближении) субъект преувеличивает это сходство: восприятие, следовательно, преувеличивает сходство в процессе объективного увеличения сходства между окружностями и оставляет без должного внимания различия в ходе их объективного уменьшения. Аналогичная ситуация имеет место и при увеличении объективных различий между окружностями (в процессе увеличения различий между их радиусами); такое увеличение также преувеличивается субъектом. Таким образом, на осуществление рассматриваемых трансформаций оказывает существенное влияние недостаток компенсации. Поэтому такие трансформации мы можем выразить в следующей форме, подчеркивающей их неаддитивный с логической точки зрения характер: r > — d или d > — r.
В самом деле, если рассматривать каждую данную фигуру изолированно, то отношение сходства, естественно, всегда обратно отношению различия; однако переход от одной фигуры к другой не сохраняет постоянства суммы сходств и различий, поскольку не сохраняются целостности (см. п. 1). Именно в этом смысле и можно с полным основанием говорить о том, что увеличение сходства одерживает верх над уменьшением различия, и наоборот.
Эту мысль можно выразить более лаконично, просто сказав, что трансформация отношений необратима, так как она сопровождается «некомпенсированной трансформацией» Р:
r = — d + Prd или d = — r + Рrd
3. Более того, никакая композиция перцептивных отношений не является независимой от пройденного пути (в ней, стало быть, нет ассоциативности), а, напротив, каждое воспринятое отношение зависит от тех отношений, которые ему непосредственно предшествовали. Так, например, восприятие одной и той же окружности А дает существенно различные результаты в зависимости от того, в возрастающем или нисходящем порядке расположены контрольные окружности, с которыми она сравнивается. Наиболее объективные измерения в этом случае можно получить при концентрическом порядке сравниваемых элементов, когда ряд состоит из элементов попеременно то больших, то меньших, чем А (благодаря этому деформации, вызываемые предшествующими сравнениями, компенсируют друг друга).
4 и 5. Таким образом, совершенно очевидно, что в перцептивных структурах ни один элемент не остается идентичным самому себе, а меняется в зависимости от результатов сравнения его с другими элементами, отличными от него или равными ему по размерам: величина такого элемента бесконечно варьируется в зависимости от данных отношений, как актуальных, так и имевших место ранее.
Из проведенного рассмотрения становится ясным что перцептивную систему невозможно свести к «группировке», поскольку нельзя свести неравенства к равенствам даже путем введения «некомпенсированных трансформаций» Р, которые определяют меру деформаций (иллюзий) и свидетельствуют о неаддитивности или нетранзитивности перцептивных отношений, об их необратимости, неассоциативности и неидентичности.
Проведенный анализ (благодаря которому к тому же видно, чем было бы мышление, если бы его операции не были «сгруппированы»!) показывает, что форма равновесия, присущая перцептивным структурам, весьма отлична от формы равновесия операциональных структур. В последних равновесие одновременно и мобильно, и постоянно; трансформации, внутренне присущие таким системам, не изменяют этого равновесия, потому что они всегда точно компенсируются обратными — реальными или потенциальными — операциями (обратимость). В восприятии же, напротив, каждое изменение значения одного из действующих отношений влечет за собой трансформацию целого, вплоть до образования нового равновесия, отличного от того, которое характеризовало предыдущее состояние; здесь, следовательно, имеет место отнюдь не постоянное равновесие, а «перемещение равновесия» (если воспользоваться физическим термином, употребляемым при описании таких необратимых систем, какими являются термодинамические системы). Именно такой характер имеет только что описанная иллюзия: с каждым новым значением величины внешней окружности В иллюзия или увеличивается, или уменьшается, но не сохраняет своего первоначального значения.
Более того, «перемещения равновесия» подчиняются законам максимума: данное отношение порождает иллюзию, т. е. производит «некомпенсированную трансформацию» Р, только в пределах определенного значения этого отношения, причем с учетом значения других отношений. Если выйти за эти пределы, то иллюзия уменьшается, потому что в этом случае деформация частично компенсируется под влиянием новых отношений целого: перемещения равновесия дают, таким образом, место регуляциям, или частичным компенсациям, что легко определяется изменением значения Р(иллюзия Дельбёфа уменьшается, когда два концентрических круга слишком сближены или отдалены друг от друга). Таким образом, эти регуляции, которые ограничивают или, как говорят в физике, «смягчают» перемещения равновесия, в некоторых отношениях можно сравнить с операциями интеллекта. Если бы система была операциональной, то всякому увеличению значения одного из ее элементов соответствовало бы уменьшение значения другого, и обратно (следовательно, была бы обратимость, т. е. Р = 0). С другой стороны, если бы имели место неограниченные деформации, вызываемые каждой новой внешней модификацией, то системы, как таковой, просто бы не существовало. Следовательно, существование регуляций свидетельствует о наличии промежуточной структуры между полной необратимостью и операциональной обратимостью.
Однако каким образом можно объяснить эту относительную противоположность (дополняемую относительным родством) между перцептивными и интеллектуальными механизмами? Отношения, образующие структуру целого (например, такую, как структура зрительного восприятия), выражают законы субъективного пространства, или пространства перцептивного; эти законы можно проанализировать и сравнить с законами пространства геометрического, или операционального. В этом случае иллюзии (или «некомпенсированные трансформации» системы отношений) можно усматривать как деформации этого пространства в направлении его расширения или сжатия[17].
С этой точки зрения имеется один основной факт, доминирующий над всеми отношениями между восприятием и интеллектом. Когда два элемента сравниваются друг с другом при помощи интеллекта, как это происходит, например, в случае измерения одного элемента посредством другого, то ни сравнивающее, ни сравниваемое (иными словами, ни измеряющее, ни измеряемое) не деформируются самим процессом сравнения. И напротив, в случае перцептивного сравнения, в частности, когда один элемент служит постоянным эталоном для оценки изменяющихся элементов, происходит систематическая деформация, которую мы с Ламберсье назвали «ошибкой эталона»: элемент, на котором преимущественно сосредоточено внимание, систематически переоценивается. Таким элементом, как правило, является сам эталон, особенно когда переменная величина от него удалена, но иногда в такой функции выступает также и переменная величина, когда эталон находится вблизи от нее и хорошо известен. Сказанное относится как к сравнениям, осуществляемым во фронтально-параллельном плане, так и к сравнениям предметов, расположенных в перспективе[18].
Приведенные факты являются лишь частными случаями весьма общего процесса. Если эталон (или, в некоторых случаях, переменная величина) переоценивается, это происходит просто потому, что элемент, на который субъект смотрит дольше (или чаще, или интенсивней и т. п.), увеличивается в силу самого этого факта, так, словно бы объект или область, на которых сосредоточено внимание, приводят к расширению перцептивного пространства. С этой точки зрения достаточно смотреть поочередно на два равных предмета, чтобы убедиться, что каждый раз увеличиваются размеры того из них, на котором фиксируется внимание (если при этом отвлечься от того, что эти последовательные деформации в общей сложности компенсируются). Перцептивное пространство, таким образом, не является однородным, а в каждое мгновение имеет определенный центр, и зона центрации соответствует пространственному расширению, тогда как периферия этой центральной зоны оказывается сжатой тем сильнее, чем больше она удалена от центра. Аналогичную роль «центрации» и ошибки эталона мы встретим также и в сфере осязания.
Но если «центрация» является причиной деформаций, то несколько различных центраций корректируют действие каждой. «Децентрация», или координация различных «центрации», оказывается в таком случае корректирующим фактором. Здесь сразу же виден принцип возможного объяснения необратимых деформаций и регуляций, о которых мы только что говорили. Иллюзии зрительного восприятия могут быть объяснены механизмом центрации, когда элементы рассматриваемой фигуры столь близки друг к другу (относительно), что децентрация просто не может возникнуть (иллюзии Дельбёфа, Оппеля-Кундта и т. п.). И, напротив, по мере возникновения децентрации (автоматической или вызванной активными сравнениями) появляется регуляция.
Итак, теперь мы можем выявить отношение, которое существует между перцептивными процессами и процессами, характеризующими интеллект. Ошибка (относительная) имеет тенденцию к центрации, а объективность (относительная) — к децентрации не только в сфере восприятия. Всякая эволюция мышления ребенка, начальные интуитивные формы которого исключительно близки к перцептивным структурам, характеризуется переходом от общего эгоцентризма (о котором мы будем еще говорить в гл. V) к интеллектуальной децентрации. Этот процесс можно сравнить с тем, результаты которого мы только что описали. Сейчас перед нами стоит задача осознать различия между восприятием и завершенным интеллектом, и в этом отношении вышеизложенные факты позволяют нам глубже понять основное из этих различий, а именно: различие между «интеллектуальной относительностью» и тем, что можно было бы назвать «перцептивной относительностью».
Поскольку центрации характеризуются и могут быть описаны соответствующими деформациями, а последние, как мы видели, определяются путем установления их отношения (по контрасту) к группировке, поскольку проблема состоит в том, чтобы измерить эти деформации (когда это возможно) и проинтерпретировать результаты измерения. Все это нетрудно сделать в случаях, когда два однородных элемента сравниваются между собой (как, например, две продолжающие друг друга прямые линии). В этом случае можно установить закон «относительных центраций», независимый от абсолютного значения результатов центрации и выражающий относительные деформации в форме простой вероятной величины, т. е. посредством отношений реальных центраций к числу возможных центраций.
В самом деле, известно, что линия А недооценивается при ее сравнении с другой линией А' , если A < A' , и переоценивается противном случае, т. е. когда А > А'. Используемый для этого явления принцип расчета состоит в том, что в каждом из этих случаев последовательные центрации на А и А' рассматриваются как поочередно расширяющие эти линии, пропорционально их длине; различие этих деформаций, выраженное в относительных величинах А и А', характеризует в общих чертах переоценку или недооценку А, которые затем делятся на общую длину смежных линий А + А', ибо децентрация пропорциональна величине целой фигуры. Таким образом, мы имеем следующие соотношения:
(А — А') × А' / А, если А > А', и (А' — А) × А / А', если А < А'.
А + А'= А + А'
Кроме того, если эталоном является A', то эти отношения нужно умножить на А2 / (А + А')2, т. е. на квадрат отношения между измеряемой частью и целым.
Полученное таким образом теоретическое соотношение вполне соответствует эмпирическим измерениям деформаций и описываете достаточной точностью измерения, относящиеся к иллюзии Дельбёфа (если А помещено между двумя А' и если эту величину А' удваивают в формуле).
Качественное выражение закона относительных центраций просто означает, что всякое объективное различие субъективно выделяется при восприятии даже в тех случаях, когда внимание рассредоточено на сравниваемых элементах в равной степени. Иными словами, восприятие преувеличивает всякий контраст, что сразу же указывает на вмешательство относительности, свойственной восприятию и отличной от относительности интеллекта. Это подводит нас к закону Вебера, анализ которого особенно поучителен в этом отношения. Если брать его в узком смысле, то он, как известно, утверждает, что величина «дифференциальных порогов» (наименьших воспринимаемых различий) пропорциональна величине сравниваемых элементов; так, например, если субъект воспринимает различие между 10 и 11 мм и не воспринимает различие между 10 и 10,5 мм, то он воспримет также различие между 10 и 11 см и не воспримет различие между 10 и 10,5 см. Допустим, что значения величин упоминавшихся уже линий А и А' очень близки друг к другу или даже равны. Если они равны, то центрация на А приводит к расширению А и недооценке А', а последующая центрация на А' в тех же самых пропорциях расширяет А' и вызывает недооценку А; соединение этих двух процессов приводит к исчезновению деформаций. Если же эти линии близки по величине настолько, что их неравенство меньше, чем вызываемые центрацией деформации, то центрация на А дает восприятие А > А', а центрация на А' — восприятие А' > А. В этом случае оценки противоречивы (в противоположность общему случаю, когда неравенство, оцениваемое в обоих вариантах, однотипно и просто кажется то более, то менее значительным, в зависимости от того, фиксируется ли внимание на А или на А'). Это противоречие выражается в специфических колебаниях (подобных резонансу в физике), которые могли бы завершиться перцептивным равновесием только в результате уравнивания А = А'. Но это уравнивание остается субъективным, и, следовательно, оно иллюзорно; иными словами, две почти равные величины смешиваются при восприятии. Именно эта недифференцированность и характеризует дифференциальный порог, и поскольку она, в силу закона относительных центраций, пропорциональна длинам А и А', мы, таким образом, вновь приходим к закону Вебера. Следовательно, в применении к дифференциальному порогу закон Вебера выражается законом относительных центраций. Более того, поскольку он в равной мере распространяется на любые различия (независимо от того, доминирует ли сходство над различием, как внутри порога, или, наоборот, различие над сходством, как в рассмотренном выше случае), его можно рассматривать во всех случаях просто как выражение фактора пропорциональности, присущего отношениям относительных центраций (для осязания, веса и т. д. точно так же, как и для зрительного восприятия).
Теперь мы можем более четко сформулировать то, несомненно, существенное различие, которое отделяет интеллект от восприятия. Излагая закон Вебера, нередко говорят, что всякое восприятие относительно. В этом случае не схватывают абсолютных различий, потому что один грамм, прибавленный к десяти, может быть воспринят, но, будучи добавлен к ста граммам, уже не воспринимается. С другой стороны, когда элементы заметно отличаются друг от друга, имеющие место в этом случае контрасты, как показывают обычные примеры относительных центраций, усиливаются; такого рода усиление также является релятивным по отношению к действующим величинам (так, комната кажется или теплой или холодной в зависимости от того, вошел ли в нее субъект из более холодного или теплого места). Таким образом, идет ли речь об иллюзорных сходствах (порог равенства) или иллюзорных различиях (контрасты), все это в перцептивном отношении относительно. Но разве нет того же самого также и в интеллекте? Разве класс не релятивен по отношению к классификации, а отношение — к совокупности других отношений? В действительности, однако, в этих двух случаях для интеллекта и для восприятия слово «релятивен» выражает весьма различный смысл.
Перцептивная относительность — это относительность деформирующая, в том смысле, в каком в разговорном языке говорят «все относительно», отрицая возможность объективности: перцептивное отношение искажает элементы, которые оно связывает, и мы понимаем теперь, почему это происходит. Относительность интеллекта — это, напротив, само условие объективности; так, относительность пространства и времени — это условие их собственной меры. Таким образом, восприятие, вынужденное продвигаться шаг за шагом путем хотя и непосредственного, но все же частичного контакта с объектом, деформирует этот объект самим актом центрации (мы оставляем пока в стороне смягчение этих деформаций децентрациями, которые точно так же являются частичными). Что же касается интеллекта, то он, подвижно и гибко охватывая в единое целое значительно больший отрезок реальности, достигает объективности посредством значительно более широкой децентрации.
Итак, эти две относительности, одна деформирующая, другая объективная, несомненно, являются одновременным выражением и глубокой противоположности между актами интеллекта и восприятия, и существующей между ними преемственности, предполагающей наличие общих механизмов. Почему, в самом деле, если восприятие, так же как и интеллект, состоит из структурирования и установления отношений, эти отношения в одном случае являются деформирующими, в другом — не вызывают никакой деформации? Не происходит ли это потому, что первые не только неполны, но и недостаточно поддаются координации, тогда как вторые основываются на координации, способной к неограниченному обобщению? И если «группировка» является принципом такой координации, а ее обратимая композиция составляет продолжение перцептивных регуляций и децентрации, то не следует ли допустить, что центрации потому приводят к деформациям, что они слишком малочисленны, отчасти случайны и, по сути, представляют собой лишь некоторую случайно выделившуюся часть тех центраций, которые необходимы для обеспечения полной децентрации и объективности?
Мы, следовательно, можем теперь задаться вопросом, не состоит ли существенная разница между интеллектом и восприятием в том, что восприятие — это процесс статистического порядка, связанный с определенной ступенью развития, тогда как процессы интеллектуального порядка определяют отношения целого, связанные с гораздо более совершенной ступенью развития. Если это верно, то тогда восприятие являлось бы по отношению к интеллекту тем же, чем является в физике область необратимого (т. е. случайного) и перемещений равновесия по отношению к сфере механики в собственном смысле слова.
Итак, вероятностная структура перцептивных законов, о которой мы только что говорили, вполне доступна органам чувств, и именно она объясняет необратимый характер процессов восприятия, противоположных в этом смысле операциональным композициям, хорошо определенным и одновременно обратимым. В самом деле, почему ощущение выступает как логарифм возбуждения (а именно это и утверждает закон Вебера)? Известно, что закон Вебера может быть применен не только к фактам восприятия или физиологического возбуждения, но, кроме всего прочего, и к печатанию на фотографической пластинке; в этом случае он просто означает, что интенсивность печатания является функцией вероятности встречи между бомбардирующими пластинку фотонами и частицами образующих ее солей серебра (отсюда и логарифмическая форма закона: отношение между умножением вероятностей и сложением интенсивностей).
Когда же речь идет о восприятии, то величину (такую, например, как длина линии) точно так же можно понимать как совокупность точек возможной фиксации внимания (или сегментов, возможных для центрации). Поэтому при сравнении двух неравных линий совпадающие точки будут являться основой комбинаций или ассоциаций (в математическом смысле) сходства, а несовпадающие — ассоциаций различия (очевидно, что при этом ассоциации возрастают мультипликативно, а длина линии — аддитивно). Если бы восприятие охватывало все возможные комбинации, то не было бы никакой деформации (ассоциации завершались бы постоянным отношением, и мы бы всегда имели r = — d). Но в действительности процесс восприятия совершается совсем иначе — так, словно бы реальный взгляд основывается на чем-то вроде игры жребия и фиксирует лишь некоторые точки воспринимаемой фигуры, оставляя остальные без внимания. Тогда законы, о которых шла речь выше, не трудно интерпретировать, основываясь на вероятностях того, что ориентирование центраций в каком-то одном направлении будет преобладать над ориентированием их в других направлениях. В случае значительных различий между двумя линиями, большая из них, естественно, будет привлекать внимание в большей степени, что определит избыток ассоциаций различия (закон относительных центраций в направлении контраста), тогда как в случае минимальных различий будут доминировать ассоциации сходства; так возникает порог Вебера[19]. Можно даже подсчитать эти различные комбинации, и подсчет вновь приведет нас к формулам, о которых говорилось выше.
Наконец, отметим, что этот вероятностный характер перцептивных композиций, столь противоположный детерминистскому характеру композиций операциональных, в сущности, выражает лишь деформирующую субъективную относительность первых, в отличие от объективной относительности вторых. Это имеет решающее значение в объяснении того основного факта (на котором настаивает психология формы), что в перцептивной структуре целое несводимо к сумме частей. В самом деле, когда в систему вторгается случай, она не может быть обратимой, ибо вмешательство случая всегда так или иначе меняет систему, и эти перемены необратимы. Отсюда следует, что в системе, включающей элемент случайности, аддитивная композиция невозможна (тем более что и сама действительность не реализует комбинации, вероятность которых мала), в противоположность детерминистским системам, которые обратимы и операционально аддитивны[20].
Таким образом, в итоге можно сказать, что основное отличие восприятия от интеллекта заключается в том, что перцептивные структуры нетранзитивны, необратимы и т. д., т. е. не могут быть соединены по законам группировки. Это вытекает из статистической природы восприятия, которая выражается в характере присущей им деформирующей относительности. Такая статистическая по своему характеру композиция, свойственная перцептивным отношениям, оказывается по сути дела неотделимой от их необратимости и неаддитивности, тогда как интеллект ориентируется на полную и, следовательно, обратимую композицию.
Аналогии между перцептивной деятельностью и интеллектом.
Как же в таком случае объяснить неоспоримое родство между этими двумя видами структур, каждая из которых основана на конструктивной деятельности субъекта и образует целостные системы отношений, частично завершаемые в обеих сферах «константностями» или понятиями сохранения? И как учесть наличие многочисленных промежуточных ступенек, которые связывают элементарные центрации и децентрации, а также вытекающие из этих последних регуляции с интеллектуальными операциями?
По нашему мнению, в перцептивной сфере следует различать восприятие как таковое (совокупность отношений, данных целиком и непосредственно во время каждой центрации), и перцептивную деятельность, вмешивающуюся в сам факт центраций внимания или изменения центраций. Ясно, что это различие относительно, но вместе с тем настолько показательно, что его вынуждены в той или иной форме признавать все школы. Так, теория формы, которая по всему своему духу направлена на преуменьшение роли деятельности объекта и преувеличение роли структур целого, подчиняющихся одновременно физическим и физиологическим законам равновесия, и та вынуждена, тем не менее, принимать в расчет поведение субъекта; чтобы объяснить, каким образом может происходить частичное разъединение целостностей, сторонники этой теории ссылаются на так называемое «аналитическое поведение», а установку (Einstellung) или ориентацию духа субъекта признают причиной многочисленных деформаций восприятия в зависимости от предыдущих состояний.
Что касается школы Вейцзекера, Ауэрсперга и Бурместера, то ее сторонники обращаются к перцептивным предвосхищениям и восстановлениям в памяти, которые предполагают обязательное вмешательство моторной функции в каждое восприятие, и т. д.
Итак, если перцептивная структура сама по себе имеет статистическую и неаддитивную природу, то понятно, что всякая деятельность, направляющая и координирующая последовательные центрации, будет уменьшать долю случайного и трансформировать функционирующую структуру в сторону операциональной композиции (конечно, в различной степени и при этом никогда не достигая ее полностью).
Таким образом, между восприятием и интеллектом существуют как явные различия, так и не менее очевидные аналогии; поэтому нелегко точно определить, где кончается перцептивная деятельность и начинается интеллект. А это значит, что мы не можем говорить об интеллекте, не уточняя его отношений с восприятием. Основной момент в этих отношениях — развитие восприятия в зависимости от умственной эволюции в целом. Психология формы не без основания настаивает на относительной инвариантности некоторых перцептивных структур: большая часть иллюзий встречается в любом возрасте, причем как у животного, так и у человека; точно так же общими на всех уровнях являются факторы, определяющие «формы» целого и т. д. Но эти общие механизмы касаются, главным образом, восприятия как такового, взятого в некотором роде рецептивно[21] и непосредственно, тогда как перцептивная деятельность рассматривается в зависимости от развития интеллекта и обнаруживает глубокие трансформации. Не только «константности» величины и т.д., относительно которых опыт, вопреки утверждениям сторонников теории формы, свидетельствует, что они строятся в процессе прогрессирующего развития, на базе все более и более точных регуляций, но и простое измерение иллюзий говорит о таких трансформациях, связанных с возрастом и необъяснимых без учета тесной связи восприятия с интеллектуальной деятельностью в целом.
Здесь нужно различать два случая, соответствующих в общих чертах тому, что Бине называл врожденными и приобретенными иллюзиями, но что лучше было бы называть просто первичными и вторичными иллюзиями. Первичные иллюзии могут быть сведены к простым факторам центрации и, следовательно, вытекают из закона относительных центраций. Их значимость постоянно уменьшается с возрастом («ошибка эталона», иллюзии Дельбёфа, Оппеля, Мюллера-Ляйера и т. д.). Это легко объясняется увеличением децентраций и обусловливаемых ими регуляций, происходящим параллельно с ростом активности субъекта по отношению к фигурам. В самом деле, там, где большие дети или взрослые люди сравнивают, анализируют и на этой основе приходят к активной децентрации, ведущей к операциональной обратимости, малыш остается пассивным. Но, с другой стороны, существуют иллюзии, интенсивность которых увеличивается с возрастом и развитием. Такова, например, иллюзия веса (отсутствующая у дефективных), которая возрастает к концу детства, а в дальнейшем несколько уменьшается. Известно, однако, что именно эта иллюзия содержит в себе своеобразное предвосхищение отношений веса и объема, и ясно, что подобное предвосхищение предполагает как раз деятельность такого рода и что она, естественно, должна усиливаться вместе с интеллектуальной эволюцией. Будучи продуктом интерференции первичных перцептивных факторов и перцептивной деятельности, такая иллюзия может быть названа вторичной, и мы сейчас обратимся к другим примерам иллюзий того же типа.
Исходя из сказанного, мы можем утверждать, что перцептивная деятельность знаменуется прежде всего вмешательством децентрации, корректирующей результаты центрации и тем самым создающей регуляцию перцептивных деформаций. И как ни элементарны эти децентрации и регуляции, и сколько они ни зависят от сенсомоторных функций, ясно, что они образуют целостную деятельность сравнения и координации, имеющую точки соприкосновения с деятельностью интеллекта. Смотреть на объект — это уже акт; и в зависимости от того, останавливает ли малыш свой взгляд на первой попавшейся точке или фиксирует им целый комплекс отношений, можно уже почти наверняка судить о его умственном уровне. Когда нужно сопоставить объекты, которые ввиду их большой удаленности друг от друга нельзя включить в одни и те же центрации, перцептивная деятельность продолжается в форме «перенесений» в пространстве — так, как будто видение одного из объектов накладывается на другой. Эти перенесения, сближающие центрации, создают возможность для появления «сравнений» в собственном смысле слова, т. е. двойных «перенесений», посредством возвратно-поступательных деформаций, вызванных «перенесением» в одном направлении. Проведенное нами изучение этих «перенесений» показало, что деформации явно уменьшаются с возрастом[22], т. е. имеет место явный прогресс в оценке величин на расстоянии. И это вполне понятно, поскольку на этот процесс накладывается поправка со стороны подлинной деятельности.
Таким образом, нетрудно показать, что именно эти децентрации и двойные перенесения (вместе со специфическими регуляциями, влекущими за собой различные разновидности таких децентраций и перемещений) обеспечивают пресловутые «константности» формы и величины. В самом деле, в высшей степени показательно, что в лаборатории почти никогда не получают абсолютных «константностей» величин: ребенок на расстоянии недооценивает величины (здесь мы должны принять во внимание «ошибку эталона»), тогда как взрослый всегда несколько переоценивает их! Эти «сверхконстантности» (которые исследователи часто наблюдали, но обычно проходили мимо них, как будто речь шла о неудобных исключениях), по нашему убеждению, являются правилом, и ничто иное не могло бы быть лучшим подтверждением вмешательства регуляций в действительное построение «константностей». Поэтому, наблюдая, как маленькие дети именно в том возрасте, когда отмечается появление таких «константностей», предаются опытам в подлинном значении этого слова, преднамеренно приближая или удаляя от глаз рассматриваемые ими предметы[23], мы с необходимостью должны поставить перцептивную деятельность перенесений и сравнений в связь с проявлениями сенсомоторного интеллекта (отнюдь не прибегая к «неосознанным рассуждениям» Гельмгольца). С другой стороны, представляется очевидным, что «константность» формы объектов связана с самим построением объекта, к анализу которого мы обратимся в следующей главе.
Короче говоря, перцептивные «константности» являются скорее всего продуктом действий в собственном смысле слова, состоящих в реальных или потенциальных перемещениях взгляда или функционирующих органов. При этом движения координируются в системы, организация которых может варьироваться от простого направленного поиска вслепую до структуры, напоминающей «группировку».
Однако подлинная «группировка» в сфере восприятия не достигается никогда, и в роли группировок здесь выступают лишь регуляции, порожденные этими реальными или потенциальными перемещениями. Вот почему перцептивные «константности», напоминая операциональные инвариантности или понятия сохранения, опирающиеся на обратимые и сгруппированные операции, никогда не достигают уровня идеальной точности, которая одна могла бы обеспечить им полную обратимость и мобильность интеллекта. Тем не менее перцептивная деятельность, лежащая в их основе, уже близка к интеллектуальной композиции.
Та же перцептивная деятельность аналогичным образом предвещает появление интеллекта и в области временных перенесений и предвосхищений. В интересном опыте по зрительным аналогиям иллюзии веса Узнадзе[24] в течение нескольких мгновений предъявлял испытуемым сначала два круга с диаметрами 20 и 28 мм, затем два круга с диаметром 24 мм; тот 24-миллиметровый круг, который помещался там, где сначала был 28-миллиметрвый круг, в этом случае казался меньше другого (а тот 24-миллиметровый круг, который занимал место 20-миллиметрового, напротив, переоценивался) из-за контраста, вызванного перенесением во времени (которое Узнадзе называет установкой (Einstellung). Мы вместе с Ламберсье измерили эти иллюзии на детях 5—7 лет и на взрослых[25], и нам удалось обнаружить два результата, совместное рассмотрение которых весьма поучительно для понимания взаимоотношений между восприятием и интеллектом. С одной стороны, эффект Узнадзе у взрослого значительно сильнее, чем у малыша (как и сама иллюзия веса), но зато и исчезает быстрее. После нескольких предъявлений двух кругов диаметром 24 мм взрослый постепенно приходит к объективной оценке, тогда как ребенок находится во власти остаточного эффекта. Эту двойную разницу, следовательно, нельзя объяснить простыми мнемическими отпечатками, заставив себя поверить, что память взрослого сильнее, но быстрее забывает! Все происходит противоположным образом — так, как могло бы быть только в том случае, если принять, что деятельность перемещения и предвосхищения с возрастом развивается в двояком направлении — к мобильности и к обратимости. Это служит еще одним примером перцептивной эволюции, направленной в сторону операций.
Остроумный опыт Ауэрсперга и Бурместера состоит в том, что субъекту предъявляют простой квадрат, расчерченный белыми линиями и вращаемый на черном диске. При вращении на малых скоростях виден сам квадрат, хотя образ на сетчатке уже и в этом случае представляет собой двойной крест, окруженный четырьмя линиями, расположенными под прямым углом. На больших скоростях виден только образ, соответствующий тому, что возникает на сетчатке, но на промежуточных скоростях видна переходная фигура, образованная простым крестом, окруженным четырьмя линиями. В этот феномен, как уже подчеркивалось исследователями, несомненно, вмешивается сенсомоторное предвосхищение, которое дает субъекту возможность восстановить квадрат либо целиком (первая фаза), либо частично (вторая фаза); при слишком высоких скоростях восстановить квадрат не удается (третья фаза). Повторив совместно с Ламберсье и Деметриадом этот опыт на детях от 5 до 12 лет, мы нашли, что вторая фаза (простой крест) появляется тем позднее (т. е. при все большем и большем количестве поворотов) чем старше ребенок. Таким образом, восстановление или предвосхищение движущегося квадрата совершается тем легче (т.е. может производиться при все более и более высоких скоростях) чем более развит субъект.
Более существенные выводы мы можем получить из рассмотрения следующего примера. Субъектам предъявляются для сравнения две палочки, расположенные на разных расстояниях в глубину: А — на расстоянии 1 м, а С — на расстоянии 4 м. Сначала определяют восприятие палочки С (недооценка или «сверхконстантность» и т. д.). Затем в стороне, в 50 см, помещают палочку В, равную А, или же между А и С — целую серию промежуточных палочек B1, B2 и B3, равных А (отодвинув их на то же расстояние). Взрослый и ребенок старше 8—9 лет сразу же видит, что А = В = С (или соответственно А = B1 = B2 = B3 = С), потому что он тотчас же переносит перцептивные равенства А = В и В = С на отношение С = A, замыкая, таким образом, рассматриваемую фигуру, образованную палочками. Малыши, напротив, видят, что А = В и В = С, но А кажется им отличным от С, поскольку они не могут перенести на прямое отношение между A и С тех равенств, которые видят вдоль кривой AВС. Следовательно, до 6—7 лет ребенок совершенно неспособен произвести операциональную композицию транзитивных отношений: А = В, В = С, следовательно, А = С (любопытно, что между 7 и 8—9 годами существует промежуточная фаза, когда субъект интеллектуально сразу делает вывод о равенстве А и С, но перцептивно при этом видит С несколько отличным от А!). Из этого примера очевидно, что и перемещение (являющееся «переносом» отношений, в отличие от «переноса» изолированной величины) зависит от перцептивной деятельности, а не от общего для всех возрастов автоматического структурирования, и что между перцептивным перемещением и операциональной транзитивностью лежат отношения, которые еще предстоит определить.
Таким образом, перемещение не является чем-то внешним по отношению к воспринимаемым фигурам: наряду с внешними перемещениями следует различать также перемещения внутренние, дающие возможность определять внутри фигур повторяющиеся отношения, симметрию (или перевернутые отношения) и т. д. В этом смысле относительно умственного развития сказано еще далеко не все, поскольку маленькие дети совершенно неспособны к структурированию комплексных фигур, как бы мы ни стремились стимулировать их в этом направлении. На основании всех этих фактов можно сделать следующий вывод. Развитие восприятия свидетельствует о наличии перцептивной деятельности как источника децентраций, перенесений (пространственных и временных), сравнений, перемещений, предвосхищений и вообще все более и более мобильного анализа, приближающегося к обратимости. Эта деятельность усиливается с возрастом; и именно недостаточное овладение ею является причиной того, что маленькие дети воспринимают объекты «синкретически», «глобально» или же путем нагромождения не связанных между собой деталей.
Восприятие как таковое характеризуется необратимыми системами статистического порядка; перцептивная же деятельность, напротив, вводит в такого рода системы, обусловленные случайной или просто вероятностной децентрацией, прогрессирующую связность и способность к композиции. Составляет ли эта деятельность уже форму интеллекта? Мы видели (гл. I и конец гл. II), как мало смысла содержит в себе вопрос такого рода. В то же время можно сказать, что действия, координирующие внимание в направлении децентрации, а также действия, состоящие в перенесении, сравнении, предвосхищении и особенно перемещении, тесно связаны в своей исходной точке с сенсомоторным интеллектом, о котором мы будем говорить в следующей главе. В частности, перемещение, как внутреннее, так и внешнее, которое как бы резюмирует все прочие акты перцептивного порядка, можно сравнить с ассимиляцией, характерной для сенсомоторных схем, особенно с обобщающей ассимиляцией, допускающей перенесение схем.
Хотя перцептивная деятельность близка к сенсомоторному интеллекту, все же нельзя забывать, что развитие ее идет только до порога операций. По мере того как перцептивные регуляции, обязанные своим происхождением сравнениям и перемещениям, приближаются к обратимости, они образуют одну из тех мобильных опор, от которых может оттолкнуться операциональный механизм. Такой механизм, если он уже образовался, будет воздействовать на эти регуляции, интегрируя их в результате обратного воздействия, аналогичного тому, какое мы только что рассматривали на примере с перемещениями равенства. Но до того как это произойдет, перцептивные регуляции подготавливают операции, придавая все больше и больше мобильности сенсомоторным механизмам, которые образуют как бы их подструктуру. В самом деле, для возникновения операций достаточно, чтобы деятельность, дающая жизнь восприятию, вышла за пределы непосредственного контакта с объектом и начала прилагаться к нему на все больших и больших расстояниях как в пространстве, так и во времени, т. е. вышла за пределы собственно перцептивного поля, освободившись, таким образом, от ограничений, которые препятствуют ей в достижении полной мобильности и полной обратимости.
Однако перцептивная деятельность — это не единственная исходная питательная среда, которой располагают в своем генезисе операции интеллекта. Нам предстоит проанализировать также роль моторных продуктивных функций навыков, которые, впрочем, очень тесно связаны с тем же восприятием.
Глава IV. Навык и сенсомоторный интеллект.
Различение моторных и перцептивных функций правомерно лишь в сфере анализа. Как убедительно показал фон Вейцзекер[26], классическое деление явлений на сенсорные возбудители и моторные ответы, основанное на схеме рефлекторной дуги, в такой же мере ошибочно и относится к таким же искусственным результатам лабораторного эксперимента, как и само понятие рефлекторной дуги, если рассматривать его изолированно. Дело в том, что восприятие с самого начала находится под влиянием движения, а движение, в свою очередь, — под влиянием восприятия. Именно эту мысль выражали, со своей стороны, и мы, говоря о сенсомоторных «схемах» при описании ассимиляции; уже в поведении грудного ребенка такая «схема» является одновременно и перцептивной, и моторной[27].
Поэтому то, что мы извлекли из проведенного в предыдущей главе анализа восприятия, необходимо расположить в его реальном генетическом контексте и попытаться прежде всего ответить на вопрос, как строится интеллект до появления языка.
Как только младенец переступает через порог чисто наследственных построений, каковыми являются рефлексы, он начинает приобретать навыки на основе опыта. Здесь возникает проблема, аналогичная той, которую мы ставили относительно восприятия: подготавливают ли эти навыки формирование интеллекта, или же они не имеют ничего общего с ним? Поскольку есть основания полагать, что и в этом случае ответ будет таким же: подготавливают, — мы получаем возможность быстрее продвинуться вперед и представить развитие сенсомоторного интеллекта через комплекс обусловливающих его элементарных процессов.
Навык и интеллект.
I. Независимость или непосредственные отклонения.
Ничто не создает возможности лучше почувствовать преемственность между проблемой рождения интеллекта и проблемой образования навыков, чем сопоставление различных решений этих двух проблем: и в том и в другом случае выдвигаются однотипные гипотезы, исходящие из идеи, что интеллект порождается теми же механизмами, автоматизация которых образует навык.
И действительно, при анализе навыка мы обнаруживаем аналогичные генетические «схемы» — ассоциации, схемы проб и ошибок или структурирования в процессе ассимиляции. С точки зрения характеристик отношений между навыком и интеллектом ассоцианизм сводится к утверждению, что навык берется как первичный фактор, объясняющий интеллект; с позиции метода проб и ошибок навык трактуется как автоматизация движений, отобранных после поиска вслепую, а сам поиск рассматривается при этом как признак интеллекта; для точки зрения ассимиляции интеллект выступает как форма равновесия той же самой ассимилирующей деятельности, начальные формы которой образуют навык. Что касается негенетических интерпретаций, то их можно свести к трем вариантам, соответствующим витализму, априоризму и точке зрения теории формы: навык, проистекающий из интеллекта; навык, не связанный с интеллектом; и навык, объясняемый, подобно интеллекту и восприятию, структурированием, законы которого независимы от развития.
Под углом зрения отношений между навыком и интеллектом (единственный вопрос, который нас здесь интересует) важно прежде всего выяснить, можно ли рассматривать обе эти функции как независимые; затем необходимо установить, можно ли говорить о происхождении одной функции из другой; и наконец, посмотреть, из каких общих форм организации могли бы происходить они на разных уровнях развития. В логике априористской интерпретации интеллектуальных операций имеет место отрицание какой бы то ни было их связи с навыками, поскольку эти операции рассматриваются как вытекающие из внутренней структуры, независимой от опыта, тогда как относительно навыков полагают, что они приобретаются в непосредственном опыте. И действительно, когда мы интроспективно рассматриваем эти два вида реальностей в их законченном виде, то противоположности, разделяющие их, кажутся глубокими, а аналогии — поверхностными. По поводу этих противоположностей и аналогий тонкое замечание сделал А. Делакруа: когда привычное движение применяется к изменившимся обстоятельствам, оно кажется окутанным своего рода общением, но бессознательный автоматизм этого ощущения интеллект заменяет общностью совсем иного качества, в основе которой лежат преднамеренные отборы и понимание. Все это совершенно верно, но здесь анализируется скорее образование навыка, в противоположность его автоматизированному упражнению, и констатируется сложность, возникающая в самом начале деятельности. С другой стороны, если восходить к сенсомоторным истокам интеллекта, то можно обнаружить его связь с научением вообще.
Следовательно, прежде чем делать вывод о том, что эти виды структур не сводимы друг к другу, необходимо задаться вопросом, не существует ли (при всем различии форм поведения на разных уровнях в вертикальном направлении и с учетом степени их новизны и автоматизированности в горизонтальном направлении) некоторой преемственности между теми кратковременными и сравнительно негибкими координациями, которые обычно называют навыками, и значительно более длительными координациями, обладающими большей подвижностью и характеризующими интеллект.
Это хорошо видел Бойтендайк, который дал глубокий анализ образования элементарных навыков у животных, в частности у беспозвоночных. Однако чем глубже вскрывает этот автор сложность факторов навыка, тем больше он стремится — в силу виталистской интерпретации, из которой он исходит, — подчинить свойственную навыкам координацию самому интеллекту, т. е. способности, присущей организму как таковому. Для образования навыка основным условием всегда является отношение средства к цели: действие никогда не является рядом механически соединенных движений, а всегда ориентировано в направлении удовлетворения потребности (например, соприкосновение с пищей или серия движений у пресноводных, которые, будучи перевернуты, стремятся как можно быстрее вернуться к своей нормальной позиции). Поэтому именно отношение «средство + цель» характеризует интеллектуальные действия; с этой точки зрения навык является выражением интеллектуальной организации, впрочем, коэкстенсивной всякой живой структуре. Витализм делает отсюда вывод, что навык — это, в конечном счете, результат бессознательного органического интеллекта, точно так же, как Гельмгольц объяснял в свое время восприятие вмешательством неосознанного рассуждения.
Нельзя не согласиться с мыслью Бойтендайка о сложности самых простых приобретений в развитии навыков и о несводимости их к отношению между потребностью и ее удовлетворением. Это отношение является источником, а не результатом ассоциаций. Но, с другой стороны, было бы слишком поспешным пытаться решительно все объяснить интеллектом, придавая ему значение первичного фактора. Такой тезис вызвал бы ряд трудностей, аналогичных трудностям сходной интерпретации в области восприятия. Во-первых, навык, как и восприятие, необратим, потому что всегда ориентирован в единственном направлении к одному и тому же результату, когда как интеллект обратим: подвергнуть навык инверсии (писать буквы наоборот или справа налево и т. д.) — значит приобрести новый навык, тогда как обратная операция интеллекта в психологическом плане неотделима от прямой операции (и логически означает такую же трансформацию, но в обратном направлении). Во-вторых, подобно тому, как интеллектуальное понимание лишь в незначительной степени видоизменяет восприятие (как отмечал уже Геринг, возражая Гельмгольцу, знание почти не влияет на иллюзию) и, с другой стороны, развитие элементарного восприятия не может непосредственно привести к интеллектуальному акту, — так и приобретенный навык очень мало видоизменяется интеллектом, а образование навыка тем более отнюдь не всегда сопровождается развитием интеллекта. С генетической точки зрения между появлением этих двух видов структур имеется даже заметный разрыв. Актинии Пьерона, которые закрываются во время отлива и таким образом удерживают необходимую им воду, не обладают достаточно подвижным интеллектом и поэтому, в частности, сохраняют свой навык и в аквариуме в течение нескольких дней, пока он не угаснет сам по себе. Гобиусы Гольдшмидта выучиваются проходить для получения пищи через отверстие в стеклянной пластинке и сохраняют выработанный таким образом навык маршрута даже тогда, когда пластинка удалена. Такого рода поведение можно назвать некорковым интеллектом, но оно намного ниже того, что обычно называют просто интеллектом.
Из этих соображений рождается гипотеза, долгое время казавшаяся наиболее простой: навык выступает как первичный факт, объяснимый в рамках пассивно пережитых ассоциаций, интеллект же постепенно формируется из навыка на основе возрастания сложности ситуаций. Не будем повторять здесь возражений, выдвигаемых обычно против ассоцианизма, — они столь же распространены, как и различные попытки возрождения подобной интерпретации, каждый раз, правда, выступающей в новой форме. Применительно к проблеме образования структур интеллекта и их фактического развития нам достаточно напомнить сейчас, что даже самые элементарные из навыков оказываются не сводимыми к схеме пассивной ассоциации.
Таким образом, понятие условного рефлекса или обусловленности вообще дает ассоцианизму новый прилив жизненных сил, предлагая ему точную физиологическую модель, а вместе с ней и обновленную терминологию. Отсюда ряд применений этого понятия, в частности, использование его психологами при интерпретации интеллектуальных функций (язык и т. д.), а иногда и самого акта интеллекта.
Но если наличие обусловленного поведения является реальным и даже весьма значительным фактом, то интерпретация его отнюдь не требует рефлексологического ассоцианизма, с которым слишком часто связывают такое поведение. Когда движение ассоциируется с восприятием, то здесь уже имеет место нечто большее, чем пассивная ассоциация, т. е. формируемая в результате лишь одного повторения. Здесь налицо уже целый набор значений, поскольку ассоциация образуется в данном случае на основе потребности и ее удовлетворения. Каждый знает на практике (но об этом слишком часто забывают в теории), что условный рефлекс закрепляется только в той мере, в какой он подтвержден или подкреплен: сигнал, ассоциирующийся с кормлением, не вызывает длительной реакции, если реальные продукты питания не предъявляются периодически одновременно с сигналом. Ассоциация, таким образом, вставляется в общий контекст поведения, исходной точкой которого является потребность, а последним этапом — ее удовлетворение (реальное, предвосхищенное или же игровое). Иными словами, здесь имеет место не ассоциация в классическом смысле этого термина, а образование такой схемы построения целого, которая связана с внутренним содержанием. Более того, если изучать систему обусловленного поведения в его исторической последовательности (а это обусловленное поведение, которое интересует психологию, всегда представляет собой такую последовательность и отлично от слишком простой, прямой психологической обусловленности), то роль целостного структурирования видна еще яснее. Так, например, Андре Рей, поместив морскую свинку в отделение А ящика с тремя последовательно расположенными отделениями А, В, С, действует на А электрическим разрядом, которому предшествует сигнал. При повторении сигнала свинка прыгает в В, затем возвращается в А; однако достаточно нескольких разрядов, чтобы она начала прыгать из А в В, из В в С и возвращаться из С в А. Следовательно, в данном случае обусловленное поведение является не простой перестановкой начальных движений, возникающей из простого рефлекса, а новой формой поведения, приобретающей стабильность лишь благодаря структурированию всей среды[28].
Но если уже здесь имеют место наиболее элементарные виды навыков, то это тем более несомненно в отношении все более и более сложных «ассоциативных переносов», подводящих навык к порогу интеллекта: всюду, где движения ассоциируются с восприятиями, так называемая ассоциация фактически состоит в том, чтобы объединить новый элемент с предыдущей схемой деятельности. Независимо от того, является ли эта предыдущая схема рефлекторной, как это имеет место в условном рефлексе, или она принадлежит к более высоким уровням развития, ассоциация в любом случае представляет собой ассимиляцию, так что никогда ассоциативная связь не является простым слепком отношения, полностью данного во внешней реальности.
Именно поэтому анализ образования навыков, как и анализ структуры восприятия, прежде всего связан с проблемой интеллекта. Если бы формирование интеллекта состояло только в развертывании специфической для него деятельности более высокого порядка, возникающей позже и в уже построенном мире ассоциаций и отношений, раз и навсегда вписанных во внешнюю среду, то сама эта деятельность в действительности была бы иллюзорной. Поэтому в перцептивной деятельности и генезисе навыков с самого начала принимает реальное участие организующая ассимиляция, которая в конечном итоге завершается операциями, свойственными интеллекту. Отсюда следует, что эмпирические схемы, в которых пытаются представить завершенный интеллект, ни на одном уровне их развития не могут быть признаны достаточными, поскольку в них не учитываются ассимилятивные конструкции.
Мах и Риньяно, как известно, рассматривают рассуждение как «умственный опыт». Это положение, в принципе правильное, можно было бы считать объяснением, если бы опыт был совершенно точным в конце внешней реальности. Но поскольку это совсем не так и поскольку уже в навыке приспособление к реальности предполагает, что эта реальность должна быть ассимилирована в «схемах» субъекта, постольку подобное объяснение образует круг: чтобы приобрести опыт умственной активности, нужна вся деятельность интеллекта. Сложившийся и развитый умственный опыт является воспроизведением в мысли не реальности, а действий или операций, направленных на эту реальность, и проблема генезиса этих действий или операций продолжает существовать в полном объеме. Об умственном опыте в смысле простой внутренней имитации реального можно говорить только на уровне первых шагов детской мысли, но на этом уровне рассуждение еще не является логическим.
Спирмен сводит интеллект к трем основным моментам: «восприятию опыта», «выявлению отношений» и «выявлению коррелят». К этому опять-таки нужно добавить, что опыт не строится без участия конструктивной ассимиляции. Под так называемыми «выявлениями отношений» в данном случае имеются в виду операции в собственном смысле слова (сериации или включение симметричных отношений). Что касается «выявления коррелят» («предъявление свойства, связанного с отношением, имеет тенденцию немедленно вызывать знание о коррелятивном свойстве»[29]), то оно адекватно таким совершенно определенным «группировкам», как мультипликативные «группировки» классов и отношений (гл. II).
II. Поиск вслепую и структурирование.
Таким образом, ни навык, ни интеллект не могут быть объяснены системой ассоциативных координаций, непосредственно соответствующих данным во внешней реальности отношениям, — то и другое предполагает деятельность самого субъекта. В этой связи возникает вопрос: а нельзя ли построить самое простое объяснение за счет сведения этой деятельности к серии проб, осуществляемых сначала наугад (т. е. без прямой связи со средой), но постепенно отбираемых в зависимости от завершающих их успехов или неудач? Торндайк, например, для выявления механизма научения помещал животных в лабиринт и измерял достигнутые приобретения уменьшением количества ошибок. Сначала животное нащупывает, т. е. его пробы случайны, но постепенно ошибки устраняются, а удачные пробы удерживаются, пока, наконец, животное не начинает точно определять последующие маршруты. Принцип такого отбора на основе достигнутых результатов Торндайк назвал «законом эффекта». Гипотеза и в самом деле весьма соблазнительна: действие субъекта выражается в пробах, действие среды — в отборе, а закон эффекта не нарушает роли потребностей и их удовлетворения — факторов, составляющих рамки всякого активного поведения.
Более того, в такой схеме объяснения учтена преемственность, которая связывает самые элементарные навыки с самым развитым интеллектом: Клапаред в этой связи вновь обращается к понятиям поиска вслепую и эмпирического контроля постфактум, рассматривая их как принципы теории интеллекта, которые он последовательно прилагает к интеллекту животного и далее через практический интеллект ребенка вплоть до психологии мышления взрослого, изучению которой посвящен его «Генезис гипотезы»[30]. Однако в целом ряде работ женевских психологов настолько ясно обрисована в высшей степени характерная эволюция поиска вслепую и эмпирический контроль постфактум, что уже само по себе описание этой эволюции выступает как развернутая критика понятия поиска вслепую.
Клапаред начинает с того, что противопоставляет интеллект, выполняющий функцию адаптации к новой обстановке, навыку (автоматизированному) или инстинкту — адаптациям к повторяющимся обстоятельствам. Итак, каково же поведение индивида перед лицом обстоятельств? Индивид всегда — от инфузорий Дженнингса вплоть до человека (включая и самого ученого перед лицом непредвиденного) — прежде всего пытается нечто нащупать. Этот поиск вслепую может быть просто сенсомоторным, либо он может интериоризоваться в форме одной лишь мысленной «пробы», но его функция всегда одна и та же: находить решения, которые опыт будет отбирать постфактум.
Полный акт интеллекта предполагает, таким образом, наличие трех основных моментов: вопроса, ориентирующего поиск, гипотезы, предваряющей решения, и контроля, отбирающего их. Но при этом нужно различать две формы интеллекта: практическую (или «эмпирическую») и рефлексивную (или «систематическую»). В первой из них вопрос выступает в виде простой потребности, гипотеза — в виде сенсомоторного поиска вслепую, а контроль — в виде простого ряда неудач или успехов. И лишь во второй форме интеллекта потребность отражается в вопросе, поиск вслепую интериоризуется в поиск гипотез, а контроль предвосхищает опытные решения путем «осознания отношений», вполне достаточного для отстранения ложных гипотез и сохранения правильных.
Таковы были общие теоретические представления, когда Клапаред приступил к анализу проблемы генезиса гипотезы в рамках психологии мышления. Постоянно подчеркивая очевидную роль, которую сохраняет поиск вслепую в самых развитых формах мысли, Клапаред в то же время был вынужден, отдавая дань своему методу «высказанной рефлексии», помещать такой поиск не в исходной точке интеллектуального движения, а, так сказать, за его пределами, в крайнем случае непосредственно перед ним (причем все это могло иметь место только в том случае, когда имеющиеся данные значительно превышают возможности понимания субъекта). Исходной же точкой, по мнению Клапареда, является следующий акт поведения, важность которого до тех пор не была выявлена: при наличии определенных данных относительно проблемы и при условии, что поиск однажды уже был ориентирован потребностью или задачей (посредством механизма, который сам по себе пока рассматривается как таинственный), сначала осуществляется понимание совокупности отношений на основе простых «импликаций». Эти импликации могут быть правильными или ложными. Если они правильны, опыт удерживает их. Если же они ложны и противоречат опыту, то тогда и только тогда начинается поиск вслепую. Он, следовательно, появляется как суррогат или дополнение, т. е. как акт поведения, производный по отношению к исходным импликациям. Поэтому поиск вслепую никогда не бывает чистым, заключает Клапаред; он частично направляется задачей и импликациями и фактически может быть случайным лишь в той мере, в какой исходные данные слишком сильно выходят за пределы возможностей этих предвосхищающих схем.
В чем же состоит такая импликация? Именно в ответе на этот вопрос концепция Клапареда наиболее широко выявляет свое значение и переходит в сферу проблем, непосредственно связанных как с навыком, так и с самим интеллектом. Импликация оказывается в сущности почти тем же самым, чем была старая ассоциация у классических психологов, с той разницей, что она подкрепляется чувством необходимости, вытекающим теперь уже изнутри, а не извне. Она является проявлением «примитивной тенденции», вне которой субъект ни на одном уровне не мог бы использовать опыт (р. 104). Она не только не обязана своим происхождением «повторению пары элементов», а, наоборот, сама является источником повторения сходного и «рождается уже во время первой встречи элементов этой пары» (р. 105). Опыт может, следовательно, ломать ее или подтверждать, что он не в состоянии ее создать. И именно тогда, когда подкрепление опыта требует сопоставления, субъект достигает этого с помощью импликации. Ее корни следовало бы, по сути дела, искать в «законе сращения» В. Джемса, объясняющем ассоциацию: «Закон сращения порождает импликацию в плане действия и синкретизм в плане представления» (р. 105). Клапаред приходит, таким образом, к тому, что при помощи импликации интерпретирует условный рефлекс: собака Павлова выделяет слюну при звуке колокольчика после того, как она слышала его одновременно с видом пищи, потому что в этом случае звук имплицирует пищу.
Теория поиска вслепую оказывается перевернутой, сам процесс этого переворачивания заслуживает внимательного изучения. Начнем с внешне второстепенного момента. Не является ли псевдопроблемой попытка объяснить, каким образом задача или потребность ориентируют поиск, словно они существуют независимо от поиска? В самом деле, задача и сама потребность выражают действие механизмов, уже образовавшихся ранее и находящихся просто в состоянии мгновенной неуравновешенности: потребность сосать грудь предполагает наличие завершенной организации аппарата сосания, а если обратиться к другому полюсу развития, то за вопросами типа «что это?», «где?» и т.д. стоят уже сконструированные целиком или частично классификации, пространственные структуры и т.д. (см. гл. II). Следовательно, схема, ориентирующая поиск, — необходимая предпосылка для объяснения появления потребности или задачи. Потребность, задача и, наконец, поиск выражают, таким образом, лишь акт ассимиляции реальности в рамках этой схемы.
Правомерно ли, исходя из этого, понимать импликацию как первичный фактор, одновременно и сенсомоторный, и интеллектуальный, источник как навыка, так и понимания? Само собой разумеется, что этот термин употребляется в данном случае не в логическом смысле — как необходимая связь между суждениями, а в очень общем смысле — как отношение какой-либо необходимости. Итак, порождается ли такое отношение двумя элементами, которые индивид впервые видит вместе? Иными словами, повторяя пример Клапареда, порождает ли черная кошка, впервые увиденная младенцем, отношение «кошка имплицирует черное»? Если субъект реально увидел два элемента впервые, без аналогий и без предвосхищений, то они, несомненно, окажутся сразу же включенными в одно перцептивное целое — в гештальт, в другой форме выражающий закон сращения Джемса или синкретизм, на который ссылается Клапаред. Тот факт, что здесь имеет место нечто большее, чем просто ассоциация, становится еще очевиднее в ситуациях, когда целое образуется не за счет объединения двух элементов, сначала воспринятых по отдельности, а за счет их непосредственного слияния путем структурирования целого. Но это еще не связь необходимости, а лишь начало возможной схемы, которая будет порождать отношения, воспринимаемые как необходимые, только при условии превращения ее в реальную схему на базе перестановки или обобщения (т. е. применения к новым элементам), т. е. если она будет открывать путь ассимиляции. Следовательно, именно ассимиляция является источником того, что Клапаред называет импликацией. Выражаясь схематически, индивид не будет приходить к отношению «А1 имплицирует х» при восприятии первого А вместе со свойством х, а будет подведен к отношению «А2 имплицирует х» в результате ассимиляции А2 в схеме (А), которая создана именно ассимиляцией А2 = А1. Поэтому у собаки, выделяющей слюну при виде пищи, выделение слюны при звуке колокольчика будет происходить только в том случае, если она ассимилирует этот звук как указатель или как часть всего акта в данной схеме действия. Клапаред совершенно прав, когда говорит, что импликация порождается не повторением, а появляется только в ходе повторения, потому что импликация — это внутренний продукт ассимиляции, который обеспечивает повторение внешнего акта.
Таким образом, необходимое вмешательство ассимиляции, о котором шла речь, еще больше усиливает оговорки, которые сам Клапаред вынужден сформулировать относительно общей роли поиска вслепую. Прежде всего, само собой разумеется, что поиск вслепую, когда он имеет место, нельзя было бы объяснить механическими факторами, т. е. на основе гипотезы простого прокладывания пути; с этой точки зрения ошибки должны были бы воспроизводиться точно так же, как и пробы, увенчавшиеся успехом. И если так не происходит, т. е. если действует «закон эффекта», то это достигается только благодаря тому, что при повторении действия индивид предвосхищает свои возможные успехи и неудачи. Иными словами, каждая проба воздействует на следующую не как канал, открывающий дорогу новым движениям, а как схема, позволяющая дать значение последующим пробам[31]. Следовательно поиск вслепую отнюдь не исключает ассимиляции. Даже более того. Уже первые пробы трудно свести к простой случайности[32]. Д. К. Адаме в своих опытах с лабиринтом обнаруживает движения, которые ориентированы с самого начала. В. Деннис, а затем Дж. Дешейл доказывают, что индивид стремится продолжать движение в направлении, избранном в начале. Э. Толмен и Кречевский, описывая движения крыс, говорят даже о «гипотезах» и т. п. Данные такого рода определили важные соображения, к которым пришли К. Халл и Э. Толмен. Халл настойчиво противопоставляет психические модели, включающие средства и цели, механическим моделям прокладывания пути: если последним предписывается лишь прямой путь, то у первых имеется несколько возможных вариантов пути, причем их тем больше, чем сложнее акт поведения. Иными словами, уже начиная с уровня сенсомоторного поведения, на переходной ступени между научением и интеллектом, нужно принимать в расчет то, что превратится в «ассоциативность» операций в их конечных «группировках» (гл. II).
Что же касается Толмена, то он показывает роль обобщения в процессе формирования навыков. Например, при появлении нового лабиринта, отличного от уже известного, животное учитывает наличие аналогии между двумя системами и применяет к новому случаю те формы поведения, которые принесли ему успех в прошлом (особые маршруты). Таким образом, целое всегда структурируется, но действующие структуры не являются для Толмена простыми «формами» в смысле теории Кёлера: это — знаки-гештальты, т. е. схемы, наделенные значениями. Этот двойственный характер структур, рассматриваемых Толменом, — наличие в них элементов как обобщения, так и обозначения, — достаточно ясно показывает, что речь идет о том, что мы называем схемами ассимиляции.
Таким образом, накопление опыта на всех уровнях, от элементарного научения до интеллекта, как представляется, влечет ассимилирующую деятельность, которая в равной мере необходима для структурирования как самых пассивных форм навыка (обусловленное поведение и ассоциативные переносы), так и для проявлений интеллекта со свойственной им очевидной активностью (ориентированный поиск вслепую). В этом смысле проблема отношений между навыком и интеллектом тождественна проблеме отношений между навыком и восприятием. Как перцептивная деятельность не идентична интеллекту, но тотчас же соединяется ним, едва освободится от центрации на непосредственном и актуальном объекте, так и ассимилирующая деятельность, порождающая навыки, не смешивается с интеллектом, а находит в нем завершение сразу же после дифференциации и координации необратимых и цельных сенсомоторных схем в подвижные сочленения. Родство этих двух видов элементарной деятельности очевидно еще и потому, что восприятие и привычные движения всегда нерасчленимо объединены в схемы единого целого, а также потому, что свойственные навыку «перенос» или обобщение в моторном плане являются совершенно точным эквивалентом «перестановки» в плане пространственных фигур: и то и другое предполагает обобщающую ассимиляцию.
Сенсомоторная ассимиляция и возникновение интеллекта у ребенка.
Выяснить, каким образом из ассимилирующей деятельности, которая до этого порождала навыки, рождается интеллект — это значит показать, каким образом, начиная с того момента, когда умственная жизнь отчленяется от органической, сенсомоторная ассимиляция воплощается во все более подвижных структурах, имеющих все более широкое применение. Это значит, что, начиная уже с наследственных установок, мы можем проследить, наряду с внутренней и физиологической организацией рефлексов, также и кумулятивные эффекты упражнения и первые истоки поиска, связанные с необходимостью действовать на расстоянии в пространстве и во времени; эти факторы мы использовали в определении «поведения» (гл. I). Новорожденный, которого уже начали кормить с ложки, после этого будет испытывать некоторое затруднение, беря грудь. Когда он сосет грудь, ловкость его все время возрастает; если его поместить в стороне от груди, он найдет удобную позицию и будет находить ее все быстрее и быстрее. Он может сосать все, что подвернется, однако при этом быстро отказывается от пальца, но не выпускает грудь. В промежутках между кормлениями он будет сосать впустую и т. д. Эти тривиальные наблюдения показывают, что уже внутри замкнутого поля непосредственно регулируемых механизмов (первый уровень развития) появляются истоки воспроизводящей ассимиляции функционального порядка (упражнение), обобщающей или транспозитивной ассимиляции (расширение рефлекторной схемы на новые объекты) и рекогнитивной ассимиляции (опознавание ситуаций).
Именно в этом контексте, т. е. в контексте деятельности, и появляются на основе опыта первые продукты развития (рефлекторное упражнение еще не дает такого реального продукта, а лишь ведет к простой консолидации). Идет ли речь о такой внешне пассивной координации, как обусловленность (например, сигнал, своим держанием предвосхищающий сосание), или о спонтанном расширении поля применения рефлексов (например, систематическое сосание пальца на основе координирования движений руки с движениями рта), элементарные формы навыка в любом случае развиваются из ассимиляции новых элементов предыдущими схемами, в данном случае рефлекторными. Однако важно понять, что само по себе расширение рефлекторной схемы путем включения нового элемента ведет к образованию схемы более высокого порядка (навыка как такового), которая, следовательно, уходит своими корнями в схему более низкого порядка (рефлекс). С этой точки зрения ассимиляция нового элемента предыдущей схемой выступает как включение нового элемента в более высокую схему.
Но, конечно, на уровне этих первых навыков еще нельзя говорить об интеллекте. По сравнению с рефлексами навык характеризуется значительно более широким полем применения как в пространстве, так и во времени! Однако даже в расширенном виде эти первые схемы еще не являются целостными образованиями; в них еще ни внутренней подвижности и взаимной скоординированности. Обобщения, возможные на их основе, представляют пока еще только моторные переносы, которые можно сравнить с самыми простыми перцептивными перестановками, и несмотря на их функциональную преемственность по отношению к следующим этапам, в них еще нет ничего, что позволило бы сравнить их по структуре интеллектом.
Новые формы поведения, образующие переходную ступень между простым навыком и интеллектом, возникают на третьем уровне, который начинается вместе с координацией зрения и хватания (между тремя и шестью, но обычно к четырем — шести месяцам). Обратимся к младенцу, лежащему в своей колыбельке. Верх колыбели поднят и на нем висит ряд погремушек и свободный шнур. Ребенок хватает этот шнур и с его помощью раскачивает все устройство, не разбираясь, естественно, в деталях пространственных или причинных отношений. Удивленный результатом, он вновь повторяет все сначала, и так несколько раз. Это активное воспроизведение результата, первый раз достигнутого случайно, Дж. Болдуин назвал «круговой реакцией». Такая реакция является типичным примером производящей ассимиляции. Первое, произведенное вместе с сопровождающим его результатом, образует целостное действие, которое создает новую потребность, как только объекты, к которым оно относится, возвращаются в свое первоначальное состояние: объекты оказываются теперь ассимилированными предыдущим действием (возведенным тем самым в ранг схемы), что вызывает его воспроизведение, и т. д. Мы видим, что описанный механизм тождествен тому, который обнаруживается уже в исходной точке образования элементарных навыков, с той разницей, что там круговая реакция относится к собственному телу (поэтому реакцию предыдущего уровня, построенную по схеме сосания пальца, можно назвать первичной круговой реакцией), тогда как с этого момента она, благодаря тому, что ребенок научился хватать, начинает относиться к внешним объектам (эти формы поведения, относящиеся к объектам, можно назвать вторичной круговой реакцией, постоянно памятуя, однако, о том, что они еще отнюдь не выступают для ребенка как субстанциальные).
Таким образом, в своем отправном пункте вторичная круговая реакция входит еще в структуры, свойственные простым навыкам. И действительно, в целостном поведении, которое полностью повторяется без предварительно поставленной цели и в котором используются попутные, случайные факторы, нет ничего от полного акта интеллекта. Поэтому нужно остерегаться приписывать уму ребенка те различения между исходным средством (тянуть шнур) и конечной целью (встряхивать верх колыбели), которые сделали бы мы сами на его месте, равно как и считать его владеющим понятиями объекта и пространства, связанными для нас с такой ситуацией, ибо для ребенка она является глобальной и неподдающейся анализу. Тем не менее, как только поведение воспроизводит несколько раз, в нем без труда замечается двоякая тенденция: с одной стороны, к внутреннему расчленению и повторному сочленению этих элементов, а с другой — к обобщениям или активным перестановкам их перед лицом новых данных, не имеющих непосредственной связи с предыдущими. Учитывая первую тенденцию, мы можем констатировать, что после того, как события прослежены в порядке: шнурок — колебание — погремушки, в поведении появляется способность к какому-то началу анализа: вид неподвижных погремушек или открытие на верхе колыбели нового объекта, только что вызовет удивление, стимулирует поиск шнура. Конечно, здесь еще нет подлинной обратимости, но ясно, что можно говорить о прогрессе мобильности и что применительно к средствам (реконструированным постфактум) и целям (поставленным постфактум) поведение является уже почти сочлененным. С другой стороны, если ребенок поставлен перед совершенно новой ситуацией (например, видит какое-то движение в 2—3 м от себя или слышит какой-либо звук в комнате), он начинает искать и тянуть тот же самый шнур как бы для того, чтобы продолжить на расстоянии прерванное зрелище. Отсюда с очевидностью следует, что это новое поведение (полностью подтверждающее отсутствие пространственных контактов и понимания причинности) уже образует начало обобщения в собственном смысле слова. Таким образом, как внутреннее сочленение, так и эта внешняя перестановка круговой схемы предвещают близкое появление интеллекта.
На четвертом уровне происходит уточнение. Начиная с 8—10 месяцев схемы, построенные в ходе предыдущей стадии, благодаря вторичным реакциям приобретают способность координироваться между собой; при этом одни из них используются в качестве средств, другие определяют цель действия. Так, например, чтобы схватить намеченный предмет, расположенный за щитом, который закрывает его полностью или частично, ребенок сначала отодвигает этот щит (применяя схему охватывания или отталкивания и т. д.), а затем достигает цели. Отныне, следовательно, сначала ставится цель, а затем уже определяются средства, ибо у субъекта сначала возникает намерение схватить цель, а лишь затем он стремится сдвинуть препятствие. Он предполагает подвижное сочленение элементарных схем, объединяемых в целостную схему. В свою очередь, новая целостная схема создает возможность в значительно более широком обобщении, чем это имело место раньше.
Эта мобильность, сочетающаяся с одновременным прогрессом в построении обобщений, проявляется, в частности, в том факте, что при появлении нового объекта ребенок последовательно испытывает последние из приобретенных им схем (схватывать, ударять, встряхивать, тереть и т. д.), причем эти схемы применяются там, если можно так сказать, в качестве сенсомоторных понятий, когда субъект стремится как бы понять новый объект через его употребление (по образцу «определений через употребление», которые мы значительно позднее обнаружим в вербальном плане).
Поведение, относящееся к этому четвертому уровню, свидетельствует, таким образом, о двояком прогрессе — в направлении мобильности и в направлении расширения поля применения схем. Пути, проходимые действием от субъекта к объектам, а также предвосхищениями и сенсомоторными восстановлениями в памяти, теперь уже не являются, как на предшествующих стадиях, прямыми и простыми — прямолинейными, как в восприятии, или стереотипными и однонаправленными, как в круговых реакциях. Маршруты начинают варьироваться, а использование предыдущих схем — проходить все более значительные расстояния во времени. Это как раз то, что характеризует соединение средств и целей, которые отныне являются дифференцированными, и именно поэтому можно уже говорить о подлинном интеллекте. Но наряду с преемственностью, которая соединяет этот рождающийся интеллект с предыдущими формами поведения, надо указать и на его ограниченность: ему не доступны ни изобретения, ни открытие новых средств, он способен лишь на простое применение уже известных средств к непредвиденным ситуациям.
Следующий уровень отмечен двумя новыми приобретениями, и оба они относятся к использованию опыта. Схемы ассимиляции, о которых говорилось до сих пор, естественно и непрерывно приспосабливаются к внешним данным. Но эта аккомодация, если ее можно так назвать, скорее пассивная, чем активная: субъект действует в соответствии со своими потребностями, и это действие или согласуется с реальностью, или встречает сопротивление, которое стремится преодолеть. Случайно возникающие новшества либо игнорируются, либо ассимилируются предыдущими схемами и воспроизводятся через посредство круговой реакции. Однако наступает момент, когда новшество становится интересным само по себе. Это, конечно, предполагает определенный уровень оснащения схем, делающий возможными сравнения. При этом новый факт должен быть достаточно сходным с ранее известным, чтобы производить интерес, и вместе с тем достаточно отличным него, чтобы не вызвать пресыщения. Круговые реакции состоят в таких случаях в воспроизведении нового факта, но воспроизведении с вариациями и активным экспериментированием, целью которого является как раз выделение из этого факта новых возможностей. Так, открыв траекторию падения объекта, ребенок будет стремиться бросить его различными способами или из разных исходных точек.
Такого рода воспроизводящая ассимиляция с дифференцированной и преднамеренной аккомодацией может быть названа «третичной круговой реакцией».
Следовательно, когда схемы начинают координироваться между собой, выступая в качестве средств и целей, ребенок уже не ограничивается простым применением известных схем к новым ситуациям: он дифференцирует теми из схем, которые играют роль средств, при помощи своего рода третичной круговой реакции, и таким образом приходит в конечном счете к открытию новых средств. Именно так и вырабатывается целый ряд форм поведения, интеллектуальный характер которых уже ни у кого не вызывает сомнения: притянуть к себе цель, используя подставку, на которой она расположена, или бечевку, составляющую ее продолжение, или даже палку, применяемую в качестве независимого вспомогательного средства. И как бы ни было сложно такое поведение, нужно ясно отдавать себе отчет в том, что обычно оно не возникает ех arburtо, а, наоборот, подготавливается целым рядом отношений и значений, обязанных своим происхождением функционированию предшествующих схем, таких, как отношение средства к цели, понимание того, что один предмет может привести в движение другой, и т.д.
Поведение с подставкой является в этом смысле наиболее простым: не будучи в состоянии достигнуть их непосредственно, субъект привлекает объекты, расположенные между ним и этой целью (ковер, на котором находится игрушка, которую он хочет достать, и т.д. Движение, в которое вовлекается намеченный объект, когда тянут ковер, на предыдущих уровнях не осмысливалось субъектом; теперь же, усвоив необходимые отношения, он сразу понимает возможное использование подставки. В подобных случаях с самого начала очевидна подлинная роль поиска вслепую в интеллектуальном акте. Направляемый схемой, определяющей цель действия, одновременно со схемой, выбранной в качестве начального средства, поиск вслепую в ходе последовательных проб все время ориентируется, кроме того, и приемами, способными придать значение случайным событиям, в результате чего эти случайные события начинают использоваться сознательно. Поиск вслепую, таким образом, никогда не бывает чистым, а образует лишь периферию активной аккомодации, совместимой с ассимилирующими координациями, которые составляют сущность интеллекта.
Наконец, шестой уровень, частично охватывающий и второй год жизни ребенка, знаменуется завершением образования сенсомоторного интеллекта: если на предыдущем уровне новые средства открываются исключительно в процессе активного экспериментирования, то теперь открытие неизвестных субъекту способов может совершаться посредством быстрой внутренней координации. Именно к этому последнему типу и относятся факты резкого переструктурирования, описанные Кёлером на примере шимпанзе, чувство внезапного понимания (Аhа Еrlеbnis), проанализированное К. Бюлером. Например, у детей, которым до полутора лет не приходилось экспериментировать с палками, можно наблюдать случаи, когда при первом же соприкосновении с палкой сразу возникает понимание ее возможных отношений с предметом, к которому ребенок тянется как к цели, и такое понимание достигается практически без поиска вслепую. Совершенно очевидно, что и некоторые из субъектов Кёлера догадались применить палку, так сказать, с ходу, без предшествующего упражнения.
Если это так, то важно понять механизм этих внутренних координаций, которые предполагают одновременно открытие без поиска вслепую и умственное предвосхищение, близкое к представлению. Мы уже видели, что теория формы объясняет дело простым перцептивным переструктурированием, не обращаясь к приобретенному опыту. Однако в поведении ребенка на шестой стадии нельзя не видеть завершения всего развития, проделанного на пяти предыдущих этапах. Действительно, если ребенок уже привык однажды к третичным круговым реакциям и интеллектуальному поиску вслепую, составляющим подлинное активное экспериментирование, то ясно, что рано или поздно он должен стать способным к интериоризации этих форм поведения. Иногда, оставляя в стороне данные стоящей перед ним задачи, ребенок кажется погруженным в размышления. Например, один из наблюдаемых нами детей после безуспешного поиска вслепую прерывает свои попытки увеличить отверстие в спичечной коробке, внимательно смотрит на щель, а затем открывает и закрывает свой собственный рот. Это, как нам кажется, указывает на то, что он продолжает поиск, но путем внутренних проб или интериоризованных действий (подражательные движения рта в приведенном примере являются весьма четким показателем такого моторного размышления). Что же тогда происходит и как объяснить открытие, которое составляет суть внезапного решения? Сенсомоторные схемы, ставшие вполне мобильными и координируемыми друг с другом, дают место взаимным ассимиляциям, достаточно спонтанным, чтобы не нуждаться более в двигательном поиске вслепую, и достаточно быстрым, чтобы создать впечатление немедленных переструктурирований. Внутреннюю координацию схем можно было бы при таком подходе рассматривать по отношению к внешней координации предыдущих уровней так же, как мы рассматриваем внутренний язык — этот интериоризованный и быстрый, простой эскиз действенного слова — по отношению к внешнему языку.
Но достаточны ли эта спонтанность и эта более высокая скорость ассимилирующей координации схем для того, чтобы объяснить интериоризацию форм поведения, или же на этом уровне уже возникают истоки представления и тем самым появляется провозвестник перехода от сенсомоторного интеллекта к мышлению в собственном смысле слова? Независимо от появления языка, которым ребенок начинает овладевать к этому возрасту (но который отсутствует у шимпанзе, способных тем не менее к поразительно умным изобретениям), имеются два ряда фактов, свидетельствующих о первых зачатках представления на этой, шестой стадии, хотя эти зачатки почти не превышают весьма рудиментарного уровня представления, свойственного шимпанзе. С одной стороны, ребенок становится способным к отсроченной имитации, т. е. у него впервые начинает возникать копия после исчезновения модели из поля восприятия. Независимо от того, возникает ли отсроченная имитация из образного представления или же, напротив, она сама является причиной этого образного представления, тесная связь между ними несомненна (к этой проблеме мы вернемся в главе V). С другой стороны, в этом же возрасте ребенок приходит к наиболее элементарным формам символической игры, состоящей в том, что, используя собственное тело, он осуществляет действие, чуждое актуальному контексту (например, для развлечения притворяется спящим, совершенно не будучи при этом сонным). Здесь опять-таки возникает нечто вроде игрового и, следовательно, еще моторного образа, который, однако, находится уже почти на уровне представления. Вмешиваются ли эти образы, основанные на действии и свойственные отсроченной имитации и рождающемуся игровому символу, как нечто значимое в интериоризованную координацию схем? Нам кажется, что на этот вопрос дает ответ только что приведенный пример ребенка, имитирующего ртом увеличение щели на коробке, когда в плане действия перед ним стоит задача реально открыть эту коробку.
Построение объекта и пространственных отношений.
В предшествующем изложении была зафиксирована замечательная функциональная преемственность, связывающая последовательно конструируемые ребенком структуры — от образования элементарных навыков вплоть до актов спонтанных и внезапных открытий, характерных для самых развитых форм сенсомоторного интеллекта. С этой точки зрения родство навыка и интеллекта становится совершенно очевидным: и тот и другой, хотя и на различных уровнях, вытекают из сенсомоторной ассимиляции. К этому остается лишь добавить то, что говорилось ранее (гл. III) по поводу родства между интеллектом и перцептивной деятельностью: и то и другое опирается на сенсомоторную ассимиляцию на ее различных уровнях — на одном из них ассимиляция порождает перцептивную перестановку (весьма родственную переносу привычных движений), тогда как для другого характерно прежде все специфически интеллектуальное обобщение.
Для выявления связей между восприятием, навыком и интеллектом — связей столь простых с точки зрения общности их источника и вместе с тем столь сложных с точки зрения их многочисленных дифференциаций — самый подходящий материал дает анализ сенсомоторного построения основных схем объекта и пространства (которые, кстати, неотделимы от схем причинности и времени). В самом деле, с одной стороны, построение таких схем тесно связано с этапом развития который мы называем довербальным интеллектом. Но с другой стороны, для него крайне необходима организация перцептивных структур и структур, которые нераздельно слиты с моторикой, развитой в навыках.
Итак, что же такое схема объекта? Это схема, в построении которой главную роль играет интеллект; иметь понятие об объекте — значит приписывать воспринятую фигуру субстанциальной основе, благодаря чему фигура и представляемая ею субстанция продолжают существовать вне поля восприятия. Постоянство объекта, рассматриваемого под этим углом зрения, является не только продуктом интеллекта, а образует также первое из тех основных понятий сохранения, которые развиваются только в недрах мысли (см. гл. V). Но поскольку твердое тело (единственное, что вначале может оцениваться субъектом) сохраняется, и, более того, его сущность в этом контексте может быть сведена к сохранению, как таковому, постольку остаются неизменными также его размеры и форма. А это значит, что константность формы и величины является схемой, которая по меньшей мере столько же зависит от восприятия, сколько и от интеллекта. Наконец, само собой разумеется, что объект, в силу перцептивных постоянств и в силу сохранения его за границами актуального поля восприятия, связан с целой серией моторных навыков, являющихся одновременно и источником, и результатом построения этой схемы. Все это позволяет увидеть, насколько построение схемы объекта по самой своей природе облегчает понимание истинных отношений между интеллектом, восприятием и навыком. Каким же образом строится схема объекта? На уровне рефлекса объект, естественно, не существует, поскольку рефлекс является таким ответом на ситуацию, когда ни стимул, ни вызываемый им акт не требуют ничего иного, кроме свойств, приписываемых перцептивным картинам, в частности, не требуют субстанциональной основы: когда грудной ребенок ищет и находит грудь, нет нужды, чтобы он делал из нее объект, точного расположения груди вместе с постоянством положений вполне достаточно для того, чтобы строить такое поведение без участия более сложных схем. Точно так же и на уровне первых навыков опознавание не включает в себя объекта, поскольку процесс опознавания перцептивной картины не связан с наличием убежденности в существовании воспринятого элемента за пределами актуальных восприятий и опознаваний. С другой стороны, зов, обращенный к отсутствующему лицу, свидетельствует лишь о предвосхищении возможного возвращения этого лица (выступающего в качестве перцептивной картины известного), но отнюдь не о том, что данное лицо пространственно локализуется в организованной ребенком действительности как ее субстанциальный объект. В противоположность этому, когда ребенок следит глазами за движущейся фигурой и продолжает искать ее в момент исчезновения или когда он поворачивает голову, чтобы посмотреть в направлении звука, и т. д., — во всех этих случаях уже образуются истоки практического постоянства, хотя оно пока еще связано только с текущим действием; это перцептивно-моторные предвосхищения и ожидания, но определяются они непосредственно предшествующими восприятием и движением, а отнюдь еще не таким активным поиском, который был бы отличен от движения, уже намеченного или определенного актуальным восприятием.
На третьей стадии (вторичные круговые реакции) интерпретация может быть проверена, поскольку ребенок уже может схватить то, что он видит. Согласно наблюдениям К. Бюлера, субъекту на этом уровне уже удается снять платок, которым закрыли его лицо. Но нам удалось показать, что на той же самой стадии ребенок совсем не стремится отодвинуть платок, положенный на объект, который он хочет взять, — даже в том случае, если движение схватывания уже было намечено им, когда цель была еще видна; следовательно, он ведет себя так, словно предмет исчез в платке и прекратил свое существование как раз в тот момент, когда вышел из поля восприятия, иначе говоря, ребенок не обладает еще никакими формами поведения, позволяющими искать исчезнувший предмет при помощи действия (снять покрытие) или мысли (вообразить). А между тем на этом уровне более, чем на предыдущем, он придает цели текущего действия своего рода практическую непрерывность или мгновенное продолжение: стремится вернуться к игрушке после того, как его что-то отвлекло (отсроченная круговая реакция), предвосхитить позицию объекта при падении и т. д. При этом мгновенное сохранение сообщается объекту именно действием, а после его окончания оно утрачивается.
Искать объект за прикрытием ребенок начинает на четвертой стадии развития (координация известных схем). Это кладет начало дифференцированным формам поведения по отношению к исчезнувшему объекту и тем самым — начало субстанциального сохранения. Но здесь нередко можно наблюдать интересную реакцию, показывающую, что эта рождающаяся субстанция еще не является индивидуализированной и, следовательно, остается связанной с .действием, как таковым: если ребенок ищет объект в точке А (например, под подушкой, расположенной справа от него) и на его глазах этот объект переносят в точку В (другая подушка, но слева от него), то он поворачивается сначала к А, как будто объект, исчезнувший в В, может обнаружиться в своей начальной позиции! Иными словами, объект еще тесно слит с ситуацией целого, которая определяется действием, только что увенчавшимся успехом, и, во всяком случае, еще не содержит ни субстанциальной индивидуализации, ни координации последовательных движений.
На пятой стадии эти ограничения исчезают, за исключением случая, когда решение задачи связано с необходимостью представления невидимого пути; и, наконец, на шестой стадии и этот случай не является препятствием для субъекта.
Таким образом, ясно, что, будучи продолжением привычных для субъекта движений, сохранение объекта является вместе с тем продуктом координаций; схема эта составляет содержание сенсомоторного интеллекта. Выступая прежде всего как продолжение координаций, свойственных навыку, объект, следовательно, строится самим интеллектом и образует его основной инвариант. Этот инвариант необходим для выработки понятия пространства, связанной с ним причинности и всех форм ассимиляции, выходящих за пределы актуального поля восприятия.
Но если очевидны эти связи объекта с навыком и интеллектом, то не менее очевидны и его связи с перцептивным постоянством формы и величины. На третьем из указанных уровней развития ребенок, которому дают соску в перевернутом виде, пытается, если он не видит с другой стороны резинового кончика, сосать стеклянное дно; если же он видит этот кончик, то переворачивает соску (опыт, в котором нет препятствий моторного порядка). Но если после попытки сосать стеклянное дно он видит всю соску целиком (которую ему показывают вертикально), а затем наблюдает ее переворачивание, то он еще не догадывается повернуть соску, как только резиновый кончик становится невидимым. Это значит, что резиновый кончик представляется ему «растворившимся» в стекле (кроме того случая, когда он видим). Таким образом, это поведение, типичное для несохранения объекта, влечет за собой и несохранение самих частей соски, т. е. несохранение формы. На следующей стадии, напротив, построив постоянный объект, ребенок сразу же переворачивает соску, и, следовательно, она воспринимается им как форма, в основном сохраняющая постоянство, несмотря на вращение. И на том же уровне можно наблюдать, как ребенок медленно поворачивает голову, проявляя интерес к изменениям формы объекта под влиянием перспективы.
Что касается константности величин, отсутствие которой в первые месяцы жизни ребенка недавно подтвердил Э. Брунсвик, то она также вырабатывается в течение четвертой и особенно пятой стадии. Например, можно часто наблюдать, как младенец то отдаляет, то приближает объект к глазам, держа его так, словно он изучает изменения величины в зависимости от глубины. Это означает, что имеется определенная связь между выработкой этих перцептивных константностей и интеллектуальным сохранением объекта. Таким образом, отношение, объединяющее эти два вида реальностей, не представляет труда для понимания. Если постоянство является продуктом переносов, перестановок и их регуляций, то ясно, что эти регулирующие механизмы зависят как от моторики, так и от восприятия. Поэтому перцептивные постоянства формы и величины скорее всего обеспечиваются сенсомоторной ассимиляцией, «переносящей» или переставляющей функционирующие отношения при изменении позиции или удалении от воспринимаемого объекта. Точно так же и схема постоянного объекта обязана своим происхождением той же сенсомоторной ассимиляции: именно она вызывает поиск объекта, вышедшего из поля восприятия, и тем самым придает этому объекту постоянство, берущее начало из продолжения собственных действий, а затем проецируемое на внешние свойства.
Поэтому можно допустить, что одни и те же схемы ассимиляции, с одной стороны, регулируют путем «переносов» и перестановок константность формы и величины воспринимаемого объекта, а с другой — определяют поиск объекта, когда он исчезает из поля восприятия. Именно потому, что объект воспринимается константным, и начинается его поиск после исчезновения, и именно потому, что наличие объекта позволяет начать активный поиск при его исчезновении, он и воспринимается константным после своего нового появления. Но дифференциация этих двух аспектов — перцептивной деятельности и интеллекта — в сенсомоторном плане намного ниже, чем дифференциация восприятия и рефлексивного интеллекта: рефлексивный интеллект опирается на обозначающие, существующие в форме слов или образов, тогда как сенсомоторный интеллект опирается только на сами восприятия и на движения. Следовательно, перцептивную деятельность вообще и в частности то, что относится к формированию константностей, можно рассматривать как один из аспектов сенсомоторного интеллекта, — аспект, ограничивающийся случаем, когда объект вводится в непосредственные актуальные отношения с субъектом; когда же сенсомоторный интеллект выходит за пределы поля восприятия, он становится способным предвосхищать и восстанавливать отношения, которые предстоит воспринять или которые уже были восприняты раньше. Таким образом, мы сталкиваемся с полным единством механизмов, относящихся к сенсомоторной ассимиляции, и заслуга выявления этого единства принадлежит теории формы; однако интерпретация его должна идти не по линии статичных форм, возникающих независимо от психического развития, а по линии деятельности субъекта, т. е. ассимиляции.
В таком случае встает проблема, анализ которой связан с изучением пространства. Перцептивные константности являются продуктом простых регуляций, и мы видели (гл. III), что отсутствие абсолютных константностей, свойственное всем возрастам, и наличие «сверхконстантностей», свойственное взрослым, выражает регулятивный, а не операциональный характер системы. Это особенно относится к двум первым годам жизни. Но нельзя ли допустить, что построение пространства, напротив, достаточно быстро находит завершение в структуре группировок и даже групп, согласно гипотезе Пуанкаре о психологически первичном влиянии «группы перемещений»?
Генезис пространства в сенсомоторном интеллекте целиком подчинен прогрессирующей организации движений, а они действительно стремятся к структуре «группы». Но в противоположность мнению Пуанкаре, исходившего из априорного характера «группы перемещений», эта последняя вырабатывается постепенно и является конечной формой равновесия моторной организации: именно последовательные координации (композиция), возвраты (обратимость), отклонения (ассоциативность) и сохранения позиций (идентичность) постепенно порождают группу как фактор необходимого равновесия действий.
На уровне, характерном для двух первых стадий (рефлексы и элементарные навыки), нельзя даже говорить о пространстве, общем для различных полей восприятия: здесь имеется столько разнородных между собой пространств, сколько и качественно различных полей (вкусовое, визуальное, осязательное и т. д.). Но только на третьей стадии развития взаимная ассимиляция этих различных пространств становится систематической в результате координации зрения и хватательных движений. По мере установления такой координации и происходит образование элементарных пространственных систем, заключающих в себе зачатки композиции, свойственной группе. Например, стремясь возобновить прерванную круговую реакцию, субъект возвращается к исходной точке; следя взглядом за движущимся телом, скорость которого превышает скорость собственного взгляда (падение тела и т. д.), субъект иногда достигает цели посредством собственных перемещений, скорректированных с перемещениями внешнего по отношению к нему движущего тела.
Если иметь в виду точку зрения субъекта, а не только математика-наблюдателя, то надо отдавать себе отчет в том, что построение группы предполагает наличие по крайней мере двух условий: понятия объекта и децентрации движений на основе корректирования и даже конверсии первоначального эгоцентризма. В самом деле, совершенно очевидно, что обратимость, свойственная группе, предполагает наличие понятия объекта, и наоборот, потому что вновь найти объект значит не что иное, как получить возможность возврата (путем перемещения самого объекта или собственного тела): объект есть лишь инвариант, порожденный обратимой композицией группы. С другой стороны, и это хорошо показал сам Пуанкаре, понятие перемещения как такового предполагает возможность дифференциации изменений состояния на необратимые и обратимые (или такие, которые можно корректировать при помощи движений собственного тела). В свете этого становится совершенно очевидным, что без сохранения объектов из них невозможно было бы получить «группу», потому что тогда все казалось бы изменением состояния. Таким образом, объект и группа перемещений оказываются нерасчленимыми, причем объект образует статический, а группа — динамический аспект одной и той же реальности. Более того, мир без объекта — это некий универсум, в котором отсутствует систематическая дифференциация реальностей на субъективные и внешние, т. е. некий «адуалистический» мир (Дж. Болдуин). Это значит, что такой универсум центрирован на собственном действии, и субъект находится под властью этой эгоцентрической перспективы тем сильнее, чем более неосознанным для него самого остается его «я». Группа же предполагает прямо противоположную позицию, т. е. настолько полную децентрацию, что собственное тело оказывается лишь одним из элементов среди многих других в системе перемещений, и это дает возможность отличить движения субъекта от движений объектов.
Проведенный анализ с очевидностью показывает, что на первых двух и даже еще на третьей стадии оба упоминавшиеся условия построения группы не выполняются: понятие объекта еще не сформировано, а пространства (и единственное пространство, возникающее затем на основе тенденции к их координации) остаются еще центрированными на субъекте. Поэтому даже в тех случаях, где внешне имеет место возврат (практический) и координация в форме группы, эту видимость нетрудно отличить от реальности, состоящей в том, что привилегированное положение всегда занимает центрация. Так, младенец третьей стадии развития, увидев движущееся тело, которое проходит по линии АВ и входит в В позади экрана, будет искать его не в С (на другом конце экрана), а снова в А, и т. д. Следовательно, движущееся тело еще не является отделенным от субъекта независимым объектом, движущимся по прямолинейной траектории, а рассматривается с точки зрения привилегированной позиции, занимаемой А, где субъект увидел его впервые. Применительно к вращению можно указать на приводившийся пример с перевернутой соской, которую ребенок сосет с обратной стороны, вместо того чтобы повернуть ее; это опять-таки свидетельствует о примате эгоцентрической перспективы и об отсутствии понятия объекта, а вместе с тем и об отсутствии «группы».
С поиском исчезнувших позади экрана предметов (4-я стадия) начинается объективация координации, т. е. построение сенсомоторных групп. Но сам факт, что субъект не учитывает последовательных перемещений объекта, на который направлены его действия, и ищет его под первым из экранов (см. выше), достаточно ясно показывает, что возникающая здесь «группа» частично остается еще «субъективной», т. е. центрированной на собственном действии субъекта, поскольку и сам объект остается зависимым от этого действия и стоит лишь на полпути к окончательному выделению своей специфики.
И только на пятой стадии, когда поиски объекта осуществляются в соответствии с его последовательными перемещениями, «группа» становится действительно объективированной, т. е. приобретает композицию перемещений, их обратимость и сохранение позиции («идентичность»). Здесь из-за отсутствия достаточных предвосхищений недостает еще только возможности отклонений («ассоциативности»), но эта возможность вырабатывается в ходе шестой стадии. Более того, на основе этих завоеваний конструируется комплекс отношений между самими объектами такого типа, как «поставленный на», «внутри», или «вовне», «вперед» или «назад» (с упорядочиванием перспективы, коррелятивной константности величин).
Таким образом, можно сделать вывод, что выработка перцептивных константностей объекта в процессе сенсомоторных регуляций осуществляется параллельно и прогрессирующим конструированием систем, по-прежнему остающихся сенсомоторными, но выходящими уже за пределы сферы восприятия и стремящихся к структуре группы (структуре, естественно, совершенно практической, а не представленной в плане восприятия). Почему же восприятие не использует этой структуры и остается на уровне простых регуляций? Теперь причина ясна: как бы ни было «децентрировано» восприятие по отношению к начальным центрациям зрения или его специального органа, оно всегда остается эгоцентрическим и сосредоточено на актуальном объекте в соответствии с собственной перспективой субъекта. Даже более того, вершиной того вида децентрации, который характерен для восприятия (координация между последовательными центрациями), является композиция лишь статистического порядка, т. е. неполная композиция (гл. III). Поэтому перцептивная композиция не может превысить уровня того, что мы только что называли «субъективной» группой, т. е. уровня системы, центрированной в соответствии с собственным действием субъекта и способной максимум на корректировку и регуляции. Такое положение сохраняется даже тогда, когда субъект, выходя за рамки поля восприятия (чтобы предвосхитить и восстановить в памяти невидимые движения и объекты), в области практического ближнего пространства овладевает объективированной структурой группы.
Теперь мы можем сделать общий вывод относительно глубокого единства между сенсомоторными процессами, порождающими перцептивную деятельность, образованием навыка и собственно довербальным или дорепрезентативным интеллектом. Этот последний, следовательно, возникает отнюдь не как новая сила, надстраивающаяся ех abrupto над предшествующими вполне готовыми механизмами, а является лишь выражением тех же самых механизмов, когда они, выходя за пределы актуального и непосредственного контакта с вещами (восприятие) и коротких, быстро автоматизируемых связей между восприятиями и движениями (навык), начинают становиться подвижными и обратимыми, действуя на все более значительных расстояниях и по все более сложным траекториям. Таким образом, рождающийся интеллект является лишь формой подвижного равновесия, к которому стремятся механизмы, свойственные восприятию и навыку, но которого они достигают лишь после выхода за пределы соответствующих им начальных сфер применения. Более того, уже на этих первых сенсомоторных ступенях интеллекту удается (в случае наиболее благоприятного для этого пространства) создать такую уравновешенную структуру, как группа перемещений. Правда, она строится в предельно практической или эмпирической форме и в очень узком плане ближнего пространства. Вполне очевидно, что эта организация, столь узкая из-за ограниченного характера самого действия, еще не образует специфических форм мысли. Мысль должна пройти все этапы развития, от появления языка и до конца раннего детства, чтобы завершенные и даже скоординированные в форме эмпирических групп сенсомоторные структуры развились в операции в собственном смысле слова — операции, посредством которых эти группировки и группы смогут строиться и преобразовываться в плане представления и рефлексивного рассуждения.
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. РАЗВИТИЕ МЫШЛЕНИЯ.
Глава V. Формирование мышления. Интуиция (наглядность)[33] и операции.
В первой части работы мы установили, что операции мышления для достижения форм своего равновесия должны организоваться в такие системы целого, которым свойственна обратимость композиции группировки или группы. Но форма равновесия показывает лишь границу эволюции, не объясняя сама по себе ни ее начальных фаз, ни конструктивных механизмов.
Вторая часть позволила нам различить в сенсомоторных процессах исходный момент операций — сенсомоторные схемы интеллекта, образующие практический эквивалент понятий и отношений, их координацию в пространственно-временные системы; объектов и движений, результатом которой (также выступающим в чисто практической и эмпирической форме) является сохранение как объекта, так и культуры, коррелятивной группе (экспериментальная «группа перемещений» А. Пуанкаре). Но совершенно очевидно, что эта сенсомоторная группа образует просто схему поведения, т. е. уравновешенную систему различных способов, при помощи которых возможно материальное передвижение в пределах близкого пространства, — схему, которая никогда не достигает ранга инструмента мышления[34].
Конечно, сенсомоторный интеллект находится у истоков мышления и будет продолжать воздействовать на него в течение всей жизни через восприятия и практические ситуации. Поэтому, в частности, было бы ошибкой пренебречь воздействием восприятия на сложную и высокоразвитую мысль, как это делают некоторые авторы, слишком быстро переходя от нейрофизиологии к социологии; насколько ошибочна такая поспешность, можно судить по тому прочному влиянию на развитие интеллекта, которое сохраняют начальные схемы. Но, с другой стороны, между довербальным интеллектом и операциональным мышлением пролегает весьма длительный путь, который должен быть пройден, прежде чем образуются рефлексивные группировки; и если действительно имеет место функциональная преемственность между крайними точками, то на различных ступенях с необходимостью должны образовываться многочисленные промежуточные структуры.
Структурные различия между понятийным и сенсомоторным интеллектом.
Чтобы постичь механизм образования операций, важно предварительно понять, что именно должно быть создано, т. е. чего не хватает сенсомоторному интеллекту, чтобы превратиться в понятийное мышление. Действительно, весьма поверхностным было бы представление о том, что построение интеллекта на этой стадии в практическом плане уже завершено и что можно сразу обратиться непосредственно к языку и образному представлению для объяснения того, каким образом этот уже созданный интеллект будет интериоризоваться в логическом мышлении. В самом деле, ведь только основываясь на функциональной точке зрения, в сенсомоторном интеллекте можно найти практический эквивалент классов, отношений, рассуждений и даже групп перемещений, выраженный в эмпирической форме самих перемещений.
С точки же зрения структуры и, следовательно, эффективности между сенсомоторными координациями и координациями понятийными имеется ряд кардинальных различий, которые относятся как к природе самих координации, так и к расстояниям, которые проходит действие, т. е. к широте поля применения этого действия.
Во-первых, функция актов сенсомоторного интеллекта состоит единственно в том, чтобы координировать между собой последовательные восприятия и последовательные реальные движения; при этом сами эти акты могут образовывать только последовательности состояний, связываемых посредством кратких предвосхищений и восстановлений в памяти, но никогда не могут сами по себе привести к образованию представлений целого; эти последние образуются только при условии, что мышление выразит состояния как одновременные и, следовательно, абстрагирует их от действия, развертывающегося во времени. Иными словами, сенсомоторный интеллект представляет собой как бы пленку, полученную при замедленной съемке: на ней можно увидеть последовательно все картины, но раздельно, по очереди, следовательно, без одновременного, связного видения, необходимого для понимания целого.
Во-вторых, акт сенсомоторного интеллекта направлен лишь на практическое удовлетворение, т. е. на успех действия, а не на познание как таковое. Он не направлен ни на объяснение, ни на классификацию, ни на констатацию как таковые, и если в нем все же устанавливается причинная связь, классификация или констатация чего-то, что это преследует только субъективную цель, далекую от поиска истины. Сенсомоторный интеллект является, таким образом, интеллектом просто «пережитым», а отнюдь не рефлексивным. Что касается области его применения, то сенсомоторный интеллект «работает» только на реальном материале, поэтому каждый из входящих в него актов ограничен лишь очень короткими расстояниями между субъектами и объектами. Конечно, он способен к отклонениям и возвратам, но речь всегда идет лишь о реально осуществленных движениях и реальных объектах. От этих коротких расстояний и этих реальных путей освободится только мышление в его стремлении охватить весь окружающий мир в целом, вплоть до невидимого и подчас даже непредставляемого: именно в этом бесконечном расширении пространственных расстояний между субъектом и объектами и состоит основное новшество, создающее собственно понятийный интеллект, и то особое могущество, которое делает этот понятийный интеллект способным порождать операции. Имеется, следовательно, три основных условия перехода от сенсомоторного плана интеллекта к плану рефлексивному. Это, прежде всего, увеличение скоростей, позволяющее слить в одновременный комплекс знания, каждое из которых связано с определенной фазой в последовательности действия. Затем осознание уже самого действия, в отличие от просто желаемых его результатов; сама констатация этого, понятно, усиливает поиск успешных результатов. И наконец, расширение расстояний, позволяющее дополнить действия, направленные на реальности, символическими действиями, которые направлены на представления и выходят, следовательно, за пределы близкого пространства и близкого времени.
Таким образом, мышление не может быть ни выражением, ни даже простым продолжением сенсомоторной сферы в репрезентативную. Необходимо осуществить нечто значительно большее, чем просто сформулировать или продолжить начатое действие; прежде всего надо реконструировать целое в новом плане. В своем первоначальном, исходном виде будут по-прежнему осуществляться только восприятие и действенная моторика, которые могут наполниться новыми значениями и врасти в новые системы понимания. Структуры же интеллекта должны быть полностью перестроены, прежде чем они смогут быть пополнены: умение повернуть объект (сравните с упоминавшейся в главе IV соской) еще не предполагает умения представить себе мысленно ряд вращений; факт материального перемещения с полным отклонением и возвращением в исходную точку еще не влечет за собой понимания системы перемещений, представленных в воображении, а даже предвосхищение сохранения объекта в действии не ведет само по себе к пониманию сохранений, относящихся к системе элементов.
Более того, при построении этих систем в мышлении субъект столкнется с теми же самыми трудностями (но перенесенными в этот новый план), которые в непосредственном действии он уже преодолел. Чтобы построить пространство, время, мир причин и сенсомоторных или практических объектов, ребенок должен освободиться от своего перцептивного и моторного эгоцентризма; только благодаря ряду последовательных децентраций ему и удается воссоздать эмпирическую группу материальных перемещений, располагая свое собственное тело и свои собственные движения среди совокупности других тел и движений.
Построение операциональных группировок и групп мышления требует инверсии в том же направлении, но пути движения в этой области бесконечно сложнее: здесь речь пойдет о децентрации мысли не только по отношению к актуальной перцептивной центрации, но и по отношению к собственному действию в целом. Действительно, мысль, рождающаяся из действия, является эгоцентрической в самой своей исходной точке, причем именно по тем соображениям, по которым сенсомоторный интеллект центрируется сначала на актуальных восприятиях или движениях, из которых он развивается. Поэтому построение транзитивных, ассоциативных и обратимых операций должно предполагать конверсию этого начального эгоцентризма в систему отношений и классов, децентрированных по отношению к собственному «я», и эта интеллектуальная децентрация занимает практически все раннее детство (мы опускаем здесь социальный аспект этой децентрации — о нем пойдет речь в главе VI).
Следовательно, развитие мысли приходит прежде всего к повторению, на основе широкой системы смещений, той эволюции, которая в сенсомоторном плане казалась уже совершенной, пока она не развернулась с новой силой в бесконечно более широком пространстве и в бесконечно более мобильной во времени сфере, чтобы дойти вплоть до структурирования самих операций.
Этапы построения операций.
Чтобы схватить механизм этого развития, форму конечного равновесия которого образуют, как уже говорилось, операциональные группировки, мы выделим (упрощая и схематизируя) четыре основных периода, идущих непосредственно вслед за тем периодом, который характеризуется образованием сенсомоторного интеллекта.
С появлением языка или, точнее, символической функции, делающей возможным его усвоение (от 1,5 до 2 лет), начинается период, который тянется до 4 лет и характеризуется развитием символического и допонятийного мышления.
В период от 4 до 7—8 лет образуется, основываясь непосредственно на предшествующем, интуитивное (наглядное) мышление, прогрессивные сочленения которого вплотную подводят к операциям.
С 7—8 до 11—12 лет формируются конкретные операции, т. е. операциональные группировки мышления, относящиеся к объектам, которыми можно манипулировать или которые можно схватывать в интуиции.
Наконец, с 11—12 лет и в течение всего юношеского периода вырабатывается формальное мышление, группировки которого характеризуют зрелый рефлексивный интеллект.
Символическое и допонятийное мышление.
Имитировать отдельные слова и придавать им глобальное значение ребенок способен, начиная уже с последних стадий сенсомоторного периода, но систематическое овладение языком начинается только к концу второго года. Как непосредственное наблюдение за ребенком, так и анализ некоторых расстройств речи делают очевидным тот факт, что использование системы вербальных знаков обязано своим происхождением упражнению более общей «символической функции», сущность которой состоит в том, что представление реального осуществляется посредством различных «обозначающих», отличных от «обозначаемых» — вещей.
В этой связи следует отличать символы и знаки, с одной стороны, от признаков или сигналов — с другой. Не только всякое мышление, но вообще всякая когнитивная и моторная деятельность — от восприятия и навыка до понятийного и рефлексивного мышления — состоит в том, чтобы соединять значения, а всякое значение предполагает отношение между обозначающим и обозначаемой реальностью. Однако в том случае, когда речь идет о признаках, обозначающее образует часть или объективный аспект обозначаемого или, иначе говоря, соединено с ним причинно-следственной связью: следы на снегу являются для охотника признаком дичи, а видимый край почти целиком спрятанного объекта служит для младенца признаком наличия этого объекта. Равным образом: сигнал, даже если он искусственно вызван экспериментатором, образует для субъекта простой частичный аспект события, о котором он возвещает (в обусловленном поведении сигнал воспринимается как объективный и антецедент). Что же касается символа и знака, то они, напротив, содержат в себе дифференциацию между обозначающим и обозначаемым с точки зрения самого субъекта. Для ребенка, который играет в обед, камешек, представляющий конфету, осознанно признается символизирующим, а конфета — символизируемым. Когда тот же самый ребенок посредством «прилепливания знака» определяет название как нечто присущее называемой вещи, то, даже если он делает из него своего рода этикетку, субстанциально приложенную к обозначаемому предмету, это название все равно рассматривается им в качестве обозначающего.
Уточним еще, что согласно употреблению этих терминов лингвистами (употреблению, которому небесполезно следовать и в психологии), символ содержит в себе связь сходства между обозначающим и обозначаемым, тогда как знак произволен и обязательно базируется на конвенции. Знак, следовательно, может быть образован лишь в социальной жизни, тогда как символ может вырабатываться одним индивидом (как в игре маленьких детей). Впрочем, само собой разумеется, что символы могут быть социализированы, и тогда такой коллективный символ является вообще полузнаком-полусимволом; чистый же знак, напротив, всегда коллективен.
После того, как все это изложено, можно констатировать, что у ребенка овладение языком, а следовательно — системой коллективных знаков, совпадает с образованием символа, т. е. системы индивидуальных обозначающих. Поэтому неправильно было бы говорить о символической игре во время сенсомоторного периода, и К. Грос пошел слишком далеко, когда приписал животным сознание вымысла. Примитивная игра — это простая игра-упражнение, а подлинный символ появляется только тогда, когда объект или жест начинают выступать для самого субъекта как нечто отличное от непосредственно воспринимаемых им данных. В этом смысле характерные явления можно наблюдать на шестой стадии развития сенсомоторного интеллекта, когда появляются «символические схемы», т. е. схемы действия, вышедшие из своего контекста и обращенные к отсутствующей ситуации (например, притвориться спящим). Но там символ, как таковой, возникает только с появлением представления, отделенного от собственно действия: например, уложить спать куклу или медвежонка. И как раз на том уровне, когда в игре появляется символ в узком смысле слова, язык развивает и нечто большее — понимание знаков.
Что касается генезиса индивидуального символа, то вопрос становится яснее, если проследить развитие имитации. В сенсомоторный период имитация является только продолжением аккомодации, свойственной схемам ассимиляции; научившись осуществлять определенный жест, субъект, когда он воспринимает аналогичное движение (обнаруживаемое у другого субъекта или на вещах), ассимилирует это движение со своим жестом и на основе этой ассимиляции, столь же моторной, сколь и перцептивной, пускает в ход собственную схему. Впоследствии новая модель вызывает аналогичный ассимилированный ответ, но активизированная схема приспосабливается в этом случае к новым особенностям. На шестой стадии такая имитирующая аккомодация становится возможной даже в отсроченном состоянии, что является предвестником представления. Однако собственно репрезентативная имитация начинается только на уровне символической игры, потому что, как и символическая игра, она предполагает наличие образа. В этой связи возникает вопрос: является ли образ причиной или он представляет результат интериоризации имитирующего механизма? На наш взгляд, образ — не первичный факт, как это долгое время полагали сторонники ассоцианизма: как и сама имитация, он является аккомодацией сенсомоторных схем, т. е. активной копией, а не следом или сенсорным субстратом воспринимаемых объектов. Он является, таким образом, внутренней имитацией и продолжает аккомодацию схем, свойственных перцептивной деятельности (в противоположность восприятию как таковому), подобно тому как внешняя имитация предыдущих уровней продолжает аккомодацию сенсомоторных схем (которые находятся как раз у истоков самой перцептивной деятельности).
Итак, образование символа может быть объяснено следующим образом: отсроченная имитация, т. е. аккомодация, находящая продолжение во фрагментах подражания, приводит к появлению обозначающих, и игра или интеллект прилагают эти обозначающие к различным обозначаемым, в соответствии с теми способами свободной или адаптированной ассимиляции, которые характеризуют эти поведения. Следовательно, как символическая игра всегда содержит в себе элемент имитации, функционирующей в качестве обозначающего, точно так же и интеллект в его начальных стадиях использует образ в качестве символа или обозначающего[35].
Теперь становится понятным, почему языком (который, кстати, также выучивается путем имитации, но имитации вполне готовых знаков, тогда как имитация форм и т. п. просто поставляет обозначающие для индивидуальной символики) ребенок овладевает в тот же самый период, когда образуется символ: именно использование знаков в качестве символов и предполагает ту совершенно новую, по сравнению с сенсомоторными поведениями, способность, которая состоит в умении представить одну вещь посредством другой. Таким образом, к ребенку может быть применено понятие общей «символической функции» (о которой иногда говорят в связи с изучением афазии), ибо именно образование подобного механизма и характеризует одновременно появление репрезентативной имитации, символической игры, образного представления и вербальной мысли[36].
Итак, обобщая, можно сказать, что рождающееся мышление, продолжая сенсомоторный интеллект, вытекает из дифференцировки обозначающих и обозначаемых и, следовательно, опирается одновременно на изобретение символов и на открытие знаков. Но само собой разумеется, что чем меньше ребенок, тем меньше ему хватает вполне готовой и законченной системы этих коллективных знаков, потому что они, во многом недоступные и не подчиняющиеся ребенку, еще долго не могут выразить то индивидуальное, на котором центрирован субъект. Вот почему в той мере, в какой преобладает эгоцентрическая ассимиляция реального системой собственной деятельности, ребенок всегда будет нуждаться в символах; отсюда символическая игра, или игра воображения — наиболее чистая форма эгоцентрического и символического мышления, отсюда же ассимиляция реального системой собственных интересов и выражение его через образы, созданные собственным «я».
И даже в области адаптированной мысли, т. е. начальной стадии репрезентативного интеллекта, в той или иной мере связанного с вербальными знаками, можно отметить роль образных символов и констатировать, насколько далек субъект в течение первых лет жизни от того, чтобы достичь понятий в собственном смысле слова. В самом деле, период от появления языка и приблизительно до четырех лет можно выделить как первый период развития мышления, который может быть назван периодом допонятийного интеллекта, который характеризуется предпонятиями или партиципациями, а в плане возникающего рассуждения — «трансдукциями», или допонятийными рассуждениями. Предпонятиями являются те понятия, которые ребенок соединяет с первыми вербальными знаками по мере овладения последними.
Характерная особенность, свойственная этим схемам, состоит в том, что они расположены где-то на полпути между обобщенной природой понятия и индивидуальностью составляющих его элементов, не являясь по сути дела ни тем, ни другим. Ребенок двух-трех лет будет говорить «улитка» или «улитки», «луна» или «луны», не придавая этому различию никакого значения и не решая, являются ли улитки, встречающиеся ему во время прогулки, или лунные диски, которые он время от времени видит на небе, одним индивидом (единственной улиткой или единственной луной) или классом различных индивидов. Действительно, с одной стороны, ребенок в этом возрасте еще не может выделять общие классы, поскольку у него отсутствует различение «всех» и «некоторых». С другой стороны, построение понятия постоянного индивидуального объекта для сферы близкого действия еще не означает, что вместе с тем построено аналогичное понятие для большего пространства или повторных появлений объекта через определенные промежутки времени: ребенок еще продолжает считать; что гора действительно меняет свою форму во время прогулки (как раньше соска при вращении) и что одна и та же улитка вновь и вновь появляется в разных местах. Отсюда иногда возникают подлинные «партиципации» между различными объектами, отдаленными друг от друга: еще в 4 года тень, отбрасываемую при помощи экрана на стол в закрытой комнате, дети объясняют той тенью, которая бывает «под деревьями в саду» или ночью и т. д., и полагают, будто эти тени проникли в комнату непосредственно в тот момент, когда на стол был поставлен экран (но при этом нет стремления объяснить причину явления из ничего).
Ясно, что такая схема, оставаясь в целом на полпути между индивидуальным и общим, не является еще логическим понятием и напоминает отчасти схему действия и сенсомоторную ассимиляцию. Однако это уже репрезентативная схема, позволяющая, в частности, представлять большое количество объектов через посредство отдельных избранных элементов, которые принимаются за экземпляры-типы допонятийной совокупности. Вместе с тем, поскольку сами эти индивиды-типы конкретизируются как посредством слова, так и — в той же мере (если даже не больше) — посредством символа, то предпонятие, с другой стороны, зависит от символа — в той мере, в какой оно обращается к этим родовым экземплярам. Одним словом, здесь имеет место схема, которая с точки зрения способа ассимиляции расположена на полпути между сенсомоторной схемой и понятием, а с точки зрения своей репрезентативной структуры участвует в конструировании образного символа.
Рассуждение, строящееся на основе соединения подобных предпонятий, свидетельствует о наличии точно таких же допонятийных структур. Эти примитивные умозаключения, вытекающие не из дедукции, а из непосредственных аналогий, Штерн назвал «трансдукцией». К этому можно добавить, что допонятийное рассуждение — трансдукция — покоится лишь на неполных включениях и, следовательно, обречено на провал при переходе к обратимой операциональной структуре. Если же оно порой приводит к успеху на практике, то только потому, что подобное умозаключение представляет собой всего лишь ряд действий, символизированных в мышлении, — «умственный опыт» в собственном смысле, т. е. внутреннюю имитацию актов их результатов, со всеми ограничениями, которые несет с собой такого рода эмпиризм воображения. Таки образом, мы обнаруживаем в трансдукции одновременно как недостаток общности, присущий предпонятиям, так и символичность или образность, позволяющие перемещать действия в сферу мышления.
Интуитивное (наглядное) мышление.
Только что описанные формы мышления можно анализировать лишь путем наблюдения: опрос в данном случае бесполезен, поскольку интеллект маленьких детей слишком нестабилен. Начиная же приблизительно с четырех лет, напротив, становится возможным получать регулярные ответы и прослеживать их устойчивость, проводя с испытуемым краткие опыты, в которых он должен манипулировать заранее определенными объектами. Этот факт уже сам по себе является показателем формирования новой структуры в мышлении.
В самом деле, от 4 до 7 лет мы можем наблюдать постепенную координацию репрезентативных отношений и связанную с ней возрастающую концептуализацию, которая подводит ребенка от символической, или допонятийной, фазы к операциям. Но весьма показательно, что такой интеллект, прогресс которого (и нередко быстрый) можно проследить, все время остается дологическим, и это имеет место даже в тех областях, где он достигает максимальной адаптации[37]. Подобный дологический интеллект, вплоть до завершения ряда последовательных уравновешиваний, знаменуемых появлением «группировки», выполняет функции дополнения еще незавершенных операций за счет полусимволической формы мышления, в качестве которой выступает интуитивное рассуждение. Этот интеллект может контролировать суждения лишь посредством интуитивных «регуляций», аналогичных — в плане представления — тому, чем являются перцептивные регуляции в сенсомоторной сфере.
Возьмем в качестве примера опыт, который мы проводили вместе с А. Шеминской. Два небольших сосуда А и А2, имеющие равную форму и равные размеры, наполнены одним и тем же количеством бусинок. Причем эта эквивалентность признается ребенком, который сам раскладывал бусинки: он мог, например, помещая одной рукой бусинку в сосуд А, одновременно другой рукой класть другую бусинку в сосуд А2. После этого, оставляя сосуд А в качестве контрольного образца, пересыпаем содержимое сосуда А2 в сосуд В, имеющий другую форму. Дети в возрасте 4—5 лет делают в этом случае вывод, что количество бусинок изменилось, даже если они при этом уверены, что ничего не убавлялось и не прибавлялось. Если сосуд В тоньше и выше, они скажут, что «там больше бусинок, чем раньше», потому что «это выше», или что их там меньше потому что «это тоньше», но во всяком случае все они согласятся с тем, что целое не осталось неизменным.
Отметим прежде всего преемственность такого рода реакции по отношению к реакциям предыдущих уровней. Обладая понятием сохранения индивидуального объекта, субъект не обладает еще понятием сохранения совокупности объектов: целостный класс, следовательно, еще не построен, так как он отнюдь не всегда признается инвариантным. Это определяет два взаимосвязанных последствия: во-первых, в отношении объекта продолжаются те реакции, которые он вызывал и прежде (со смещением, вызванным тем, что речь идет уже не об изолированном элементе, а о совокупности), во-вторых, продолжает отсутствовать общая целостность, о которой мы говорили в связи с анализом предпонятия. С другой стороны, ясно, что причины ошибки — это причины почти перцептивного порядка: ребенка обманывает подъем уровня или уменьшение толщины столбика и т. д. Однако дело здесь не в перцептивной иллюзии: восприятие отношений в основном является точным, но из него строится неполная интеллектуальная конструкция. Это тот дологический схематизм (еще вплотную имитирующий перцептивные данные, хотя и рецентрирующий их при этом по-своему), который может быть назван интуитивным (наглядным) мышлением. Сразу же бросается в глаза его связь с образным характером как предпонятия, так и тех умственных опытов, которые стоят за трансдуктивным умозаключением.
Тем не менее это интуитивное (наглядное) мышление означает прогресс в сравнении с предпонятийным или символическим мышлением: относясь главным образом к конфигурациям целого, а не к простым полуиндивидуальным-полуродовым фигурам, интуиция (наглядность) ведет к зачаткам логики, выступающей, правда, пока еще в форме репрезентативных регуляций, а не операций. С этой точки зрения можно говорить об интуитивных «центрациях» и «децентрациях», аналогичных механизмам, о которых шла речь в связи с сенсомоторными схемами восприятия (гл. III). Рассмотрим тот вариант, когда ребенок считает, что сосуде В бусинок больше, чем в сосуде А, потому что поднялся уровень; в этом случае он «центрирует» свою мысль или свое внимание[38] на отношении между высотами А и В и оставляет без внимания ширину сосудов.
Начнем, однако, пересыпать содержимое сосуда В в сосуды С или D и т. д., еще более тонкие и более высокие; в конечном счете обязательно наступит момент, когда ребенок скажет: «Это меньше, потому что это слишком узко». Отсюда можно заключить, что имеет место корректировка центрации на высоте путем децентрации внимания на ширине. В противоположном варианте, когда испытуемый считает количество бусинок в В меньшим, чем в А, из-за уменьшения толщины, пересыпание в С, D и т. д. приведет его, напротив, к изменению суждения в пользу высоты. Этот переход от одной центрации к двум, осуществляемым одна за другой, уже возвещает о появлении операций: как только ребенок начнет рассуждать относительно двух отношений одновременно, он действительно сделает вывод о сохранении. Здесь же пока нет еще ни дедукции, ни действительной операции: ошибка просто исправляется, но с опозданием, как реакция на собственный перегиб (как в сфере перцептивных иллюзий), и два отношения рассматриваются попеременно, а отнюдь не умножаются логически. Здесь, таким образом, вступает в действие лишь своего рода интуитивная регуляция, а не собственно операциональный механизм. Более того, чтобы изучить одновременно различия между интуицией и операцией и переход от интуиции к операции, следует рассмотреть не только установление, соответственно двум измерениям, связи между величинами, но и само соответствие как таковое, либо в логической (качественной) либо в математической форме. Предъявим испытуемому одновременно сосуды различной формы А и В и попросим его класть одновременно по одной бусинке в каждый сосуд — одну левой рукой, другую — правой. За небольшими исключениями (4 или 5 детей), ребенок сразу же понимает эквивалентность обеих совокупностей, что является уже предвестником операции; но когда формы сосудов резко меняются, он отказывается признать равенство, хотя соответствие и сохраняется! Латентная операция оказывается, таким образом, побежденной чрезмерными требованиями со стороны интуиции.
Выложим теперь на стол шесть красных жетонов и, предложив испытуемому набор голубых жетонов, попросим его разложить их так же, как разложены красные. В возрасте примерно между четырьмя и пятью годами ребенок не может построить соответствия и довольствуется рядом равной длины (из элементов, прижатых друг к другу теснее, чем модель). В возрасте 5—6 лет (в среднем) испытуемый будет помещать шесть голубых жетонов напротив шести красных. Но овладел ли он в этом случае операцией, как это могло бы показаться? Отнюдь нет. Достаточно раздвинуть элементы одного из рядов, собрать их в кучу и т. д., и ребенок откажется верить в их эквивалентность. Пока длится оптическое соответствие, эквивалентность воспринимается как нечто само собой разумеющееся, но как только это оптическое соответствие изменяется, исчезает и эквивалентность, а вместе с ней — неизменность целого.
Итак, эта промежуточная реакция представляет большой интерес. Интуитивная схема стала достаточно гибкой, для того чтобы сделать возможным предвосхищение и построение точной конфигурации соответствий. Неискушенный наблюдатель обнаружит здесь все аспекты операции. Но оказывается, что это логическое отношение эквивалентности, которое неизбежно сохранялось бы, если бы оно действительно было продуктом операции, исчезает при видоизменении интуитивной (наглядной) схемы.
Следовательно, перед нами та форма интуиции (высшая по сравнению с интуицией предыдущего уровня), которую можно было бы назвать «сочлененной интуицией» — в противоположность простым интуициям. Но эта сочлененная интуиция, приближаясь к операции (и впоследствии достигая ее путем совершенно незаметных подчас переходов), остается негибкой и необратимой, как само интуитивное мышление в целом, поэтому она отнюдь еще не представляет «группировки» в собственном смысле слова, а является всего лишь продуктом последовательных регуляций, которые завершаются тем, что сочленяют отношения, вначале глобальные и не поддающиеся анализу.
Это различие между интуитивными (наглядными) и операциональными методами становится еще менее значительным, если рассматривать включение классов и сериации асимметричных отношений, составляющих наиболее элементарные «группировки». Но, само собой разумеется, что ставить проблему следует лишь относительно интуитивной сферы — единственно доступной на этом уровне, — а не для сферы формального, связанного только с языком. Для выяснения того, что представляет собой включение классов, поместим в коробку десятка два бусинок, относительно которых ребенок признал, что они «все из дерева», и которые, следовательно, образуют единое целое В. Большая часть этих бусинок коричневого цвета. Они образуют часть А. Некоторые же из них белые. Они образуют дополнительную часть А'. Чтобы определить, способен ля ребенок понять операцию А + А' = В, т. е. соединение частей в целое, можно поставить перед ним следующий несложный вопрос: каких бусинок, деревянных или коричневых, больше в этой коробке, т. е. А < В? При этом все бусинки остаются видимыми для ребенка. Ребенок вплоть до 7 лет почти всегда отвечает, что больше коричневых, «потому что белых всего две или три». Тогда мы уточняем: «Коричневые сделаны из дерева? — Да. — Если я достану из коробки все деревянные бусинки и положу их сюда (вторая коробка), останутся ли бусинки в первой коробке? — Нет, потому что они все деревянные. — А если я достану коричневые, бусинки останутся? — Да, белые.» Затем повторяем первоначальный вопрос, и ребенок вновь начинает утверждать, что в коробке больше коричневых бусинок, чем деревянных, потому что только две белые бусинки, и т. д.
Механизм этого типа реакций легко объяснить: ребенок легко центрирует свое внимание отдельно на всем В или на частях А и А', уже раз изолированных в мысли, но трудность состоит в том, что, центрируя свое внимание на А, он разрушает этим целое В, так что часть А тогда не может сравниваться больше ни с чем, кроме другой части А'. Следовательно, здесь вновь имеет место распадение целого из-за недостатка мобильности в последовательных центрациях мышления. Но можно идти еще дальше. Попросив ребенка представить, что произойдет, если сделать ожерелье из деревянных бусинок В, или из коричневых А, мы вновь сталкиваемся с предыдущими трудностями, но со следующим уточнением: если я сделаю ожерелье из коричневых, отвечает иногда ребенок, то я не смогу сделать другого ожерелья из тех же бусинок, ожерелье из деревянных бусинок будет состоять только из белых! Именно рассуждения такого рода (в которых нет ничего абсурдного) выявляют различнее, отделяющее интуитивное мышление от операционального: в той мере, в какой интуитивное мышление имитирует реальные действия на основе образного умственного опыта, оно сталкивается с подобным препятствие, когда ребенок не знает, как практически сделать два ожерелья одновременно из одних и тех же элементов, но в той мере, в какой работает операциональное мышление (посредством интериоризованных действий, ставших полностью обратимыми), ничто уже не препятствует субъекту выдвинуть одновременно две гипотезы и сравнить их между собой.
Не менее поучителен пример с сериацией линеек А, В, С и т. д., размеры которых различны, но близки друг к другу (и которые должны сравниваться попарно). Малышам 4—5 лет удается образовать только не координированные между собой пары: ВD, АС, EG и т. д. Затем ребенок конструирует короткие ряды, но при этом ему еще не удается расположить в ряд 10 элементов каким-либо другим путем, кроме последовательных нащупываний. Более тот, когда его ряд закончен, он не может вставить туда новый член, не разрушая при этом целого. Для того чтобы сериация удавалась сразу, например методом, состоящим в выборе сначала самого маленького из всех членов, затем самого маленького из оставшихся, и т. д., нужно достичь операционального уровня. Но именно на операциональном уровне становится возможным и умозаключение (А < В) + (В < С) = (А < С), тогда как на интуитивных уровнях ребенок отказывается вывести из двух перцептивно построенных неравенств А < В, В < С заключение, что А < С.
Прогрессирующие сочленения интуиции, а вместе с ними и различия, еще отделяющие их от операции, особенно отчетливо обнаруживаются, когда в качестве объекта действий выступают пространство и время. Эта сфера к тому же весьма поучительна и с точки зрения возможности сравнений между интуитивными (наглядными) и сенсомоторными реакциями. Вспомним пример с усвоением младенцем действия переворачивания соски. Умение повернуть объект посредством интеллектуального действия не ведет автоматически к умению переворачивать его и в мышлении. Более того, этапы этой интуиции вращения представляют собой в общих чертах повторение этапов реального или сенсомоторного вращения: и в том и в другом случае мы встречаемся с одним и тем же процессом прогрессирующей децентрации, начинающимся с эгоцентрической перспективы, с той лишь разницей, что в первом случае эта децентрация является просто перцептивной и моторной, а во втором — репрезентативной.
В этой ситуации исследователь может действовать двумя способами: либо путем мысленного движения субъекта вокруг объекта, либо же путем мысленного вращения самого объекта. В первом случае ребенку предъявляют, например, сделанные из картона горы, помещенные на квадратном столе, и просят его выбрать среди нескольких очень простых рисунков те, которые соответствуют возможному виду того, что находится на столе (при этом ребенок сидит с одного края стола и, глядя, как кукла меняет позиции вокруг стола, должен отыскать картинки, которые соответствуют этим позициям). Маленькие остаются всегда под властью той позиции, с которой они смотрят в момент выбора, даже если они сами до этого перешли с одной стороны стола на другую. Повороты вправо-влево, вперед-назад сначала являются непреодолимой трудностью, и ребенок овладевает ими лишь постепенно, путем интуитивных регуляций, приблизительно к 7—8 годам.
Вместе с тем, вращение самого объекта позволяет сделать интересные выводы относительно интуиции порядка. Например, на одну и ту же проволоку нанизывают три бусинки одного и того же цвета А, В и С, или же пропускают три шарика А, В и С через картонную трубку (так, чтобы они не громоздились друг на друга). После этого просят ребенка нарисовать целое, сделав нечто вроде шпаргалки; затем проводят элементы 0А, В, С позади экрана или через трубку и просят ребенка предсказать прямой порядок, в каком они будут выходить с другого конца, и обратный порядок, в каком они появятся при возвращении. Прямой порядок угадывается всеми детьми, тогда как обратный порядок постигается ребенком лишь к 4—5 году, к концу допонятийного периода. После этого поворачивают на 180° все устройство (проволоку или трубку) и просят угадать порядок выхода (ставший теперь, естественно, обратным). После того как ребенок проверил результат, начинают снова; затем осуществляют два полуоборота (360°), три и т. д.
Этот опыт позволяет проследить шаг за шагом приобретение интуиции вплоть до возникновения операции. В возрасте от четырех до семи лет ребенок сначала не в состоянии предвидеть того, что в результат одного полуоборота порядок АВС переворачивается в СВА; затем, вынужденный констатировать такое переворачивание, он решает, что два полуоборота тоже дадут СВА; выведенный благодаря опыту из этого заблуждения, он далее не может предвидеть результата трех полуоборотов. Более того, маленькие дети (в возрасте 4—5 лет), после того как они увидели, что первым выходит то А, то С, решают, что и для В придет очередь быть первым (игнорируя ту аксиому Гильберта, согласно которой В, если оно находится между А и С, с такой же необходимостью находится между С и А). Понятием инвариантности позиции «между» ребенок овладевает также через ряд последовательных регуляций этих источников, благодаря которым осуществляются сочленения интуиции. Только к семи годам ребенок начинает осмысливать совокупность трансформаций, причем на последней фазе это нередко происходит достаточно внезапно, посредством общей «группировки» действующих отношений. Таким образом, уже здесь можно сделать вывод, что операция развивается из интуиции не тогда, когда прямой порядок («+») может быть просто мысленно перевернут («—») посредством первого интуитивного сочленения, но только тогда, когда два порядка, обратных по отношению друг к другу, вновь дают прямой порядок («—» на «—» дает «+»; в данном частном случае понимание этого достигается к 7—8 годам).
То же самое можно констатировать и по поводу временных отношений. Интуитивное время — это время, связанное с объектами и отдельными движениями и не обладающее ни однородностью, ни ровным течением. Когда два движущихся тела, выходящих из одной и той же точки А, прибывают в два различных пункта В и В', ребенок 4—5 лет принимает одновременность отправления, но большей частью оспаривает одновременность прибытия, хотя она легко воспринимается; признавая, что когда остановилось одно из движущихся тел, не движется больше и другое, ребенок, тем не менее, отказывается понять, что движения кончились «в одно и то же время», именно потому, что для него не существует еще понятия общего времени для различных скоростей. Точно так же «до» и «после» он оценивает в соответствии с пространственной, но еще не временной последовательностью. С точки зрения продолжительности «более быстро» влечет за собой «больше времени», причем такой вывод делается без всякого участия вербального анализа благодаря простому наблюдению за данными (ибо «быстрее» = «дальше» = «больше времени»).
И даже тогда, когда эти первоначальные трудности уже преодолены на основе сочленения интуиции (сочленения, вызванного децентрациями мышления, привыкающего сравнивать две системы позиций одновременно, что и порождает постепенную регуляцию оценок), еще продолжает существовать систематическая неспособность объединить отдельные проявления локального времени в единое время. Например, если два равных количества воды при одинаковой подаче растекаются по двум рукавам одной и той же трубы (имеющей форму буквы Y) в два сосуда различной формы, то ребенок 6—7 лет признает одновременность пусков и прекращений подачи воды, но не согласен, что вода текла в один сосуд только же времени, сколько в другой. То же можно сказать и о рассуждениях ребенка относительно возраста: если А родился раньше В, это не означает, что он старше, и если он старше, это не исключает для В возможности догнать или даже перегнать его в возрасте!
Такие интуитивные понятия параллельны тем понятиями, которые можно встретить в сфере практического интеллекта. Андре Рей показал, что, когда испытуемые сталкиваются с проблемами комбинирования инструментов (например, вытащить крючком некоторые объекты из трубки, скомбинировать перемещение контактов, вращений и т. д.), их поведение остается иррациональным, пока им не удается найти адаптированные решения[39]. Что касается представлений, в которых манипуляции невозможны (таких, как объяснение движения рек, облаков, плавания кораблей и т. д.), то можно констатировать, что в подобных случаях причинные связи копируются субъектом с собственной деятельности: физические движения являются для него свидетельством конечной цели, активной внутренней силы, река «пускается бежать», чтобы пройти по камешкам, облака создают ветер, который, в свою очередь, их толкает, и т. д.[40]
Таково интуитивное (наглядное) мышление. Как и допонятийное, символическое мышление, из которого оно непосредственно вырастает, интуитивное мышление продолжает развитие в направлении, намеченном сенсомоторным интеллектом. Подобно тому как сенсомоторный интеллект ассимилирует объекты в схемах действия, так и интуиция представляет собой прежде всего мысленно осуществленное действие: перелить, привести в соответствие, включить, расположить в ряд и т. д. — все это пока еще схемы действия, в которых представление ассимилирует реальную действительность. Но аккомодация этих схем к объектам несет в себе уже не только чисто практический элемент, в ней вырабатываются подражательные или образные обозначающие, благодаря которым оказывается возможной фиксация в мысли самой этой ассимиляции. Интуиция, следовательно, выступает и как образное мышление. Оно является более рафинированным, чем в предыдущем периоде, ибо относится уже к конфигурациям целого, а не к простым синкретическим наборам, символизирующим экземпляры-типы; но оно еще использует репрезентативный символизм и поэтому всегда содержит часть ограничений, присущих этому последнему. Ограничения эти очевидны. Интуиция может дать завершение непосредственного отношения между схемой интериоризованного действия и восприятием объектов лишь в виде конфигураций, «центрированных» на этом отношении. Такая неспособность выйти за пределы сферы образных конфигураций делает отношения, образуемые интуицией, неразложимыми по отношению друг к другу. Обратимость оказывается здесь недостижимой в силу того, что сохраняется как односторонность действия, воплощенного в простом воображаемом опыте, так и (столь же неизбежно) односторонность ассимиляции, центрированной на перцептивной конфигурации. Этим определяется, в свою очередь, отсутствие транзитивности (ибо каждая центрация деформирует или отменяет другие) и ассоциативности (ибо отношения зависят от того пути, который проходит мысль при их выработке). Одним словом, отсутствие транзитивной, обратимой и ассоциативной композиции определяет отсутствие как гарантированной идентичности элементов, так и сохранения целого. Поэтому можно сказать, что интуиция остается феноменалистической (ибо имитирует контуры реальности, не корректируя их) и эгоцентрической (ибо постоянно центрирована в соответствии с актуальным действием). Следовательно, ей не хватает равновесия между ассимиляцией объектов в схемы мышления и аккомодацией этих схем к реальной действительности.
Но это начальное состояние, которое можно встретить на любом уровне интуитивного мышления, подвергается прогрессивно усиливающемуся корректирующему воздействию, осуществляемому через систему регуляций, которая предвещает появление операций. Интуиция, которая вначале подчинена непосредственной связи между явлением и точкой зрения субъекта, эволюционирует в сторону децентрации. Каждая деформация, доведенная до крайности, влечет за собой вмешательство отношений, которые в свое время игнорировались. Каждый факт установления связи благоприятствует возможности возврата. Каждое отклонение совершается интерференциями, которые обогащают и расширяют точки зрения субъекта. Таким образом, всякая децентрация интуиции выражается в регуляции, которой свойственна тенденция к обратимости, транзитивной композиции и ассоциативности, иными словами — к сохранению — путем координации — точек зрения. Так возникают сочлененные интуиции, прогресс которых идет в направлении к обратимой мобильности и подготавливает операцию.
Конкретные операции.
Появление логико-арифметических и пространственно-временных отношений ставит проблему, представляющую большой интерес с точки зрения механизмов, свойственных развитию мышления. В самом деле, ведь не простая же договоренность, основанная на предварительно выбранных определениях, обозначает границу того момента, когда сочлененные интуиции преобразуются в операциональные системы Самое большее, что можно сделать, это разделить непрерывное развитие на стадии, определяемые какими-либо внешними критериями. С этой точки зрения, когда речь идет о возникновении операций, решающий поворот знаменуется своего рода уравновешиванием (всегда быстрым и иногда внезапным), которое оказывает влияние на весь комплекс понятий данной системы и которое должно находить объяснение в самом себе. Здесь имеет место нечто сходное с внезапными структурированиями целого, описанными теорией формы. Однако в данном случае происходит явление, противоположное структурной кристаллизации, объединяющей комплекс отношений в единое статическое сплетение; напротив, операции вызывают своего рода размягчение интуитивных структур и внезапную мобильность, которая делает их как бы одушевленными и координирует конфигурации, на всех предыдущих ступенях остававшиеся негибкими, несмотря на их прогрессирующее сочленение. Так, например, когда временные отношения объединяются в идею единого времени, или когда элементы целого начинают пониматься как составная часть инвариантного целого, или когда неравенства, характеризующие комплекс отношений, располагаются в ряд по единой шкале и т. д., в каждый из этих моментов образуется нечто весьма знаменательное в развитии: на смену нащупывающему движению приходит — подчас внезапно — чувство связанности и необходимости, удовлетворенность от завершенности системы, одновременно замкнутой в самой себе и способной к бесконечному расширению.
Проблема, следовательно, заключается в том, чтобы понять, каков внутренний процесс осуществления того перехода от фазы прогрессирующего уравнивания (интуитивное мышление) к достигаемому как бы на его границе мобильному равновесию (операции). Если понятие «группировки», описанное в главе II, действительно имеет психологический смысл, то именно здесь он и должен проявиться. Таким образом, суть нашей гипотезы состоит в том, что интуитивные (наглядные) отношения рассматриваемой системы в определенный момент внезапно группируются. Приняв эту гипотезу, прежде всего следует определить, по какому внутреннему, или умственному, критерию будет фиксироваться наличие «группировки». Ответ очевиден: там, где есть «группировка», имеет место сохранение целого, причем само это сохранение субъект не просто допускает в качестве одного из возможных следствий индукции, а утверждает с полной уверенностью. С этой точки зрения имеет смысл вернуться к первому примеру, который мы приводили в связи с интуитивным мышлением — пересыпанию бусинок. После первого длительного периода, в течение которого ребенок считает, что каждое пересыпание изменяет количество, и промежуточной фазы (сочлененная интуиция), когда некоторые пересыпания он рассматривает как изменившие целое, а другие (если разница между сосудами незначительна) заставляют его допустить, что целое охраняется, — после этого всегда наступает момент (в возрасте 6; 6—7; 8 лет), когда ребенок меняет позицию: у него нет больше потребности в размышлении, он твердо знает, и он даже удивлен, когда ему ставят подобные вопросы, он уверен в сохранении. Но что же здесь произошло? Если ребенка просят привести доводы, он отвечает, что ничего не убавили и не прибавили; маленькие дети знали это не хуже, а между тем они не делали вывода об идентичности величин. Следовательно, отождествление, вопреки мнению Э. Мейерсона, рассматриваться не как первичный процесс, а как результат ассимиляции группировки как целого (продукт, получаемый из прямой операции путем инверсии). Ребенок может дать и другой ответ: что ширина, утраченная новым сосудом, компенсируется за счет высоты и т.д. Однако сочлененная интуиция уже и раньше приводила к подобным децентрациям данного отношения, с той лишь разницей, что они не завершались при этом ни одновременными координациями отношений, ни обязательным сохранением целого.
Наконец, ребенок может привести в обоснование своего утверждения довод, что пересыпание из А в В может быть восстановлено обратным пересыпанием, и эта обратимость имеет, конечно, существенное значение. Однако маленькие дети тоже имеют иногда возможность возвращения к исходной точке, и сам по себе такой «эмпирический возврат» не составляет еще целостной обратимости как таковой. Следовательно, возможен лишь один правомерный ответ на поставленный вопрос: различные трансформации, к которым обращается ребенок (обратимость, композиция компенсированных отношений, идентичность и т. д.), фактически опираются друг на друга, и именно потому, что все они имеют своим основанием организованное целое и каждая из них является действительно новой, несмотря на свое родство с соответствующим интуитивным отношением, уже выработанным на предыдущем уровне.
Другой пример. В случае вращения на пол-оборота (180°) расположенных по порядку элементов А, В, С ребенок мало-помалу интуитивно открывает почти все отношения: что В остается в неизменном положении «между» А и С и «между» С и А, что один поворот меняет порядок АВС и СВА и что два оборота восстанавливают порядок АВС и т. д. Но эти отношения, открытые друг за другом, остаются интуитивными, т. е. за ними нет ни связи, ни необходимости. К 7—8 годам, напротив, испытуемые без каких бы то ни было проб предвидят: 1) что АВС переворачивается в СВА; 2) что две инверсии приводят к прямому порядку; 3) что три инверсии равноценны одной и т. д. Здесь каждое из отношений еще может соответствовать интуитивному открытию, но все вместе они образуют новую реальность, в силу того что строятся теперь дедуктивно и не зависят уже от последовательных опытов, совершаемых в действии или в мысли[41].
Итак, нетрудно видеть, что во всех этих случаях (а они бесчисленны) говорить о достижении мобильного равновесия можно тогда, когда одновременно производятся следующие трансформации: 1) два последовательных действия приобретают способность координироваться в одно; 2) схема действия, уже существующая в интуитивном мышлении, становится обратимой; 3) одна и та же точка может быть достигнута без каких бы то ни было искажений двумя различными путями; 4) возврат в отправную точку позволяет оценить ее как тождественную самой себе; 5) одно и то же действие, повторяясь, или ничего не добавляет к самому себе, или же становится новым действием с кумулятивным результатом. В этих трансформациях нетрудно узнать транзитивную композицию, обратимость, ассоциативность и идентичность, выраженную в логической тавтологии (пункт 5), или числовую итерацию, которые характеризуют соответственно логические «группировки» и арифметические «группы».
Однако для того чтобы постичь подлинную природу «группировки» — в противоположность формулированию ее в логическом языке, — нужно предельно четко понимать, что эти различные взаимосвязанные трансформации фактически являются выражением одного и того же целостного акта — акта полной децентрации или полной конверсии мышления. Сущность сенсомоторной схемы (восприятие и т. п.), предпонятийного символа и самой интуитивной конфигурации состоит в том, что они всегда «центрированы» на частном состоянии объекта и с частной точки зрения субъекта, а поэтому всегда свидетельствуют одновременно как об эгоцентрической ассимиляции, осуществляемой субъектом, так и о феноменалистической аккомодации к объекту. Сущность же мобильного равновесия, характеризующего «группировки», состоит, напротив, в том, что децентрация, уже подготовленная прогрессирующими регуляциями и сочленениями интуиции, внезапно становится систематической, достигая своей границы. С этого момента мысль уже не относится больше к частным состояниям объекта, а следует за самими последовательными трансформациями со всеми их возможными отклонениями и возвратами; она не выступает более как выражение частной точки зрения субъекта, а координирует все существующие точки зрения в систему объективных взаимосвязей. Группировка, таким образом, впервые реализует равновесие между ассимиляцией объектов в действии субъекта и аккомодацией субъективных схем к модификациям объектов. Действительно, в исходной точке ассимиляция и аккомодация действуют в противоположных направлениях, чем и определяется деформирующий характер ассимиляции и феноменалистский — аккомодации. Затем ассимиляция и аккомодация мало-помалу уравновешиваются. Это происходит благодаря предвосхищениям и восстановлениям в памяти, продолжающим действия в двух направлениях и на все большие расстояния, коротких предвосхищений и восстановлений в свойственных восприятию, навыку и сенсомоторному интеллекту, вплоть до антиципирующих схем, выработанных интуитивным представлением. Именно завершение этого равновесия объясняет обратимость — конечную границу сенсомоторных и мысленных предвосхищений и восстановлений в памяти, а вместе с тем обратимую композицию — признак группировки. В самом деле, то обстоятельство, что операции сгруппированы, выражает не более чем создание совокупных условий для координации последовательных точек зрения субъекта (с возможным возвратом во времени и предвосхищением их продолжения) или одновременной координации, поддающихся восприятию или представлению модификаций объекта (в прошлом, в настоящее время или в результате последующего развития).
Операциональные группировки, образующиеся к 7—8 годам (иногда несколько раньше), находят завершение в структурах следующего типа. Прежде всего, они ведут к логическим операциям сериации асимметричных отношений и включения в классы (вопрос о коричневых бусинках А, которых меньше, чем деревянных бусинок В, решается к 7 годам). Отсюда открытие транзитивности, которая лежит в основе дедукции вида А = В, В = С, следовательно, А = С; или А < В, В < С, следовательно, А < С. Кроме того, едва субъект овладевает этими аддитивными группировками, как ему тотчас же становятся понятны мультипликативные группировки в форме соответствий. Научившись осуществлять сериацию объектов, согласно отношениям А1 < B1 < C1..., он не будет больше испытывать трудности при сериации двух или нескольких наборов (таких, А2< B2 < C2...), члены которых взаимно соответствуют друг другу: ряду бусинок, расположенных по возрастающей величине, семилетний ребенок сумеет поставить в соответствие ряд палочек, и даже если все эти предметы перемешаны, он сумеет определить, какому элементу одного из рядов соответствует такой-то из другого (поскольку мультипликативный характер этой группировки не создает никаких дополнительных трудностей в осуществлении только что открытых аддитивных операций сериации).
Более того, одновременное построение группировок включения в классы и количественной сериации ведет к появлению системы чисел. Нет сомнения, что маленький ребенок не дожидается этого операционального обобщения для построения первых чисел (согласно А. Деккедр, между одним и шестью годами он каждый год вырабатывает по новому числу); но числа от 1 до 6 для него еще интуитивны, ибо они связаны с перцептивными конфигурациями. С другой стороны, можно научить ребенка считать, но опыт показал, что вербальное употребление названий чисел остается не связанным с самими операциями счета; иногда эти операции предшествуют устному счету, иногда идут вслед за ним, во всех случаях не подчиняясь необходимой связи. Что касается операций, образующих число, т. е. взаимно-однозначного соответствия (с сохранением, несмотря на трансформации фигур, достигнутой эквивалентности), или простой итерации единицы («1 + 2 = 3», «2 + 1 = 3» и т. д.), то эти операции не требуют ничего, кроме аддитивных группировок включения в классы и сериации асимметричных отношений (упорядочивание). Эти группировки, однако, должны быть слиты в одно операциональное целое, так что единица является одновременно элементом и класса (1 включено в 2; 2 включено в 3 и т. д.), и ряда (первая единица перед второй единицей и т. д.). Действительно, пока субъект имеет дело с индивидуальными элементами в их качественном различии, он может или объединять их на основе эквивалентных свойств (тогда он конструирует классы), или располагать их в порядке по их различиям (тогда он конструирует асимметричные отношения), но он не может группировать их одновременно и как эквивалентные, и как различные. Число же, напротив, является набором объектов, воспринимаемых одновременно и в качестве эквивалентных, и в качестве отдающихся сериации, поскольку единственное различие между ними будет тогда сводиться к их порядковому положению. Объединение различия и эквивалентности, осуществляемое в этом случае, предполагает отвлечение от свойств, а именно благодаря этому происходит образование однородного единства «1» и переход от логического к математическому. В высшей степени интересно, что этот переход генетически совершается в то же самый момент, что и построение логических операций; это означает, что классы, отношения и числа образуют единое целое, психологически и логически нерасчленимое, где каждый из трех членов дополняет два других.
Рассмотренные логико-арифметические операции образуют лишь один аспект основных группировок, построение которых характерно для возраста примерно 7—8 лет. В самом деле, этим операциям, объединяющим объекты для классификации, сериации или счета, соответствуют конститутивные операции самих объектов — объектов полных и вместе с тем единственных, таких, как пространство, время и материальные системы. Нет ничего удивительного, что эти инфралогические или пространственно-временные операции группируются в соответствии с логико-математическими операциями: ведь это те же самые операции, но отнесенные к другому масштабу. Включение объектов в классы и классов друг в друга становится здесь включением частей или «кусков» в целое; сериация, выражающая различия между объектами, предстает в форме отношений порядка (операции размещения) и перемещения, а числу здесь соответствует мера.
Итак, мы видим, как действительно одновременно с формированием понятий классов, отношений и чисел конструируются — и притом удивительно параллельно — исходные качественные группировки времени и пространства. Именно к 8 годам отношения временного порядка («до» и «после») координируются с продолжительностью («более» или «менее долго»), тогда как в интуитивном плане эти две системы понятий остались независимыми. И едва объединившись в единое целое, они порождают понятие общего времени для различных движений на разных скоростях (как внешних, так и внутренних). Особенно важно, что именно к 7—8 годам образуются качественные операции, структурирующие пространство: порядок пространственной преемственности и включение интервалов или расстояний, сохранение длины, поверхностей и т. п.; выработка системы координат; перспективы и сечения и т. д. В этом отношении изучение спонтанной меры, которая начало от первых оценок (вырабатываемых путем перцептивных «переносов») и завершается к 7—8 годам транзитивностью операциональных соответствий (А = В, В = С, следовательно, А = С) и выработкой единства (путем синтеза разделения и перемещения), предельно ясно показывает, каким образом непрерывное развитие сначала перцептивных, а затем интуитивных приобретений завершается конечными обратимыми операциями как своей необходимой формой равновесия.
Важно отметить, что эти различные группировки, как логико-математические, так и пространственно-временные, еще далеки от того, чтобы образовать формальную логику, применимую к любым понятиям и к любым умозаключениям. Именно здесь заключается существенный момент, выявление которого необходимо как для теории интеллекта, так и для педагогики, если мы хотим, в противоположность логицизму школьной традиции, согласовывать обучение с результатами психологии развития.
Действительно, те же самые дети, которые уже достигли только что описанных операций, обычно становятся неспособными к ним, как только они прекращают манипулировать объектами и оказываются вынужденными строить рассуждение при помощи одних лишь вербальных предложений. Следовательно, операции, о которых здесь идет речь, являются «конкретными операциями», но еще не формальными: всегда связанные с действием, они логически структурируют это действие вместе с сопровождающими его словами, но они совершенно не заключают в себе возможности строить логическую речь независимо от действия. Так, например, классификацию в конкретном примере с бусинками ребенок понимает, начиная с 7—8 лет (см. выше), тогда как задачу того же типа, но выраженную в вербальном тексте, он сможет решить лишь значительно позднее (ср. с одним из тестов Бурта: «Некоторые цветы в моем букете желтые», — говорит мальчик своим сестрам. Первая отвечает: «Тогда все цветы желтые»; «Часть желтых», — отвечает вторая, а третья говорит: «Никакие». Кто из сестер прав?»).
И даже более того. У одного и того же ребенка одни и те же «конкретные» умозаключения, ведущие к идее сохранения целого, к транзитивности равенств (А = В = С) или различий (А < В < С…), могут оказаться легко доступными в какой-то одной определенной системе понятий (такой, например, как количество материи) и лишенными какого бы то ни было смысла в другой системе понятий (например, такой, как вес). С этой точки зрения представляется особенно неправомерным говорить об овладении формальной логикой до конца периода детства, пока «группировки» относятся только к определенным типам конкретных понятий (т. е. осмысленных действий), которые они действительно структурируют. Но структурирование других типов конкретных понятий, интуитивная природа которых более сложна, поскольку они опираются еще и на другие действия, требует такой перестройки этих «группировок», которая допускала бы смещение действий во времени.
Это становится особенно ясным из следующего примера, связанного с понятиями сохранения целого (которые являются показателями самой «группировки»). Предъявляя испытуемому два сделанных из пластилина шарика, одинаковых по форме, размеру и весу, и видоизменяя затем один из них (в валик и т. п.), спрашиваем, сохранилась ли материя (то же самое количество пластилина), вес и объем (одинаково ли поднимается вода в двух стаканах, куда мы погружаем объекты). Начиная с 7—8 лет дети признают обязательность сохранения количества материи, опираясь при этом на рассуждения, о которых мы говорили в связи с сохранением совокупностей. Но вплоть до 9—10 лет эти же дети возражают против сохранения веса и при этом опираются на те самые интуитивные рассуждения, посредством которых они до 7—8 лет мотивировали несохранение материи. Что же касается рассуждении, только что (иногда несколько мгновений тому назад) проделанных этими же детьми для доказательства сохранения материи, то они оказываются совершенно не связанными с рассуждениями по поводу веса. Ход их мысли таков: если валик стал более тонким, чем шарик, то материя сохраняется потому, что уменьшение толщины компенсируется удлинением, но вес при это уменьшается, потому что в этом отношении действие уменьшения толщины абсолютно! К 9—10 годам положение меняется: ребенок принимает сохранение веса, причем делает это из тех же соображений, из которых он раньше принимал сохранение материи, однако вплоть до 11—12 лет он продолжает отрицать сохранение объема, опираясь на противоположные интуитивные рассуждения! Точно в таком же порядке происходит развитие сериации, составления равенств и т.д.: в 8 лет два количества материи, равные третьему, признаются равными между собой, но такое рассуждение переносится на два веса (не говоря уже о восприятии объема!), и т. д. Понятно, что причины такого рода смешений следует искать в интуитивном характере представлений о свойствах материи, веса и объема, который или облегчает, или, наоборот, затрудняет становление операциональных композиций. Таким образом, до 11—12 лет одна и та же логическая форма еще не является независимой от разных проявлений своего конкретного содержания.
Формальные операции.
Смещения, примеры которых мы только что рассмотрели, относятся к операциям одних и тех же уровней, хотя и прилагаются к различным областям действий или понятий. Тот факт, что они встречаются на протяжении одного и того же периода, дает основание назвать их «горизонтальными смещениями». Переход же сенсомоторных координаций в репрезентативные, как мы это наблюдали, открывает путь перестройкам, сходным со смещениями; но поскольку эти смещения уже не могут быть отнесены к одним и тем же уровням, их можно назвать «вертикальными». Таким образом, условием построения формальных операций, начинающегося к 11—12 годам, является, кроме всего прочего, полная перестройка интеллекта, которая должна обеспечить перемещение конкретных «группировок» в новую плоскость мышления, причем эта перестройка характеризуется целой серией вертикальных смещений.
Становление формального мышления происходит в юношеский период. В противоположность ребенку, юноша — это индивид, который рассуждает, не связывая себя с настоящим, и строит теории, чувствуя себя легко во всех областях, в частности в вопросах, не относятся к актуальному моменту. Ребенок же способен рассуждать только по поводу текущего действия и не вырабатывает теорий, хотя наблюдатель, отмечая периодическое повторение аналогичных реакций, и может различить в его мыслях спонтанную систематизацию. Характерное для юношества рефлексивное мышление зарождается с 11—12 лет, начиная с момента, когда объект становится способен рассуждать гипотетико-дедуктивно, т. е. на основе одних общих посылок, без необхдимой связи с реальностью или собственными убеждениями, иными словами, отдаваясь необходимости самого рассуждения в силу одной его формы (vi formае), в противоположность согласованию выводов результатами опыта.
Однако подобный процесс рассуждения, непосредственным содержанием которого являются высказывания и который сообразно этому соответствующим образом формализован, предполагает другие операции, нежели рассуждение по поводу действия или реальности. Рассуждение, относящееся непосредственно к самой реальности, состоит в группировке операций, если можно так сказать, первой ступени, т. е. интериоризованных действий, которые могут сочленяться между собой и стали в силу этого обратимыми. Формальное же мышление в противоположность этому означает размышление (в собственном смысле) над этими операциями, т. е. оперирование операциями или их результатами и как итог — группировку операций второй ступени. Несомненно, содержания операций и здесь остаются такими же: проблема всегда будет заключаться в том, чтобы классифицировать, произвести сериацию, пересчитать, измерить, поместить или переместить в пространстве или во времени и т. д. Но посредством формальных операций осуществляется группировка не самих этих классов, рядов или пространственно-временных отношений как таковых (когда группировка направлена на структурирование действий и реальности), а высказываний, в которых выражаются или «отражаются» эти операции. Таким образом, содержанием формальных операций будут импликации (в узком смысле термина) и несовместимости, устанавливаемые между высказываниями, которые, в свою очередь, выражают классификации, сериации и т. д.
С этой точки зрения становится понятным, почему вертикальное смещение от конкретных к формальным операциям возникает даже тогда, когда вторые в известной степени повторяют содержание первых: действительно, речь идет об операциях отнюдь не одной и той же психологической трудности. Именно поэтому стоит только выразить простую проблему сериации представленных в беспорядке трех членов в форме высказывания, как прибавление к ряду становится исключительно затрудненным; в то же время в форме конкретной сериации и даже в форме мысленных транзитивных координаций по поводу действия такое прибавление, начиная с семи лет, не вызывает никаких трудностей. В этом смысле красивым примером является один из тестов Бурта: «Эдит более светлая (или блондинка) чем Сюзанна; Эдит более темная (или брюнетка), чем Лили; какая из трех девочек самая темная?» Решение этого вопроса достигается только к 12 годам, до этого мы встречаемся с рассуждениями вроде следующего: Эдит и Сюзанна — светлые, Эдит и Лили — темные, значит, Лили — более темная, Сюзанна — более светлая, а Эдит — между ними. Иными словами, десятилетний ребенок формально рассуждает так же, как рассуждали малыши 4—5 лет по поводу палочек, которые нужно было расположить в ряд, и только к 12 годам способен достичь в формальном плане того уровня, на котором в конкретном плане он умел оперировать с величинами уже к семи годам. И причина здесь просто в том, что теперь посылки даны в виде чисто вербальных гипотез, а заключение должно быть найдено формально (vi formaе), без обращения к конкретным операциям.
Теперь нетрудно понять, почему формальная логика и математическая дедукция остаются недоступными для ребенка и кажутся образующими автономную область — область «чистого мышления», независимого от действия.
И действительно, независимо от того, идет ли речь об особом языке математических знаков (это знаки, в которых нет ничего от символов в определенном выше смысле, и как всякий язык, они требуют изучения для своего применения) или об обычной системе знаков — словах, выражающих простые высказывания, — во всех случаях гипотетико-дедуктивные операции оказываются расположенными в другой плоскости по сравнению с конкретными рассуждениями, ибо действие со знаками, отделенными от области реального, это нечто совершенно иное, чем действие, относящееся к реальности как таковой или к тем же знакам, но связанным с этой реальностью. Именно поэтому логика, вырывая ту конечную стадию из целостной системы умственной эволюции, на деле ограничивается тем, что аксиоматизирует характерные для данной стадии операции, а отнюдь не рассматривает их место в соответствующем им живом контексте. Впрочем, именно такова роль логики, но роль эта, конечно, полностью развертывается в том случае, когда ее сознательно учитывают. С другой стороны, логику толкает на этот способ движения и природа формальных операций, которые (поскольку операции второй ступени могут развертываться только на знаках) сами вступают на путь схематизации, свойственной аксиоматике. Поэтому именно психология интеллекта должна установить каноны формальных операций в их реальной перспективе и показать, что они не могли бы приобрести никакого значения для интеллекта, если бы не опирались на конкретные операции, одновременно и подготавливающие их и дающие им содержание. С этой точки зрения формальная логика не является адекватным описанием никакого живого мышления: формальные операции образуют структуру лишь конечного равновесия, к которому стремятся конкретные операции, когда они переносятся в более общие системы, комбинирующие между собой выражающие их высказывания.
Иерархия операций и их прогрессирующая дифференциация.
Как мы видели, поведение представляет собой функциональный обмен между субъектом и объектами. Мы можем располагать формы поведения в ряд в соответствии с порядком генетической преемственности, который основан на возрастающих расстояниях в пространстве и времени, характеризующих все более и более сложные пути, проходимые таким обменом.
Таким образом, перцептивная ассимиляция и аккомодация выражают не что иное, как прямой обмен по прямолинейным путям. Навык характеризуется более сложными, но более короткими путями, которые стереотипны и идут в одном направлении. Сенсомоторный интеллект вводит возвраты и отклонения; он настигает объект за пределами перцептивного поля и привычных путей, расширяя, таким образом, начальные расстояния в пространстве и времени, но всегда остается в поле собственного действия субъекта. С появлением репрезентативного и особенно с прогрессом интуитивного мышления интеллект приобретает способность обращаться к отсутствующим объектам и благодаря этому может вырабатывать отношение к невидимой реальности — прошедшей и отчасти будущей. Но такой интеллект оказывается действенным пока еще только по отношению к более или менее статичным фигурам. В случае предпонятия — это полуиндивидуальные-полуродовые образы, на протяжении интуитивного периода репрезентативные конфигурации целого, все лучше и лучше сочлененные; но в обоих, случаях — это только фигуры, т. е. нечто выхваченное на мгновение из движущейся реальности и представляющее лишь некоторые состояния или некоторые пути из всего комплекса возможных путей. Таким образом, интуитивное мышление строит карту реального (чего не мог сделать сенсомоторный интеллект, который сам был частью ближайшей реальности), но карта эта еще воображаемая, с большими белыми пятнами, и еще нет таких координирующих моментов, которые обеспечивали бы переход от одной ее точки к другой. С возникновением конкретных «группировок» операций эти фигуры растворяются или сливаются в плане целого; на этой основе совершается решающий прогресс в овладении расстояниями и дифференциации путей: теперь это уже не неподвижные состояния или пути, выхваченные мыслью, а сами трансформации, всегда позволяющие перейти из одной точки в другую, и наоборот. С этого момента становится доступной вся окружающая реальность. Но теперь она превращается вместе с тем и в представляемую реальность: с появлением формальных операций она становится даже более чем реальностью, потому что открывается целый мир того, что может быть построено, и потому что мышление становится свободным по отношению к реальному миру. Иллюстрацией такой способности является математическое творчество.
Если рассмотреть теперь механизм этого развития, а не только его прогрессирующее расширение, то можно констатировать, что каждый его уровень характеризуется новой координацией элементов, получаемых из процессов предыдущего уровня, причем получаемых в состоянии целостности, хотя и низшего порядка. Так, сенсомоторная схема — единица, свойственная системе досимволического интеллекта, — вбирает в себя перцептивные схемы и схемы, относящиеся к привычному действию (схемы восприятия и схемы навыка — это схемы одного и того же низшего порядка, только одни связаны с актуальным состоянием цели, а другие — с элементарными трансформациями состояний).
Символическая схема, в свою очередь, вбирает в себя сенсомоторные схемы с дифференциацией функций, подражательной аккомодацией (развивающейся в образные обозначающие) и ассимиляцией (определяющей обозначаемые). Интуитивная схема выступает как одновременно координирующая и дифференцирующая образные схемы. Операциональная схема конкретного порядка — это группировка интуитивных схем, самим фактом их группировки возведенных в ранг обратимых операций. И наконец, формальная схема — это как мы только что видели, не что иное, как система операций второй ступени, т. е. группировка, оперирующая конкретными группировками.
Каждый из переходов от одного из этих уровней к следующему характеризуется, таким образом, одновременно как новой координацией, так и дифференциацией систем, составляющих единицу предыдущего уровня. В конечном счете эти последовательные дифференциации ретроспективно проливают свет на недифференцированную природу начальных механизмов и благодаря этому оказывается возможным постичь одновременно как генеалогию операциональных группировок — на основе постепенной дифференциации, так и природу дооперациональных уровней — на основе недифференцированности действующих процессов.
Так, например, сенсомоторный интеллект завершается (как мы это видели в главе IV) своего рода эмпирической группировкой движений, которая с психологической стороны характеризуется поведениями возврата и отклонения, а геометрически — тем, что Пуанкаре назвал группой (экспериментальной) перемещений. Но само собой разумеется, что на этом элементарном уровне, предшествующем всякому мышлению, группировку нельзя рассматривать как операциональную систему, потому что, по существу, она является системой лишь выполненных движений. Именно поэтому она фактически является недифференцированной, а перемещения, о которых идет речь, всегда направлены в одно и то же время в сторону практической конечной цели. Можно, следовательно, сказать, что на этом уровне пространственно-временные, логико-арифметические и практические (с точки зрения средств и цели) группировки образуют еще единое целое и оно, ввиду присутствия дифференциации, не может образовать операционального механизма.
В конце указанного периода и в начале периода репрезентативного мышления, напротив, благодаря появлению символа возникает возможность первой дифференциации — на практические группировки (цели и средства), с одной стороны, и представление — с другой. Но это последнее еще не дифференцировано, поскольку логико-математические операции не в состоянии отчлениться от операций пространственно-временных. Это и понятно: на интуитивном уровне нет ни классов, ни отношений в собственном смысле, поскольку и те и другие остаются одновременно и пространственными совокупностями, и пространственно-временными отношениями; отсюда их интуитивный и дооперациональный характер. И напротив, появление операциональных группировок к 7—8 годам как раз и характеризуется явной дифференциацией ставших независимыми логико-математических операций (классы, операции и не связанные с пространством числа), с одной стороны, и пространственно-временных или инфралогических операций — с другой. Наконец, уровень формальных операций знаменуется последней дифференциацией — дифференциацией между операциями, связанными с реальным действием, с одной стороны, и гипотетико-дедуктивными операциями, относящимися к чистым импликациям между высказываниями-посылками, — с другой.
Определение «умственного уровня».
Знания, приобретенные в психологии интеллекта, имеют три возможных применения, которые непосредственно не относятся к нашей теме, но полезны как средство проверки теоретических гипотез. Общеизвестно, каким образом Бине для определения степени отставания отклоняющихся от нормы форм поведения ввел свою замечательную метрическую шкалу интеллекта. Тонкий аналитик процессов мышления, Бине больше чем кто бы то ни было понимал, насколько трудно добиться измерения самого механизма интеллекта. Но именно по этой причине он был вынужден прибегнуть к своего рода психологической вероятности. Собрав вместе с Симоном результаты самых различных опытов, он стремится определить частоту правильных решений в зависимости от возраста: интеллект тогда может быть оценен или по степени превосходства над средним статистическим возрастом, соответствующим правильным решениям, или по степени отставания от него.
Неоспоримо, что такие тесты, выполненные для каждого уровня, дают то, чего от них ждут: быструю практическую оценку глобального уровня индивида. Но не менее очевидно и то, что они измеряют просто «успеваемость», не затрагивая конструктивных операций как таковых. Как очень точно сказал Пьерон, понимаемый таким образом интеллект выражает, по существу, суждение о ценности, отнесенное к сложному поведению.
С другой стороны, после Бине количество тестов было значительно увеличено, причем стремились дифференцировать их в зависимости от тех или иных склонностей. Так, в области интеллекта выработали тесты рассуждения, понимания, знания и т. д. Тем самым проблема была сведена к тому, чтобы выделить отношения между этими статистическими результатами в надежде расчленить и измерить различные факторы, функционирующие в тонком механизме мышления. Этой задачей — с ее точными статистическими методами — особенно увлекаются Спирмен и его школа, которые в конечном итоге пришли к гипотезе вмешательства некоторых постоянных факторов. Наиболее общий из этих факторов был назван Спирменом фактором g; его величина находится в определенном соотношении с интеллектом индивида. Но, как подчеркивал сам автор, фактор g выражает просто «общий интеллект», т. е. степень общей действенности комплекса способностей субъекта: поэтому можно было бы говорить о качестве нервной и психической организации, приводящей к тому, что одни индивиды выполняют умственную работу с большей легкостью, чем другие.
Имели место и другие реакции против эмпиризма простых измерений успеваемости, сводившиеся к попыткам определить сами операции, которыми располагает данный индивид. Граница операции бралась при этом в ограниченном направлении и по отношению к генетической конструкции, как делали это и мы в настоящей работе. Так, например, Б. Инельдер использовала понятие «группировки» в диагностике рассуждения. Ей удалось показать, что у умственно отсталых в полной мере можно найти тот же самый порядок овладения понятиями сохранения материи, веса и объема, что и у нормальных индивидов. Б. Инельдер особо отмечает, что невозможно встретить ни последнего из этих инвариантов (который, впрочем, имеет место только у умственно отсталых и чужд слабоумным) без двух других, ни второго без первого, тогда как вполне можно найти сохранение материи без сохранения веса и объема и сохранение материи и веса без сохранения объема. Б. Инельдер сумела противопоставить дебильность, с одной стороны, имбецильности, взяв за критерии различения наличие конкретных группировок (на которые имбецильный неспособен), и с другой — простой умственной отсталости, характеризующейся неспособностью к формальному рассуждению, т. е. незавершенностью операциональной конструкции. В этой работе впервые был применен тот метод, который можно было бы широко использовать для определения уровней интеллекта вообще[42].
Глава VI. Социальные факторы интеллектуального развития.
Человеческое существо с самого своего рождения погружено в социальную среду, которая воздействует на него в той же мере, как и среда физическая. Более того, подобно тому как это делает физическая среда, общество не просто воздействует на индивида, но непрестанно трансформирует самую его структуру, ибо оно не только принуждает его к принятию фактов, но и представляет ему вполне установившиеся системы знаков, изменяющие мышление индивида, предлагает ему новые ценности и возлагает на него бесконечный ряд обязанностей. Это позволяет сделать очевидный вывод, что социальная жизнь трансформирует интеллект через воздействие трех посредников: языка (знаки), содержания взаимодействий субъекта с объектами (интеллектуальные ценности) и правил, предписанных мышлению (коллективные логические или дологические нормы).
Конечно, общество в социологии необходимо рассматривать как нечто целое, хотя это целое, весьма отличное от суммы индивидов, есть не что иное, как совокупность отношений или взаимодействий между индивидами. Каждое такое отношение между индивидами (включающее минимум двоих) существенно видоизменяет его участников и, таким образом, формирует некоторую целостность; при этом целостность, охватывающая все общество, является скорее системой отношений, чем субстратом, сущностью или причиной. Надо иметь в виду, что эти отношения крайне многочисленны и сложны, реально они образуют непрерывную канву истории как через посредство воздействия одних поколений на другие, так и благодаря синхронной системе равновесия в каждый момент истории. Это позволяет говорить об обществе как о связном целом на языке статистики (подобно тому, как гештальт слагается из статистической системы отношений). При этом важно лишь помнить о статистической природе выражений социологического языка: если забыть об этом, то слова могут приобрести совершенно фантастический смысл. В социологии мышления может даже возникнуть вопрос, не лучше ли заменить обычный глобальный язык ссылкой на типы действующих отношений (остающиеся, разумеется, статистическими)?
Но когда речь идет о психологии, т. е. когда основной единицей анализа становится уже не совокупность (или совокупности) отношений как таковых, а индивид, измененный социальными отношениями, тогда слишком общие статистические термины оказываются явно недостаточными. Выражение «воздействие социальной жизни» столь же расплывчато, как и понятие «воздействие физической среды», если отказаться от его детализации. Разумеется, от самого рождения вплоть до зрелого возраста человеческое существо является объектом социальных давлений, но давления эти осуществляются в соответствии с определенным порядком развития, и типы их весьма разнообразны.
Подобно тому как физическая среда не внедряется в эволюционирующий интеллект сразу целиком, а постепенно в соответствии с опытом появляются отдельные приобретения (причем эти приобретения и особенно регулирующие их способы ассимиляции и аккомодации, крайне различные для разных уровней, могут быть прослежены буквально шаг за шагом), точно так же и среда дает место для взаимодействий между развивающимся индивидом и его окружением, взаимодействий, весьма различающихся и вместе с тем сохраняющих закономерную преемственную связь друг с другом. Именно эти типы взаимодействий и законы их преемственности психолог должен установить с особенной тщательностью, иначе он рискует упростить свою задачу настолько, что сведет ее к чистой социологии. Но как только мы признаем значительность факта видоизменения структуры индивида в результате этих взаимодействий, тотчас исчезают какие бы то ни было основания для конфликта между социологией и психологией: обе эти дисциплины выигрывают, если они выходят за рамки одного лишь глобального анализа и встают на путь анализа указанных отношений.
Социализация индивидуального интеллекта.
В зависимости от уровня развития индивида природа его взаимодействия с социальной средой может быть весьма различной и, в свою очередь, может, соответственно, по-разному видоизменять индивидуальную психическую структуру.
Уже в сенсомоторный период младенец является объектом многочисленных социальных воздействий: ему доставляют максимальные удовольствия, доступные его небольшому опыту — от кормления до проявлений определенных чувств (его окружают заботой, ему улыбаются, его развлекают, успокаивают); ему внушают также навыки и регулятивы, связанные с сигналами и словами, взрослые запрещают ему определенные виды поведения и ворчат на него. Короче говоря, если смотреть со стороны, грудной младенец находится в центре множества отношений, предвещающих знаки, ценности и правила последующей социальной жизни. Но с точки зрения самого субъекта социальная среда по существу еще не отделяется от среды физической, по крайней мере, до пятой из выделенных нами в сенсомоторном интеллекте стадий (гл. IV). Знаки, употребляемые по отношению к ребенку в этом возрасте, являются для него лишь указателями или сигналами. Правила, которые ему предписывают, еще не оставляют осознанных обязанностей и смешиваются с закономерностями, свойственными навыкам. Что касается лиц, то они выступают для него как определенные картины, аналогичные всем тем картинам, которые образуют реальность, только особенно активные, неожиданные и являющиеся источником более интенсивных чувств. Младенец старается воздействовать на них так же, как на вещи, различными криками и эффективными жестами, заставляя их продолжать заинтересовавшие его действия; но в этой ситуации еще нет никакого мыслительного взаимодействия, потому что для ребенка на этом уровне не существует мысли, а следовательно, и никакого сколько-нибудь глубокого изменения интеллектуальных структур, вызываемого воздействием окружающей социальной жизни[43].
Только на базе овладения языком, т. е. с наступлением символического и интуитивного периодов, появляются новые социальные отношения, которые обогащают и трансформируют мышление индивида. Но в этой проблеме следует различать три разные стороны.
Во-первых, надо иметь в виду, что система коллективных знаков сама по себе не порождает символической функции, а лишь естественно развивает ее в таком объеме, который для отдельно взятого индивида мог бы представляться излишним. С другой стороны, знак как таковой, чисто условный («произвольный») и полностью сконструированный, не является достаточным средством выражения мышления маленького ребенка: он не довольствуется тем, чтобы говорить, — ему нужно играть в то, что он думает, выражать свои мысли символически, при помощи жестов или объектов, представлять вещи посредством подражания, рисования и конструирования. Короче говоря, с точки зрения собственно выражения мысли ребенок вначале остается в промежуточном положении между применением коллективного знака и индивидуального символа. Впрочем, наличие и того и другого необходимо всегда, но у малышей индивидуальный символ развит значительно больше, чем у взрослых.
Во-вторых, язык передает индивиду вполне готовую, сформировавшуюся систему понятий, классификаций, отношений — иными словами, неисчерпаемый потенциал идей, которые заново строятся каждым индивидом по модели, выработанной в течение многих веков предыдущими поколениями. Но само собой разумеется, что в этом наборе ребенок заимствует только то, что ему подходит, гордо проходя мимо того, что превышает его уровень мышления. И то, что он заимствует, ассимилируется им в соответствии со сложившейся у него в данное время интеллектуальной структурой: слово, предназначенное для выражения общего понятия, сначала порождает лишь полуиндивидуальное-полусоциализированное предпонятие (так, например, слово «птица» вызывает в представлении домашнюю канарейку и т. д.).
Наконец, в-третьих, остаются сами отношения, в которые индивид вступает со своим окружением; это «синхронные» отношения, противоположные тем «диахронным» процессам, со стороны которых ребенок испытывает влияние, овладевая языком и связанными с ним способами мышления. Эти синхронные отношения с самого начала занимают ведущее место: разговаривая со своими близкими, ребенок каждое мгновение наблюдает, как подтверждаются или опровергаются его мысли, и он постепенно открывает огромный мир внешних по отношению к нему мыслей, которые дают ему новые сведения или различным образом производят на него впечатление. Таким образом, с точки зрения интеллекта (а только о нем одном здесь и идет речь) субъект идет по пути все более интенсивного обмена интеллектуальными ценностями и подчиняется все большему и большему количеству обязательных истин (под которыми понимаются вполне оформленные мысли или нормы рассуждения в собственном смысле). Однако и здесь было бы ошибочным как преувеличение этих способностей к ассимиляции, свойственных интуитивному мышлению, так и смешение их с тем, во что они превратятся на операциональном уровне. В самом деле, рассматривая адаптацию мышления к физической среде, мы видели, что для интуитивного мышления, преобладающего до конца раннего детства (7 лет), характерна сохраняющая постоянное значение неуравновешенность между ассимиляцией и аккомодацией. Интуитивное отношение, в противоположность «группировке» всех действующих отношений, всегда проистекает из «центрации» мысли в зависимости от собственной деятельности; так, эквивалентность двух рядов объектов оказывается понятой ребенком этого уровня только по отношению к действию приведения их в соответствие, но понимание сразу же утрачивается, едва это действие заменяется другим. Таким образом, интуитивное мышление всегда свидетельствует о деформирующем эгоцентризме, ибо отношение, принимаемое субъектом, всецело связывается с его действием и децентрируется в объективной системе[44]. С другой стороны, сам по себе тот факт, что интуитивная мысль в каждый момент «центрируется» на данном отношении, делает ее элементом мира феноменов; поэтому она, как мысль, может приближаться к реальности только по своей перцептивной видимости. Интуитивная мысль, следовательно, находится во власти непосредственного опыта, который она копирует и имитирует, вместо того чтобы корректировать. Реакция интеллекта этого уровня на социальную среду абсолютно параллельна его реакции на физическую среду, что, впрочем, вполне естественно, поскольку эти два вида опыта в реальной действительности неразделимы.
Как бы ни был зависим маленький ребенок от окружающих интеллектуальных влияний, он ассимилирует их по-своему: все эти явления он сводит к своей собственной точке зрения и тем самым, сам того не замечая, деформирует их; своя собственная точка зрения еще не отчленилась для него от точки зрения других, поскольку у него нет координации или «группировки» самих точек зрения. Поэтому, из-за отсутствия сознания своей субъективности, он эгоцентричен как в социальном, так и в физическом плане. Например, ребенок может показать свою правую руку, но, глядя на стоящего против него партнера, будет путать отношения, не умея встать на другую точку зрения как в социальном, так и в геометрическом смысле; аналогичную ситуацию (когда ребенок сначала приписывает другим свой собственный взгляд на вещи) мы фиксировали при анализе выработки понимания перспективы; при оперировании понятием времени случается даже и так, что маленький ребенок, признавая себя немного младше отца, тем не менее полагает, что отец родился после него; в основе такого вывода лежит неумение вспомнить, что он делал до этого. Короче говоря, интуитивная центрация (противоположная операциональной децентрации) подкрепляется неосознанным и в силу этого постоянным преобладанием собственной точки зрения. Этот интеллектуальный эгоцентризм в любом случае скрывает за собой не что иное, как недостаток координации, отсутствие «группировки» отношений с другими индивидами и вещами. И это вполне естественно: преобладание собственной точки зрения, как и интуитивная центрация на основе собственного действия, является лишь выражением исходной неотделимости от деформирующей ассимиляции, поскольку все определяется единственно возможной в начальном пункте точкой зрения. Подобная недифференцированность не содержит в себе, по сути дела, ничего удивительного: умение различать точки зрения и координировать их предполагает целостную деятельность интеллекта.
Но поскольку начальный эгоцентризм вытекает из простой недифференцированности между ego и alter, как раз в этот период субъект особенно подвержен любому влиянию и любому принуждению со стороны окружения; он приспосабливается к такому влиянию и принуждению без всякой критики из-за отсутствия своей собственной точки зрения (в подлинном смысле слова); так, маленькие дети часто не сознают, что они подражают, считая, что инициатива в создании образца принадлежит им, и, наоборот, нередко они приписывают другим свойственные им мысли. Именно поэтому в развитии ребенка апогей эгоцентризма совпадает с апогеем силы влияния примеров и мнений окружающих, а смесь ассимиляции в «я» и аккомодации к окружающим образцам может быть объяснена из тех же соображений, что и смесь эгоцентризма и феноменализма, свойственная начальному интуитивному пониманию физических отношений.
Однако надо оговориться, что сами по себе одни условия (которые, как было показано, сводятся к отсутствию «группировки») недостаточны для того, чтобы принуждение со стороны окружения могло породить в уме ребенка логику, даже если истины, внушаемые посредством этого принуждения, рациональны по своему содержанию; ведь умение повторять правильные мысли, даже если субъект при этом думает, что они исходят от него самого, еще не ведет к умению правильно рассуждать. Напротив, если мы хотим научить субъекта рассуждать логично, то необходимо, чтобы между ним и нами были установлены те отношения одновременной дифференциации и реципрокности, которые характеризуют координацию точек зрения.
Иными словами, на дооперациональных уровнях, охватывающих период от появления языка приблизительно до 7—8 лет, структуры, свойственные формирующемуся мышлению, исключают возможность образования социальных отношений кооперации, которые одни только и могут привести к построению логики.
Ребенок, колеблющийся между деформирующим эгоцентризмом и пассивным принятием интеллектуальных принуждений, не может еще выступать как объект социализации, способной глубоко изменить механизм его интеллекта.
И напротив, на уровне построения «группировок» операций (сначала конкретных, затем, — что особенно важно — формальных) вопрос о роли социального обмена и индивидуальных структур в развитии мышления ставится со всей остротой. Действительно, формирование подлинной логики, происходящее в течение этих двух периодов, сопровождается двумя видами специфически социальных явлений, относительно которых мы должны точно установить, вытекают ли они из появления группировок или же, наоборот, являются их причиной.
С одной стороны, по мере того как интуиции сочленяются и в конечном итоге группируются в операции, ребенок становится все более и более способен к кооперации — социальному отношению, отличающемуся от принуждения тем, что оно предполагает наличие реципрокности между индивидами, умеющими различать точки зрения друг друга. В плане интеллекта кооперация является, следовательно, объективно ведущейся дискуссией (из нее и на основе ее возникает позднее та интериоризованная дискуссия, какую представляет собой размышление или рефлексия), сотрудничеством в работе, обменом мыслями, взаимным контролем (источником потребности в проверке и доказательстве) и т. д. С этой точки зрения становится ясным, что кооперация находится в исходной точке ряда поведений, имеющих важное значение для построения и развития логики.
С другой стороны, сама логика не является (с психологической точки зрения, которой мы в данном случае придерживаемся) только системой независимых операций: она воплощается в совокупности состояний сознания, интеллектуальных чувств и поведений с такими характеристиками, социальную природу которых трудно оспаривать, независимо от того, первична она или производна. Если рассматривать логику под этим углом зрения, то очевидно, что ее содержание составляют общие правила или нормы: она является моралью мысли, внушенной и санкционированной другими. В этом смысле, например, требование не впадать в противоречия есть не просто условная необходимость («гипотетический императив»), предписывающая подчинение правилам операционального функционирования, но также и моральный императив («категорический»), поскольку это требование выступает как норма интеллектуального обмена и кооперации. И действительно, ребенок стремится избежать противоречий прежде всего из чувства обязанности перед другими.
Точно так же объективность, потребность в проверке, необходимость сохранять смысл слов и высказываний и т. д. — все это в равной мере и условия операционального мышления, и социальные обязанности.
В этом пункте неизбежно встает вопрос: является ли «группировка» причиной или следствием кооперации? «Группировка» — это координация операций, т. е. действий, доступных индивиду. Кооперация — это координация точек зрения или, соответственно, действий, исходящих от различных индивидов. Таким образом, родство «группировки» и координации очевидно, но важно выяснить, операциональное ли развитие, внутренне присущее индивиду, делает его способным вступить в кооперацию с другими индивидами или же, напротив, извне данная и затем интериоризованная индивидом кооперация заставляет его группировать свои действия в операциональные системы.
Операциональные «группировки» и кооперация.
На вопрос о соотношении «группировки» и кооперации, несомненно, следует давать два различных, но взаимодополняющих ответа. С одной стороны, без интеллектуального обмена и кооперации с другими людьми индивид не сумел бы выработать способность группировать операции в связное целое, и в этом смысле операциональная «группировка» предполагает, следовательно, в качестве своего условия социальную жизнь. Но, с другой стороны, сами процессы интеллектуального обмена подчиняются закону равновесия, представляющему собой, по сути дела, не что иное, как операциональную «группировку», ибо кооперация, помимо всего прочего означает также и координацию операций.
Поэтому «группировка» выступает как форма равновесия не только индивидуальных, но и межиндивидуальных действий, и с этой точки зрения она является автономным фактором, коренящимся в недрах социальной жизни.
В самом деле, очень трудно понять, каким образом смог бы индивид без интеллектуального обмена точно сгруппировать операции и, следовательно, трансформировать свои «интуитивные представления в транзитивные, обратимые, идентичные и ассоциативные операции. «Группировка» состоит, по существу, в том, что восприятия и спонтанные интуитивные представления индивида освобождаются от эгоцентрической точки зрения и создается система таких отношений, при которых оказывается возможным переход от одного члена или отношения к другому, независимо от той или иной определенной точки зрения. Следовательно, группировка по самой своей природе есть координация точек зрения, что фактически означает координацию наблюдателей, т. е. координацию многих индивидов.
Предположим, однако, что какой-то супериндивид после бесконечного ряда сопоставлений точек зрения сумел бы сам скоординировать их между собой таким образом, что построил «группировку». Но каким образом один индивид, даже обладающий достаточно длительным опытом, смог бы вспомнить свои предшествующие точки зрения, т. е. комплекс отношений, которые он воспринимал раньше, но теперь уже не воспринимает? Если бы он действительно обладал такой способностью, то это означало бы, что он сумел построить своего рода обмен между своими различными последовательными состояниями, т. е. посредством непрерывного ряда соглашений с самим собой сумел создать для себя систему условных обозначений, способных консолидировать его воспоминания и перевести их на язык представлений; тем самым было бы построено общество состоящее из его различных «я»! Ведь, в сущности, именно постоянный обмен мыслями с другими людьми позволяет нам децентрировать себя и обеспечивает возможность внутренне координировать отношения, вытекающие из разных точек зрения. В частности, без кооперации было бы чрезвычайно трудно сохранять за понятиями постоянный смысл и четкость их определения. Поэтому сама обратимость мышления оказывается связанной с сохранением коллектива, вне которого индивидуальная мысль обладает значительно меньшей мобильностью.
Сказав это и тем самым признав, что логически правильно построенная мысль обязательно является социальной, нельзя упускать из виду и того, что законы «группировки» образуют общие формы равновесия, в равной мере выражающие равновесие как межиндивидуальных обменов, так и операций, которые способен осуществлять всякий социализированный индивид, когда он начинает строить рассуждение во внутреннем плане, опираясь при этом на глубоко личные и наиболее новые из своих мыслей. Следовательно, утверждение, что индивид овладевает логикой только благодаря кооперации, сводится просто к принятию тезиса, что сложившееся у него равновесие операций основывается на его бесконечной способности к взаимодействию с другими индивидами, т. е. на полной реципрокности. Однако этот тезис совершенно очевиден, поскольку сама по себе «группировка» есть система реципрокностей. Более того, можно сказать, что и интеллектуальный обмен между индивидами представляет собой, по сути дела, систему приведений в соответствие, т. е. совершенно точно определенные группировки: такому-то отношению, установленному с точки зрения А, соответствует (как результат обмена) такое-то отношение с точки зрения В, а такая-то операция, осуществленная А, соответствует такой-то операции, осуществленной В (независимо от того, эквивалентна ли она первой операции или просто реципрокна с ней). Именно эти соответствия определяют согласие (или несогласие, когда речь идет о несоответствии) партнеров относительно каждого высказывания, выдвинутого А или В; их можно рассматривать как обязательства, которые берут на себя партнеры для сохранения принятых высказываний и приписывания им в течение длительного промежутка времени единого значения: и то и другое необходимо для последующих обменов. Интеллектуальный обмен между индивидами можно сравнить с огромной по своим размерам и непрерывной партией в шахматы, где каждое действие, совершенное в одном пункте, влечет за собой серию эквивалентных или дополнительных действий со стороны партнеров; законы группировки — это не что иное, как различные правила, обеспечивающие реципрокность игроков и согласованность (соherеnсе) их игры.
Точнее, следовало бы сказать, что каждая группировка, будучи внутренней для индивида, есть система операций, а кооперация образует систему операций, осуществляемых сообща, т. е. систему операций в собственном смысле слова.
Однако отсюда еще не следует, что законы группировки определяют одновременно как законы кооперации, так и законы индивидуальной мысли. Они составляют, как мы уже говорили, всего лишь законы равновесия и выражают просто ту частную форму равновесия, которая реализуется при двух условиях: во-первых, когда общество уже не деформирует индивида своим принуждением, а воодушевляет и поддерживает свободное функционирование его психической деятельности; во-вторых, когда такое свободное функционирование мысли каждого индивида, в свою очередь, уже не деформирует ни мысли других индивидов, ни вещи, а базируется на реципрокности между различными деятельностями. В соответствии с этим определением, такая форма равновесия не может рассматриваться как результат одной лишь индивидуальной мыслительной деятельности, ни как исключительно социальный продукт: внутренняя операциональная деятельность и внешняя кооперация являются, в самом точном смысле слова, двумя дополняющими аспектами одного и того же целого, ибо равновесие одного зависит от равновесия другого. Более того, поскольку в реальной действительности равновесие никогда не достигается полностью, мы вынуждены рассматривать определенную идеальную форму, которую бы оно приняло, если бы было реализовано, и именно это идеальное равновесие аксиоматически описывает логика. Логик оперирует, таким образом, в области идеального (в противоположность реальному) и имеет на это право, потому что равновесие, которое он изучает, никогда не может быть полностью реализовано; напротив, новые эффективные построения делают его достижение все более и более отдаленным. Что же касается социологов и психологов, то когда они исследуют, каким образом фактически осуществляется это уравновешивание, им не остается ничего другого, как прибегать к помощи друг друга.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. РИТМЫ, РЕГУЛЯЦИИ И «ГРУППИРОВКИ»
Интеллект в целом появляется как структурирование, придающее определенные формы обменам (взаимодействиям) между одним или несколькими субъектами и окружающими объектами, находящимися близко от субъектов или расположенными весьма далеко. Специфика интеллекта зависит, по существу, от природы «форм», которые он конструирует.
Сама жизнь, как говорил Браше, уже является творцом «форм»[45]. Конечно, эти биологические «формы» есть «формы» организма — каждого из его органов и материального обмена со средой. Но с появлением инстинкта анатомо-физиологические формы дополняются функциональными обменами, т. е. «формами» поведения. Действительно, инстинкт — это не что иное, как функциональное продолжение структуры органов: клюв дятла продолжается в ударном инстинкте, лапа, способная рыть, — в роющем инстинкте, и т. д. Инстинкт — это логика органов, и именно поэтому он способен достигать таких «форм» поведения, осуществление которых в операциональном плане в собственном смысле предполагало бы (при всей кажущейся аналогичности соответствующих форм) наличие, как правило, исключительно высокоразвитого интеллекта (в качестве примера можно привести поиск объекта, расположенного за пределами поля восприятия и на различных расстояниях). Навык и восприятие образуют уже другие «формы» (на этом настаивала гештальт-теория, выявлявшая законы их организации). Следующий тип «форм» дает интуитивное мышление. Что касается операционального интеллекта, то он, как мы это неоднократно видели, характеризуется мобильными и обратимыми «формами», образующими «группы» и «группировки».
Если мы хотим добавить к рассмотренным в начале (гл. I) биологическим соображениям то, чему научил нас анализ интеллекта, речь должна идти, по существу, о том, чтобы, подводя итоги, определить место операциональных структур в общем ряду всех возможных «форм».
Операциональный акт по своему содержанию может быть очень сходным с интуитивным, сенсомоторным или перцептивным и даже инстинктивным актом: так, геометрическая фигура может появиться в результате логического построения, дооперациональной интуиции, восприятия, автоматизированного навыка и даже строительного инстинкта. Следовательно, разница между различными уровнями — не в содержании акта (т. е. до некоторой степени не в материализованной «форме», выражающей его результат[46]), эта разница — в «форме» самого акта и в его развивающейся организации. В случае рефлексивного интеллекта, достигшего своего равновесия, эта «форма» состоит в определенной «группировке» операций. В случаях, занимающих промежуточное положение между восприятием и интуитивным мышлением, «форма» поведения выступает как «форма» регулирования, более медленного или, наоборот, более быстрого, иногда даже почти мгновенного, но всегда именно как «регуляция». И наконец, в случае инстинктивного поведения или рефлекса речь идет о принявшей относительно законченный вид и неподвижной установке, выступающей как единое целое и реализуемой через периодические повторения или «ритмы». Таким образом, в развитии интеллекта имеет место следующая последовательность основных структур или «форм»: ритмы, регуляции, группировки.
Органические или инстинктивные потребности, лежащие в основе мобильности элементарных «форм» поведения, действительно являются периодическими и подчиняются, следовательно, структуре ритма: голод, жара, половое влечение и т. д. Что касается рефлекторных установок, обеспечивающих удовлетворение этих потребностей и образующих особую подсистему психической жизни, то в настоящее время нам достаточно хорошо известно, что они составляют целостные системы и отнюдь не вытекают из сложения элементарных реакций; передвижение двуногого и особенно четвероногого (организация которого свидетельствует, согласно Грэхему Брауну, о ритме целого, господствующего над дифференцированными рефлексами и даже предшествующего им), такие сложные рефлексы, как рефлекс сосания у новорожденного, и т. д. вплоть до импульсивных движений, характеризующих поведение грудного младенца, — все эти системы представляют собой функционирование, ритмическая форма которого совершенно очевидна. Аналогичным образом и инстинктивные поведения животного, нередко поразительно специализированные, состоят из совершенно определенной последовательности движений, которые создают некоторый ритм, ибо повторяются периодически через постоянные промежутки времени. Таким образом, ритм характеризует виды функционирования, находящиеся на стыке органической и психической жизни, и это настолько неоспоримо, что даже в области элементарных восприятий или ощущений различие в степени восприимчивости делает совершенно очевидным наличие примитивных ритмов, полностью ускользающих от сознания субъекта; точно так же ритм лежит и в основе всякого движения, включая движения, в которые в качестве составной части входит моторный навык.
Итак, ритм представляет собой структуру, которую нельзя не учитывать при определении места интеллекта в общем ряду живых «форм», ибо способ образования последовательной цепи, который предполагается ритмом, в элементарном виде предвещает то, что позднее выступит как собственно обратимость, свойственная высшим операциям. Независимо от того, рассматриваем ли мы особые рефлекторные подкрепления и торможения или вообще последовательность движений, ориентированных попеременно во взаимно противоположных направлениях, схема ритма всегда так или иначе требует чередования двух антагонистических процессов, один из которых функционирует в направлении А —> В, а другой — в обратном направлении: В —> А. Правда, процессы, ориентированные во взаимно противоположных направлениях, имеют место и в системе перцептивных и интуитивных регуляций, а также в регуляциях, которые релятивны по отношению к движениям, координируемым на основе опыта; однако во всех этих случаях такие процессы следуют друг за другом без характерной для ритма последовательности (регулярности) и лишь в соответствии с «перемещениями равновесия», вызываемыми новой внешней ситуацией.
Антагонистические же движения, присущие ритму, напротив, регулируются самой внутренней (и наследственной) установкой и представляют, следовательно, значительно менее гибкую и внутренне жестко связанную целостную систему регулярности. Еще более значительна разница между ритмом и свойственными интеллектуальной обратимости обратными операциями, которые являются преднамеренными и связаны с весьма мобильными операциями «группировки».
Наследственный ритм обеспечивает, таким образом, определенное сохранение форм поведения, которое совершенно не исключает ни их сложности, ни даже относительной гибкости (негибкость инстинктов обычно преувеличивается). Но в той мере, в какой мы имеем дело с врожденными установками, это сохранение периодических схем свидетельствует о систематическом отсутствии аккомодаций субъекта к возможным модификациям внешней ситуации.
И напротив, по мере накопления опыта аккомодация дифференцируется, а элементарные ритмы в той же самой мере интегрируются более широкими системами, уже более не характеризующимися регулярной периодичностью. Вот здесь-то и появляется вторая общая структура, продолжающая ритмику начального периода и выступающая в форме регуляций[47]: именно с регуляциями мы сталкивались, начиная с восприятия и кончая дооперациональными интуициями. Восприятие, например, всегда представляет собой целостную систему отношений и с этой точки зрения может рассматриваться как мгновенная форма равновесия множества элементарных сенсорных ритмов, различными способами объединенных между собой или включенных друг в друга. Эта система стремится к самосохранению в качестве целостной системы до тех пор, пока остаются неизменными внешние данные, но как только они изменяются, аккомодация к новым данным влечет за собой «перемещение равновесия». Однако такие перемещения не могут быть безграничными, и равновесие, устанавливаемое на основе ассимиляции прошлых перцептивных схем, свидетельствует о тенденции воздействовать в направлении, обратном внешней модификации[48]. Это и есть регуляция, т. е. включение в структуру поведения антагонистических процессов, сравнимых с теми, которые уже проявлялись в периодических движениях, но разворачивающихся теперь на высшей ступени, намного более сложной и широкой, и не связанных с обязательной периодичностью.
Структуру, для которой свойственны регуляции, отнюдь нельзя считать специфической только для восприятия. Она в такой же мере обнаруживается и в «корректировках», характерных для развития моторики. Системы такого рода присущи вообще всему сенсомоторному развитию, вплоть до различных уровней сенсомоторного интеллекта. Есть только один случай, занимающий привилегированное положение, — случай перемещений в собственном смысле слова с возвратами и отклонениями, когда система имеет тенденцию к достижению обратимости и тем самым предвещает появление группировки (хотя и с ограничениями, о которых уже шла речь). В общем же случае, ввиду отсутствия полного урегулирования между ассимиляцией и аккомодацией, регуляция никогда не достигает полной обратимости, хотя она, несомненно, уменьшает и корректирует противодействующие индивиду изменения и действует в направлении, обратном предыдущим трансформациям. Если, в частности, иметь в виду складывающееся мышление, то можно сказать, что интуитивные центрации и эгоцентризм, свойственные последовательно конструируемым отношениям этого периода, способствуют сохранению необратимости мышления, как это было показано при анализе несохранений (гл. V). Следовательно, интуитивные трансформации «компенсируются» только действием регуляций, мало-помалу приводящих интеллектуальную ассимиляцию и аккомодацию в состояние гармонии и обеспечивающих ассимиляции и аккомодации функцию регулятора неоперационального мышления в процессе внутренних движений, ощупью ведущих к построению представления.
Итак, нетрудно увидеть, что регуляции (различные типы которых последовательно располагаются от восприятий и элементарных навыков вплоть до появления операций) развиваются с достаточной непрерывностью из начальных «ритмов». Здесь следует напомнить, что те первые приобретения, которые непосредственно сменяют собой функционирование наследственных установок, еще имеют форму ритма: «круговые реакции», лежащие в исходной точке активно приобретенных навыков, состоят в повторениях с хорошо выраженной периодичностью. Еще одним свидетельством наличия постоянных колебаний вокруг определенной точки равновесия являются перцептивные измерения, относимые к величинам или сложным формам (а не только к абсолютной чувствительности). С другой стороны, можно предположить, что составляющие типа тех, которые определяют чередующиеся и антагонистические фазы, свойственные ритму (А —> В и В —> А), вновь встречаются в целостной системе, способной к регуляциям, но в этом случае они выступают одновременно и в состоянии мгновенного равновесия, а не функционируют последовательно друг за другом. Именно поэтому при нарушении равновесия имеет место «перемещение равновесия» и появление тенденции противостоять внешним модификациям, т. е. «ослабить» возникшие изменения (как говорят в физике по поводу известного механизма, описанного Ле Шателье). Теперь нетрудно понять, что когда составляющие действия образуют статические целостные системы, то движения, ориентированные в обратных по отношению друг к другу направлениях (их чередование определяет различные и последовательные фазы ритма), синхронизируются и выражают элементы равновесия системы. При внешних модификациях равновесие перемещается путем перенесения центра тяжести на одну из действующих тенденции, но такое перенесение рано или поздно ограничится вмешательством противоположной тенденции: именно такая инверсия направления и характеризует регуляцию.
В свете сказанного становится совершенно понятной природа обратимости, свойственная операциональному интеллекту) и способ, каким обратные операции «группировки» вытекают из регуляций не только интуитивных, но также из сенсомоторных и перцептивных. Рефлекторные ритмы, как таковые, не обратимы, а всегда ориентированы в каком-то одном определенном направлении. Осуществить движение (или комплекс движений), остановиться и вернуться в исходную точку, для того чтобы повторить движение в том же направлении, — таковы последовательные фазы ритма. И хотя фаза возврата (или антагонистическая фаза) является обратной по отношению к начальному движению, в этом случае речь не идет о втором действии, имеющем то же самое значение, что и на первой позитивной фазе, а лишь о возобновлении движения, ориентированного в том же самом направлении. Тем не менее антагонистическая фаза ритма является исходной точкой регуляции и даже обратных операций интеллекта. Поэтому каждый ритм можно, по сути дела, рассматривать как систему, образованную рядом чередующихся и объединенных в единую целостность регуляций. Что же касается регуляции, выступающей как продукт целостного ритма, когда составляющие системы действуют одновременно, то она характерна для тех форм поведения, которые еще не стали обратимыми, но у которых вместе с тем степень обратимости значительно выросла по сравнению с предшествующими формами. Уже в сфере восприятия инверсия иллюзии предполагает, что прямое отношение (например, сходство) превосходит обратное (различие), когда это последнее возрастает выше определенной точки, и наоборот. В сфере интуитивного мышления положение вещей еще очевиднее: отношение, не принимаемое в расчет в результате центрации внимания, направленной на другое отношение, в свою очередь, одерживает верх над этим последним, когда ошибка переходит определенные границы. Децентрация — источник регуляции — находит завершение в этом случае в интуитивном эквиваленте обратных операций. В частности, это имеет место, когда репрезентативные антиципации и восстановления в памяти увеличивают широту регуляции и делают ее почти мгновенной; это в возрастающем масштабе выступает на уровне «сочлененных интуиции» (гл. V). Следовательно, достаточно регуляции дойти до уровня полных компенсаций (к чему как раз и стремятся «сочлененные интуиции»), чтобы благодаря самому этому факту появилась операция; в самом деле, операции представляют собой не что иное, как систему трансформаций, скоординированных и ставших обратимыми вне зависимости от их конкретных комбинаций.
Таким образом, мы можем все конкретнее и точнее рассматривать операциональные группировки интеллекта как «форму» конечного равновесия, к которому стремятся в процессе своего развития сенсомоторные и репрезентативные функции. Такая концепция позволяет понять глубокое функциональное единство психической эволюции, не затушевывая при этом различий в природе различных структур, свойственных последовательным этапам этой эволюции. Как только достигнута полная обратимость (т. е. достигнут предел непрерывного процесса, где, однако, свойства данного состояния весьма отличны от свойств предшествующих фаз, ибо только на этом этапе наступает равновесие), ранее негибкие элементы приобретают способность к мобильной композиции, которая как раз и обеспечивает их стабильность, поскольку аккомодация к опыту — вне зависимости от характера выполняемых в этом случае операций — находится тогда в постоянном равновесии с ассимиляцией, возведенной самим этим фактом в ранг необходимой дедукции.
Ритм, регуляция и «группировка» образуют, таким образом, три фазы эволюционирующего механизма, связывающего интеллект с морфогенетическими свойствами самой жизни и дающего ему возможность осуществлять специфические адаптации, одновременно безграничные и уравновешенные между собой, которые в органическом плане были бы невозможны.
Примечания
1
Пиаже имеет в виду участие И. Мейерсона в движении «Сопротивления» — Ред.
(обратно)2
«Предустановленная гармония» (1.1) — это решение проблемы, внутренне присущее классическому креационизму, а она является единственно возможным объяснением адаптации, которым располагает витализм в его чистой форме. Преформизм (1.2) иногда связывался с виталистскими решениями проблемы, он может освобождаться от витализма и делает это довольно часто, выступая в форме мутационизма у тех авторов, которые отрицают за эволюцией какой-либо конструктивный характер и рассматривают все новое в поведении живых существ как актуализацию потенции. до той поры остававшихся просто скрытыми. Эмержентная точка зрения (1.3), напротив, сводится к объяснению всего нового, то появляется в иерархии существ, посредством целостных структур, не сводимых к элементам предшествующего генетического уровня. Из этих элементов «эмержирует» некая новая целостность, которая адаптивна и объединяет в одно неразложимое целое как внутренние механизмы, так и их связи с внешней средой. Эмержентмая гипотеза, хотя и принимает факт эволюции, но сводит эволюцию к серии синтезов, не сводимых один к другому, дробит ее, превращая, по существу, в ряд новых сотворений.
(обратно)3
В мутационистских интерпретациях эволюции последующий отбор относится за счет самой среды. У Дарвина он объясняется конкуренцией.
(обратно)4
См.: B.Russell. The Analysis of Mind. London, 1921.
(обратно)5
В этом отношении следует отметить, что социальная природа операций составляет одно целое с их действенной стороной и с их постепенной группировкой в системы. Но для большей стройности изложения мы оставим сейчас дискуссию о социальных факторах мышления, чтобы вернуться к этому вопросу в главе VI.
(обратно)6
См.: J. Piaget. Classes, relations et nombres. Essai sur les groupements de la logistique et la reversibilite de la pensee. Paris, Vrin, 1942.
(обратно)7
См.: L. Brunschvicg. Les etapes de la philosophie mathematique. Paris, 2 ed, p. 426.
(обратно)8
Этот активный характер математического рассуждения хорошо показал Гобло в своем «Трактате о логике» («Traite de logique»). «Делать вывод, — говорил он, — это значит конструировать». Но операциональные конструкции казались ему просто регулируемыми ранее принятыми высказываниями, тогда как на самом деле регулирование операций имманентно им и создается их способностью к обратимым композициям, иными словами, тем, что по своей природе они суть «группы».
(обратно)9
См. нашу работу — J.Piaget Classes, relations et nombres. Paris, Vrin, 1942.
(обратно)10
«Физические формы» играют у Кёлера по отношению к мыслительным структурам ту же самую роль, что и вечные идеи Рассела по отношению к понятиям или априорные схемы по отношению к живой логике.
(обратно)11
См.: H.Frank. Untersuchung uber Sehgrossenkonstanz bei Kindern. «Phychologische Forschung», Berlin, Bd. VII, 1926, S. 137-154.
(обратно)12
См.: J.Piaget et M. Lambercier. Le problem de la comparasion visuelle en profondenr et l'erreur systemayique de l'etalon. «Archivesde psychologie», vol. XXIX, 1943, p.255-308.
(обратно)13
См.: MW. Burzlaff. Methologische Beitrage zum Problem der Farbenkonstanz. «Zeitschrift fur Psychologie», Leipzig, Bd. 119, 1931, S.177-235.
(обратно)14
См.: M. Lambercier. La constance des grandeurs en comparaisons seriales. «Archivesde psychologie», vol. XXXI, 1946, p.79-282.
(обратно)15
См.: F. Beyrl. Uber die Grossenauffassung bei Kindern. «Zeitschrift fur Psycologie», Leipcig, Bd. 100, H. 5-6, 1926, S. 344-371.
(обратно)16
См.: J. Piaget, M. Lambercier, E. Boesh, B. von Albertini. Introduction a l'etude des perceptions chez l'enfant et analyse d'une illusion relative a la perceptions visuelle de circles concentriques. «Archives de psychologie», vol. XXIX, 1942, p. 1-107.
(обратно)17
Так, например, в иллюзии Дельбёфа в том случае, когда длина зоны А', расположенной между внешней и внутренней окружностями, меньше диаметра внутренней окружности А1 происходит видимое расширение площади вписанной окружности А1, за счет площади зоны А'; если же А' > А1, то имеет место обратный эффект.
(обратно)18
Доказательством того, что речь идет об ошибке, связанной именно с функциональным положением измеряющего, служит тот факт, что для уменьшения и даже для ликвидации этой ошибки достаточно внушить субъекту, что эталон меняется при каждом сравнении (для этого надо показывать эталон каждый раз заново). Для того чтобы разрушить перцептивную ошибку, достаточно также потребовать от ребенка перенесения вербального суждения с измеряемого на измеряющее (если он говорит А < В, от него следует добиться суждения В > А), что изменяет функциональные позиции на противоположные.
(обратно)19
См. J.Piaget, B von Albertini, M. Rossi. Essai d'interpretation probabiliste de la loi de Weber et de celle des centrations relatives. «Archives de psychologie», vol. XXX, 1944, p.95-138.
(обратно)20
Лучшим примером неаддитивной композиции перцептивного порядка может служить иллюзия веса, когда часть А (кусок литья) принимается как более тяжелая по сравнению с целым В, образованным из А плюс А' (пустой коробки из легкого дерева, вплотную накладываемой на А). В этом случае мы имеем в восприятии В < А + А' и А > В, тогда как объективно В = А + А'.
(обратно)21
Что, однако, не означает «пассивно», поскольку свидетельствует уже о «законах организации».
(обратно)22
См.: J.Piaget et M.Lambercier. La comparaison visuelle des hauteurs a distances variables dans le plan fronto-parallele. «Archives de psychologie», vol. XXIX, 1943, p.173-253.
(обратно)23
См.: J.Piaget. La construction du reel chez l'enfant. Neuchatel, Delachaux et Niestle, 1937, p.157-158.
(обратно)24
См.: D. Usnadze. Uber die Gewichtstauschung und ihre Analoga. «Psychologische Forschung», Berlin, Bd. XIV, 1931, S. 366-379.
(обратно)25
См.: J.Piaget et M.Lambercier. Essai sur un effet d'einstellung survenant au cours de perceptions visuelles successives. «Archives de psychologie», vol. XXX, 1944, p.139-196.
(обратно)26
См.: von Weizsacker. Der Gestaltkreis. Leipzig, 1940.
(обратно)27
См.: J.Piaget. La naissance de l'intelligence chez l'enfant. Neuchatel. Delachaux et Niestle, 1936.
(обратно)28
См.: А. Rey. Les conduites conditionnees du cobaye. 'Archives de psychologie', vol.XXV, n 99, 1936, p.217-312.
(обратно)29
Ch.Spearmen. The Nature or Intelligence. L., 1923, p.91 (см. отрывок, переведенный Э. Клапаредом в «La genese de l'hypothese». «Archives de psychologie «, vol. XXIV, 1934).
(обратно)30
Ed. Claparede. La genese de l'hypothese. «Archives de psychologie «, vol. XXIV, 1934, p.1-155.
(обратно)31
См.: J. Piaget. La naissance de l'intelligence chez l'enfant. Neuchatel, Paris, 1936, ch. V; P. Guillaume. La formatoin des habitudes. Paris, 1936, p. 144-154.
(обратно)32
См.: P. Guillaume. La formatoin des habitudes. Paris, 1936, p. 65-67.
(обратно)33
В работах Пиаже значение терминов «intuition», «pensee intuitive» и т.д. несколько шире, чем у близких к ним по смыслу русских терминов «наглядность», «наглядное мышление» и т.д., и вместе с тем уже, чем у терминов «интуиция», «интуитивное мышление» в русском языке. Поэтому в переводе в зависимости от контекста используются оба русских варианта. — Ред.
(обратно)34
Если выделить в поведении три большие системы: органические наследственные структуры (инстинкт), структуры сенсомоторные (приобретаемые) и структуры репрезентативные (которые образуют мышление), то группу сенсомоторных перемещений можно поместить на вершине второй из этих систем, тогда как операциональные группы и группировки формального порядка находятся на вершине третьей.
(обратно)35
См.:I Meyerson. Les images. В кн.: G. Dumaes. Nouveau traite de psychologie,vol. 2. Paris, 1932.
(обратно)36
См.: J. Piaget. La formation du symbole chez l'enfant. Neuchatel, Delachaux et Niestle, 1945.
(обратно)37
Мы не касаемся здесь чисто вербальных форм мышления, таких, как анимизм, детский артифисиализм, номинальный реализм и т. п.
(обратно)38
Внимание, сконцентрированное на одной мысли, является не чем иным, как именно центрацией мышления.
(обратно)39
См.:Andre Rey. L'inntelligence pratique chez l'enfant. Paris, Alcan, 1935.
(обратно)40
См.: J. Piaget. La causalite physique chez l'enfant. Paris, Alcan, 1927.
(обратно)41
Исчисление «тетраэдр-различий» или корреляций корреляций.
(обратно)42
См.: B. Inhelder. Lediagnostic du raisonment chez les debites mentaux. Neuchatel, Delachaux et Niestle, 1934.
(обратно)43
Если рассматривать все это с точки зрения аффектов, то несомненно, что только на уровне построения понятия объекта является аффективное отношение к лицам, которые после этого начинают восприниматься как центры независимых действий.
(обратно)44
А. Валлон, который критиковал понятие эгоцентризма, сохраняет между тем само его содержание, которое он удачно выразил, сказав, что маленький ребенок мыслит в желательном, а не изъявительном наклонении.
(обратно)45
С этой точки зрения схемы ассимиляции, направляющие развитие интеллекта, можно сравнить с «организаторами», действующими в эмбриональном развитии.
(обратно)46
Следует отметить, что именно на этой внешней форме и настаивает обычно «теория формы», что приводит ее сторонников к пренебрежению генетической конструкцией.
(обратно)47
Мы говорим здесь, естественно, о структурных регуляциях, а не о энергетических регуляциях, которые, согласно П. Жане и др., характеризуют аффективную жизнь ребенка на тех же самых уровнях его развития.
(обратно)48
См., например, иллюзию Дельбёфа, о которой говорилось выше.
(обратно)
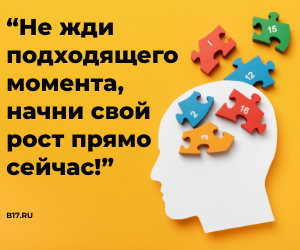

Комментарии к книге «Психология интеллекта», Жан Пиаже
Всего 0 комментариев