Игорь Кон Мужчина в меняющемся мире
ПРЕДИСЛОВИЕ Введение в «мужиковедение»
Высшая цель человечества – ведать свое назначенье.
Ровно за десять грошей здесь его можно купить.
Фридрих Шиллер. Объявление книгопродавцаПредлагаемая вниманию читателя книга – часть одноименного междисциплинарного исследовательского проекта, которым я занимаюсь с 1999 г. Меня интересует, что происходит с мужчинами в мире, в котором они постепенно утрачивают свое былое господство и гегемонию, с какими новыми проблемами они сталкиваются и как они отвечают на вызовы истории.
Первоначально я думал посвятить этой теме одну книгу, но работа над первой же обзорной статьей, главой учебного пособия по гендерным исследованиям (Кон, 2001), показала, что проблем слишком много и к ним нужно подходить с разных сторон. Следующим этапом работы стала иллюстрированная книга «Мужское тело в истории культуры» (Кон, 2003б), прослеживающая эволюцию мужского телесного канона и способов художественной репрезентации обнаженного мужского тела с древнейших времен до современной массовой культуры.
Затем я несколько лет занимался изучением особенностей развития и социализации мальчиков, главным образом – в контексте психологии развития, которую у нас по инерции называют возрастной психологией (отчасти дело в особенностях русского языка – developmental psychology по-русски как-то не звучит). Результаты этой работы в ближайшее время будут представлены в книге «Мальчик – отец мужчины». Я собирался закончить ее раньше, но по ходу работы обнаружил существование целого ряда сложных научно-теоретических и общественно-политических проблем, о масштабе и серьезности которых в России, похоже, мало кто знает. Поэтому я решил не торопиться и сначала разобраться со свойствами взрослых мужчин и женщин и лишь после этого вернуться к особенностям их индивидуального развития.
Наконец, последние четыре года в центре моего внимания был важнейший и, пожалуй, единственный исключительно мужской социальный, точнее биосоциальный, институт – отцовство, изучение которого позволяет, как мне кажется, глубже понять природу, функции и внутреннюю взаимосвязь многих других мужских ролей и идентичностей.
Главные результаты моих исследований и представлены в этой книге. Я не претендую на роль первооткрывателя – о маскулинности и «мужских проблемах» в мире существует огромная специальная литература. Моя задача – синтетически-просветительская. Я подхожу к теме не как теоретик, формулирующий ряд умозрительных и логически последовательных идей, которые, может быть, кто-нибудь когда-нибудь к чему-нибудь приложит, а пытаюсь осмыслить ее через обобщение массы более или менее достоверно установленных, но разрозненных социологических, антропологических, исторических и психологических фактов. Такой подход сегодня крайне непопулярен, люди предпочитают обсуждать не разнородные факты, а методологические принципы. Вообще говоря, я разделяю этот пафос, обсуждать идеи интереснее, чем факты, но без учета эмпирических исследований невозможно отличить научные теории и гипотезы от субъективных мнений.
Мой первый принцип – максимальная опора на данные специальных наук. Как специалист по истории и методологии общественных и гуманитарных наук я хорошо знаю слабые стороны научного и, тем более, гуманитарного дискурса, но при всех ограничениях научные факты все-таки более солидны, чем неотрефлексированные и категоричные суждения обыденного сознания, даже если они облечены в философскую форму.
Второй принцип – меж– или полидисциплинарность. Интересующие нас вопросы с разных сторон изучаются и обсуждаются в рамках социологии, антропологии, истории, психологии, гендерных исследований и многих других наук, каждая из которых имеет свой собственный понятийный аппарат и логику исследования. Нередко то, что считается достоверным в одной науке (например, в эволюционной биологии), категорически отвергается в другой (например, в гендерных исследованиях). Чтобы перебросить между ними логические мосты, нужно иметь солидные профессиональные знания в каждой из них, что невозможно. Единственное, что может сделать автор обобщающей книги, – показать эвристическую ценность и одновременно границы того или иного монодисциплинарного подхода. Минимальные методологические требования при этом: а) никогда и ни при каких условиях ничего не утверждать о мужчинах и женщинах «вообще», без учета социально-экономических, этнокультурных и иных средовых параметров, и б) никогда не сводить и не выводить индивидуально-личностные свойства людей из социально-средовых или биологических факторов.
Третий принцип – всемирно-исторический контекст. В последние полвека взаимоотношения между мужчинами и женщинами, а следовательно, и их психология существенно изменились и продолжают меняться. Хотя межполовая конкуренция, или, как ее иногда называют, «война полов», существовала всегда, в прошлом ее рамки и возможности были жестко определены культурой, и эти ограничения воспринимались как универсальный биологический закон. Мужчины и женщины должны были «покорять» и «завоевывать» друг друга, используя для этого специфические веками отработанные приемы и методы, но они сравнительно редко конкурировали друг с другом на макросоциальном уровне. Соперником мужчины, как правило, был другой мужчина, а соперницей женщины – другая женщина. Сейчас, впервые в истории человечества, сложилась ситуация, когда мужчины и женщины начали открыто и жестко конкурировать друг с другом не только в семейно-бытовой сфере, где многое зависит от индивидуальных особенностей партнеров, но в самом широком спектре общественных отношений и деятельностей. На первый взгляд, это отвратительно и ужасно. Однако конкуренция – не только соперничество, но и способ кооперации, в результате которой у представителей обоих полов образуются новые социальные качества. Какие именно, как им нужно учиться и как преодолевать возникающие при этом конфликты?
Чтобы корректно ставить эти вопросы, современные процессы нужно изучать прежде всего там, где они возникли раньше и достигли определенной степени зрелости. Как писал Маркс, анатомия человека – ключ к анатомии обезьяны, а не наоборот. Хотя меня больше всего волнуют отечественные реалии, я обсуждаю не специфически российские, а глобальные, мировые процессы, без учета которых наша локальная жизнь не может быть понята. Одно из самых распространенных сегодняшних заблуждений – миф о якобы существующем «множестве цивилизаций». В прошлом разные человеческие общества действительно развивались гетерохронно (разновременно) и в значительной степени автономно друг от друга, однако новое время это изменило. В ХХ в. возникла глобальная цивилизация, с общей технологией, проблемами и базовыми ценностями. Это касается и гендерного порядка.
Поскольку новые черты взаимоотношений мужчин и женщин возникли, достигли определенной степени зрелости и были осознаны на Западе значительно раньше, чем в России, изучать их надо прежде всего на западном материале и только после этого смотреть, действуют ли те же самые закономерности в России. Если да, в чем их специфика, а если нет – почему и какова альтернатива?
Кроме того – и это прямо вытекает из сказанного выше, – на Западе гораздо больше научных исследований, что, в свою очередь, способствует повышению их качества. Если у вас мало молока, откуда возьмутся сливки? Наличие противоречивых научных данных стимулирует рождение новых гипотез, которые тут же подвергаются эмпирической проверке. Обобщений, основанных на плохих выборках и самодельных методиках, никто всерьез не воспринимает. Следовательно, я должен сначала посмотреть, что сделано «за бугром», а потом сравнивать с этим отечественные данные, если таковые имеются, если же нет – включить творческое воображение, по пословице «Голь на выдумки хитра». Впрочем, это может сделать и читатель.
Характер книги определяет ее стилистику. Каждый ученый знает, что истинная ценность исследования заключена в его деталях, но если я буду говорить на языке социологии, меня могут не понять психологи и педагоги, психологический язык непонятен антропологам, а язык гендерных исследований глубоко чужд врачам, сексологам и андрологам. Междисциплинарность ограничивает и возможности полемики с предшественниками и коллегами. Профессиональная полемика – крайне увлекательная вещь, которая нередко волнует собеседников даже больше, чем обсуждаемый предмет. Человек со стороны, не собирающийся навсегда прописаться в этом сообществе, включиться в этот разговор практически не имеет возможности. Междисциплинарная книга так строиться не может, она должна быть популярной. Я опираюсь на труды своих предшественников, отбирая в них то, что мне кажется наиболее плодотворным, но мой главный подразумеваемый собеседник – читатель. Возникнет ли с ним мысленный диалог и захочет ли он проверить предложенные ему мысли, заглянув в указанные в книге источники, мне знать не дано.
Эта книга не является ни учебником, ни энциклопедией, ни популярным изданием типа «Все, что вы хотели знать о мужчинах, но не смели или не умели спросить». Начиная этот проект, я первоначально хотел назвать его введением в социальную андрологию, науку о мужчинах. Но термин «андрология» уже существует в медицине, причем одни трактуют его как раздел урологии, а другие – как автономную дисциплину о мужском здоровье, своего рода мужской аналог гинекологии и даже шире (гинекологи лечат не все женские болезни, а только те, которые связаны с репродуктивной системой). Я уважаю и комплексный подход, и научную специализацию, но на некоторых больших медицинских конференциях все «мужское здоровье» размещается ниже пояса, и мне становится смешно и грустно.
На мой взгляд, умножение числа «логий» и «гитик» реальному прогрессу научного знания не способствует. Новые проблемы всегда возникают на стыке разных наук, но стоит только cultural studies превратиться в «культурологию», а гендерным исследованиям – в «гендерологию», как реальные содержательные вопросы уступают место схоластическим спорам о предмете, методах и разграничении новой дисциплины от остальных. С точки зрения самоутверждения в бюрократической системе образования, это очень важно: без особой «логии» не будет ни кафедр, ни лекционных курсов, ни денег. Но интеллектуально создание параллельных феминологии («бабоведения») и андрологии («мужиковедения») закрепляет ту самую психологию гендерного гетто, которую современный мир, не признающий «мужской» и «женской» половины ни в доме, ни в обществе, последовательно разрушает.
Логическая структура книги проста.
В первой, вводной, главе «Кризис маскулинности и возникновение „мужского вопроса“» показано, как возникли интересующие нас социальные проблемы, каков их идеологический смысл и какие научные дисциплины их изучают.
Вторая глава, «Товарищ мужчина. Мифы, метафоры и парадигмы», прослеживает древнейшие мифологические истоки оппозиции «мужского» и «женского», соотношение ее природных (половой диморфизм) и социальных (гендерный порядок) факторов, раскрывает содержание понятий маскулинности и фемининности (М – Ф) и смысл соответствующих психологических тестов и описывает наиболее общие, транскультурные противоречия и парадоксы маскулинности.
Третья глава, «Мужчины в постиндустриальном обществе», является социологической, она посвящена изменению социального положения и статуса мужчин в современном обществе, соотношению старых и новых канонов и идеологий маскулинности и тому, как эти исторические вызовы воспринимаются и осмысливаются мужчинами на Западе и в России.
Четвертая глава, «Мужчина в зеркале психологических исследований», основана на психологических данных. В ней на конкретном научном материале прослеживается, как под воздействием описанных выше социальных вызовов изменяются (или не изменяются) присущие (или приписываемые) мужчинам психологические черты и свойства: умственные способности и направленность интересов, агрессивность, соревновательность и любовь к риску, сексуальность и телесный канон. Завершается эта глава кратким обзором социальных проблем мужского здоровья.
Последняя глава, «Отцовство и отцовские практики», – попытка охарактеризовать историческую динамику и современное состояние самого важного и самого проблематичного мужского института – отцовства. Она открывается вопросами, зачем нужны отцы и что значит «кризис отцовства»; дает краткий очерк антропологии и истории отцовства; прослеживает, как под влиянием гендерной революции изменяются идеология отцовства и конкретные отцовские практики на Западе и в России; какие психологические проблемы возникают в связи с этим у современных отцов (что отец дает детям, что отцовство дает мужчине, и как меняются стили отцовского воспитания) и, наконец, в какой помощи нуждаются отцы.
Чтобы не нарушать сквозную логику изложения, но при этом показать читателю, на каких конкретных фактах основаны те или иные гипотезы, мне показалось удобным выделить отдельные исторические, антропологические или лингвистические экскурсы, подборки статистических данных, описания психологических тестов и т. п. подзаголовками «Интерлюдии» и «Материалы к размышлению».
Последнее замечание – библиографического свойства. Современная научная литература по любому вопросу очень обширна и быстро обновляется. Поэтому я предпочитаю делать ссылки на авторитетные обзорные труды или недавние исследовательские статьи, в которых заинтересованный читатель найдет дополнительную информацию. Искать новые иностранные книги и журналы в российских библиотеках практически бесполезно, у них ни на что нет денег, но в вашем распоряжении есть Интернет. Наберите интересующий вас вопрос (лучше по-английски) или название нужного журнала, и Google. com покажет вам некоторые ссылки и краткие резюме статей. Правда, за полный текст статьи журнал спросит 20–35 долларов, которых у нас с вами нет. Но если вы наберете в том же Google имя и фамилию автора или точное название статьи, то почти наверняка, хоть и не без труда, узнаете его электронный адрес, после чего останется только попросить его прислать вам свой бесценный труд. В восьми случаях из десяти ответ будет быстрым и положительным (один автор из двадцати, подобно большинству наших соотечественников, на письма не отвечает, некоторые присылают файлы, которые невозможно открыть, а иногда электронные письма, как и обычные, почему-то пропадают). Вероятно, есть более совершенные методы поиска, но я старый человек и их не знаю. Так что не обижайтесь на дружеский совет, вдруг пригодится?
Эта работа была начата в 1999 г. по гранту Фонда Макартуров № 99-57255 («Меняющийся мужчина в изменяющемся мире: Введение в социальную андрологию») и продолжена по проектам РГНФ № 01-06-00012а («Особенности развития и социализации мальчиков») и № 05-06-06042а («Отцовство: социально-педагогическая перспектива»). Обеим этим организациям, а также Центрально-Европейскому университету в Будапеште, Институту Кеннана и Программе Президиума РАН «Русская культура в мировой истории» я выражаю искреннюю благодарность. Существенную помощь в работе мне оказали также коллеги по Институту этнологии и антропологии РАН, директор Левада-Центра Л. Д. Гудков, социологи Т. А. Гурко, И. Н. Тартаковская и ряд других товарищей.
Игорь Кон
Ноябрь 2007
Глава первая КРИЗИС МАСКУЛИННОСТИ И ВОЗНИКНОВЕНИЕ «МУЖСКОГО ВОПРОСА»
«Человек рода он», как определил мужчину Даль, встречает XXI век с белым флагом капитуляции в руках. Это напоминает размахивание кальсонами.
Ликуй, феминистка! На Западе женское движение, приобретя уставные формы идеологии, разрушило половую «империю зла». Прощай, главенствующий статус! Цивилизованный мужчина отступил по всем направлениям…
Виктор ЕрофеевНачиная с 1970-х годов на Западе, а затем и в России стали говорить и писать о том, что традиционный мужской стиль жизни, а возможно, и сами психические свойства мужчин не соответствуют современным социальным условиям, что мужчины сдают свои главенствующие позиции или что им приходится платить за них слишком высокую цену. Этот синдром получил название «кризиса маскулинности».
Причины и возможные пути его преодоления трактуются по-разному и даже противоположно. Одни авторы видят проблему в том, что мужчины как социальная группа отстают от требований времени: их установки, групповое самосознание и представления о том, каким может и должен быть «настоящий мужчина», не отвечают изменившимся социальным условиям и подлежат радикальному изменению и перестройке. Чтобы спасти себя, мужчины должны смотреть и двигаться вперед. Другие, наоборот, видят в социальных процессах, расшатывающих привычную мужскую гегемонию, угрозу вековечным «естественным» устоям цивилизации как таковой и призывают мужчин как традиционных защитников стабильности и порядка положить конец деградации и вернуть общество назад, в спокойное и надежное прошлое.
Сами по себе эти споры не уникальны и не новы. Поскольку мужчины на протяжении веков были господствующей силой общества, по крайней мере его публичной сферы, нормативный канон маскулинности и образ «настоящего мужчины», как и все прочие высшие ценности, такие как «настоящая дружба» и «вечная любовь», всегда идеализировались и проецировались в прошлое. Философы классической Греции восхищались мужеством героев гомеровской эпохи. Римляне времен Империи скорбели об утрате мужских добродетелей республиканского Рима. Англичане эпохи Реставрации и французы периода Регентства сетовали на упадок мужской доблести, свойственной средневековым рыцарям, а немцы начала ХХ века умилялись средневековым мужским союзам и мужской дружбе эпохи романтизма.
В периоды быстрых исторических перемен, когда прежние формы отношений власти становятся неадекватными, ностальгические чувства обостряются, побуждая идеологов писать о феминизации мужчин и об исчезновении «настоящей мужественности». Современные разговоры о кризисе маскулинности также имеют идеологическую природу, отражая растущую озабоченность и неудовлетворенность мужчин и женщин существующим порядком своих взаимоотношений. Если в XIX в. в европейском общественном сознании появился так называемый женский вопрос, то в последней трети XX в. стало возможным говорить о возникновении «мужского вопроса».
На первый взгляд, проблематизация мужского статуса связана прежде всего с рождением феминизма. Появление организованного и идеологически оформленного женского освободительного движения воспринимается мужчинами то как угроза, то как интеллектуальный вызов, то как пример для подражания, активизируя желание защищать собственные групповые интересы. Но каковы эти интересы и от кого их нужно защищать? Состоит ли проблема в том, что женщины «незаконно» присваивают традиционные мужские социальные привилегии? Или в том, что женщины становятся похожими на мужчин и начинают успешно конкурировать с ними? Или в том, что сами мужчины потеряли или боятся потерять какие-то ценные качества? Или мужчинам стало тесно и неуютно в привычной исторической коже? Формулировка вопроса во многом предопределяет и возможные варианты ответа.
Мужские движения в США. Исторический экскурс
По словам американского социолога Майкла Месснера (Messner, 1997), существует три специфических фактора мужской общественной жизни.
Во-первых, мужчины как группа пользуются институциональными привилегиями за счет женщин как группы.
Во-вторых, за узкие определения маскулинности, обещающие им высокий статус и привилегии, мужчины расплачиваются поверхностными межличностными отношениями, плохим здоровьем и преждевременной смертью.
В-третьих, неравенство в распределении плодов патриархата затрагивает не только женщин, но и мужчин: властная, гегемонная маскулинность белых гетеросексуальных мужчин среднего и высшего класса конструируется в противовес не только женщинам, но и подчиненным (расовым, сексуальным и классовым) категориям мужчин.
Осознание взаимосвязи этих факторов пришло не сразу. Первое «Мужское освободительное движение» (The Men's Liberation) зародилось в США в 1970 г. в русле либеральной идеологии. Его организационным центром в 1970—80-х годах была «Национальная организация меняющихся мужчин», которую в 1991 г. сменила «Национальная организация мужчин против сексизма» (The National Organization for Men Against Sexism – NOMAS).
Первоисточником всех мужских проблем и трудностей идеологи этого течения считали ограниченность мужской половой роли и соответствующей ей психологии, доказывая, что от сексистских стереотипов страдают не только женщины, но и сами мужчины. «Мужское освобождение стремится помочь разрушить полоролевые стереотипы, рассматривающие „мужское бытие“ и „женское бытие“ как статусы, которые должны быть достигнуты с помощью соответствующего поведения… Мужчины не могут ни свободно играть, ни свободно плакать, ни быть нежными, ни проявлять слабость, потому что эти свойства „фемининные“, а не „маскулинные“. Более полное понятие о человеке признает всех мужчин и женщин потенциально сильными и слабыми, активными и пассивными, эти человеческие свойства не принадлежат исключительно одному полу», – писал в 1970 г. Джек Сойер (цит. по: Messner, 1997. P. 36).
Авторы мужских бестселлеров 1970-х годов Уоррен Фаррелл, Марк Фейген Фасто, Роберт Брэннон и другие доказывали, что для устранения мужских трудностей нужно прежде всего изменить социализацию мальчиков, образно говоря – позволить мальчикам плакать. Поскольку большинство этих людей были психологами и выходцами из среднего класса, социальная структура и связанное с ней гендерное неравенство и особенно неравенство положения разных категорий мужчин до поры до времени оставались в тени, а призывы к «изменению маскулинности» сводились к доказыванию необходимости более широкого выбора стилей жизни, расширения круга социально приемлемых эмоциональных проявлений и возможностей большей самоактуализация для мужчин. Исключением был социальный психолог Джозеф Плек, который связывал мужские психологические качества с борьбой за власть и ее удержание.
Акцент на индивидуальные качества, а не на социальную стратификацию и гендерный порядок означал отрицание или недооценку реальных мужских привилегий и сведение всей проблемы к такому воспитанию, которое позволило бы мужчинам гармоничнее сочетать инструментальные и экспрессивные роли, различие которых убедительно описал и продемонстрировал американский социолог Толкотт Парсонс. Тем не менее это было демократическое движение. В официальной декларации NOMAS (1991) подчеркивается, что «мужчины могут жить более счастливой и полноценной жизнью, бросив вызов старомодным правилам маскулинности, предполагающим принцип мужского верховенства». Три главных принципа организации – положительное отношение к мужчинам, поддержка феминистского движения и защита прав геев. «Традиционная маскулинность включает много положительных черт, которыми мы гордимся и в которых черпаем силу, но она содержит также качества, которые ограничивают нас и причиняют нам вред. Мы всячески поддерживаем мужчин, борющихся с проблемами традиционной маскулинности. Как организация для меняющихся мужчин, мы заботимся о мужчинах и особенно озабочены мужскими проблемами, а также трудными вопросами, с которыми сталкивается большинство мужчин» (NOMAS, 1991).
Социальное освобождение и самоизменение мужчин возможны только совместно с женщинами. Гендерная стратификация – это система мужского верховенства, когда мужчины как группа угнетают женщин; изнасилование и другие формы сексуального насилия – лишь крайние формы выражения этого угнетения. Речь идет не просто о защите мужчин, а о борьбе против социального неравенства и гендерных привилегий во всех сферах жизни, включая сексуальность. Это движение тесно связано с феминизмом, его идеологи и активисты называют себя феминистами или профеминистами. Ключевыми фигурами и ведущими теоретиками этого течения стали известные социологи Майкл Киммел (США) и Рейвин Коннелл (Raewyn Connell) (Австралия).[1]
Особую разновидность его, скорее интеллектуальную, чем политическую, образует социалистический мужской феминизм, находящийся под сильным влиянием марксистского структурализма. В отличие от либерального мужского феминизма, концентрирующего внимание преимущественно на психологических и, особенно, психосексуальных трудностях мужского бытия, эта группа придает больше значения классовому неравенству, политическим институтам и отношениям власти.
Однако политика, пафос которой направлен на отмену привилегированного положения мужчин, не может мобилизовать под свои знамена широкие мужские массы. Хотя идеи «мужского освобождения» получили довольно широкое распространение в США, Англии и, особенно, в Австралии, серьезной политической силой это движение не стало. Организаций такого типа много, но они малочисленны, представлены в них преимущественно мужчины среднего класса с университетским образованием и леволиберальными взглядами. По своему характеру это, как правило, «мягкие» мужчины, чей телесный и психический облик порой не совсем отвечает стереотипному образу «настоящего мужчины» – сильного и агрессивного мачо. Мнение, что среди них преобладают геи, не соответствует истине, но интерес к мужским проблемам часто стимулируется личными трудностями (отсутствие отца, непопулярность среди мальчиков в классе, неудачный брак, трудности отцовства и т. п.). Для некоторых из этих мужчин общественно-политическая деятельность психологически компенсаторна. Среди «обычных» мужчин интерес к проблемам маскулинности невысок. Хотя во многих университетах США уже давно преподается курс «Мужчины и маскулинность», который, казалось бы, должен интересовать юношей, 80–90 % его слушателей – женщины, а среди мужчин преобладают представители этнических и/или сексуальных меньшинств. Дело не в том, что «обычные» молодые мужчины не имеют проблем (книги на эти темы отлично раскупаются), а в том, что они стесняются признаться в этом. Впрочем, в последние годы положение стало меняться.
Значительно более массовыми стали консервативно-охранительные движения, направленные на сохранение и возрождение ускользающих мужских привилегий. В противоположность либералам и феминистам, идеологи американского «Движения за права мужчин» (The Men's Rights Movement) Уоррен Фаррелл, Херб Голдберг и другие видят главную опасность для мужчин в феминизме и растущем влиянии женщин. Фаррелл сначала был одним из самых рьяных защитников «мужского освобождения», но затем резко изменил позицию. По его мнению, «сексизм» и «мужское господство» – это мифы, придуманные агрессивными женщинами в целях унижения и дискриминации мужчин. Никакой «мужской власти» в США, да и нигде в мире, не существует. «Иметь власть – не значит зарабатывать деньги, чтобы их тратил кто-то другой, и раньше умереть, чтобы другие получили от этого выгоду» (цит. по: Kimmel, 1996. P. 303). И на работе, и в семье современные мужчины угнетены больше, чем женщины, которым всюду даются преимущества. Под видом борьбы против сексуальных домогательств и насилия женщины блокируют мужскую сексуальность, в семье американские мужчины бессильны, при разводе отцы теряют право на собственных детей и т. д. Спасти мужчин может только организованная самозащита, чем и занимаются многочисленные союзы и ассоциации: «Коалиция свободных мужчин», «Национальный конгресс мужчин», «Мужские права» и т. п. Особенно популярна среди мужчин идея защиты прав отцов вообще и одиноких отцов в особенности.
В обосновании и возрождении идеи сильной маскулинности важную роль играет протестантский фундаментализм. Еще в начале ХХ в. в США и Англии получила распространение идеология так называемого «мускулистого христианства», стремящаяся спасти заблудшие мужские души от губительной для них «феминизации» и изображающая Христа не мягким и нежным, а сильным и мускулистым. На волне неоконсерватизма 1980-х годов эта идеология получила новые стимулы.
Возникшее в начале 1990-х годов по инициативе бывшего футбольного тренера Колорадского университета Билла Мак-Картни движение «Верных слову» (Promise Keepers) воинственно выступает против «феминизации» и «гомосексуализации» общества. Мужскую агрессивность, которую либеральные теоретики хотели бы искоренить, «Верные слову» считают естественной и неизбежной – все дело в том, как и куда ее направить. Хотя в их идеологии нет явного женоненавистничества, они утверждают, что коль скоро именно мужчина создан по образу и подобию Бога, он тем самым раз и навсегда поставлен выше женщины. Принцип женского равноправия подрывает традиционные семейные ценности и дезорганизует общество. Мужчина всюду и везде должен быть главой, ведущим, его сущность и призвание – быть ответственным лидером.
Сторонники этого движения осуждают пьянство, наркоманию и сексуальное насилие, призывают мужчин «вернуться домой», быть верными мужьями, способными работниками, надежными кормильцами, заботливыми отцами и «христианскими джентльменами»: «Держи свое слово, данное жене и детям, будь человеком слова!» Защитой семейных ценностей это консервативное движение привлекает к себе симпатии не только мужчин, но и многих женщин. В его первом митинге в 1990 г участвовали лишь 72 человека, а в 1995 г. его приверженцами считали себя уже свыше 600 тысяч мужчин в тринадцати городах США! Однако главный лозунг движения – полный назад! – совершенно утопичен. Уже в конце 1990-х годов число его сторонников резко уменьшилось.
Политико-идеологические позиции некоторых мужских движений крайне неоднозначны, их не всегда можно разделить на «правых» и «левых». Особенно сложно в этом плане зародившееся в 1980-х годах так называемое мифопоэтическое движение. Оно началось с того, что многие, преимущественно белые, гетеросексуальные и хорошо образованные американцы среднего класса стали посещать собрания и лекции, где обсуждались мужские проблемы. Эти собрания и митинги позволяли мужчинам общаться друг с другом и имели психотерапевтическую ценность, давая людям возможность выговориться, преодолеть привычную скованность и обменяться опытом по преодолению типичных мужских трудностей.
Своеобразным манифестом этих мужчин стала разошедшаяся огромным тиражом (свыше 500 тысяч экземпляров, в твердом переплете) книга поэта Роберта Блая «Железный Джон» (Bly, 1990). По мнению Блая, главная задача современности – направить мужчин на путь духовного поиска, чтобы помочь им восстановить утерянные базовые мужские ценности. Во всех древних обществах существовали особые ритуалы и инициации, посредством которых взрослые мужчины помогали мальчикам-подросткам утвердиться в их глубинной, естественной маскулинности. Городское индустриальное общество разорвало связи между разными поколениями мужчин, заменив их отчужденными, соревновательными, бюрократическими отношениями, и тем самым оторвало мужчин друг от друга и от их собственной мужской сущности. (Сходные идеи развивали некоторые немецкие мыслители в начале XX в., а романтики – в начале XIX в.). Место здоровых мужских ритуалов занимает, с одной стороны, разрушительная, агрессивная гипермаскулинность уличных банд, а с другой – размягчающая и убивающая мужской потенциал женственность.
Блай и его последователи красочно описывают эмоциональную бедность и ущербность современных мужских взаимоотношений, будь то отношения сыновей с отцами или отношения между мужчинами на работе и в быту, и мечтают восстановить традиции древнего мужского братства и межпоколенного наставничества. Хотя многие из этих людей политически отнюдь не реакционны, для них характерны иррационализм и антиинтеллектуализм, а их положительный идеал «нового мужчины» весьма расплывчат. Говоря о реально существующих и всем знакомых вещах, мифопоэтическая идеология обладает большой эмоциональной притягательностью. Однако она произвольно истолковывает данные мифологии и антропологии, не видит конкретных социальных причин описываемых ею процессов, рассуждает о мужчинах вообще, как о едином типе, и абсолютизирует различия между мужчинами и женщинами. Ее главная философская база – учение К. Г. Юнга, в частности – разграничение мужского духа (анимус) и женской души (анима).
При всех своих различиях мужские движения не представляют реальной и организованной политической силы. В спорах о кризисе маскулинности больше эмоций и идеологии, чем спокойной рефлексии. Социально активные мужчины находят другие каналы самореализации, а остальным эти вопросы безразличны, тем более что прикладные аспекты темы – мужское здоровье, сексуальность, педагогика отцовства и т. п. – широко (и более конкретно) освещаются в политически не ангажированных коммерческих изданиях и средствах массовой информации.
Несмотря на свою политическую неэффективность, мужские движения способствовали вычленению целого ряда специфических мужских проблем и уточнению категориального аппарата так называемых мужских исследований или исследований мужчин – men's studies. До середины 1980-х годов «мужским проблемам» посвящались преимущественно популярные книги и исследования медико-биологического характера. Затем количество публикаций стало расти в геометрической прогрессии, захватывая все новые темы и отрасли знания. Появились многочисленные серийные публикации, а некоторые хрестоматии, например составленная Майклом Киммелом и Майклом Месснером антология «Мужские жизни» (Men's Lives), стали международными бестселлерами.
Наиболее полная библиография литературы о мужчинах и маскулинности, составленная и регулярно обновляемая (16-е издание вышло в 2007 г.) Майклом Флудом (Flood, 2007) (Австралия), состоит из 37 разделов, включая такие сюжеты, как мужские исследования; взросление; отцовство и отношения в семье; развод и забота о детях; интимность; сексуальность; гомосексуальность и гомофобия; мужские движения, группы и услуги; дружба между мужчинами; социальная работа с мальчиками; социальная работа с мужчинами; труд и классовые отношения; раса и этничность; старение; спорт и досуг; мужское здоровье; мужское тело; репродуктивные проблемы и технологии; ВИЧ/СПИД; порнография; насилие и способы его предотвращения; мужчины и феминизм; мужчины в политике; мужские права; маскулинности и их репрезентации в культуре; мужской язык; мужской юмор; мужчины в тюрьмах, криминальной среде и перед лицом закона; история маскулинностей; теоретико-методологические проблемы мужских исследований и т. п. Последнее издание библиографии насчитывает около 17 300 книг и статей, а в 1998 г. в ней было только 3 000 названий. В 2008 г. Дидерик Янсен опубликовал новую международную библиографию по маскулинности «International guide to literature on Masculinity».
Возникают многочисленные исследовательские группы и центры. Например, Американская Ассоциация по изучению мужчин (The American Men's Studies Association – AMSA) объединяет мужчин и женщин, занятых преподаванием, исследованиями и клинической практикой в сфере мужских исследований и работы с мужчинами. Ее цель – путем изучения мужских жизненных опытов как «социо-историко-культурных конструктов» «способствовать критическому обсуждению вопросов, касающихся мужчин и маскулинностей и распространять знания о мужских жизнях среди широкой публики». В рамках Американской психологической ассоциации на правах ее отделения с 1997 г. функционирует Общество психологических исследований мужчин и маскулинности (The Society for the Psychological Study of Men and Masculinity – SPSMM). Специализированные группы и центры существуют практически во всех западных странах, особенно много их в Великобритании и Австралии. Проводится огромное количество международных симпозиумов и конференций. Мужская проблематика заняла важное место в социальной истории, истории семьи, школы и образования. С 1989 г. выходит научный журнал «Gender and History».
Как грибы, растут специальные журналы о мужчинах и для мужчин. Первоначально это были преимущественно популярные издания вроде австралийских «XY: Men, sex, politics» (с 1990 г.), «Certified Male» (с 1995) и «Journal of Interdisciplinary Gender Studies» (c 1996 г.) и британских «Achilles Heel» и «Working With Men». Затем появились солидные международные междисциплинарные научные журналы: «Journal of Men's Studies» (с 1992 г.); «Men and Masculinities» (с 1999 г., главный редактор Майкл Киммел, я имею честь состоять в его редколлегии); «Psychology of Men and Masculinity» (с 2000 г., орган SPSMM), «international Journal of Men's Health» (с 2002 г.). «Fathering: A Journal of Theory, Research, and Practice about Men as Fathers» (с 2003 г.). Эти издания содержат массу научной информации о разных сторонах и аспектах мужского бытия. Не обходят их молчанием и остальные научные журналы. Исследовать и обсуждать мужские проблемы стало модно во всех общественно-научных, гуманитарных, психологических и медико-биологических дисциплинах. Выходят солидные междисциплинарные справочники, такие как «Энциклопедия мужчин и маскулинностей» (Encyclopedia of Men and Masculinities, 2007) и «Энциклопедия пола и гендера: мужчины и женщины в культурах мира» (Encyclopedia of Sex and Gender, 2004).
Выстроить из этого сколько-нибудь стройную систему «мужиковедения» невозможно. Даже соотношение терминов «мужская жизнь» и «маскулинность» (оба понятия чаще употребляются во множественном числе) остается спорным. Под «мужскими исследованиями» обычно понимают предметную область знания, охватывающую все то, что касается мужчин, включая биологию мужского тела, мужское здоровье и т. п. Это мужской аналог ранее сложившихся «женских исследований» (women studies) или раздел гендерных исследований, предметом которых являются как мужчины, так и женщины. Напротив, маскулинность чаще трактуется как социальная идентичность, существующая в конкретном социуме и изменяющаяся вместе с ним. Соответственно дифференцировалась и научная терминология, причем в разных областях знания это происходило по-разному.
Следует подчеркнуть, что среди исследователей мужской проблематики очень много женщин, особенно феминисток. Это не удивительно. Женщины как матери, жены и любовницы всегда живо интересовались мужчинами, но не смели о них публично судить. С отменой идеологических запретов и вовлечением женщин в науки о человеке положение изменилось. Вопреки распространенным представлениям, интерес феминисток к мужчинам большей частью дружественный. Мужчина для них не столько угнетатель, сколько «Другой», знакомство с которым помогает женщине лучше понять ее собственную сущность. Очень многие мужские проблемы, о которых сами мужчины говорить стеснялись, впервые поставлены именно женщинами. Без женского вклада вся сфера мужских исследований практически не существует.
Как всегда с опозданием, мужские исследования появились и в России, прежде всего в рамках гендерных исследований. Когда в 1999 г. я начинал свой проект, отечественных публикаций на эти темы почти не было. Первая русская книга по этим проблемам, состоявшая из 37 мозаичных текстов на тонкой грани прозы и эссеистики, – «Мужчины» Виктора Ерофеева вышла в 1997 г. и, кажется, вызвала больший интерес на Западе, чем в России. Мне о ней впервые рассказали в Будапеште, а в Москве я потом долго не мог ее купить. Теперь по мужским проблемам регулярно проводятся междисциплинарные конференции, печатаются статьи в научных журналах, издаются тематические сборники, важнейшим из которых нужно признать составленный Сергеем Ушакиным сборник статей «О муже(^ственности» (2002). Институт этнологии и антропологии РАН регулярно выпускает содержательные «Мужские сборники» (первый вышел в 2001-м, третий – в 2006 г.), в которых особенно выделяются работы Игоря Морозова и Дмитрия Громова. Теории маскулинности и месту мужчин в российском гендерном порядке посвящены превосходные исследования Елены Здравомысловой, Анны Темкиной, Елены Мещеркиной, Ирины Тартаковской, Жанны Черновой и других. Начались исследования психологии маскулинности (Ирина Клецина), особенностей формирования маскулинности в провинциальной молодежной среде (Елена Омельченко, Ольга Шнырова и др.) и т. д. Проблемам маскулинности, преимущественно в психоаналитическом ключе, посвящен № 14 харьковского журнала «Гендерные исследования».
Интерес к мужской проблематике постепенно проникает также в психологию и медицину. «Журнал практического психолога» целиком посвятил свой первый номер за 2007 г. психологии отцовства (Борисенко, 2007). Минздрав России с 2002 г. под эгидой Института урологии РАМН каждые два года проводит многопрофильные конференции по проблемам мужского здоровья. Несмотря на сопротивление ряда влиятельных урологов, успешно развивается Профессиональная ассоциация андрологов России (ПААР) (см. www. andronet. ru), имеющая тесные связи с Международным обществом сексуальной медицины (International Society for Sexual Medicine – ISSM). Третий Конгресс ПААР (апрель 2007 г.) даже удостоился официальных приветствий председателя Государственной думы, мэра Москвы и других высоких чиновников. Некоторое оживление наметилось и в российской педагогике, которая многие годы была абсолютно бесполой и упорно не желала видеть того, что дети делятся на девочек и мальчиков, между которыми есть не совсем понятные, но существенные различия; правда, теперь, в порядке гиперкомпенсации, отечественная педагогика становится все более сексистской.
Короче говоря, мужчины стали не только субъектом, но и объектом научных исследований. Что же мы о себе узнали?
Глава вторая ТОВАРИЩ МУЖЧИНА. МИФЫ, МЕТАФОРЫ И ПАРАДИГМЫ
1. Мужское и/или женское
Каждый знает, что природа боится пустоты. Но есть одна вещь, которой природа боится даже больше, чем пустоты. Это – логическая дихотомия. Тем не менее, когда люди говорят и пытаются думать, они автоматически мыслят такими дихотомиями, как горячее и холодное, день и ночь, черное и белое, мужчина и женщина, бог и дьявол, рай и ад и особенно – врожденное и выученное, или наследственность и среда.
Гарри Харлоу и Клара МирсВопрос, чем и насколько мужчины отличаются от женщин, всегда волновал людей. Любая древняя мифология вращается вокруг идеи противоположности и одновременно – единства, взаимопроникновения мужского и женского начал, причем мужчина чаще изображается носителем активного, социально-творческого начала, а женщина – как пассивно-природная сила.
Например, в древнекитайской мифологии женское начало «Инь» и мужское «ян» трактуются как полярные космические силы, взаимодействие которых делает возможным бесконечное существование Вселенной. Слово «Инь», которое обычно называется первым, символизирует тьму, холод, влажность, мягкость, пассивность, податливость, а «ян» – свет, сухость, твердость, активность и т. д. Соединение мужчины с женщиной напоминает космический брак Неба с Землей во время грозы. В большинстве мифологий луна, земля и вода трактуются как женское начало, а солнце, огонь и тепло – как мужское и т. д.
Противопоставление мужского и женского – одна из длинной серии так называемых бинарных (парных) оппозиций, с помощью которых архаическое сознание пыталось упорядочить свой жизненный мир: счастье – несчастье, жизнь – смерть, чет – нечет, правое – левое, верх – низ, небо – земля, день – ночь, солнце – луна, светлое – темное, огонь – влага, земля – вода, свое – чужое, старшее – младшее и др. О символическом значении «правого» и «левого», напоминающем о билатеральности, асимметрии мозга, существует огромная специальная литература, начиная с классического очерка Р. Гертца и кончая трудами К. Леви-Стросса, Р. Нидхэма (Needham, 1973), Вяч. Вс. Иванова (Иванов, 1978) и В. Н. Топорова. Наиболее общие, типичные пары оппозиций, сопутствующих латеральному символизму, приводятся в таблице.
Свойства, ассоциирующиеся с латеральным символизмом
Источник: Needham R. Right and Left. Chicago, 1973.
Однако наряду с принципом противоположности мужского и женского в мифологическом сознании широко представлена идея андрогинии, двуполости, совмещения мужского и женского начал в одном лице. Двуполыми были многие божества. В древнегреческом пантеоне это сын Гермеса и Афродиты – Гермафродит, в древнеиндийском – Адити, корова-бык, мать и отец других богов, в древнеегипетском – Ра, совокупившийся сам с собой («упало семя в мой собственный рот»). Андрогинные божества нередко изображались с двойным набором половых признаков (Шива в Индии, бородатая Афродита). Во многих мифологиях двуполыми считались предки первых людей, этим подчеркивались их единство и цельность.
Согласно древнекитайской мифологии, всякое человеческое тело содержит в себе и мужское, и женское начало, хотя в женщине больше «Инь», а в мужчине – «ян». На разделении органов по этому принципу покоится вся китайская народная медицина. Необходимость гармонического сочетания мужского и женского начал в одном лице отстаивает тантризм.
Каково бы ни было их происхождение, бинарные оппозиции оказывают огромное воздействие на все наши логические операции, связанные с классификацией и категоризацией явлений.
Согласно психолингвистической теории Элизабет Рош (Rosch, 1977), существует два принципиально разных типа категоризации. В первом случае фиксируется качественное различие явлений в форме максимально ясных, внутренне последовательных прототипов, предельных случаев, выражающих сущность данного явления, очищенного от всяких непоследовательностей, противоречий и т. п. Во втором случае устанавливаются количественные градации, объекты различаются по степени выраженности, типичности, характерности для них того или иного качества.
Категоризация начинается с того, что понятия и обозначаемые ими явления представляются взаимоисключающими, дискретными: «добро или зло», «день или ночь», «мужское или женское». В дальнейшем жесткая дихотомизация становится недостаточной и бинарная оппозиция приобретает характер континуума, где крайние случаи постепенно переходят друг в друга, превращаясь из стереотипов, под которые явления подгоняются механически, в прототипы («идеально черное тело», «идеальная женщина»), которые в чистом виде никогда не встречаются, но позволяют классифицировать свойства явлений по какому-то определенному признаку. А когда выясняется, что любой объект можно категоризировать не по одному, а по множеству разных континуумов, мир из плоскостного и черно-белого становится многомерным, объемным и многоцветным.
Применительно к нашей теме это значит, что «мужское» и «женское» сначала выглядят абсолютными противоположностями, затем превращаются в полюсы континуума «муже-женственности» (на современном научном языке – «маскулинности/фемининности») и, наконец, становятся автономными свойствами, формирование или проявление которых зависит от целого ряда обстоятельств и условий, из данной категоризации не вытекающих.
Очень важно также иметь в виду, что все бинарные оппозиции содержат в себе момент оценки, последовательно распределяясь на положительные и отрицательные. Чарлз Осгуд (Osgood, 1979), изучивший под этим углом зрения носителей 12 разных языков, нашел, что человеческое сознание отличается не просто биполярностью (значения слов дифференцируются в терминах полярных оппозиций), но и тем, что один из полюсов оценивается как положительный, а другой – как отрицательный, причем положительные характеристики соединяются с положительными, а отрицательные – с отрицательными.
Это относится и к понятиям мужского и женского (Валенцова, 2004).
Метафоры мужского и женского у разных народов различаются как по степени своей разработанности и значимости, так и по содержанию. Например, в русских летописях важнейшие мужские и женские свойства поляризованы, но при этом все мужское оценивается положительно (Маслова, 2001). «Мужской ум» – сильный, логичный. Слово «мужеумъный» стоит в одном ряду с терпеливостью, храбростью, непобедимостью. Напротив, женский ум – нелогичен, слаб. Наделение женщины мужскими чертами возвышает ее, а мужчину женские черты унижают. Если женщина обладает «мужским сердцем», это хорошо, тогда как мужчина с женским сердцем – слабак, трус. Трусливые воеводы именуются «скопцами с женским сердцем». Короче говоря, все хорошее в женщине происходит от мужчины, а все плохое в мужчине происходит от женщины.
Это накладывает отпечаток не только на мифологию и обыденное, повседневное сознание, но и на науку. Понятие мужественности (маскулинности) является не только и не столько описательным (дескриптивным), подразумевая совокупность черт, предположительно отличающих мужчин от женщин, сколько предписательно-нормативным, подразумевая систему представлений о том, каким должен быть «настоящий мужчина». Эти канонические предписания во многом определяют и наше восприятие фактов: мы воспринимаем то, что ожидаем увидеть, и группируем явления в соответствии с их культурным значением.
2. Половой диморфизм и гендерная стратификация
Курс слов, как и курс денег, подвержен постоянным переменам.
Гилберт АдэрСравнение мужских и женских черт начинается с их противопоставления, причем эти различия обычно представляются «естественными» и универсальными. На самом деле, соотношение биологических и социальных факторов дифференциации мужского и женского значительно сложнее. Современная наука рассматривает их с двух противоположных и взаимодополнительных точек зрения: полового диморфизма и общественного разделения труда между мужчинами и женщинами.
Половой диморфизм (от греч. di– вдвое, дважды, и morphé – форма) констатирует наличие устойчивых кросскультурных (то есть присущих разным человеческим культурам и обществам) и кроссвидовых (то есть присущих разным биологическим видам) особенностей поведения и устройства мужских и женских организмов, объясняя их в свете теории эволюции и естественного отбора. Эволюционная биология и основанная на ней эволюционная психология объясняют происхождение и механизмы полового диморфизма и имеют хорошее эмпирическое подтверждение не только в биологии, но ив антропологии и сексологии. В дальнейшем нам не раз придется к ним обращаться. Эти дисциплины фиксируют, прежде всего, то, что существенно для репродуктивного поведения, продолжения рода.
В этой сфере жизни больше всего биологических, транскультурных и кроссвидовых констант. Но понимание происхождения полового диморфизма не снимает вопроса о том, как именно и насколько резко он проявляется в различных сферах жизнедеятельности. Хотя современная биология констатирует наличие очень глубоких половых различий на всех уровнях развития и функционирования организма, она возражает против разделения всех человеческих свойств и качеств на мужские и женские по принципу «или-или».
Наряду с такими свойствами, которые действительно являются альтернативными, взаимоисключающими (один и тот же индивид не может в норме одновременно обладать и мужскими, и женскими гениталиями), существует множество свойств, более или менее одинаково присущих обоим полам, так что индивидуальные, внутриполовые различия перевешивают межполовые. Это касается и соматических (телесных) и поведенческих черт, причем их дифференциация сплошь и рядом не совпадает (например, «мужское» телосложение может сочетаться с «женственным» характером).
Существуют серьезные сомнения и относительно правомерности выведения всех или главных особенностей социального поведения мужчин и женщин из их роли в репродуктивном процессе. Из социологии и этнографии достоверно известно, что мужские и женские социальные роли распределяются в разных обществах не одинаково, а в зависимости от общественного строя, прежде всего – способа производства. Психология же показывает, что далеко не все психические свойства мужчин и женщин зависят от их половой принадлежности, и даже там, где такая детерминация существует, она опосредуется и существенно видоизменяется условиями среды, воспитания, родом деятельности и т. п. Если же выйти за пределы репродуктивной сферы, вариаций окажется еще больше.
Эволюционная теория пола В. А. Геодакяна
Интересную попытку создать эволюционную теорию пола, не замыкающуюся в рамках репродуктивной биологии, предпринял московский ученый В. А. Геодакян, взгляды которого очень популярны в России (см.: Геодакян, 1965, 1989). Согласно эволюционной теории пола, которую Геодакян развивает больше сорока лет, процесс самовоспроизводства любой биологической системы включает в себя две противоположные тенденции: наследственность – консервативный фактор, стремящийся сохранить неизменными у потомства все родительские признаки, и изменчивость, благодаря которой возникают новые признаки. Самки олицетворяют как бы постоянную «память», а самцы – оперативную, временную «память» вида. Поток информации от среды, связанный с изменением внешних условий, сначала воспринимают самцы, которые теснее связаны с условиями внешней среды. Лишь после отсеивания устойчивых сдвигов от временных, случайных генетическая информация попадает внутрь защищенного самцами устойчивого «инерционного ядра» популяции, представленного самками.
По Геодакяну, норма реакции женских особей, то есть их адаптивность (пластичность) в онтогенезе по всем признакам несколько шире, чем мужских. Один и тот же вредный фактор среды модифицирует фенотип самок, не затрагивая их генотипа, тогда как у самцов он разрушает не только фенотип, но и генотип. Например, при наступлении ледникового периода широкая норма реакции самок у далеких наших предков позволяла им «делать» гуще шерсть или толще подкожный жир и выжить. Узкая норма реакции самцов этого не позволяла, поэтому из них выживали и передавали свои гены потомкам только самые генотипически «лохматые» и «жирные». С появлением культуры (огня, шубы, жилища) наряду с ними выживали и добивались успеха у самок еще и «изобретатели» этой культуры. То есть культура (шуба) выполняет роль фенотипа (шерсти).
Вследствие разной нормы реакции, у женщин выше обучаемость, воспитуемость, конформность, а у мужчин – находчивость, сообразительность, изобретательность (поиск). Поэтому новые задачи, которые решаются впервые, но решить их можно кое-как (максимальные требования к новизне и минимальные – к совершенству), лучше решают мужчины, а знакомые задачи (минимум новизны, максимум совершенства) – женщины.
Теория Геодакяна привлекает логической стройностью и хорошо объясняет некоторые факты естественного полового отбора, например повышенную смертность самцов, принимающих на себя фронт внешних воздействий и в силу этого чаще становящихся жертвами неудачного «экспериментирования» природы. Но дедуцировать из нее заключения относительно конкретных половых/гендерных свойств и отношений методологически рискованно.
Прежде всего, половой диморфизм не совсем одинаково проявляется у разных видов, причем варьирует не только степень различий между самцами и самками, но в некоторых случаях и характер, направление этих различий. Особенно сильно варьирует разделение труда. Разные виды животных имеют разные социальные структуры, типы лидерства и т. д. У одних видов есть семейная структура, у других самцы и самки соединяются только на период спаривания, у одних есть отцовство, у других нет. Это не может не сказываться на их социальном поведении. Чем выше филогенетический уровень вида, тем сложнее у него детерминация половой принадлежности и тем многограннее ее связь с другими аспектами развития. Более сложный онтогенез и более разнообразная, индивидуализированная деятельность неизбежно увеличивают число индивидуальных вариаций в психике и поведении, не укладывающихся в рамки дихотомии «мужское или женское».
У многих видов животных лидерами групп, что предполагает высокую степень самостоятельности, являются не самцы, а самки. Еще сложнее обстоит дело с творческими способностями. Доказано, что самки шимпанзе научаются решать сложные задачи так же легко, как самцы. Самки гориллы осваивают язык знаков так же хорошо, как самцы. Самки собак-проводников работают не хуже самцов. Самки дельфинов «разыгрывают» друг друга так же часто, как самцы. Самки попугаев способны подражать голосу и говорить не хуже самцов. Самки крыс и мышей ориентируются в лабиринте не хуже самцов. Наблюдения за шимпанзе в естественных условиях показывают, что нередко именно самки инициируют новые формы деятельности, а сородичи им подражают. Спрашивается: почему этого не могут женщины?
Психологически креативность – предмет чрезвычайно сложный. Согласно некоторым психологическим исследованиям, поведение самцов более индивидуально и вариабельно, чем поведение самок. Но можно ли интерпретировать эти различия как проявления креативности? Авторитетная международная энциклопедия по исследованию креативности однозначно говорит, что гендерные различия в этой области не установлены (Baer, Kaufman, 2006. P. 44). Е. Н. Ильин считает, что такие различия есть, но цитируемые им современные отечественные работы не имеют необходимого подтверждения и научного статуса (это тезисы конференций, дипломные работы и т. п), а иностранные работы безнадежно стары (Ильин, 2002. С. 126–127).
Кроме того, многие виды деятельности, существенные для понимания общественного разделения труда и развития способностей у человека (письмо, чтение, художественное творчество), у животных отсутствуют, а у человека появились лишь на определенном этапе развития. Вербальные и невербальные тесты, с помощью которых сравниваются способности мужчин и женщин, вообще не имеют животных аналогов. О каких биологических законах тут можно говорить?
Короче говоря, теория Геодакяна, при всей ее привлекательности, требует основательной проверки, тем более что на Западе, где теоретическая биология развита лучше, чем в России, эта теория профессионально не обсуждалась и практически неизвестна. Не исключено, что она кажется нам столь убедительной отчасти потому, что подкрепляет привычные стереотипы об имманентном мужском лидерстве.
Категория пола (sex), обозначающая системную совокупность биологических свойств, отличающих мужчину от женщины, также оказалась сложной. В XIX в. половая принадлежность (идентичность) индивида казалась монолитной и однозначной. В ХХ в. выяснилось, что пол – сложная многоуровневая система, элементы которой формируются разновременно, на разных стадиях индивидуального развития, причем по мере развития науки количество известных нам элементов увеличивается. Первичное звено этого длинного процесса – хромосомный (генетический) пол (XX – самка, XY – самец) создается уже в момент оплодотворения и определяет будущую генетическую программу организма, в частности дифференцировку его половых желез (гонад) – гонадный пол. Первоначальные зародышевые гонады еще не дифференцированы по полу, но затем Н – Y антиген, характерный только для мужских клеток и делающий их гистологически несовместимыми с иммунной системой женского организма, программирует превращение зачаточных гонад мужского плода в семенники; зачаточные гонады женского плода автоматически превращаются в яичники. После их формирования особые клетки мужской гонады начинают продуцировать мужские половые гормоны (андрогены). Под влиянием этих зародышевых андрогенов (гормональный пол зародыша) начинается формирование соответствующих, мужских или женских, внутренних репродуктивных органов (внутренний морфологический пол) и наружных гениталий (внешний морфологический пол, или генитальная внешность). Кроме того, от них зависит дифференцировка нервных путей, отделов головного мозга, регулирующих половые различия в поведении.
После рождения ребенка биологические факторы половой дифференцировки дополняются социальными. На основании генитальной внешности новорожденного определяется его гражданский пол (иначе он называется паспортным, акушерским или аскриптивным, то есть приписанным полом), в соответствии с которым ребенка воспитывают (пол воспитания). В период полового созревания по сигналу, поступающему из гипоталамуса и гипофиза, гонады начинают интенсивно вырабатывать соответствующие, мужские или женские, половые гормоны (пубертатный гормональный пол), под влиянием которых у подростка появляются вторичные половые признаки (пубертатная морфология) и эротические переживания (пубертатный эротизм). Эти новые обстоятельства накладываются на прошлый жизненный опыт ребенка и его образ «Я», в результате чего формируется окончательная половая и сексуальная идентичность взрослого человека. Таким образом, первоначально бипотенциальный зародыш становится самцом или самкой не автоматически, а в результате последовательного ряда дифференцировок. Каждому этапу половой дифференцировки соответствует определенный критический период, когда организм наиболее чувствителен, сензитивен, к данным воздействиям. Если критический период почему-либо «пропущен», последствия этого большей частью необратимы.
При этом действует сформулированный Джоном Мани «принцип Адама», или дополнительности маскулинной дифференцировки: на всех критических стадиях развития, если организм не получает каких-то дополнительных сигналов или команд, половая дифференцировка автоматически идет по женскому типу, для создания самца на каждой стадии развития необходимо «добавить» нечто, подавляющее женское начало.
Короче говоря, люди не рождаются мужчинами или женщинами, а становятся ими, и в этом процессе важную роль играют социальные и культурные факторы. Вовлечение женщин в общественно-производственную деятельность и образование показало, что привычное, казавшееся универсальным «половое разделение труда» не является всеобщим. Мужчины и женщины могут одинаково успешно выполнять самую разную работу, а изменение характера деятельности неизбежно влияет на их психику и самосознание.
Сдвиги в повседневной жизни и общественном сознании повлекли за собой изменения и в языке науки (Jacklin, 1992). В первые два десятилетия ХХ в. немногочисленные исследования психологических особенностей мужчин и женщин обычно подводили под рубрику «психология пола» (psychology of sex), зачастую отождествляя пол с сексуальностью. В 1930—1960-е годы «психологию пола» сменила «психология половых различий» (sex differences), которые уже не сводили к сексуальности, но большей частью считали врожденными, данными природой. В конце 1970-х годов, по мере того как круг исследуемых психических явлений расширялся, а биологический детерминизм ослабевал, этот термин сменился более мягким – «различия, связанные с полом» (sex related differences), причем эти различия могут не иметь биологической подосновы.
Важный вклад в понимание этих проблем внесли общественные науки, прежде всего – социология и антропология. Сначала социальные аспекты взаимоотношений между мужчинами и женщинами описывались в таких понятиях, как «половая роль», «полоролевые ожидания», «половая идентичность». Эти термины ясно говорили, что речь идет не о природных, а о социальных отношениях и нормах. Но прилагательное «половой» несло за собой длинный шлейф нежелательных значений. Во-первых, оно, как и «пол», невольно ассоциируется с сексуальностью, хотя даже многие биологические процессы и отношения с нею, как и с репродукцией, не связаны. Во-вторых, эта терминология вольно или невольно предполагает, что социокультурные различия между мужчинами и женщинами только надстройка, форма проявления или оформления фундаментальных, базовых, универсальных различий, обусловленных половым диморфизмом.
На самом деле мужчины и женщины взаимодействуют друг с другом не в вакууме, а в конкретных социальных ролях, дифференциация которых в разных сферах деятельности, например на производстве и в семье, сплошь и рядом не совпадает. Даже если допустить, что женщина «по природе» пассивна и нежна, это вовсе не значит, что она будет таковой в любых ролях и ситуациях. Нам постоянно твердят, что потребность в достижении, социальном успехе у женщин ниже, чем у мужчин, и что современные «деловые женщины» – явление совершенно новое, беспрецедентное, даже патологическое. Но может быть, дело не столько в стремлении к достижению вообще, сколько в соционормативных рамках, предопределяющих, к чему индивид может и должен стремиться и каким образом он может достигать поставленных целей?
Великосветские львицы бальзаковской эпохи были не менее энергичны, властолюбивы и жестоки, чем их мужья и любовники. Но в тех исторических условиях честолюбивая женщина могла сделать карьеру только опосредованно, подыскав себе соответствующего мужа или организовав своими, специфически женскими, средствами его социальное продвижение. Сегодня эти ограничения отпали. Женщина может сама, без посредства мужчины, добиться высокого социального статуса, и это существенно меняет мотивацию и характер взаимоотношений мужчин и женщин при тех же самых природных задатках.
Культурные стереотипы мужского и женского различаются не только по степени, но и по характеру фиксируемых свойств. Мужчин везде и всюду чаще описывают в терминах трудовой и общественной деятельности, а женщин – в семейно-родственных терминах, и эта избирательность предопределяет направленность нашего внимания. Дело не столько в том, что мальчик объективно сильнее девочки (это верно далеко не всегда), сколько в том, что ось «сила – слабость», по которой постоянно оценивают мальчиков, значительно менее существенна в системе представлений о женственности, женщин чаще оценивают по их привлекательности или заботливости. Разговоры об «истинной мужественности» и «вечной женственности» только запутывают вопрос, навязывая нам единообразие, которого история никогда не знала.
Чтобы избавиться от ложных ассоциаций и преодолеть сведение социальных проблем к биологическим, в науку было введено понятие «гендер».
В английском языке слово gender обозначает грамматический род, который не имеет с полом ничего общего. В некоторых языках (например, в грузинском) грамматического рода нет вовсе. В других языках (например, в английском) эта категория применяется только к одушевленным существам. В третьих, как в русском, наряду с мужским и женским существует средний род. Грамматический род слова и пол обозначаемого им существа часто не совпадают. Немецкое das Weib (женщина) – среднего рода, во многих африканских языках слово «корова» – мужского рода и т. д.
Вопреки распространенному представлению, слово «гендер» заимствовали из грамматики и ввели в науки о поведении не американские феминистки, а выдающийся сексолог Джон Мани (1924–2006), которому при изучении гермафродитизма и транссексуализма потребовалось разграничить общие, родовые, свойства мужчин и женщин (пол как фенотип) и более частные, сексуально-генитальные, эротические и прокреативные, явления (Money, 1955). Позже оно было подхвачено социологами и юристами, в результате чего его значение изменилось (см.: Бем, 2004; Гендер и язык, 2005; Кон, 2004б; Киммел, 2006). Впрочем, оно и по сей день остается многозначным (Ушакин, 2002; Зверева, 2002; Савкина, 2007; Smiler, 2004).
В психологии и сексологии «гендер» употребляется в широком смысле, подразумевая любые психические или поведенческие свойства, предположительно отличающие мужчин от женщин (раньше их называли половыми свойствами или различиями). В общественных науках и, особенно, в феминизме «гендер» приобрел более узкое значение, обозначая «социальный пол», то есть социально детерминированные роли, идентичности и сферы деятельности мужчин и женщин, зависящие не от биологических половых различий, а от социальной организации общества. Гендер – это система межличностного взаимодействия, посредством которого создается, утверждается, подтверждается и воспроизводится представление о мужском и женском как базовых категориях социального порядка. «Делать гендер означает создавать различия между мальчиками и девочками, мужчинами и женщинами; различия, которые не являются естественными, сущностными или биологическими» (Уэст, Зиммерманн, 2000. С. 207).
По образному выражению американского антрополога Кэтрин Марч, пол относится к гендеру как свет к цвету. Пол и свет – естественные физические явления, допускающие объективное измерение. Гендер и цвет – исторические, культурно обусловленные категории, с помощью которых люди группируют определенные свойства, придавая им символическое значение. Хотя физиология восприятия цвета у людей более или менее одинакова, одни культуры и языки терминологически различают только два или три, а другие – несколько десятков и даже сотен цветов. Все это имеет свои социальные причины и следствия.
«Пол» и «гендер» чаще всего различают по принципу каузальной атрибуции, называя «гендерными» те характеристики, которые считаются социально детерминированными, а «половыми» – те, которые считаются заданными биологически (например, «гендерная стратификация», но «половой диморфизм»). Но строго «развести» эти ряды невозможно, поэтому существует и иное словоупотребление (Deaux, LaFrance, 1998; Ruble, Martin, Berenbaum, 2006). Сохраняются и дисциплинарные различия: если психологи, как правило, обсуждают гендерные свойства и особенности индивидов, конкретных мужчин и женщин, то социологи и антропологи говорят о гендерном порядке, гендерной стратификации общества, гендерном разделении труда, отношениях власти и т. д.
Хороший популярный и удобочитаемый очерк гендерной социологии – книга Майкла Киммела «Гендерное общество» (Киммел, 2006).
Появление категории гендера повлекло за собой дальнейшие уточнения психологической и медицинской терминологии. Важнейшие из этих новаций – понятия гендерной идентичности и гендерной роли.
Гендерная идентичность – это базовое, фундаментальное чувство своей принадлежности к определенному полу, осознание себя мужчиной, женщиной или существом какого-то другого, «промежуточного» или «третьего» пола. Тендерная идентичность не дается индивиду автоматически, при рождении, а вырабатывается в результате сложного взаимодействия его природных задатков и соответствующей социализации, «типизации» или «кодирования», причем активным участником этого процесса является сам субъект, который принимает или отвергает предлагаемые ему роли и модели поведения. Возможны даже случаи «перекодирования» или «переустановки» гендерной идентичности с мужской на женскую или наоборот (в просторечии это называется переменой или сменой пола). Состояние, когда индивид не может принять «данный» ему на основании его анатомического пола гендерный статус мужчины или женщины и испытывает острую неудовлетворенность им, называется расстройством гендерной идентичности (РГИ).
Первой естественной лабораторией для изучения закономерностей формирования и изменения гендерной идентичности стала клиника транссексуализма. В массовом сознании нестабильность гендерных категорий обычно считается чем-то патологическим, не имеющим отношения к нормальной обыденной жизни, где границы мужского и женского кажутся твердыми и незыблемыми. Но о «съемности» гендерной идентичности говорят и этнографические данные: многие культуры не только признают существование людей «третьего пола», но и создают для них специальные социальные ниши – роли, статусы и идентичности. В древних обществах это противоречие проявлялось в игре и карнавальной культуре, когда люди могли и даже были обязаны менять свои привычные гендерные роли и маски. Это частный случай признания индивидуальных различий, не укладывающихся в прокрустово ложе бинарных оппозиций.
Столь же подвижными оказались и гендерные роли, то есть нормативные предписания и ожидания, которые соответствующая культура предъявляет к «правильному» мужскому или женскому поведению и которые служат критерием оценки маскулинности/фемининности конкретного индивида. Хотя гендерные роли часто формулируются очень жестко, они, и тем более ориентированное на них поведение, не обязательно бывают однозначными. В них всегда присутствуют элементы игры, театрализованного представления. Взаимодействуя с другими людьми, индивид предъявляет им определенный имидж, «изображает» мужчину, женщину или существо неопределенного пола, используя для этого одежду, жесты, манеру речи.
Кавалеры приглашают дамов: Там, где брошка, там перёд… Дамы приглашают кавалеров: Там, где галстук, там перёд…Условный, игровой характер гендерного поведения подчеркивается такими научными терминами, как «гендерный дисплей», «делание гендера» и «гендерный перформанс».
Усложнение научных категорий как инструментов социальной саморефлексии отражает сдвиги в культуре и массовом сознании. Жизнь современного человека стала значительно более текучей и разнообразной, расширяя диапазон индивидуального выбора. Я могу чувствовать себя на работе одним, дома – другим, в дружеской компании – третьим, и каждая из этих моих идентичностей – подлинная. Это затрудняет однозначное определение «мужского» и «женского» и подсказывает определенные мировоззренческие выводы: если гендерное разделение труда и нормы мужского и женского поведения не универсальны, а исторически изменчивы, то к ним можно и нужно относиться критически, то есть их «деконструировать». Это распространяется и на содержание категорий маскулинности и фемининности.
3. Маскулинность и фемининность
Боже, чего же им всем не хватало? Словно с цепи сорвались! Логос опущен. Но этого мало — Вот уж за фаллос взялись! Тимур КибировПрежде всего, нужны ли нам эти иностранные термины? Некоторым авторам кажется, что «маскулинность» и «фемининность» вполне можно заменить русскими словами «мужественность» и «женственность» (Ушакин, 2002). Однако русские слова «мужество» и «мужественность» обозначают не просто совокупность специфически «мужских» (не важно, реальных или воображаемых) качеств, но и морально-психологическое свойство, одинаково желательное для обоих полов.
Согласно словарю Даля (1999. Т. 2. С. 356–357), мужество не просто «состояние мужа, мужчины, мужеского рода или пола вообще», но и «стойкость в беде, борьбе, духовная крепость, доблесть; храбрость, отвага, спокойная смелость в бою и опасностях: терпенье и постоянство», в противоположность робости, нерешимости, упадку духа, унынию. Мужественный человек внешне «осанистый, видный, могучий, величавый, дюжий, ражий», а духовно – «доблестный, стойкий, крепкий, храбрый, отважный, спокойно-решительный». «Мужествовать» – значит «стойко состязаться, подвязаться в борьбе (телесной или духовной), стоять доблестно».[2]
В том, что от этих ассоциаций уйти невозможно, я убедился еще в 1970 г., когда написал для «Литературной газеты» большую статью «Мужественные женщины? Женственные мужчины?» (Кон, 1970). В те годы советская психология была абсолютно бесполой, моя популярная статья стала едва ли не первой попыткой привлечь внимание к сложной проблеме. Не желая «засорять» русский язык лишними иностранными словами, я воспользовался их русскими эквивалентами. Но как только статья вышла, я понял, что совершил ошибку. Выражение «мужественная женщина» звучит очень хорошо, а «женственный мужчина» – очень плохо. «Маскулинность» – не только «мужественность», но и «мужчинность», «мужеподобие», «мужиковатость», ни одна женщина такую характеристику за комплимент не примет, а уж «женственный мужчина» – прямое оскорбление.
Тот факт, что за описаниями мужского и женского часто скрываются предписания и стереотипы массового сознания, создает большие трудности в изучении индивидуальных различий. Мы должны всегда помнить, что:
1. Конкретные мужчины и женщины отличаются друг от друга по степени маскулинности и фемининности; одинаково здоровые и социально благополучные люди могут быть более или менее маскулинными, фемининными или андрогинными.
2. Все «мужские» и «женские» свойства многогранны и многомерны. В «народной психологии» множество разнообразных физических черт, биологических признаков, занятий, социальных ролей, интересов и черт личности объединяются в некое непротиворечивое единое целое, но на самом деле маскулинное телосложение вполне может сочетаться с фемининными интересами или чувствами, причем многое зависит от ситуации и сферы деятельности – женщина может быть нежной в постели и агрессивной в бизнесе.
3. Наши образы маскулинности и фемининности и измеряющие их психологические тесты основываются не на строгих аналитических теориях, а на житейском здравом смысле и повседневном опыте: мы называем какие-то черты или свойства мужскими просто потому, что в доступном нам эмпирическом материале их чаще или сильнее проявляли мужчины. Происходящие на наших глазах изменения в социальном положении женщин и мужчин подорвали многие привычные стереотипы, побуждая рассматривать эти вариации уже не как патологические извращения (перверсии) или нежелательные отклонения (девиации) от подразумеваемой нормы, а как нормальные, естественные и даже необходимые.
4. За тем, что мы называем индивидуальными чертами, могут стоять как имманентно присущие данному индивиду, интраиндивидуальные, свойства, так и межличностные, интериндивидуальные, отношения. Новейшая психологическая литература не случайно старается «развести» понятия объективно существующих различий (difference) и проводимых людьми различений (distinction).
5. Индивидуальные свойства, стереотипы массового сознания и социальные нормы, как и наши субъективные представления о реальном, желательном и должном, не совпадают и совпадать не могут. Существуют не только разные каноны маскулинности, но и разные парадигмы ее изучения, которые кажутся взаимоисключающими, а фактически дополняют друг друга.
Пониманию индивидуальной вариабельности и исторической изменчивости мужских и женских черт препятствует социально-психологический феномен, который известный американский психолог Сандра Бем (Бем, 2004) назвала гендерными линзами:
A) Линза андроцентризма, склонность воспринимать мужской опыт и поведение в качестве универсальной и нейтральной нормы, по отношению к которой женщина выступает как некое отклонение или вариация (типа: мужчина – это человек, а женщина – лучший друг человека).
Б) Линза гендерной поляризации, восприятие всего мужского и женского как универсально разных и полярных начал.
B) Линза биологического эссенциализма, которая логически обосновывает и узаконивает остальные линзы, представляя их естественными и неустранимыми последствиями полового диморфизма.
Как же преодолевает эти трудности научная психология?
Что измеряют тесты М и Ф? Материал к размышлению
В XIX в. мужские и женские черты считались строго дихотомическими, взаимоисключающими, а всякое отступление от норматива воспринималось как патология или шаг по направлению к ней (ученая женщина – «синий чулок»). Затем жесткий нормативизм уступил место идее континуума маскулинно-фемининных свойств. На этой основе в 1930—1960-х годах психологи сконструировали несколько специальных шкал для измерения маскулинности/фемининности умственных способностей, эмоций, интересов и т. д.: тест Термана – Майлз (1936); шкала М—Ф Миннесотского личностного теста – MMPI (1951); шкала маскулинности Гилфорда и др. Все эти шкалы предполагали, что в пределах некоторой нормы индивиды могут различаться по степени М—Ф, но сами свойства М—Ф представлялись альтернативными, взаимоисключающими: высокая М должна коррелировать с низкой Ф, и обратно, причем для мужчины нормативна, желательна высокая М, а для женщины – Ф.
Характерными признаками маскулинности, по тесту Термана – Майлз, были властность, напористость, активность, физическая сила, уверенность в себе, склонность к технике, спорту, работе на себя и участию во внешней/публичной жизни, а также неприязнь к иностранцам, религиозным мужчинам, умным и худым женщинам, танцам, играм, связанным с разгадыванием загадок, и к одиночеству.
Постепенно выяснилось, что далеко не все психические свойства поляризуются на «мужские» и «женские», а разные шкалы (интеллекта, эмоций, интересов и т. д.) в принципе не совпадают друг с другом: индивид, высоко маскулинный по одним показателям, например когнитивным, может быть весьма фемининным по другим, например эмоциональным.
Более совершенные тесты 1970-х годов (Сандры Бем, Джанет Тейлор Спенс и Роберта Хелмрайха) рассматривали М и Ф уже не как полюсы одного и того же континуума, а как независимые, автономные измерения. Вместо простой дихотомии «маскулинных» и «фемининных» индивидов появились четыре психологических типа мужчин: маскулинные (имеют высокие показатели по М и низкие по Ф); фемининные (высокая Ф и низкая М); андрогинные (высокие показатели по обеим шкалам) и психологически не дифференцированные (низкие показатели по обеим шкалам) – и такие же четыре типа женщин. Сравнение этих типов (Whiteley, 1985) показало, что соответствие гендерному стереотипу (высокая М для мужчин и высокая Ф для женщин) отнюдь не всегда гарантирует индивиду социальное и психическое благополучие, причем значение этих параметров может с возрастом изменяться. Например, маскулинные мальчики-подростки были более уверенными в себе и занимали более высокое положение среди ровесников, но после 30 лет, став мужчинами, они оказались более нервными, неуверенными в себе и менее способными к лидерству. Выяснилось также, что шкалы М и Ф неоднозначны: их измерения соотносятся, с одной стороны, с индивидуальными свойствами, а с другой – с социальными предписаниями. Между тем это совершенно разные явления.
Кроме того, современная психометрика и психодиагностика не сводятся к поискам корреляций между отдельными психическими свойствами, а пытаются рассмотреть их в рамках некоей теории личности. Одним из главных претендентов на роль такой обобщающей теории или парадигмы стала так называемая Большая Пятерка, состоящая из пяти автономных шкал, каждая из которых измеряет нескольких полярных качеств:
1. Интроверсия – Экстраверсия (молчаливый – разговорчивый, ненапористый – напористый, не любящий приключений – любящий приключения, неэнергичный – энергичный, робкий – дерзкий).
2. Антагонизм – Доброжелательность (недобрый – добрый, несклонный к сотрудничеству – склонный к сотрудничеству, эгоист – альтруист, недоверчивый – доверчивый, скупой – щедрый).
3. Несобранность – Сознательность (неорганизованный – организованный, безответственный – ответственный, непрактичный – практичный, небрежный – аккуратный, ленивый – усердный).
4. Эмоциональная стабильность – Невротизм (расслабленный – напряженный, принимающий все легко – тревожный, стабильный – нестабильный, довольный – недовольный, неэмоциональный – эмоциональный).
5. Закрытость – Открытость новому опыту (слабо развитое воображение – богатое воображение, нетворческий – творческий, нелюбопытный – любопытный, несклонный к размышлению (нерефлексивный) – склонный к размышлению (рефлексивный), наивный – искушенный.
Общая схема этой теории приведена в таблице.
Факторы черт личности, образующие Большую Пятерку, и примеры входящих в них шкал
Экстраверсия (Е)
Источник: Соstа, МсСгае, 1985.
Как эти черты связаны с М и Ф? Обыденному сознанию мужчины кажутся более экстравертированными и открытыми опыту, но менее доброжелательными и невротичными, чем женщины, однако психометрические данные этого не подтверждают. Зафиксированные в Большой Пятерке личностные черты не укладываются в оппозицию М—Ф.
Наиболее интересные новейшие исследования маскулинности и фемининности сосредочены на трех относительно независимых индивидуальных свойствах: инструментальности, экспрессивности и гендерно-специфических интересах (Lippa, 2001, 2005a).
Оппозиция мужских и женских ролей как инструментальных и экспрессивных впервые получила солидное теоретическое обоснование в книге американских социологов Толкотта Парсонса и Роберта Бейлза (Parsons, Bales, 1955). Хотя речь в этой книге шла преимущественно о семейных ролях и функциях отцовства и материнства, эта оппозиция скоро была распространена и на индивидуальные, личностные свойства: мужская инструментальность (ориентация на вещи, господство, субъектность) в противоположность женской экспрессивности (ориентация на людей, забота, общение).
Принято считать, и эмпирические исследования подтверждают это мнение, что сегодня, как и раньше, 1) мужчины превосходят женщин по инструментальности, 2) женщины превосходят мужчин по экспрессивности и 3) мужчины и женщины предпочитают разные хобби, профессии и деятельности.
Но как и насколько жестко эти признаки связаны друг с другом? Оценивая степень маскулинности/фемининности какого-то субъекта, человек с улицы спрашивает себя: а) обладает ли данный индивид преимущественно инструментальными или преимущественно экспрессивными чертами? и б) имеет ли он соответствующие гендерно-специфические интересы? Однако соотношение конкретных критериев может быть неодинаковым. Например, среди признаков, по которым испытуемые канадцы определяли маскулинность и фемининность, были и свойства внешности, и личностные черты, включая инструментальность и экспрессивность, и биологические черты, и сексуальные особенности, и специфические социальные роли. В другом исследовании выяснилось, что в число критериев маскулинности входят и определенные социальные роли (например, «отец»), и профессии («водитель грузовика»), и телосложение («мускулистый»), и сексуальность, и личностные черты (инструментальность). Но за всем этим стоит общий стереотип.
В отличие от методологически искушенных психологов, обыденное сознание склонно рассматривать маскулинность и фемининность как противоположности и легко делает неправомерные обобщения, воспринимая наличие у индивида черт, противоречащих гендерному стереотипу, отрицательно. Например, маскулинные (по направленности своих интересов) женщины априорно считаются агрессивными, пьющими, безобразными, толстыми и незаботливыми, а фемининные мужчины – худыми, неуверенными в себе, застенчивыми, деликатными и слабыми, причем наличие маскулинных черт у женщин оценивается даже более негативно, чем наличие фемининных черт у мужчин. Впечатления, основанные на частных признаках, легко экстраполируются на другие свойства личности.
Например, в серии экспериментов Ричарда Липпы, когда испытуемые должны были оценить степень маскулинности мужчин по их фотографиям, мужчин, которых признали более маскулинными, сочли также более спортивными, соревновательными, грубыми и вульгарными, но менее теплыми, старательными, совестливыми и заботливыми.
Чтобы выяснить, какие именно факторы – экспрессивность/инструментальность или гендерно-специфическая направленность профессиональных интересов – служат более надежными предикторами (показателями) оценки маскулинности/фемининности самого испытуемого, его ближайших друзей и воображаемых мужчин и женщин, Липпа провел следующий эксперимент. Испытуемые (170 мужчин и 205 женщин, в основном студенты, средний возраст 19 лет) оценивали степень своего интереса к 22 разным хобби, из которых 11 считались преимущественно мужскими (компьютеры, рыболовство, посещение выставок машин, домашняя электроника, баскетбол, видеоигры, спортивные зрелища на ТВ и т. д), а11 – женскими (аэробика, покупка одежды, стряпня, танцы и т. п.). Кроме того, были получены самоописания испытуемых по 26 чертам, из которых 11 были инструментальными (типа «я напорист» и «я независим»), а 11 – экспрессивными («я сочувствую другим», «я понимаю других»). Сравнение этих двух систем самоописаний показало, что информация о гендерно-типичных хобби позволяет предсказать оценку испытуемыми своей маскулинности/фемининности точнее, нежели информация об их инструментальности/экспрессивности. То же самое наблюдалось при описании испытуемыми их близких друзей и воображаемых мужчин и женщин (Lippa, 2005в).
Иными словами, при оценке своей и чужой маскулинности/фемининности, испытуемые больше ориентировались на информацию о хобби и интересах, а при оценке экстраверсии, привлекательности и приспособленности – на информацию об инструментальности и экспрессивности. Таким образом, имплицитные (несформулированные, молчаливо подразумеваемые) теории личности испытуемых совпали с результатами психологических исследований, согласно которым инструментальность и экспрессивность теснее связаны с факторами Большой Пятерки, чем с М—Ф (Lippa, 2005a).
Почему это теоретически важно? Потому что все факторы Большой Пятерки имеют существенную генетическую составляющую, тогда как интересы и хобби зависят прежде всего от того, какие занятия общество считает более подходящими для мужчин и женщин.
4. Гендерный порядок как история
До сих пор я обсуждал главным образом понятийный аппарат, термины, в которых наука и обыденное сознание описывают и осмысливают психические свойства и социальное положение мужчин. Эти слова и представления тесно связаны с историческим развитием гендерных отношений. Хотя гендерный порядок, то есть «исторически конструируемый образец властных отношений между мужчинами и женщинами и определений фемининности и маскулинности» (Connell, 1987. P. 98–99), никогда не был таким однозначным и монолитным, коим он порою кажется, его главные принципы и элементы очень устойчивы. Историко-антропологические данные по этим вопросам группируются вокруг трех автономных, но взаимосвязанных сюжетов: 1) гендерное разделение труда, 2) отношения власти и 3) гендерная сегрегация.
Разделение труда и властные отношения. Историко-антропологическая интерлюдия
Гендерное разделение труда, то есть специфические для мужчин и женщин виды деятельности, социальные роли и функции, которым соответствовали соционормативные образы маскулинности и фемининности, существовало в любом древнем обществе и представлялось вечным, естественным и нерушимым.
По словам древнегреческого историка Ксенофонта, «природу обоих полов с самого рождения… бог приспособил: природу женщины для домашних трудов и забот, а природу мужчины – для внешних. Тело и душу мужчины он устроил так, что он более способен переносить холод и жар, путешествия и военные походы; поэтому он назначил ему труды вне дома. А тело женщины бог создал менее способным к этому и потому, мне кажется, назначил ей домашние заботы». Это подкрепляется ссылкой на обычай, что «женщине приличнее сидеть дома, чем находиться вне его, а мужчине более стыдно сидеть дома, чем заботиться о внешних делах» (Ксенофонт. Домострой. VII. 22–23, 30–31).
В рассуждениях Ксенофонта представлена трехступенчатая схема:
1) божественный замысел устанавливает четкое гендерное разделение труда;
2) ему соответствует разная телесная и душевная организация мужчин и женщин;
3) общественные нормы и правила морали освящают и закрепляют предустановленный порядок, придавая ему постоянство и легитимность.
Представление об универсальности и «естественной дополнительности» полов господствовало в социологии вплоть до середины 60-х годов ХХ в. Согласно теории Парсонса и Бейлза, дифференциация мужских и женских ролей в семье и общественно-производственной жизни основана на естественной взаимодополнительности полов. Мужские роли и мужской стиль жизни являются преимущественно «инструментальными», а женские – «экспрессивными». Мужчина бывает кормильцем, «добытчиком», а в семье осуществляет общее руководство и несет главную ответственность за дисциплинирование детей, тогда как более эмоциональная по своей природе женщина поддерживает групповую солидарность и обеспечивает необходимое детям эмоциональное тепло. Радикальное изменение этой структуры невозможно. Как бы ни вовлекалась современная женщина в общественно-трудовую жизнь, женская роль «продолжает корениться прежде всего во внутренних делах семьи, где женщина выступает как жена, мать и хозяйка дома, тогда как роль взрослого мужчины коренится прежде всего в профессиональном мире, в его работе, которая обусловливает и его функции в семье – обеспечение ей соответствующего статуса и средств к существованию. Даже если, что вполне возможно, средняя замужняя женщина начнет работать, в высшей степени маловероятно, чтобы это относительное равновесие было нарушено, чтобы мужчина и женщина поменялись ролями или чтобы качественная дифференциация ролей в этих отношениях полностью изгладилась» (Parsons, Bales, 1955. С. 14–15).
Эта теория подтверждалась не только материалами исследований современной семьи. Этнографические данные тоже свидетельствовали о том, что такой тип ролевой дифференциации распространен в обществах разного типа. Проанализировав под этим углом зрения этнографические описания 56 обществ, М. Зелдич выяснил, что материнская роль была экспрессивной в 48 из них, инструментальной – в 3 и смешанной – в 5. Отцовская роль оказалась инструментальной в 35, экспрессивной – в одном и смешанной – в 19 обществах (Там же. С. 348–349).
Подтверждали эту теорию и данные дифференциальной психологии, согласно которым женщины субъективнее и чувствительнее к человеческим взаимоотношениям и их мотивам, тогда как мужчины больше тяготеют к предметной деятельности, связанной с преодолением физических трудностей или с развитием абстрактных идей. Наконец, антропологи указывали, что особое положение женщины в семье обусловлено ее материнскими функциями, которые детерминированы биологически и от социальных условий не зависят.
Тем не менее в разных человеческих обществах нормы гендерного разделения труда не совсем одинаковы. Геродот с удивлением писал: «Подобно тому, как небо в Египте иное, чем где-либо в другом месте… так и нравы и обычаи египтян почти во всех отношениях противоположны нравам и обычаям остальных народов. Так, например, у них женщины ходят на рынок и торгуют, а мужчины сидят дома и ткут» (Геродот. История. II. 35).
Существенное отличие человека от остальных приматов состоит в том, что половое разделение труда распространяется у него не только на уход за детьми и защиту от врагов (первая функция у всех приматов является главным образом женской, а вторая – преимущественно мужской), но также на добывание и приготовление пищи и других средств существования. Как показывают кросскультурные исследования, здесь есть некоторые универсальные моменты (Ember, 1981). Например, охота и ловля крупных водных животных – занятия почти исключительно мужские. Мужской работой в большинстве обществ считается также выпас крупного скота, рыболовство, сбор меда, очистка земли и подготовка почвы для посева. Исключительно женской производственной деятельности не обнаружено, но женщины преобладают в собирании дикой растительной пищи.
В сложных земледельческих обществах гендерное разделение функций более подвижно. Что касается ремесел, то мужчины почти монопольно занимаются обработкой и изготовлением изделий из металла, дерева, камня, кости, рога и раковин; они также доминируют в строительстве домов и изготовлении сетей и веревок. Исключительно женских ремесел нет, но прядением и большей частью также ткачеством, плетением корзин, циновок, шитьем одежды и изготовлением керамики почти везде занимаются женщины. Однако это в большой степени зависит от уровня общественного разделения труда. В более специализированных ремеслах преобладают мужчины, тогда как приготовление пищи в большинстве обществ поручают женщинам (хотя межкультурные вариации очень велики), они же выполняют основную домашнюю работу, включая заготовку топлива и воды, и основной уход за детьми (см.: Murdock, Provost, 1973).
Долгое время ученые объясняли такие различия, с одной стороны, большей физической силой и энергией мужчин, а с другой – несовместимостью некоторых видов трудовой деятельности с уходом за детьми. Кроме того, отмечалась внутренняя взаимосвязь, ковариативность некоторых видов деятельности (например, если мужчины занимаются рыболовством, то они же плетут веревки и сети). Однако гендерное разделение труда означает не просто дифференциацию социальных функций, но и определенную иерархию, стратификацию этих видов деятельности и категорий людей, которые их осуществляют. Характер общественных взаимоотношений между полами зависит не столько непосредственно от круга специфических обязанностей мужчин и женщин, сколько от распределения власти, меры общественного признания, престижности мужских и женских занятий (см.: Schlegel, 1977). По ироническому замечанию Маргарет Мид, мужчины могут стряпать, ткать, одевать кукол или охотиться на колибри, но если такие занятия считаются подходящими для мужчин, то все общество, и мужчины, и женщины, будут признавать их очень важными. Если то же самое делают женщины, такие занятия объявляются менее важными (Мид, 2004. С. 154).
По-видимому, в этом есть свои стадиально-исторические закономерности. Историки первобытного общества полагают, что в раннеродовой общине естественное половозрастное деление не создавало стабильных отношений господства и подчинения. Мужчины и женщины специализировались в разных, но в равной степени общественно полезных и уважаемых сферах деятельности, а выдающаяся роль женского труда в хозяйственной жизни общины в сочетании с матрилинейной (определение происхождения по материнской линии), «материнской» организацией рода обеспечивала женщине высокое общественное положение (Першиц, Монгайт, Алексеев, 1982. С. 99). Социальное угнетение женщин и признание их низшей по сравнению с мужчинами категорией возникает только вместе с патриархатом, частной собственностью и системой наследования имущества.
Однако свести социальные взаимоотношения полов к одной-единственной системе детерминант, будь то биосоциальные константы или угнетение женщин мужчинами, невозможно. Социально-структурные факторы тесно переплетаются с культурно-символическими. Замечено, что все народы, осознанно или неосознанно, ценят объекты, виды деятельности и события, порожденные человеком или находящиеся под его контролем (культура), выше, нежели неподконтрольные и данные извне явления (природа). И поскольку женское начало воспринимается как более близкое к природе, чем к культуре, оно ставится ниже мужского.
Представление о «природной» сущности фемининности покоится на трех кажущихся универсальными предпосылках:
1. Биологическая зависимость женского организма от осуществления физиологических функций, связанных с продолжением рода (беременность, рождение и выкармливание детей).
2. Социальная зависимость женщин от их а) вынужденной связи с детьми в период лактации, кормления грудью и б) обусловленной этим преимущественной локализации женской деятельности (например, стряпни) в домашней среде.
3. Психологическая зависимость, возникающая вследствие идентификации девочек с конкретными женщинами, начиная с собственной матери, за деятельностью которой, большей частью домашней, они наблюдают и участвуют в этой деятельности на протяжении всего детства, тогда как мальчики должны в конечном счете идентифицироваться с мужчинами, деятельность которых развертывается вне семьи, это дает мальчикам больше вариативных возможностей и, следовательно, степеней свободы.
Но такое объяснение представляется чересчур общим. Чтобы понять конкретные исторические типы гендерной стратификации, американский антрополог Эрнестина Фридл (Friedl, 1975) сопоставила систему доступных мужчинам и женщинам социальных ролей в обществах охотников и собирателей и в земледельческих обществах, выделив возможные детерминанты гендерных ролей и степень господства одного гендера над другим в следующих контекстах:
а) контроль за производством, особенно за домашним и внедомашним распределением стратегических экономических ресурсов;
б) право участвовать в политической, ритуальной и религиозной деятельности и быть ее руководителем;
в) степень автономии в принятии решений, касающихся сексуальных отношений – брака, местожительства, развода и воспитания детей.
Оказалось, что дифференциация занятий мужчин и женщин и характер их взаимоотношений зависят прежде всего от хозяйственной деятельности общества. У охотников и собирателей основу власти мужчин над женщинами составляет мужская монополия на охоту за крупными животными, а в земледельческих обществах – преимущественное право на расчистку и распределение земли.
Впрочем, даже в самых древних обществах гендерное разделение труда не везде одинаково. Среди охотников и собирателей существуют четыре главные формы гендерного разделения труда. У одних народов (хадза в Танзании, пали в Юго-Западной Индии) мужчины и женщины индивидуально собирают пищу каждый для себя, причем только малая часть мужской энергии уходит на охоту; гендерное разделение труда здесь слабое, но главная ответственность за детей лежит на женщинах. У других народов (североамериканских индейцев вашо, конголезских пигмеев мбути) охота, собирательство и рыбная ловля осуществляются силами всей общины, при участии как мужчин, так и женщин, хотя последние играют вспомогательную роль. У третьих (бушменов кунг из пустыни Калахари и североавстралийских аборигенов тив) мужчины и женщины добывают пищу порознь, причем женское собирательство обеспечивает свыше половины, а мужская охота – 30–40 % пищевых ресурсов. У четвертых (эскимосов) практически единственным способом добывания пищи является мужская охота, женщины только обрабатывают мясо и шкуры.
Еще больший разброс существует среди земледельческих народов. У одних народов (папуасов гурурумба в Новой Гвинее, африканцев ибо в восточной Нигерии, бемба в Замбии и др.) землю расчищают мужчины, а обрабатывают мужчины и женщины совместно. У других (тирики западной Кении, американских ирокезов и др.) мужчины расчищают землю, но обрабатывают ее исключительно женщины. У третьих (южноамериканских индейцев яномамо, североамериканских индейцев хопи) все основные земледельческие работы выполняют мужчины, женщинам остаются только подсобные функции. Соответственно варьирует и разделение домашних обязанностей.
Чем объясняются эти межкультурные различия? По мнению Фридл, монополия мужчин на большую охоту – результат не столько их большей физической силы, сколько трудностей, связанных с необходимостью удаляться далеко от дома, что заставило бы людей, если бы в охоте участвовали женщины, переносить на большие расстояния также детей и запасы пищи. Там, где в силу экологических условий охота на крупных животных возможна вблизи жилья (например, у филиппинских негритосов агта), женщины участвуют в ней так же успешно, как мужчины.
Мужская монополия на расчистку земли тоже обусловлена, по-видимому, не только физической трудоемкостью этой работы, но и тем, что новые земли часто приходится осваивать на границе племенной территории, которую необходимо защищать от врагов. А ведение войны – всюду прерогатива мужчин, не только вследствие их большей силы и агрессивности, но и потому, что популяция легче переживает потерю мужчин, чем женщин.
Природные условия и хозяйственная жизнь во многом определяют и гендерную социальную иерархию. По данным Фридль, как среди охотников-собирателей, так и среди земледельцев относительное могущество женщин возрастает, если они участвуют в добывании пищи, а также во внедомашнем распределении и обмене ценимых благ и услуг. Там, где женщины вовсе не участвуют в обеспечении пищевыми ресурсами или, много и долго работая в сфере жизнеобеспечения, не несут непосредственной ответственности за внедомашнее распределение, их личная автономия и влияние на других наиболее ограничены. Напротив, там, где мужские права по распределению благ и услуг не намного больше женских, значительно меньшая разница наблюдается и в социальном статусе обоих полов.
Эти факторы влияют и на дифференциацию воспитательных функций мужчин и женщин. Фридл подчеркивает, что местопребывание детей и распределение ответственности за выхаживание младенцев зависят от отведенных обществом женщинам производственных задач, а не наоборот. Биологические функции зачатия, вынашивания, деторождения и выкармливания взаимосвязаны, поэтому главная ответственность за выращивание детей всюду принадлежит женщинам; не случайно во многих языках понятия «женщины» и «дети» образуют единый блок. Но сколько детей женщина рожает, кому они принадлежат, кто тратит время и энергию, надзирая за их активностью, где содержат детей и до какого возраста надзор за ними считается необходимым – все эти вопросы и ответы на них систематически связаны с целостной социальной и культурной системой общества.
Новейшие кросскультурные исследования гендерного разделения труда не принесли особых сенсаций (Ember, 2007, личное сообщение), но появились новые теоретические идеи.
Прежде всего, улучшилось взаимопонимание сторонников биоэволюционного и социокультурного подходов. Их исходные позиции противоположны. Эволюционные биологи и психологи выводят половые различия в человеческом поведении и психике из законов полового отбора, считая их неизменными и всеобщими. По их мнению, почти все различия в поведении и мотивации современных мужчин и женщин – «пережитки» нашего эволюционного прошлого (Buss, Kenrick, 1998. P. 983). Представители социального конструктивизма, к числу которых относятся и феминистки, напротив, отдают предпочтение изменчивым социокультурным факторам. Обе теории утверждают, что имеют хорошее эмпирическое подтверждение. В пользу эволюционистов говорит тот факт, что при всех исторических переменах мужское и женское поведение по-прежнему ориентируется на «эволюционные универсалии», общие у человека и животных. Однако кросскультурные исследования показывают, что гендерные различия относительны. Даже в древних обществах разделение мужского и женского труда не было абсолютным, женщины не только выращивали детей, но и вносили существенный вклад в материальное жизнеобеспечение своей общины. Кроме того, с изменением характера общественного производства меняются формы брака и семьи. Сексуальный «двойной стандарт», мужское сексуальное насилие и право собственности на женщин – не эволюционные универсалии, а «побочные продукты патриархатных форм социальной организации, которая появилась при определенных социально-экономических условиях» (Wood, Eagley, 2002. P. 716). Серьезный вызов эволюционной психологии бросают и современные общества, в которых традиционные формы полового разделения труда и связанные с ними психологические свойства претерпевают радикальные изменения.
Отсюда – поиск новых, не столько альтернативных, сколько интегративных теорий, пытающихся преодолеть оппозицию эволюционизма и конструктивизма.
Биосоциальная теория половых различий и сходств Алис Игли и Венди Вуд (Eagly, 1987; Eagly, Wood, 1999; Wood, Eagley, 2002) ставит в центр своего внимания интерактивные отношения между физическими свойствами мужчин и женщин и социальными контекстами, в которых они живут. Важнейшие отдаленные, внешние детерминанты полодиморфических ролей в обществе – это, с одной стороны, половые различия, характерные для каждого пола физические свойства и соответствующее поведение (например, вынашивание и выхаживание младенцев у женщин и большая масса тела, скорость движений и физическая сила у мужчин), а с другой – средовые факторы, то есть действующие в каждом конкретном обществе социальные, экономические, технологические и экологические силы. Хотя перечисленные факторы присутствуют и взаимодействуют всегда, сам процесс взаимодействия может происходить по-разному, а конкретные различия в социальном поведении мужчин и женщин возникают в результате того, что они распределены по разным социальным ролям.
Например, в индустриальном и постиндустриальном обществе женщины чаще мужчин оказываются в роли домохозяек и воспитательниц детей, в то время как мужчины больше заняты оплачиваемым трудом. Однако, в отличие от Парсонса и Бейлза, Вуд и Игли не считают, что эти роли мужчин и женщин обязательно будут взаимоисключающими или имеющими особое экспрессивное или инструментальное содержание. Напротив, они полагают, что эти роли меняются в зависимости от изменения тех домашних и внедомашних задач, которые типичны для мужчин или женщин. Именно неодинаковое место мужчин и женщин в социальной структуре формирует, благодаря целому ряду опосредствующих процессов, полодиморфическое поведение, которое затем становится нормативно-стереотипным. Например, если мужчины чаще женщин выполняют роли, связанные с экономическо-производительной деятельностью, то соответствующие навыки, ценности и мотивы становятся для них стереотипными и инкорпорируются в мужскую гендерную роль.
Иными словами, мужчины и женщины не потому занимаются разными видами деятельности и выполняют разные социальные роли, что имеют больше способностей к тем или другим, а, наоборот, соответствующие интересы и способности формируются потому, что общество «развело», «распределило» их по разным ролям и видам деятельности.
Гендерные роли направляют социальное поведение мужчин и женщин посредством а) социализационных процессов (обучение и воспитание) и б) социально-психологических процессов подкрепления ожиданий и саморегуляции. Механизмы, посредством которых общество распределяет между мужчинами и женщинами жизненные задачи, бывают более или менее гибкими. Психофизиологически их гибкость обеспечивается выработанной человеком способностью к сложному социальному обучению (Flinn et al., 1998) и усвоению культуры. Опираясь на эту способность, общество социализирует мальчиков и девочек, готовя их к будущим жизненным ролям, с учетом как общих транскультурных констант, вроде женской репродуктивной функции и мужской силы и энергии, что подчеркивает эволюционная психология, так и специфических социально-экономических условий (которые акцентирует социальный конструктивизм).
Плодотворность такого подхода подтверждается и социальной психологией, и антропологическими кросскультурными исследованиями. Например, доказано, что в традиционных обществах при социализации девочек наибольшее внимание уделяется формированию такой черты, как заботливость. В классическом исследовании воспитания детей в 110 культурах (Barry, Bacon, Childs, 1957) приводятся такие данные: больше поощряли быть заботливыми девочек, чем мальчиков, в 82 % обществ, а в остальных культурах требования к мальчикам и девочкам в этом отношении были одинаковыми. Напротив, мальчиков, в полном соответствии с их собственными желаниями, всюду поощряют заниматься соревновательными силовыми играми. Однако степень этих социализационных различий зависит от степени жесткости гендерного разделения труда. По мере вовлечения женщин в производственную деятельность, а мужчин в уход за детьми социализационные нормы маскулинности и фемининности становятся более гибкими и перестают казаться взаимоисключающими. Именно это происходит в современном обществе.
Общественное разделение труда тесно связано со структурой власти. Суть этой зависимости остается спорной. По мнению Вуд и Игли (Wood, Eagley, 2002), разделение труда между полами и патриархат (порядок, когда мужчины обладают большей властью, более высоким статусом и более свободным доступом к ресурсам, чем женщины) относительно независимы друг от друга, но взаимосвязаны. Возникновение патриархата исторически связано с войнами, развитием интенсивного сельского хозяйства и появлением сложных экономических систем. Все это вместе взятое благоприятствовало сосредоточению богатства в руках мужчин и повышению их статуса, оттесняя женские занятия и роли на второй план. На эту тему имеется обширная марксистская литература – от Фридриха Энгельса до Ю. И. Семенова. Новейшие исследования убедительно показывают, что общества, которые часто находятся в состоянии войны, отличаются резко выраженным гендерным неравенством (Goldstein, 2001).
Сложность проблемы (и самого понятия) патриархата состоит, в частности, в том, что это слово обозначает, с одной стороны, господство мужчин в обществе, а с другой – власть отца в семье. Но это не совсем одно и то же. Даже в пределах семьи патриархат «имеет два главных сущностных параметра – правление отца и правление мужа, именно в таком порядке» (Therborn, 2004. P. 13). Но и там, где властные функции в семье и обществе определенно принадлежат мужчинам, последние не всегда управляют миром, в том числе своими детьми, непосредственно и единолично (о соотношении мужской и женской власти см. подробнее: Здравомыслова, Темкина, 2007а).
Сталкиваясь с традиционными моделями гендерной стратификации, где мужчинам отводится ведущая, главенствующая роль, а женщины выглядят зависимыми, подчиненными, ученые подчас не замечают стоящей за этим более тонкой дифференциации публичной и домашней сфер. В патриархальных обществах публичная сфера, как правило, составляет привилегию мужчин, участие женщин в ней строго ограничивается, что создает впечатление их полного бесправия. Но такое впечатление может быть ошибочным, поскольку в другой, домашней сфере бытия правом принятия решений иногда столь же монопольно обладают женщины, и мужчины не могут в них вторгаться.
Наряду с разделением труда и прочих социальных функций важным аспектом гендерного порядка является гендерная сегрегация. Чем больше мы углубляемся в прошлое, тем жестче и непроницаемее границы мужского и женского миров, причем тенденция к обособлению и созданию закрытых однополых сообществ, в рамках которых формируются специфические системы ценностей, самосознание и стиль жизни, выражена у мужчин гораздо сильнее, чем у женщин. Такое явление ученые называют гомосоциальностью (общение с себе подобными) или мужской тенденцией к группированию (male bonding).
Гендерная сегрегация и мужские союзы. Интерлюдия
Явление это старше самого человечества. Автор знаменитого бестселлера «Мужчины в группах» американский антрополог Лайонел Тайгер (Tiger, 1969), собравший воедино множество разнородных данных о различных мужских союзах и сообществах, начиная с животных и кончая современными тайными обществами, пришел к выводу, что феномен мужской солидарности и группирования по половому признаку является всеобщим и имеет биолого-эволюционные предпосылки. Поскольку все мужчины когда-то были охотниками, выживание и жизненный успех не только отдельного мужчины, но и всей человеческой группы зависел от способности мужчин координировать свои усилия в борьбе с общим врагом. Групповая солидарность и эмоциональная привязанность мужчин друг к другу и к группе как целому являлись предпосылкой и одновременно условием жесткой групповой дисциплины, уменьшая внутригрупповую конкуренцию и связанное с ней социальное напряжение.
Хотя Тайгера и близких к нему авторов часто критикуют за биологический редукционизм, указывая, что не все древние общества промышляли охотой и что существуют другие способы проявления маскулинности (Гилмор, 2004; Connell, 1995), феномен гендерной сегрегации и связанной с ним мужской групповой солидарности кажется исторически всеобщим.
Особые мужские дома, союзы и тайные общества существовали едва ли не во всех архаических обществах. Бременский этнограф Генрих Шурц (1863–1903) в книге «Возрастные классы и мужские союзы» (1902), опираясь на обширный эмпирический материал из жизни нескольких африканских, одного индийского и четырех североамериканских народов, пришел к выводу, что возрастные классы – древнейший тип социальной организации, основанный, с одной стороны, на общности возрастных переживаний и антагонизме поколений, а с другой – на противоположности полов. В отличие от женщин, жизнь которых целиком подчинена потребности и обязанности рожать и воспитывать детей, причем то и другое реализуются в семье, движимые сексуальным и социальным импульсом мужчины создают все общественные и политические институты. Главная предпосылка общественной жизни, по Шурцу, «инстинктивная симпатия» между мужчинами, из которой вырастают все социальные связи, патриотизм и воинские доблести.
Идеи Шурца были с восторгом приняты учеными всех специальностей и получили дальнейшее развитие в книгах Ганса Блюера «Немецкое молодежное движение как эротический феномен» (1912) и «Роль эротизма в мужском обществе» (1917). Агрессивные арийские мужчины постоянно воевали, покоряли другие народы и основывали империи. Проводя большую часть жизни в походах, они часто имели, наряду с женами, рожавшими им детей, любовников-мужчин, причем такие связи укрепляли их воинское братство. В основе современных молодежных союзов и движений также лежит, по Блюеру, гомоэротическая дружба в сочетании со строгой половой сегрегацией и беспрекословным повиновением вождю. Принцип элитарных и иерархически организованных мужских союзов Блюер открыто противопоставлял идее женского равноправия и политической демократии. После того как эти идеи взяли на вооружение немецкие фашисты, они надолго утратили популярность в научном мире. Однако универсальность мужских союзов не вызывает у антропологов сомнений (Volger, Welck, 1990).
Сходные группировки самцов существуют и у некоторых животных, включая приматов.
Многолетние наблюдения за несколькими популяциями диких шимпанзе (Wilson, Wrangham, 2003; Mitani, 2006; Mitani, Amsler, 2003), в том числе с применением генетических методов (определение ДНК), позволяющих точно установить родственные отношения животных (Langergraber et al, 2007), показали, что внутри каждого семейства шимпанзе складываются устойчивые диадические (парные) отношения между самцами. Самая тесная близость возникает между братьями по матери (поскольку самцы шимпанзе спариваются с несколькими самками, института индивидуального отцовства у них не существует, зато матери опекают своих детенышей до 12 лет, так что у детенышей формируется устойчивое чувство близости, какого не может быть у братьев по отцу). Но многие, до 90 %, самцовые пары не связаны узами родства и создаются в результате индивидуального выбора. Эти кооперативные дружеские отношения составляют существенный элемент социальной структуры стада и выполняют прежде всего функции взаимопомощи при разрешении внутригрупповых конфликтов, конкурентной борьбе за статус и т. п.
Кроме того, отправляясь на охоту или совершая набег на территории соседей (межгрупповые конфликты), самцы шимпанзе объединяются в особые группы (типа воинских отрядов), преследующие прежде всего функциональные цели. Исследователь, который наблюдал поведение большой группы шимпанзе в национальном парке Уганды Кибале на протяжении семи лет, зафиксировал 753 объединения для борьбы с врагами и 421 – для дележа добычи. Интересно, что добытое на совместной охоте мясо не отдается самкам в уплату за секс, а делится между самцами – для поддержания их групповой солидарности, направленной, в том числе, против других самцов (Mitani, Watts, 2001).
Ученые рассматривают такие постоянные или временные самцовые коалиции как прототипы древнейших мужских союзов.
Групповая солидарность была необходима мужчинам не только для борьбы с внешними врагами, но и для того, чтобы поддерживать свой привилегированный статус и власть над женщинами. Мужские дома и тайные союзы тесно связаны с наличием особых мужских культов, выражающих мужские сексуальные страхи перед женщинами. Эти культы, как правило, сексуальны, агрессивны и направлены против женщин, которых нужно покорить и принудить к сексу. В них явно выражены мотивы сексуального насилия, как индивидуального, так и группового. Именно секс утверждает принцип мужского верховенства и власти: «мужчина сверху». Вторая главная идея мужских культов – представление, что мальчик становится мужчиной только благодаря другим мужчинам, откуда вытекает необходимость отделения мальчиков от женщин.
Американский антрополог Томас Грегор (Gregor, 1985; 1990) различает два основных способа охраны мужского господства: «комплекс мужского дома» и исключение женщин из публичной жизни.
Первый, древнейший, способ типичен для маленьких оседлых общин Южной Америки и Новой Гвинеи, в которых существуют закрытые для женщин мужские дома, где хранятся священные предметы культа и осуществляются тайные обряды. Грегор подробно описывает «комплекс мужского дома» живущего в джунглях бразильской Амазонии индейского племени мехинаку. Мифология мехинаку отличается выраженным андроцентризмом. Мужчины этого племени верят, что бог Кваумути создал женщин специально для того, чтобы мужчины могли заниматься с ними сексом. В то же время они явно побаиваются женщин. Центр социальной и эмоциональной жизни у мужчин мехинаку – не семья, а мужской дом. Это единственное место, где мужчины могут расслабиться и чувствуют полную свободу. Мехинаку говорят, что «в мужском доме нет стыда». Мужчины свободно обнимаются, часами раскрашивают друг друга, шутливо хватают друг друга за гениталии. Однако эти действия не считаются сексуальными. Чем больше времени мужчина проводит в мужском доме, с себе подобными, а не в семье или занимаясь сексом с женщинами в лесу, тем более он «настоящий мужчина».
В мужском доме хранятся культовые предметы, прежде всего – священная флейта каука, воплощающая одноименного духа. Женщины не имеют права видеть ни саму флейту, ни играющих на ней мужчин. Если женщина подсмотрит этот ритуал, ее наказывают коллективным изнасилованием, в котором участвуют все мужчины деревни, кроме ближайших родственников этой женщины. Сексуальную мотивацию такого акта мехинаку признают лишь отчасти, его главный его смысл не удовольствие, а утверждение коллективной власти мужчин над женщинами.
В акте группового изнасилования присутствует и определенный гомоэротизм, мужчины буквально купаются в семени друг друга, и это укрепляет их групповую солидарность. Вместе с тем понятие гомосексуальности в языке мехинаку отсутствует, секс между мужчинами считается одной из странностей белого человека.
Гендерно-возрастная групповая солидарность мальчиков мехинаку создается обрядом инициации, главный элемент которого – прокалывание уха – интерпретируемое как символический аналог женских менструаций. Социальная и эмоциональная связь между мальчиками, одновременно проходившими инициацию, сохраняется на протяжении всей их жизни. Эмоциональная значимость общих переживаний усугубляется тем, что у мальчиков поощряется агрессия по отношению к женщинам, которые рассматриваются исключительно как сексуальный объект и награда за мужество. Этот тип социализации практически исключает возможность социального равенства и взаимопонимания мужчин и женщин.
Второй, исторически более поздний способ поддержания гендерной сегрегации, широко распространенный у народов Средиземноморья и Ближнего Востока, – исключение женщин из публичной жизни, содержание их в своего рода домашних гетто. Налагаемые на женщин ограничения обычно мотивируются соображениями скромности и защиты женского целомудрия, но главное здесь – резкое разграничение публичной и домашней жизни. В Южной Италии, в испанской Андалузии, в Тунисе и Алжире мужской и женский мир пространственно строго разделены. Большую часть своей жизни женщина проводит дома, сначала с родителями, потом с детьми. Напротив, место настоящего мужчины – на улице, среди других мужчин, с которыми он одновременно соперничает и дружит.
Для алжирских кабилов, которым Пьер Бурдье посвятил одну из своих первых книг, мужчина, который проводит днем много времени дома, подозрителен или смешон: это «домашний мужчина», он «сидит дома, как курица на насесте». Уважающий себя мужчина должен быть видимым, постоянно выставлять себя на обозрение других, состязаться с ними, смотреть им в глаза. Он мужчина среди мужчин.
Характерно, что по мере исчезновения или ослабления одних специфически мужских институтов их немедленно заменяют другие.
В Средние века место первобытных мужских домов и тайных обществ занимают рыцарские ордена, позже их сменяют студенческие братства, масонские ложи, затем пивные, кофейни, клубы.
В современном обществе удельный вес исключительно мужских сообществ и учреждений резко уменьшился. Даже армия, включая военные училища, перестала быть чисто мужским институтом. Тем не менее потребность в закрытом для женщин пространстве общения с себе подобными у мужчин по-прежнему велика, мужское товарищество и дружба остаются предметами культа и ностальгии.
Чем заметнее присутствие женщин в публичной жизни, тем больше мужчины ценят такие занятия и развлечения, когда они могут остаться сами с собой, почувствовать себя свободными от женщин, нарушить стесняющие их правила этикета. Подчас трудно понять, являются ли такие исключительно мужские формы развлечений и массовой культуры, как футбол, бокс или рок-музыка, проявлением специфических мужских пристрастий и интересов или же их главный смысл заключается именно в консолидации мужской обособленности.
Это не может не накладывать отпечатка на психологию и идеологию маскулинности.
5. Противоречия и парадоксы маскулинности
Товарищ мужчина, а все же заманчива доля твоя… Булат ОкуджаваПрактически все народы убеждены, что мужчинами не рождаются, а становятся, маскулинность – не природная данность, а социальное и личное достижение. Чаще всего маскулинность ассоциируется с силой, воинской доблестью и высоким социальным статусом.
Даже близкие по уровню своего социально-экономического развития и образу жизни племена могут иметь разные каноны маскулинности, и рядом с воинственными и агрессивными мундугуморами живут спокойные и миролюбивые арапеши (Мид, 1988; 2004). По словам антрополога Дэвида Гилмора, «маскулинность – это символический текст, культурный конструкт, бесконечно вариабельный и не всегда необходимый» (Гилмор, 2005. С. 236).
Нормативно мужчина всегда ориентирован на достижение чего-то. Это «что-то» не везде одинаково, но всегда высоко ценится.
Новая парадигма маскулинности, получившая распространение в последние 15–20 лет, тесно связана с общими тенденциями современного человековедения (Smiler, 2004). Ее главные теоретические истоки – феминистский анализ гендера как структуры общественных отношений и отношений власти, постструктуралистский анализ дискурсивной природы социальных отношений, включая половые и сексуальные идентичности, и социологические исследования субкультур и процессов, связанных с маргинализацией и сопротивлением разного рода социальных меньшинств. Эти исследования, каждое на своем собственном материале, выдвинули на интеллектуальную авансцену проблему понимания «Другого» и вообще «инаковости». Сначала проблема формулировалось преимущественно в философских терминах, но затем она получила специально-научное подтверждение в психологии и психиатрии.
На ранних стадиях развития «мужских исследований» проблемной выглядела лишь недостаточная маскулинность (гипомаскулинность) – мальчики, которые не сумели усвоить требования мужской роли и на всю жизнь остались неудачниками, «лузерами».
С гипермаскулинностью до поры до времени все было в порядке, мужчина мачо выглядел воплощением успеха. Но постепенно выяснилось, что реализация этого идеала порождает также и многочисленные отрицательные качества (агрессивность, эмоциональную скованность и т. п.).
Констатация трудностей индивидуального развития стимулировала в социологической литературе 1980—1990-х годов критический анализ самого канона и идеологического содержания маскулинности. Оказалось, что мужские роли включают в себя противоречащие друг другу и даже явно дисфункциональные элементы (например, опору на агрессию). Понятия «полоролевое напряжение», «полоролевой стресс» и «гендерно-ролевой конфликт» дали возможность научно описать социально-психологические процессы, которые не позволяют мужчине реализовать собственный человеческий потенциал. Выяснилось, что мужчины переживают стресс не только когда считают себя неспособными осуществить требования своей мужской роли (например, сделать успешную карьеру), но и когда ситуация требует от них «немужского» поведения (например, необходимость ухаживать за маленьким ребенком).
Проблематичными оказались и механизмы эмоционального самоконтроля. Развитой аффективный самоконтроль всегда считался необходимым свойством «настоящего мужчины». Теперь выяснилось, что если «недостаточно социализированный», недовоспитанный мужчина не может адекватно контролировать свои агрессивные импульсы, то его «перевоспитанный» антипод не способен адекватно выразить собственные эмоции и страдает пониженным самоуважением (Levant, 1996; Levant, Fischer, 1998; Pleck, 1995). Более того, высокий уровень эмоционального самоконтроля статистически коррелирует с депрессивной симптоматикой. Появившийся в 1967 г. психиатрический термин алекситимия (Alexithymia, от греческих слов лексис – слово и тюмос – эмоции, буквально – «без слов для эмоций», речь идет о людях, испытывающих трудности с осознанием и выражением своих чувств и эмоций и отличающихся бедным воображением) стал не только диагнозом заболевания, но и способом описания некоторых мужских проблем. Лицам с выраженной алекситимией свойственно в высшей степени конкретное мышление. Они могут казаться приспособленными к требованиям реальности, но им недостает воображения, интуиции, эмпатии (способности к сопереживанию) и направленной на удовлетворение влечений фантазии. Они ориентируются прежде всего на вещественный мир, а к себе относятся как к роботам.
Если врачи и биологи ищут природные причины этих трудностей, то социологи выдвигают на первый план противоречия нормативной маскулинности. Одним из главных теоретических понятий новой психологии мужчин стала сформулированная Джозефом Плеком парадигма гендерно-ролевого напряжения (Gender Role Strain Paradigm) (Pleck, 1981; 1995). В отличие от ранней эссенциалистской парадигмы гендерной роли/идентичности, исходившей из того, что мужчины и женщины имеют врожденную психологическую потребность вырабатывать специфические, часто противоположные и потому дополняющие друг друга гендерные черты, парадигма гендерно-ролевого напряжения является конструктивистской. Усвоение гендерных ролей мыслится не как стандартный инвариантный процесс, ведущий к развитию типичных для данного пола и укорененных в сознании индивида личностных черт, а как сложный и изменчивый процесс, проходящий под сильным воздействием господствующих гендерных идеологий, которые видоизменяются в зависимости от социальной среды и культурного контекста. Господствующие идеологии направлены на поддержание существующих властных структур, которые большей частью, хотя и с вариациями, являются патриархатными и воспроизводят гендерное неравенство (Levant, 1996; Levant, Richmond, 2007).
Роберт Брэннон сформулировал четыре принципа или нормы традиционной маскулинности (Brannon 1976):
1. «Без бабства» («no sissy stuff») – мужчина должен избегать всего женского.
2. «Большой босс» («the big wheel») – мужчина должен добиваться успеха и опережать других мужчин.
3. «Крепкий дуб» («the sturdy oak») – мужчина должен быть сильным и не проявлять слабость.
4. «Задай им жару» («give 'em hell») – мужчина должен быть крутым и не бояться насилия.
На основе этих принципов была создана шкала – The Brannon Masculinity Scale (1984) – из 110 нормативных суждений, рассчитанных на измерение традиционной маскулинности. Однако некоторые ее субшкалы пересекались друг с другом. Кроме того, Доналд Левант с соавторами сочли необходимым дополнить ее такими параметрами, как гомофобия (страх и ненависть к гомосексуалам) и принятие деперсонализированной, не связанной с отношениями, сексуальности (non-relational sexual attitudes). Маскулинная идеология, по Леванту, означает усвоенную индивидом культурную систему убеждений и установок относительно маскулинности и мужских ролей, которая побуждает действовать в соответствии с этими требованиями и избегать того, что ими запрещено (например, походить на женщин) (Levant, 1996; Thompson, Pleck, 1995). Такое определение маскулинности разделяют большинство мужчин, но его нормы зачастую поощряют нездоровое поведение (пьянство, неоправданный риск), в результате чего у мужчин возникает «дисфункциональное напряжение». В то же время те мужчины, которые отклоняются от норм маскулинной идеологии, часто подвергаются остракизму и испытывают чувство стыда или «травматическое напряжение». Хотя большинство мужчин гендерно-ролевые ожидания так или иначе нарушают, им приходится расплачиваться за это чувством своего несоответствия, самозванства.
Предназначенный для измерения маскулинной идеологии инструмент – «Перечень мужских ролевых норм» (The Male Role Norms Inventory – MRNI) (Levant, Fischer, 1998) состоит из 57 пунктов, объединенных в восемь подшкал. Первые семь представляют собой разные параметры традиционной маскулинной идеологии: «Избегание женственности», «Гомофобия», «Опора на собственные силы», «Агрессия», «Достижение/статус», «Принятие безличной сексуальности» и «Эмоциональная скованность» (алекситимия). Все вместе они образуют Тотальную традиционную шкалу. Дополнительная, восьмая субшкала из 12 пунктов измеряет нетрадиционные установки относительно маскулинности. Особая форма MRNI разработана для подростков.
За последние 15 лет Роналд Левант, его сотрудники и многочисленные аспиранты провели множество исследований, в том числе сравнительных (включая Китай и Россию), и получили интересные результаты (Levant, Richmond, 2007). Прежде всего, они подтвердили выводы предыдущих исследований относительно связи традиционной маскулинности с полом/гендером, расой, этничностью и социальным классом. Мужчины поддерживают эту идеологию больше, чем женщины, причем пол – фактор более важный, чем этничность, афроамериканцы разделяют ее чаще белых американцев, а испаноязычные (латиносы) занимают позицию посередине. Представители низших классов поддерживают эту идеологию чаще, чем более состоятельные и образованные, ит.д.
Сравнение семи разных культурных групп американских мужчин азиатского происхождения показало, что они более или менее одинаково принимают традиционную идеологию маскулинности. При сравнении китайских (КНР) студентов с американскими выяснилось, что китайские мужчины и женщины принимают традиционную маскулинную идеологию больше, чем их американские сверстники. То же самое обнаружилось при сравнении американских и русских студентов, хотя русские студентки обнаружили менее традиционные установки, чем мужчины (я вернусь к этим данным позже). В целом, китайцы, русские, пакистанцы и японцы принимают традиционную маскулинную идеологию полнее американцев. Весьма интересны также возрастные и когортные различия: в одном исследовании сыновья оказались меньшими традиционалистами, чем отцы. Принятие традиционной модели маскулинности статистически связано также с наличием ряда личных проблем, таких как боязнь интимности, меньшая удовлетворенность партнерскими отношениями, более отрицательные мнения о роли отца, отрицательное отношение к расовому многообразию и женскому равноправию, установки, ведущие к сексуальному насилию, алекситимия, нежелание обращаться за психологической помощью и т. д. Хотя в этих сравнительных исследованиях преобладают студенческие выборки, они заслуживают серьезного внимания.
Главный вывод социально-психологических исследований маскулинности состоит в том, что мужские проблемы коренятся не столько в мужской психофизиологии и особенностях индивидуального развития мужчин, сколько в противоречивости нормативного канона маскулинности, ориентированного на оправдание и поддержание мужской гегемонии.
Это мнение разделяют ведущие современные социологи. По словам Пьера Бурдье, хотя в свете «фаллонарциссического видения» и «андроцентрической космологии» мужское господство представляется совершенно естественным явлением, на самом деле оно, как и сами понятия маскулинности и фемининности, весьма искусственно и само себя воспроизводит. Представление, будто женщина всегда ранима и слаба, порождает встречные нормативные представления о мужской силе и непроницаемости, которые мужчина вынужден оправдывать, в том числе – с помощью насилия. Маскулинность – это перформанс, с помощью которого мужчины постоянно обманывают не столько женщин, сколько самих себя и друг друга. Мужчина все время должен доказывать другим мужчинам, что он «настоящий», что он «соответствует» и принадлежит к группе «настоящих мужчин». Вирильность – «по самой сути своей реляционное (relationnelle, то есть создаваемое в отношении. – И. К.) понятие, конструируемое перед лицом и для других мужчин и против женственности в состоянии образного страха перед женским началом, прежде всего – в самом себе» (Bourdieu, 1998. P. 58–59).
Теоретически разрушение представления о маскулинности как о монолите выглядит новым и неожиданным. Однако исторически это представление всегда была внутренне противоречивым, а между нормативным каноном маскулинности и реальным мужским самосознанием всегда существовало напряжение.
Альтернативные маскулинности. Исторический экскурс
Практически любой архетип маскулинности противопоставляет мужское начало женскому по двум признакам – сексуальности и рациональности.
Фалло– и логоцентризм
Маскулинность везде отождествляется с сексуальной потенцией. «Мужская сила» – прежде всего сексуальная сила, а «мужское бессилие» – это сексуальное бессилие (импотенция). Как гласит Каббала, в яичках «собрано все масло, достоинство и сила мужчины со всего тела» (Onians, 1951). Многие народы считали кастратов не только биологически, но и социально неполноценными. Оскопить мужчину значило лишить его власти и жизненной силы. По Ветхому Завету, «у кого раздавлены ятра или отрезан детородный член, тот не может войти в общество Господне» (Второзаконие 23:1). Вопрос о гендерном статусе кастратов – можно ли вообще считать их мужчинами? – оживленно дебатировался в Средние века.
Мужская сексуальность всегда была предметом культа. Фаллос – символическое обозначение мужского полового члена, которого у женщин по определению нет и быть не может. Отсюда такие понятия, как фаллократия (социальное господство мужчин) и фаллоцентризм (универсальное положение фаллоса как культурного обозначающего).
В отличие от пениса, который обозначает реальную часть мужской анатомии и поэтому может иметь разные размеры и формы, фаллос нематериален – это обобщенный символ маскулинности, власти и могущества. Он всегда большой, твердый и неутомимый. Как и женские гениталии, фаллос имеет репродуктивное, детородное значение, в том числе – космическое (оплодотворение всей природы). Например, древнегреческий бог Приап, который сначала почитался в виде сучка или осла, в Древнем Риме был включен в число богов плодородия и стал стражем садов. Пережитки таких верований сохранились во многих народных обычаях вплоть до ХХ в. Например, у болгар в Добрудже хозяин, подготавливая телегу и семена для первого посева, должен был держаться за свой член – иначе не дождаться хорошего урожая. В некоторых регионах России мужики сеяли лен и коноплю без штанов или вовсе голышом, а на Смоленщине голый мужик объезжал на лошади конопляное поле. Белорусы Витебской губернии после посева льна раздевались и катались голыми по земле. В Полесье при посадке огурцов мужчина снимал штаны и обегал посевы, чтобы огурцы стали такими же крепкими и большими, как его пенис, и т. д. (Агапкина, Топорков, 2001; Кабакова, 2001).
Фаллические культы символизируют не столько плодородие и сексуальное желание, сколько могущество и власть. Фаллосу приписывается охранительная сила. В Древнем Риме маленькие дети носили на шее фаллические амулеты как средство защиты от сглаза и всякого иного зла. В Скандинавии фаллические статуи ставили рядом с христианскими церквами вплоть до XII в. Множество фаллических изображений можно по сей день встретить в Сибири и странах Азии.
Истоки фаллического культа старше человеческого рода. У некоторых обезьян и приматов демонстрация эрегированного пениса другим самцам (так называемый пенильный дисплей) – жест агрессии и вызова, который служит для обозначения иерархии внутри стада (кто кому имеет право показывать) и для защиты от внешних врагов. Например, у обезьян саймири если самец, которому адресован такой жест, не примет позы подчинения, он тут же подвергнется нападению, причем в стаде существует жесткая иерархия: вожак может показывать свой член всем, а остальные самцы – строго по рангу. Пенильный дисплей обозначает статус и ранг отдельных особей даже точнее, чем порядок приема пищи. Сходная система ритуалов и жестов существует у павианов, горилл и шимпанзе. Отпугивающая сила эрегированного члена применяется не только для обозначения иерархии внутри стада, но и для защиты от внешних врагов.
Фаллическая ментальность пронизывает и обыденное сознание. С размерами пениса мужчины связывают не только и не столько сексуальные, сколько статусные, иерархические различия. На древних наскальных рисунках мужчины более высокого ранга изображались с более длинными и, как правило, эрегированными членами. По верованиям маори (Новая Зеландия), у племенного вождя обязательно должен быть большой и постоянно, особенно во время битвы, эрегированный член. Титул верховного вождя одного из островов Южной Полинезии – «урету», что в переводе буквально означает «стояк», а один из эвфемизмов пениса у жителей Маркизских островов – «вождь» (Duerr, 1993. В. 3. S. 213). То есть пенис, власть и маскулинность как бы совпадают, а обладатель самого большого пениса подчиняет себе не только женщин, но и, что гораздо важнее, других мужчин. «Зависть к пенису», которую Фрейд приписывал женщинам, на самом деле обуревает самих мужчин. Озабоченность размерами половых органов существует и у современных мужчин, которые склонны к переоценке средних размеров воображаемого чужого и недооценке собственного пениса. Это постоянная тема мужских забот и разговоров.
«Мужская сила» требует доказательств не только в виде высокой сексуальной активности, но и соответствующего количества детей. У многих народов это требование формулируется четко и открыто (Гилмор, 2005). Например, у жителей одного из Каролинских островов мужчина должен обладать высокой потенцией, иметь много любовниц и каждый раз доводить их до оргазма. Эта способность не имеет ничего общего с любовью, это вопрос физической выносливости. Если мужчина не в состоянии удовлетворить женщину, его осмеивают и стыдят за неэффективность. Половой акт часто сравнивается с соревнованием, и тот из партнеров, который первым достигает оргазма, считается проигравшим. Мужчины говорят, что женщина может осмеять мужчину, если он оказывается неспособным удовлетворить ее. Неудача мужчины вызывает насмешки и оскорбления. Юношей папуасского племени ава учат, что их обязанность – заниматься сексом и зачинать детей. У племени баруйя престиж мужчины растет с рождением каждого нового ребенка, он становится «настоящим» мужчиной, лишь став отцом, по крайней мере, четверых детей.
Подобные представления существовали и во многих странах Европы, где задачей мужчины считаются не только бесчисленные любовные завоевания, но и деторождение. На Сицилии и в Южной Испании «настоящий мужчина» – это «мужчина с большими яйцами». Однако его потенция должна быть подтверждена. В Южной Италии только беременность жены может подтвердить маскулинность супруга. Честь мужчины состоит в том, чтобы создать большую и сильную семью. Беспорядочные сексуальные приключения – всего лишь юношеское испытание, закладывающее основы для взрослой жизни. Бездетный супруг вызывает всеобщее презрение, вне зависимости от того, насколько сексуально активным он был до женитьбы. Вина за бесплодие возлагается на мужа, поскольку именно ему полагается зачинать и завершать любое дело. «Разве он мужчина?» – насмехаются соседи. Возникают оскорбительные слухи о его предположительных физиологических дефектах, про него говорят, что он сексуальный неумеха, что его гениталии «не работают».
Даже мужская профессиональная лексика нередко облекается в сексуальные формы. Некоторые программисты говорят, что трахаются с компьютером, а известный пианист Николай Петров с удовольствием «лишает невинности» новый рояль: «К роялю отношусь как к живому существу. А поскольку люблю женщин, то он для меня – женского рода» (цит. по: Щепанская, 2001. С. 93).
Однако мужчина должен быть силен не только сексуально. Второй универсальный конституирующий принцип маскулинности – разум/логос, духовное, рациональное начало, противопоставляемое женской эмоциональности и экспрессивности; отсюда – логократия и логоцентризм.
Соотнесение «ума» с мужским началом (Холодная, 2004) прослеживается уже в этимологии слова «муж», которое через manu– (древнеинд. «человек, мужчина») восходит к men – «мыслить, думать» (Этимологический словарь славянских языков, 1994. С. 160). Русское слово «мужукать» значит «думать, раздумывать, соображать, толковать, рассуждать»; «мужевать» – «обдумывать, размышлять, соображать» (Словарь русских народных говоров, 1982. С. 332). Даль связывает значение слова «мужевать» со свойственной мужчине способностью «рассуждать, раздумывать, соображать, толковать здраво, как должно мужу». Отсюда пословицы типа «У бабы волос долог, да ум короток».
Распространенное мифопоэтическое противопоставление маскулинности и фемининности видит в женщине тело, чувство, инстинкт, природу, а в мужчине – дух, разум, культуру, голову. Дабы сформулировать обобщенную метафору мужской власти, французский психоаналитик Жак Лакан объединил фалло– и логоцентризм в единое понятие «фаллогоцентризм», которое широко употребляется в феминистской литературе. Однако эти два начала, на которых мужчины основывают свою власть над женщинами, находятся в постоянной борьбе друг с другом. Хотя мужчина должен быть сексуальным, от него ждут господства разума над чувствами, головы над телом, а самый сложный объект самоконтроля – его собственная сексуальность.
Житейскую мудрость типа «когда член встает, разум остается ни при чем» можно найти в фольклоре всех времен и народов (Duerr, 1993. S. 188–193). О «своеволии» пениса, который «имеет собственный разум и встает по собственной воле», американскому антропологу Гилберту Хердту в 1980-х годах говорили папуасы самбия. Буквально то же самое – что пенис имеет собственные желания и не зависящий от человека рассудок – писал Леонардо да Винчи. По словам арабского философа XI в. Аль-Газали, эрекция – «сильнейшее орудие дьявола против сыновей Адама». Аль-Газали цитирует двух арабских мудрецов, один из которых сказал: «Когда пенис встает, мужчина теряет две трети своего рассудка», а другой – что в этом случае «мужчины теряют треть своей веры». Средневековый теолог Альберт Великий (ХШ в.), писал, повторяя слова Августина, что Бог наказал людей именно тем, что лишил их власти над половыми органами, а Фома Аквинский (ХШ в.) утверждал, что «своеволие» собственного пениса вызывает у мужчины стыд даже перед женой.
Несовпадение фалло– и логоцентризма делает единый непротиворечивый канон маскулинности принципиально невозможным, порождая альтернативные образы маскулинности в рамках одной и той же культуры (Кон, 2003 б).
В древнегреческой культуре, включая изобразительное искусство, это проявляется в виде конфликта между чувственно-оргиастическим «дионисийским» и рационально-созерцательным «аполлоновским» началами (этому посвящена обширная философская и культурологическая литература). Во многих обществах фаллическое начало персонифицируется в образе воина, а логократия – в образе жреца.
Средневековые маскулинности
В христианской культуре Средних веков фаллоцентрической маскулинности рыцаря противопоставляется логоцентрическая маскулинность связанного обетом безбрачия духовенства. Эта оппозиция проявляется и в телесном каноне, и в правилах повседневного поведения (см.: Hausvater, 1998; Conflicted Identities, 1999; Masculinity in Medieval Europe, 1999; Karras, 2003). Например, на английских мужских надгробиях XIII в. рыцари и клирики изображаются по-разному: в статуях и рельефах рыцарей подчеркивается прежде всего физическая сила, сильные руки и мощные ноги этих мужчин передают ощущение телесности и витальности, а на надгробиях духовных лиц больше внимания уделяется благостному выражению лиц (Dressler, 1999).
Бытовая культура Средневековья всячески культивировала доминантную и агрессивную маскулинность. В мужской среде, будь то рыцари, крестьяне или студенты, процветали грубость, драчливость, пьянство («Кто не пьет, тот не мужчина»), сквернословие, даже богохульство. Для духовного сословия такие нормы неприемлемы. Монах, который не должен никого убивать и не смеет заниматься сексом, выглядел «ненастоящим» мужчиной и был постоянным объектом шуток и насмешек. Достаточно перечитать Рабле.
Интересно, что эти сюжеты не потеряли своей актуальности и по сей день. В Journal of Men's Studies недавно опубликована статья «Мы монахи или мы мужчины?», в которой на примере устава святого Бенедикта (VI в.) серьезно обсуждается вопрос, является ли монах мужчиной или же он обладает каким-то особым, уникальным гендерным статусом (Raverty, 2006).
Но умение владеть собой, без которого здоровый мужчина не смог бы выполнить обет воздержания, – самое что ни на есть «мужское» качество. Сила духа, позволяющая мужчине победить собственную плоть, не менее важный признак маскулинности, чем бесстрашие.
Несовпадение исходных ценностей нисколько не мешало средневековым мужчинам выстраивать властные иерархические отношения друг с другом.
Исследовав образы маскулинности у молодых рыцарей, ученых и ремесленников, Рут Каррас нашла, что во всех трех группах конституирующим признаком мужской идентичности были отношения не с женщинами, а с другими мужчинами. Необходимое условие притязаний на мужской статус – превосходство и доминирование над другими мужчинами. Однако этого можно было добиться по-разному. Если в рыцарском и придворном обществе молодой человек достигал высокого статуса и доказывал свою маскулинность воинскими подвигами и любовными успехами у женщин, то духовные лица и ученые (которые тоже принадлежали к духовному сословию) демонстрировали свое превосходство над другими мужчинами, побеждая их в интеллектуальных диспутах, самообладании и мудрости.
Характерно, что одним из способов поддержания доминантной маскулинности везде и всюду является девирилизация и феминизация подчиненных мужчин, будь то физическая кастрация пленников и соперников в борьбе за власть или символическое уподобление иноземцев и иноверцев женщинам. В христианской традиции враги, «неверные», например мусульмане и евреи, часто изображаются женственными или зависящими от женщин, чему может способствовать их повышенная сексуальность. Сходная символика существует и в исламе.
Впрочем, поляризацию фалло– и логоцентризма не следует абсолютизировать. Рыцарские добродетели включали не только физическое мужество, но и религиозные ценности, а многие монашеские ордена строились по образцу закрытых мужских воинских союзов. Дисциплина в них была строже армейской, а их члены назывались «солдатами Господа». По уставу ордена цистерцианцев, даже услышанные монахами голоса с Неба должны были звучать как мужские, а не как женские. В 1199 г. один монах был строго наказан за сочинение стихов (Roth, 1998).
К тому же социальная структура феодального общества не ограничивалась рыцарями и духовенством. В раннем Средневековье мужчины функционально делились на тех, кто сражается, тех, кто молится, и тех, кто работает, причем последних было гораздо больше. Развитие городской культуры и общественного разделения труда усложняет гендерный порядок. Растущее разнообразие городских профессий, естественно, порождает споры о том, какие из них больше подходят мужчинам и т. п. (McNamara, 1994). Мужская иерархия в среде ремесленников создается и поддерживается не воинской доблестью и благочестием, а мастерством и трудовыми (а следовательно, и экономическими) достижениями. То есть каждое сословие имеет свой собственный канон (каноны?) маскулинности. Позже из этого вырастет протестантская этика, с которой Макс Вебер связывал возникновение капитализма.
Связь социального статуса мужчины с его трудовой специализацией (пастух, кузнец, мельник и т. п.) существовала и в русской деревне (Щепанская, 2001). Но сразу возникает вопрос: более сложный и индивидуализированный труд повышал социальный статус мужчин, или высокий статус давал им право на более индивидуализированную и престижную работу?
Еврейская маскулинность
Другой поучительный пример альтернативной маскулинности – еврейская маскулинность. В старой антисемитской литературе еврейских мужчин обычно изображали женственными хлюпиками, неспособными постоять за себя и выживающими только за счет изворотливости и хитрости. Представления о женственности распространялись и на «еврейское тело» (Gilman, 1991). Итальянский астролог Чеччи д'Асколи в XIV в. писал, что после казни Христа все еврейские мужчины были обречены на менструации. Иногда «еврейскую женственность» связывали с обрядом обрезания. В венском диалекте клитор называли «евреем». Позже эта теория психологизировалась. Немецкая медицина XIX в. приписывала евреям повышенную склонность к истерии, а также нередко ассоциировала еврейство с гомосексуальностью. Эту стигму восприняли некоторые еврейские интеллектуалы, испытывавшие по этому поводу комплекс неполноценности (Отто Вейнингер, Марсель Пруст). Смущала она и Фрейда. Поскольку гитлеровцы объявили взаимосвязь истерии, еврейства, женственности и гомосексуальности закономерной и неустранимой, после Второй мировой войны представление о фемининности евреев считали злостной выдумкой антисемитов. Казалось, что вопрос закрыт.
Однако известный американский специалист по иудаизму Дэниэл Боярин (Boyarin, 1997), которого никто не мог заподозрить ни в антисемитимзме, ни в гомофобии, увидел здесь реальную проблему. По его мнению, за образом женственного еврея стоит не только антисемитский стереотип, но и действительно присущий еврейской культуре нетрадиционный канон маскулинности, требующий от мужчины не столько силы и воинственности, сколько ума и терпения. Истоки этой философии коренятся в древней талмудистской традиции.
Альтернативная еврейская маскулинность (Edelkayt) означает мягкость и деликатность, ее идеальный субъект – не воин и не торгаш, а посвятивший всю свою жизнь изучению Торы ученый-талмудист или его секуляризованный младший брат Mentsh. В этом образе закодированы такие черты, как развитая рефлексия, сдержанность, умение переносить насилие, не теряя внутреннего достоинства и самоконтроля. Если для христиан еврей был презренным слабаком, за счет которого можно утверждаться в собственной агрессивной маскулинности, то для верующего еврея «гой» – презренный гиперсамец, вся сила которого заключена в мускулах, тогда как настоящая мужская сила – в духе.
Эта философская конструкция имеет свой житейский аналог. Боярин цитирует известный эпизод из воспоминаний Фрейда, которому его отец, рассказывая, насколько жизнь немецких евреев улучшилась по сравнению с прошлым, привел в пример случай. Однажды, когда он шел по улице в субботу в новой шляпе, какой-то гой сбил с него шляпу и сказал: «Еврей, сойди с тротуара!» «И что ты сделал?» – спросил Фрейд. «Сошел на мостовую и подобрал шляпу» (Freud, 1955. Vol. 4. P. 197). Двенадцатилетний мальчик был глубоко оскорблен таким «негероическим» поведением отца. Ему гораздо больше импонировал пример карфагенского полководца Гамилькара Барки, который заставил своего сына Ганнибала поклясться отомстить римлянам, и тот всю свою жизнь посвятил этой задаче. По сравнению с героическим отцом, о каком мечтал юный Фрейд, собственный отец казался ему жалким. Тем более что сбитая с головы шляпа – фаллический символ, так что подбирать ее было двойным унижением.
На первый взгляд, мальчик совершенно прав. Но, по мнению Боярина, поведение отца Фрейда было не «негероическим», а «антигероическим». Вступать в драку с агрессивным хулиганом физически слабый и юридически бесправный еврей не мог, в этой ситуации мужество заключалась для него в самообладании: не поддаться на провокацию и сохранить сознание своего духовного превосходства над грубияном.
Альтернативная маскулинность не была простым следствием бессилия и бесправия, вынуждавших делать хорошую мину при плохой игре. В традиционной еврейской культуре всегда высоко ценилось образование. Наряду с энергичными и предприимчивыми юношами, в еврейской общине уважительно относились к бледным и хилым талмудистам, посвящавшим свою жизнь изучению Торы. Хотя брак с такими молодыми людьми не сулил девушкам богатства, они считались завидными женихами, тем более что женщины к духовным занятиям не допускались. Кстати, из этих оторванных от жизни и социально беспомощных талмудистов порой вырастали великие философы и логики.
Можно ли признать такой тип маскулинности исключительно еврейским? На мой взгляд, это просто специфическая форма логоцентризма. Общий принцип маскулинности – потребность в достижении, желание и способность опередить других, а в чем именно ты преуспеешь – в физической силе и ловкости, практической сметке или духовном самоотречении – зависит от норм культуры, исторических обстоятельств и индивидуальных свойств.
С выходом евреев за пределы традиционной еврейской общины вариантов индивидуальной самореализации становилось больше, а оппозиция фалло– и логоцентризма ослабевала, причем в новых условиях ориентация на неутилитарное образование могла способствовать и социальному продвижению. Когда-то американские социологи заинтересовались, почему в США процент евреев-иммигрантов, получавших среднее и высшее образование, был значительно выше, нежели процент итальянцев при тех же объективных условиях. Группе мальчиков, итальянцев и евреев, был задан вопрос: какого рода профессиональные занятия планируют для них родители? В обеих группах цели ставились достаточно высокие, но итальянские мальчики знали, что их родители удовлетворятся и чем-то меньшим. Напротив, еврейские мальчики считали, что, если поставленные перед ними цели не будут достигнуты, их родители будут горько разочарованы, и поэтому они чувствовали себя обязанными преуспеть (см.: Кон, 2006. С. 252–253). Если способности мальчика не соответствуют таким притязаниям, то возникающее в связи с этим психологическое давление порождает у него внутреннюю психологическую напряженность и, возможно, невротизм, но в других случаях оно определенно способствует его социальному успеху.
Не менее важно то, что в этих группах по-разному относились к образованию. Среди итальянских иммигрантов преобладали крестьяне из южных районов Италии. У себя на родине эти люди были очень далеки от образования, поэтому и в новых условиях они к нему не стремились. Интеллектуальные интересы в их среде считались проявлением женственности. Напротив, еврейские семьи, преимущественно выходцы из городской, мелкобуржуазной среды, были лучше подготовлены к условиям конкуренции и иначе относились к образованию. Для еврейской мамы слова «мой сын, доктор» были предметом высочайшей гордости, и это сказывалось на каноне маскулинности.
Этот пример, как и приведенная выше характеристика средневековых маскулинностей, показывает, что хотя оппозиция фалло– и логоцентризма имеет определенную эвристическую ценность, выстроить на ее основе типологию реальных исторических культур невозможно. Противопоставление физической и духовной силы имеет свои границы, а каждая культура имеет не один канон маскулинности.
Это верно не только для иудаизма. Ни евангельский образ Христа, ни его иконография не имеют ничего общего с персонификацией физической силы, могущества и власти. Иисус ничем не напоминает ни разряженных высокомерных церковных иерархов, ни телевизионных военно-полевых батюшек, освящающих танки и обучающих детей стрельбе из автоматов. Предложение подставить под удар вторую щеку также не вяжется с гегемонной маскулинностью. Тем не менее никто не упрекал Иисуса в нерешительности и слабости. То же можно сказать и о Будде, в котором нет ничего агрессивного и доминантного.
Современный научный разговор о критериях или типах маскулинности идет не в мифопоэтических образах, а в социологических терминах, в том числе предложенных Рейвен Коннелл (некоторые ее работы у нас переведены, см.: Коннелл, 2000; 2001; о ней – Тартаковская, 2007).
Еще в начале 1980-х годов, изучая взаимоотношения австралийских старшеклассников, Коннелл обнаружила, что у них присутствует не одна, а несколько разных иерархических систем, каждой из которых соответствует свой собственный канон маскулинности, причем гендерные отношения тесно переплетаются с социально-классовыми. Это побудило выделить несколько разных типов маскулинности. Исследования других социальных сред показали плодотворность такого подхода, позволив утверждать, что «не существует единого образа маскулинности, который обнаруживается всюду. Мы должны говорить не о маскулинности, а о „маскулинностях“. Разные культуры и разные периоды истории конструируют гендер по-разному… Многообразие – не просто вопрос различий между общинами; не менее важно то, что разнообразие существует внутри каждой среды. Внутри одной и той же школы, места работы или микрорайона присутствуют разные пути разыгрывания маскулинности, разные способы усвоения того, как стать мужчиной, разные образы „Я“ и разные пути использования мужского тела» (Connell, 1998. P. 3).
Самая популярная, бросающаяся в глаза модель – «гегемонная», властная маскулинность характеризует мужчин, стоящих на вершине гендерной иерархии. Ее признаки многослойны, многогранны, противоречивы и исторически изменчивы. Хотя их обычно приписывают конкретным индивидам, на самом деле они являются групповыми, коллективными, создаются и поддерживаются определенными социальными институтами. Гегемонная маскулинность не заключена внутри отдельных мужских личностей – она является публичным лицом мужской власти, определяя, что значит быть «настоящим» мужчиной. Все прочие маскулинности рассматриваются по отношению к ней и оцениваются по ее критериям. Однако она не является фиксированной, находится в состоянии постоянного движения, и достичь ее можно не путем устранения альтернативных структур и групп, а путем господства над ними. Гегемонная маскулинность создается и реализуется только в отношениях с женщинами и другими, менее престижными маскулинностями. Хотя не все мужчины активно пытаются или хотят соответствовать строгим стандартам, которые предполагает гегемонная маскулинность, они все извлекают из нее определенный «патриархатный дивиденд».
В переводе на житейский язык «гегемонная маскулинность» означает, что существуют немногочисленные «настоящие мужчины», а все прочие – подделки, которые обязаны подчиняться «настоящим мужчинам» и подражать им.
Понятие «гегемонная маскулинность» весьма близко по смыслу к «маскулинной идеологии» Роберта Леванта, о которой говорилось выше. Коннелл не считает ее единственным типом маскулинности. Кроме гегемонной маскулинности в каждом мужском сообществе существуют еще три типа статусов. Сообщническая (complicitous) маскулинность обозначает совокупность свойств и практик, посредством которых к плодам гегемонной маскулинности приобщаются и те мужчины, которые не стоят на вершине мужской иерархии. Подчиненная, зависимая маскулинность характеризует мужчин, стоящих внизу гендерной иерархии (например, геев). Наконец, маргинализированная маскулинность описывает статус мужчин, социальное положение которых зависит от их принятия и одобрения членами доминантной группы, например мужчины и мальчики из бедных семей или принадлежащие к этнически стигматизированным слоям – афроамериканцы, иммигранты и т. п.
Чтобы понять гендерную иерархию общества или конкретной социальной группы, нужно изучать не отдельный тип маскулинности, а всю систему как целое. Разные маскулинности – это не столько разные типы мужчин, обладающих какими-то специфическими психологическими чертами, вроде силы или агрессивности, сколько разные типы социальных идентичностей, их гендерные параметры неразрывно связаны с социально-экономическими и культурными факторами. «Носителем» маскулинности является не столько личность, сколько тот социальный институт, в рамках которого люди взаимодействуют друг с другом. Соответственно взаимодействие разных маскулинностей в системе гендерного порядка может быть и отношениями власти, и отношениями производства, и отношениямии катексиса (эмоциональной привязанности).
Хотя эта система понятий не была особенно ясной, она способствовала разрушению представления о единой, монолитной маскулинности и получила широкое распространение в гендерных исследованиях. Понятие гегемонной маскулинности вошло в научный оборот, за последние 20 лет ему посвящено более двухсот специальных научных статей (Connell, Messerschmidt, 2005). В педагогических исследованиях оно оказалось полезным для изучения динамики внутришкольных и внутриклассных отношений, включая «буллинг» (школьное насилие) и сопротивление мальчиков школьной дисциплине. В изучении массовых коммуникаций гегемонная маскулинность используется для анализа медийных образов мужчин, включая взаимосвязь спортивных и военных образов, а также личной идентичности профессиональных спортсменов. Разграничение гегемонной и подчиненной маскулинности помогает понять, почему мужчины часто готовы идти на внешне неоправданный риск, платя за это высокую цену (например, в виде мексиканского «мачизма»).
Ценность этого подхода состоит в том, что он формирует критическое отношение к распространенной в психологии и массовой культуре склонности овеществлять, превращать в особые «сущности» некоторые свойства мужского (без уточнения – каких именно мужчин) поведения, выводя из этого глобальное понятие маскулинности, которое затем используется для объяснения (и оправдания) того самого поведения, из которого оно было выведено. Такая тенденция ярко проявляется в массовой психологии, которая постоянно изобретает новые типы мужских характеров («альфа-самец», чувствительный «новый мужчина», «волосатый мужчина», «метросексуал» и т. п.), а также в разговорах о «мужском здоровье» и «кризисе маскулинности». Коннелл подчеркивает, что надо не столько конструировать «типы личностей», сколько изучать складывающиеся в повседневной жизни структуры коллективного поведения. Гендерная иерархия – не автоматически самовоспроизводящаяся система, а исторический процесс. Отсюда – повышенное внимание к тем процессам и группам, деятельность которых подрывает привычную гендерную иерархию. Причем эти процессы могут по-разному выглядеть на локальном, региональном и глобальном уровне.
В разных социальных средах (например, в интеллигентской и рабочей среде) гегемонная маскулинность может строиться на основе принципиально разных, даже противоположных ценностей: в одном случае это будут интеллектуальные достижения, а в другом – физическая сила. На наших глазах заметно перестраивается и нормативный канон фемининности: женщины воспринимаются уже не только как матери, школьные подруги, сексуальные партнерши и жены, но и как деловые партнеры.
Очень интересный социальный феномен – так называемая протестная маскулинность, характерная для некоторых социально и этнически маргинализованных мужчин. Ее формы могут быть очень разными («белый супрематизм» в США или в Швеции, стремящийся к восстановлению власти белого человека, исламский терроризм Аль-Каиды, русский национализм типа РНЕ и т. п.), но все они подают себя как борцов за возрождение истинно мужского начала – в противоположность феминизированной, интеллектуализированной и гомосексуализированной западной цивилизации.
Короче говоря, маскулинностей много, изучать их историческую динамику нужно конкретно, не пытаясь вывести ее из общих законов эволюционной биологии и принципов полового диморфизма.
Подведем итоги.
Для читателя-неспециалиста эта глава – самая трудная, потому что речь идет о многозначных понятиях и терминах. Но ее основное содержание можно свести к нескольким, не столь уж сложным, утверждениям.
1. Во всех языках, мифологиях и культурах понятия «мужское» и «женское» выступают одновременно как взаимоисключающие противоположности («мужское» или «женское») и как взаимопроникающие начала, так что их носители обладают разными степенями «мужеженственности». Тем не менее мужскому началу обычно приписывают более положительный и высокий статус.
2. Это воспроизводится и в научном описании маскулинности и фемининности. Сначала они казались взаимоисключающими, затем предстали в виде континуума, а потом выяснилось, что все они многомерны и у разных индивидов могут сочетаться по-разному, в зависимости как от природных, так и от социальных факторов.
3. В биологически ориентированной науке все различия между полами первоначально считались универсальными и выводились из обусловленного естественным отбором полового диморфизма. Однако многие свойства поведения и психики мужчин и женщин, равно как общественное разделение труда между ними, оказались исторически изменчивыми, их можно понять только в определенной системе общественных отношений. Чтобы точнее описать соответствующие процессы, биологическое понятие «пол» было дополнено социологическими понятиями «гендер» и «гендерный порядок», которые подразумевают социальные, исторически сложившиеся отношения между мужчинами и женщинами.
4. Гендерные исследования, ставшие неотъемлемой частью и аспектом социологии, антропологии, истории и других наук о человеке и обществе, занимаются прежде всего такими процессами, как общественное разделение труда, властные отношения, характер общения между мужчинами и женщинами, гендерный символизм и особенности социализации мальчиков и девочек. Хотя в трактовке этих явлений очень многое остается спорным, накопленный багаж знаний свидетельствует о плодотворности междисциплинарных поисков.
5. Для понимания биосоциальной природы маскулинности особенно важен феномен гендерной сегрегации, гомосоциальности и закрытых мужских сообществ. Исключительно самцовые группы как институты разрешения внутригрупповых и межгрупповых конфликтов существуют уже у некоторых животных, включая приматов. У человека они превращаются в мужские дома и тайные союзы, имеющие собственные ритуалы и культы. В ходе исторического развития гендерная сегрегация ослабевает или видоизменяется, но по мере исчезновения или трансформации одних институтов мужчины тут же создают другие, аналогичные. Это способствует поддержанию гендерной стратификации и психологии мужской исключительности.
6. Нормативный канон маскулинности изображает «настоящего мужчину» как некий несокрушимый монолит, но на самом деле этот образ внутренне противоречив. Мужчина противопоставляется женщине как воплощение сексуальной силы (фаллоцентризм) и разума (логоцентризм). Однако эти принципы противоречат друг другу. Кроме того, идеальные мужские свойства обычно соотносятся с исторически конкретными социальными идентичностями (воин, жрец, землепашец и т. д.). Поэтому наряду с общими, транскультурными чертами каждое общество имеет альтернативные модели маскулинности, содержание и соотношение которых может меняться.
7. «Кризис маскулинности», о котором много говорят с последней трети ХХ века, – прежде всего, кризис привычного гендерного порядка. Традиционная «маскулинная идеология» и «гегемонная маскулинность» перестали соответствовать изменившимся социально-экономическим условиям и создают социально-психологические трудности как для женщин, так и для самих мужчин.
Глава третья МУЖЧИНЫ В ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОМ ОБЩЕСТВЕ
1. Что происходит с гендерным порядком?
Если моя философия недостаточно сильна для того, чтобы сказать нечто новое, то в ней все-таки достаточно мужества для того, чтобы считать не вполне достоверным то, во что уже так давно верят.
Г. К. ЛихтенбергКак и почему изменяется гендерный порядок в современном обществе? На мой взгляд, в мире происходит беспрецедентная глобальная ломка традиционной системы разделения общественного труда и прочих социальных функций, а также отношений власти между мужчинами и женщинами.
В доиндустриальном и индустриальном обществе «война полов» шла на индивидуальном уровне, в семье и постели, но рамки этого соперничества были социально жестко фиксированы. Мужчины и женщины должны были «покорять» и «завоевывать» друг друга, используя для этого веками отработанные гендерно-специфические приемы и методы, но они сравнительно редко конкурировали друг с другом на макросоциальном уровне. Соперником мужчины был другой мужчина, а соперницей женщины – другая женщина. Сегодня в широком спектре общественных отношений и деятельностей мужчины и женщины открыто и жестко конкурируют друг с другом. Объяснять и прогнозировать эти процессы с позиций эволюционной биологии или классического психоанализа невозможно. Однако важно иметь в виду, что конкуренция, о которой идет речь, есть также форма кооперации, от которой в конечном счете выигрывает все общество.
Если говорить более конкретно, можно выделить несколько главных тендений развития:
1. В сфере трудовой деятельности и производственных отношений происходит постепенное, но все более ускоряющееся разрушение традиционной системы гендерного разделения труда, ослабление дихотомизации и поляризации мужских и женских социально-производственных ролей, занятий и сфер деятельности. Ведущей, динамической силой этого процесса являются женщины. Во всех развитых странах доля женщин, занятых в производительном труде, неуклонно растет. Например, во Франции доля работающих женщин выросла с 51,5 % в 1975 г. до 63,8 % в 2005 г. (La France en faits et chiffres, 2006). Мужчины утратили монополию на производительный труд, женщины быстро осваивают традиционно мужские профессии и т. д.
2. Женщины постепенно сравниваются с мужчинами по уровню образования, от которого во многом зависят будущая профессиональная карьера и социальные возможности, и все чаще превосходят в этом отношении мужчин. В 2006 г. в странах Евросоюза высшей ступени среднего образования достигли, как минимум, 80,7 % молодых (20–24 года) женщин и лишь 74,8 % молодых мужчин. Среди окончивших университеты 59 % женщин (European Commission, 2008). Карьерные притязания студенток университетов все больше становятся похожими на мужские, и девушки все чаще становятся лидерами в малых группах (Eagly, Karau, 1991).
3. Параллельно этому, хотя и со значительным отставанием, меняются гендерные отношения власти. Мужчины постепенно утрачивают монополию на политическую власть. Всеобщее избирательное право, принцип гражданского равноправия, увеличение номинального и реального представительства женщин во властных структурах – общие тенденции нашего времени.
Процесс предоставления права голоса женщинам наравне с мужчинами начался лишь в конце XIX в. Первыми странами, признавшими за женщинами статус граждан, наделив их избирательными правами на национальном уровне, стали Новая Зеландия, а затем Австралия. Но даже в промышленно развитых странах право женщин на участие в выборах существует недавно. Женщины завоевали право голоса в Финляндии и в Норвегии в 1906–1907 годах, в Дании – в 1915-м, в Германии, Швеции и Соединенном Королевстве – в 1918-м и в США – в 1920 г. Во Франции женщинам пришлось ждать этого момента до 1944 г., в Италии – до 1945-го, а в Швейцарии – до 1971-го. За десять лет, с 1997 по 2007 г., женское представительство в европейских парламентах выросло с 17 до 24 %. Разумеется, для передовой Европы этого мало. Доля женщин в национальных правительствах Европы составляет одну треть (European Commission, 2008). За пределами Европы дело обстоит еще хуже: несмотря на то что женщины составляют половину избирателей, они занимают лишь 10 % мест в парламентах мира и 6 % в национальных правительствах (Хегай, 2001). Тем не менее женщины все чаще становятся политическими лидерами, и не только в развитых западных странах. Достаточно вспомнить такие имена, как Индира Ганди, Маргарет Тэтчер, Ангела Меркель, Беназир Бхутто. Это не может не менять социальных представлений мужчин и женщин друг о друге и о самих себе.
4. С еще большим хронологическим отставанием и количеством этнокультурных вариаций, но в том же направлении эволюционируют и брачно-семейные отношения. В современном браке гораздо больше равенства, понятие отцовской власти все чаще заменяется понятием родительского авторитета, а «справедливое распределение домашних обязанностей» становится одним из важнейших признаков семейного благополучия. Классический вопрос «кто глава семьи?» заменяется вопросом «кто принимает основные решения?» Психологизация и интимизация супружеских и родительских отношений, с акцентом на взаимопонимание, несовместима с жесткой дихотомизацией мужского и женского. Образованные и экономически самостоятельные женщины не могут жить по древним домостроевским формулам. Хотя, как и в других сферах жизни, эти перемены затрагивают женщин сильнее, чем мужчин, нормативные представления и психология последних, особенно более молодых, образованных и городских мужчин, также перестраиваются.
5. Существенно изменился производный от социальной структуры общества характер гендерной социализации детей. Более раннее и всеобщее школьное обучение, без которого невозможно подготовить детей к предстоящей им сложной общественной и трудовой деятельности, повышает степень влияния общества сверстников по сравнению с влиянием родителей, а поскольку школьное обучение большей частью является совместным, оно объективно подрывает гендерную сегрегацию и облегчает взаимопонимание мальчиков и девочек, создавая психологические предпосылки для более равных и кооперативных отношений между взрослыми мужчинами и женщинами в разных сферах общественной и личной жизни. Одновременно это делает проблематичными традиционные представления о гендерных различиях способностей и интересов.
6. Изменения в содержании и структуре гендерных ролей преломляются в социокультурных стереотипах маскулинности и фемининности. Хотя в массовом сознании нормативные мужские и женские свойства часто по-прежнему выглядят альтернативными и взаимодополнительными, принцип «или-или» уже не является безраздельно господствующим. Многие социально значимые черты и свойства личности считаются гендерно-нейтральными или допускающими существенные социально-групповые и индивидуальные вариации. Идеальный тип «настоящего мужчины», который всегда был условным и часто проецировался в воображаемое прошлое, утратил свою монолитность, а некоторые его компоненты, например агрессивность, стали проблематичными и дисфункциональными, уместными только в определенных, строго ограниченных условиях (война, соревновательный спорт и т. п.).
7. Это способствует утверждению взгляда на маскулинность как на представление, маскарад, перформанс. Мужчины вынуждены все больше ориентироваться не только на свои собственные групповые нормы, но и на женские ожидания. Особенно это касается коммуникативных качеств и эмоциональности. В условиях жестких иерархических отношений мужская привлекательность ассоциировалась преимущественно с качествами, основанными на силе и власти. «Воспитание чувств» практически сводилось к самообладанию, нежность и чувствительность считались проявлениями женственности. Сегодня социально эмансипированные образованные женщины предъявляют к мужчинам повышенные требования психологического характера, что способствует развитию у мужчин более сложных и тонких форм саморефлексии, расшатывая образ монолитного мужского «Я».
8. Соответственно усложняются и взаимоотношения между мужчинами. Мужские отношения всегда были и остаются соревновательными и иерархическими. Однако в первобытном стаде социальный статус и репродуктивный успех самца определялись одними и теми же свойствами. По мере того как биологический отбор дополнялся и отчасти заменялся социокультурным отбором, преимущество получали не столько самые физически сильные и агрессивные, сколько наиболее умные и креативные самцы, социальные достижения которых обеспечивают более высокий статус им самим и их потомству, что, естественно, привлекает к ним и женщин. В человеческом обществе мужские иерархические системы строятся не по одному, а по нескольким не совпадающим друг с другом принципам. Отсюда – многомерность нормативных канонов маскулинности.
9. Социокультурные сдвиги распространяются и на сексуальные отношения. Сексуальная революция ХХ века была прежде всего женской революцией (Кон, 2004). Идея равенства прав и обязанностей полов в постели – плоть от плоти общего принципа социального равенства. Сравнительно-исторический анализ динамики сексуального поведения, установок и ценностей за последние полстолетия показывает повсеместное резкое уменьшение поведенческих и мотивационных различий между мужчинами и женщинами в возрасте сексуального дебюта, числе сексуальных партнеров, проявлении сексуальной инициативы, отношении к эротике и т. д. То, что женщины лучше рефлексируют и вербализуют свои сексуальные потребности, создает для мужчин дополнительные проблемы. Современные молодые женщины ожидают от своих партнеров не только высокой потенции, но и понимания, ласки и нежности, которые в прежний джентльменский набор не входили. Понятие секса как завоевания и обладания отчасти сменяется ценностями партнерского секса, основанного на взаимном согласии и т. д. и т. п.
Макросоциальным сдвигам соответствуют изменения психологического порядка. Но при этом происходит не столько уничтожение половых/гендерных различий как таковых с возникновением на их месте некоего «унисекса», сколько ослабление нормативной поляризации и формирование более индивидуальных стилей жизни, которые могут соответствовать или не соответствовать традиционным стереотипам маскулинности/фемининности.
Все эти процессы очень сложны и протекают с разной скоростью.
Главным историческим субъектом и носителем социальных изменений, ломающих привычный гендерный порядок, являются не столько мужчины, сколько женщины, социальное положение, деятельность и психика которых изменяются значительно быстрее и радикальнее, чем мужская психика. Дело здесь не в более широкой адаптивности женщин (по теории В. А. Геодакяна), а в общей логике социально-классовых отношений. Любые радикальные социальные изменения осуществляют прежде всего те, кто в них заинтересован, то есть угнетенные классы, в данном случае – женщины. Напротив, господствующий класс заинтересован в сохранении статус-кво; лишь когда изменения достигают определенного порога и становятся необратимыми, происходит сначала «измена клерков», а затем и массовая переориентация бывшей элиты, стремящейся выжить в изменившихся условиях. Так происходит и в гендерных отношениях. Женщины шаг за шагом осваивают новые для себя занятия и виды деятельности, что сопровождается их психологическим самоизменением и изменением их коллективного самосознания, включая представления о том, как должны складываться их взаимоотношения с мужчинами. Хотя систематических кросскультурных исследований такого рода я не знаю, похоже на то, что и женские самоописания, и женские образы маскулинности изменились за последние десятилетия больше, чем мужские. И дело тут не в ригидности, жесткости мужского сознания, а в том, что класс, который теряет господство, не торопится сдавать свои позиции и делает это только под нажимом, в силу необходимости.
Масштабы, темпы и глубина изменения гендерного порядка и соответствующих ему образов маскулинности очень неравномерны а) в разных странах, б) в разных социально-экономических слоях, в) в разных социально-возрастных группах и г) среди разных типов мужчин.
Гендерные различия и связанное с ними социальное неравенство воспроизводятся даже в самых передовых, быстро развивающихся странах. В максимально благополучном Евросоюзе женщины получают в среднем на 15 % меньше мужчин, их значительно реже встретишь на руководящих постах, а уровень занятости женщин почти на 15 % ниже, чем представителей сильного пола. Причем этому способствуют не только традиционные привилегии и система власти, но и нормы общественного сознания. И это хорошо иллюстрируют исследования профессиональной карьеры и соотношения профессиональных и семейных ценностей мужчин и женщин.
Почему мы не любим карьерных женщин? Интерлюдия
Несмотря на то, что гендерная сегрегация в США официально осуждается и общественное мнение относится к подобным фактам крайне нетерпимо, по темпам своего карьерного роста и доходам американские женщины, даже при выравненных стартовых возможностях, существенно отстают от мужчин. По данным переписи, проведенной некоммерческой организацией Catalyst, хотя женщины занимают свыше половины должностей менеджеров и специалистов, среди руководящего персонала корпораций они составляют лишь 15,6 %, а среди членов советов директоров – 14,6 %. Почему? У них меньше административных способностей, или они недостаточно энергичны в отстаивании своих интересов? Чтобы ответить на эти вопрос, Catalyst при поддержке корпорации IBM провела в 2006 г. опрос 1 231 топ-менеджеров и руководителей корпораций в США (296 человек, 168 женщин и 128 мужчин) и в Европе (935 человек, 282 женщины и 653 мужчины). Главной помехой на пути женской административной карьеры оказались гендерные стереотипы.
Хотя представления о свойствах идеального лидера в разных средах неодинаковы (в одном месте от лидера ждут прежде всего умения организовать командную работу, а в другом – умения самостоятельно решать проблемы), женщинам всюду приписывают отсутствие необходимых качеств. Что бы женщина ни делала, ее всегда оценивают ниже, чем мужчину. Если деловая женщина ведет себя в соответствии с гендерными стереотипами, ее считают слишком мягкой, а если она их нарушает – слишком «крутой». Женщине все время приходится доказывать свое право на лидерство, а оценка ее деловых качеств находится в противоречии с оценкой ее личности. Если женщина привлекательна, ее считают некомпетентной, а если она компетентна, то кажется недостаточно женственной и вызывает антипатию. В этих условиях женщина практически не может выиграть. Недаром отчет Catalyst называется «Damned if You Do, Doomed if You Don't» («Если ты делаешь – ты осуждена, а если не делаешь – ты обречена») (Double-Bind Dilemma, 2007).
Серьезность этого противоречия подтверждают и экспериментальные исследования. Известно, что женщины часто получают меньшую зарплату, чем их коллеги-мужчины той же квалификации, и готовы с этим мириться. Нередко это объясняют слабостью женского характера, неумением женщины постоять за себя. На самом деле женщина часто не имеет выбора, потому что на один и тот же вопрос мужчина услышит в ответ «да», а «женщина» – «нет».
Американские психологи провели такой эксперимент (Bowles et al, 2005). В первой серии опыта 119 испытуемым представили описания мужчин и женщин, которые претендовали на получение некоей должности, причем кое-кто из них пытался выторговать себе более высокую зарплату. Все кандидаты были охарактеризованы как исключительно талантливые и квалифицированные. Испытуемых спросили, кого из них они бы наняли. В целом, кандидатов, претендовавших на более высокую зарплату, выбирали реже, чем более сговорчивых, но женщин «наказывали» вдвое чаще, чем мужчин. Во второй серии опыта новой группе из 285 испытуемых показали сыгранные актерами видеоролики, где претенденты на должность торгуются по поводу зарплаты. Испытуемые мужчины голосовали против торгующихся женщин, но прощали такое поведение мужчинам, а испытуемые женщины отвергали всех, кто торговался, предпочитая кандидатов, принимавших то, что им предлагалось. В последней серии опыта 367 испытуемым предлагалось самим войти в роль претендентов на должность и решить, принять ли начальное предложение или требовать прибавки. Оказалось, что выбор зависит от того, кто, по мнению испытуемых, будет принимать кадровое решение. Если предполагалось, что это будет мужчина, испытуемые женщины, в отличие от мужчин, предпочитали не торговаться. Если же предполагаемым вершителем судьбы была женщина, существенной гендерной разницы между испытуемыми не наблюдалось. То есть дело не в характере женщины, а в том, что она заранее знает, что с начальником-мужчиной спорить бесполезно, надо брать то, что дают.
В другом эксперименте, проведенном экономистом Линдой Бэбкок, группу волонтеров наняли поиграть в популярную словесную игру «боггл» (составление слов из выпавших на «костях» букв), обещав заплатить за потраченное время от двух до десяти долларов. Когда пришло время расплаты, всем испытуемым дали по три доллара и спросили, достаточно ли этого. Мужчины просили прибавки в 8 раз чаще, чем женщины. Во второй серии эксперимента, когда испытуемым прямо сказали, что насчет оплаты можно поторговаться, прибавки попросили половина женщин и 83 % мужчин. Это показывает, что женщинам психологически труднее добиваться повышения зарплаты.
Негативная оценка женщин, пытающихся отстаивать свои интересы, связана с неодинаковой оценкой мужских и женских эмоций. Психолог Виктория Бресколл из Йельского университета показывала испытуемым видеозапись собеседования при приеме на работу, испытуемые должны были оценить каждого соискателя и установить ему зарплату. Видеозаписи были тождественными, но в одном случае соискателями были мужчины, а в другом женщины, причем в ходе собеседования они должны были выражать гнев или печаль. Оказалось, что приемлемость этих эмоций зависит от пола. Самые положительные чувства вызывает рассерженный мужчина, затем идет печальная женщина, потом печальный мужчина и в самом низу – рассерженная женщина. Средняя зарплата, которую испытуемые положили рассерженному мужчине, составила почти 38 000 долларов, а рассерженной женщине дали только 23 000. Женщина не должна проявлять гнев…
Значительно более строгие и к тому же внутренне-противоречивые требования предъявляются и к одежде бизнесвумен (Belkin, 2007). Им все время приходится выбирать: нравиться или вызывать уважение.
Профессиональная карьера женщины сплошь и рядом трудно совместима с ее семейными ролями. Большинство молодых образованных американок не хотят делать выбор между детьми и профессией. Недавний опрос в престижном Йельском университете (впрочем, с небольшой и нерепрезентативной выборкой) показал, что полностью оставить работу после появления детей собираются лишь 4,1 % из 315 опрошенных студенток (но у мужчин так готовы поступить 0,7 %) ().
Кроме материальных и бытовых соображений женщине приходится считаться и с болезненным мужским самолюбием. Сорок с лишним лет назад я говорил своим студенткам, что хотя женщина может быть (и нередко бывает) умнее и успешнее своего мужчины, мудрая женщина, дорожащая своей семьей, постарается этого не показывать. Недавние американские исследования свидетельствуют, что эта житейская мудрость не устарела (Dowd, 2007) и имеет значение не только при выборе постоянных брачных партнеров, но даже в таком сугубо современном явлении, возникшем в конце 1998 г., как спид-дейтинг (speed-dating, буквально – краткосрочное, быстрое свидание, а точнее – более или менее формализованная система знакомства, когда каждый участник встречи в течение нескольких минут поочередно разговаривает со многими людьми, выбирая, с кем из них он хотел бы познакомиться поближе). По мнению его поклонников, спид-дейтинг обладает преимуществами перед многими другими формами знакомства, такими как бары и дискотеки. Все его участники заведомо хотят с кем-то познакомиться, группируются по соответствующим половозрастным группам, это экономит время, избавляет от необходимости подробно представляться. Большинство людей определяют степень своей романтической совместимости друг с другом очень быстро, и первые впечатления часто бывают устойчивыми.
Группа американских ученых во главе с профессором-экономистом Реем Фисмэном (Fisman et al, 2006) изучала в течение двух лет спид-дейтинг свыше 400 студентов и аспирантов Колумбийского университета. В каждой встрече участвовало от 10 до 20 разнополых партнеров. Каждый мужчина в течение вечера разговаривал с каждой женщиной. Разговор продолжался четыре минуты и прерывался по свистку. После каждого «свидания» участники должны были решить, хотят ли они снова увидеться с данным партнером, а также оценить его/ее интеллект, внешность и честолюбие. Оказалось, что мужчины и женщины ценят друг в друге разные качества: мужчины придают больше значения женской внешности, тогда как женщины больше ценят мужской ум. В целом это соответствует предсказаниям эволюционной психологии. Одновременно подтвердилось и одно из предсказаний социально-структурной теории (Eagly, Wood, 1999): потребность мужчины в уме и честолюбии не распространяется на женщин, которые более умны и честолюбивы, чем он сам. Иными словами, мужчины не хотят сближаться с женщинами, которые умнее и честолюбивее их самих, и это ставит женщин перед трудным выбором.
Поскольку ломка традиционного гендерного порядка тесно связана с общей модернизацией общества, логично предположить, что изменение канона маскулинности будет сильнее в промышленно развитых странах Запада, чем в странах третьего мира. В общем и целом, так оно и есть. Однако темп и уровень социально-экономического развития влияют на символическую культуру общества, одним из элементов которой является маскулинность, лишь через ряд опосредствований, включая особенности традиционной культуры и другие национальные свойства соответствующей страны или этноса.
Это убедительно подтверждают многолетние кросскультурные исследования голландского антрополога Герта Хофстеде, который эмпирически сравнивал типичные ценностные ориентации людей в разных культурах по нескольким признакам, включая маскулинность и фемининность.
Маскулинные и фемининные культуры. Интерлюдия
Маскулинные общества, по Хофстеде, отличаются от фемининных по целому ряду социально-психологических характеристик, далеко выходящих за пределы собственно гендерной стратификации и отношений между полами.
Первичные ценностные ориентации маскулинных культур отличаются высокой оценкой личных достижений; высокий социальный статус считается доказательством личной успешности; ценится все большое, крупномасштабное; детей учат восхищаться сильными; неудачников избегают; демонстрация успеха считается хорошим тоном; мышление тяготеет к рациональности; дифференциация ролей в семье сильная; люди много заботятся о самоуважении.
Первичные ценностные ориентации фемининных культур, напротив, выдвигают на первый план необходимость консенсуса; ценится забота о других; щадят чувства других людей; четко выражена ориентация на обслуживание; красивым считается маленькое; присутствует симпатия к угнетенным; высоко ценится скромность; мышление является более интуитивным; много значит принадлежность к какой-то общности, группе.
Эти базовые различия преломляются и в других сферах общественной и личной жизни. Их обобщенная сводка представлена в таблице.
Ключевые различия между фемининными и маскулинными обществами (по Хофстеде)
Источник: Hofstede G. and Associates. Masculinity and Femininity. The Taboo Dimension of National Cultures. Sage Publications, 1998. P. 16–17, 175.
«Маскулинность» и «фемининность» в работах Хофстеде являются не психологическими, а антропологическими категориями. Они фиксируют различия не между индивидами, а между странами (культурами), населению которых они предъявляются в качестве подразумеваемых нормативных ориентиров, с разной степенью выраженности. Одна и та же страна может быть «фемининной» по одному параметру и «маскулинной» по другому, не говоря уже о классовых и иных социально-групповых различиях. Хотя эти свойства базируются на житейских представлениях о фемининности и маскулинности, они «работают».
При сравнении по методике Хофстеде 50 разных стран и трех регионов, включающих по нескольку стран, между ними обнаружились существенные различия, не совпадающие с уровнем их социально-экономического развития или богатства. «Маскулинными» являются Япония, Австрия, Италия, Германия, США, Великобритания, Мексика, Венесуэла, Колумбия, Эквадор, Южная Африка, Австралия, арабские страны, Филиппины. «Фемининными», имеющими низкий балл по маскулинности, оказались скандинавские страны – Швеция, Норвегия, Дания, Финляндия, а также Нидерланды, Франция, Португалия, Коста-Рика и Таиланд.
Измерение социокультурных аспектов маскулинности и фемининности имеет важные социально-психологические последствия. Например, в психологической литературе маскулинность иногда отождествляется с индивидуализмом, а фемининность с коллективизмом (другая пара применяемых Хофстеде категорий). Однако Хофстеде подчеркивает, что статистически эти два параметра независимы друг от друга, «коллективистское» общество может быть маскулинным, и наоборот. То есть каждое общество по-своему уникально.
Хотя степень маскулинности/фемининности каждой культуры исторически более или менее стабильна, она может изменяться в зависимости от конкретных социально-политических обстоятельств.
Помимо национально-культурных особенностей, нормативные каноны маскулинности и ориентированное на них поведение варьируют в зависимости от социального положения и образовательного уровня людей. Как уже отмечалось выше, более образованные мужчины стесняются примитивной, грубой маскулинности, их ценностные ориентации и стили жизни выглядят более разнообразными, они охотнее, хотя далеко не все и не во всем, принимают идею женского равноправия и готовы идти ей навстречу. Это объясняется не только образованностью: зачастую у этих мужчин практически нет выбора, потому что женщины в их среде более эмансипированы и самостоятельны, грубая сила их отталкивает, так что мужчины вынуждены идти им навстречу. В рабоче-крестьянской среде традиционный канон маскулинности значительно сильнее и его не стесняются декларировать публично. Психологически, на индивидуальном уровне анализа, соответствующие установки зависят не столько от личного социального статуса взрослого мужчины, сколько от той среды, в которой он провел свое детство и юность, эти ранние влияния, как правило, не изглаживаются последующим личным опытом.
Не менее важный водораздел – социально-возрастной. Многие свойства традиционной маскулинности, в частности агрессивность и сексуальность, подразумевают, в первую очередь, подростков и молодых мужчин. В антропологической литературе существует даже понятие «синдром молодого самца» (Daly, Wilson, 1994), проявления которого более или менее сходны у разных видов животных и предположительно связаны с повышенной секрецией тестостерона. Сходства в поведении самцов-приматов и молодых мужчин подробно описывались этологами. Однако у животных самец и в старости должен оставаться агрессивным, чтобы защищать свои права. У людей длительная родительская и семейная опека, а также правовой порядок делают это не столь необходимым, накопленный или унаследованный социальный капитал и статус надежно охраняются общественным порядком, хотя выработанные в юности привычки и репутация помогают мужчинам и позже.
Молодые мужчины представляют собой особую социально-демографическую группу, которая по своим физическим (мускульная масса, физическая сила, гормоны), поведенческим (стадность, высокая соревновательность) и психологическим (любовь к риску, отсутствие заботы о личной безопасности, пренебрежение к собственной жизни, желание выделиться, склонность к девиантности) свойствам отличается как от женщин, так и от старших мужчин. Выраженность этих черт зависит больше всего от возраста, но также и от социального статуса (женатые мужчины меньше холостяков склонны к риску и авантюрам, нарушению правил). Тем не менее усвоенные в юности стереотипы и идеализированные образцы маскулинности сохраняются в сознании многих взрослых мужчин независимо от их собственного реального образа жизни, вызывают ностальгические чувства и нередко симулируются, на чем искусно играют средства массовой информации, поп-арт и имидж-мейкеры.
Выбор того или иного канона маскулинности имеет и свои личностные, индивидуально-типологические предпосылки. Соционормативные образы создаются и поддерживаются культурой, но разные каноны маскулинности неодинаково импонируют разным типам мужчин и имеют свои психофизиологические, конституциональные основы. Классический образ мачо создан по образу и подобию могучего доминантного Альфа-самца. Такие люди существуют и сейчас, составляя, по предположению российского этолога А. И. Протопопова, от 10 до 20 % мужчин (эмпирических подтверждений этого я не встречал). Хотя в современном обществе этот канон стал отчасти дисфункциональным, его носители продолжают считать себя единственными «настоящими» мужчинами, создают собственные сообщества и находят сферы жизни, где такие качества можно проявлять безнаказанно и получать за это одобрение (война, силовые виды спорта) и т. д. Поскольку перечисленные свойства филогенетически самые древние и на них ориентирована любая мальчишеская и юношеская субкультура, их поддерживают многие мужчины, которые сами не принадлежат к этому типу.
При этом многое зависит от конкретных политических ситуаций. Войны, политические кризисы и другие события, вызывающие подъем национальных чувств, увеличивают спрос на героев-воинов, повышая ценность традиционных маскулинных качеств. Национализм и религиозный фундаментализм – самые мощные противовесы цивилизационной «феминизации» социокультурных ценностей в современном мире. Под видом защиты традиционных духовных ценностей они способствуют возрождению культа архаических форм гегемонной маскулинности. Это характерно для любых разновидностей фашизма. Культ сильной власти, дисциплины, державности, вождя и нации практически сочетается с культом агрессивной маскулинности, направленной против «женственной» и «слабой» демократии. В том же ключе работает и протестная маскулинность. Например, исламский терроризм подает себя как возрождение истинно мужского начала в противоположность разложившемуся и феминизированному Западу.
Но оставим вопросы общетеоретического порядка и посмотрим (на примере Германии), как решают возникающие перед ними новые проблемы европейские мужчины.
2. Еврейский мужчина в поисках идентичности
Мы почти не знаем самих себя; наши чувства часто кажутся нам чужими, а эмоции других вызывают у нас страх. О нашей собственной истории как мужчин мы тоже, в сущности, ничего не знаем.
Вальтер ХольштайнПочему я обращаюсь к Германии? Никаких особых теоретических оснований для этого у меня нет. Просто мне не нравится укоренившийся у нас «америкоцентризм», когда все российские процессы почему-то сравниваются с США, от которых наша страна во многом отстоит (не только географически) значительно дальше, чем от Европы. А Германия – солидная и благополучная страна, имеющая, что тоже немаловажно, достаточно много приличных исследований, дающих хорошую пищу для ума.
Изучение гендерных отношениий и представлениий немецких мужчинах о самих себе начались в ФРГ еще в последней четверти прошлого века. Эти исследования позволяют выяснить, как за прошедшие годы у немцев изменилось соотношение трудовой и семейной деятельности, оценить степень поляризации мужских и женских образов и эволюцию нормативных канонов маскулинности. Меня интересуют не детали, а лишь самые общие тенденции развития.
Первое репрезентативное исследование представлений западногерманских мужчин о себе и о женщинах, проведенное в 1975 г. (Pross, 1984), показало, что представления эти не совсем традиционны, но достаточно консервативны. Хотя большинство мужчин одобряли трудовую деятельность женщин и принцип гендерного равенства в семье, женщина оставалась для них прежде всего матерью и женой, а в сексе ей отводилась пассивная роль. Самих себя мужчины видели сильными, деловых женщин уважали, но жениться предпочитали на заботливых и нежных.
Опрос, проведенный десять лет спустя женским журналом «Бригитта» (Metz-Goeckel, Miiller, 1986), показал, что гендерные установки и ценности за это время стали менее определенными, а у мужчин выросла неуверенность в себе. Домашняя работа по-прежнему оставалась преимущественно женской, только 7 % мужчин занимались ею систематически. 80 % опрошенных считали, что мужчина прежде всего кормилец, который должен содержать семью, а домашним хозяйством пусть занимается жена. Тем не менее 44 % опрошенных мужчин считают такое решение неидеальным, а 18 % – просто плохим. Мужчины стали чувствительнее к фактам насилия в отношении женщин (раньше они о них не знали и знать не хотели). Сексуальность стала более органично вписываться в целостный образ мужчины, выросла ориентации на партнерские отношения. Вообще, заметен сдвиг к «более мягким» мужчинам, но, несмотря на смягчение тендерного неравенства, «новые мужчины» составляли в общей массе немцев незначительное меньшинство.
Опрос, проведенный в 1983–1986 гг. по заказу правительства Институтом прикладных социальных исследований, констатировал, что сдвиги в гендерном порядке продолжаются (Hartenstein et al., 1988). Женщины завоевывают все больше позиций в сфере образования и профессиональной деятельности, но в семейно-бытовых отношениях выравнивание происходит медленнее. Тем не менее более молодые и образованные супруги начинают справедливее делить обязанности между собой. Если в 1975 г. 26 % мужчин сказали, что предпочли бы оставить всю домашнюю работу женщинам, то в 1986 г. так сказали 18 %. Доля мужчин, реально участвующих в домашней работе, выросла с 46 до 64 %. Демократичнее стал механизм принятия важнейших семейных решений. Резко уменьшилось насилие в семье. Мужчины стали больше участвовать в воспитании детей, хотя и на подсобных ролях.
Проведенный в 1989–1990 гг. берлинской социологической службой репрезентативный опрос 712 западногерманских мужчин (Hollstein, 1990) подтвердил, что нормативные образы развиваются в сторону большего гендерного равенства. Однако изменение установок часто не сказывается на реальном поведении. Темп и масштаб изменений зависят от целого ряда социально-экономических факторов. Наибольшие изменения происходят у мужчин нижнего среднего класса. Новые нормы гендерных отношений успешнее всего усваивают мужчины 27–40 лет, с гуманитарным образованием, интересом к политике, работающие учителями, психологами, социальными работниками. Напротив, среди представителей высших и, особенно, низших социальных слоев изменений мало. Многое зависит от уровня образования, характера работы, а также от особенностей собственного детства.
В результате ослабления гендерного неравенства женщины кажутся мужчинам более сильными, чем раньше. Однако ожидания в большой степени зависят от социального положения самих мужчин. Средние слои в этом отношении выгодно отличаются от более сексистски настроенных низов и верхов. Мужчины из средних слоев чаще разговаривают с женщинами о своих чувствах, детях, политике, друзьях и сексуальности, то есть они больше ориентированы на коммуникацию. Представители низов и верхов воспринимают женщин более функционально и «материалистически». Если мужчины из средних слоев к женской эмансипации относятся положительно, то представители высшего слоя одобряют ее только на словах, реально поддерживать гендерное равенство готова лишь одна треть. Среди рабочих разброс еще больше: равноправие поддерживает треть опрошенных мужчин, 15 % считают его опасным, а 24 % даже хотят с ним бороться. За социальные льготы для женщин высказались 80 % мужчин из средних слоев, 80 % нижнего слоя высказались против.
Фактическое распределение домашних обязанностей социально детерминировано. У мужчин из высших слоев такой проблемы нет – все делает прислуга. Мужчины из средних слоев тратят на домашнюю работу в среднем 1,3 часа в день, а из низших слоев – 1,1 часа. Так же сильно варьируют представления мужчин о себе, своем теле, здоровье, сексуальности и т. д. Больше всего изменений в этой сфере жизни ощущают представители средних слоев, затем – высших, а низшие классы порой даже не понимают, о чем идет речь.
Выбирая любимых кинозвезд, мужчины-рабочие отдают предпочтение более маскулинным и агрессивным (Ален Делон, Сильвестр Сталлоне, Бельмондо и др.), а представители среднего класса – более тонким и рефлексивным (Дастин Хофман, Вуди Аллен). Качества «идеального мужчины» у низов более стандартны: выпивка, демонстрация силы и т. п. Средние слои предпочитают тех, кто готов обсуждать свои проблемы, признаваться в слабостях и т. д. Интересно, что разброс в выборе предпочитаемых мужских образов, с которыми респонденты идентифицируют себя, оказался больше, чем в выборе женских персонажей.
В оценке собственных способностей у мужчин всех слоев заметен возрастной разрыв: молодые мужчины чувствуют себя более самостоятельными и способными справляться с бытовыми проблемами без помощи женщин, чем старшие. Мужчины из средних слоев придают меньше значения полу своих детей, для рабочих разница между мальчиками и девочками очень существенна.
Меньше всего перемен зафиксировано в сфере взаимоотношений мужчин друг к другу. Во всех социальных слоях мужская дружба считается привилегированным, самым важным из мужских отношениий, и все ее высоко ценят. Однако интимные излияния между мужчинами редки, в детстве и юности мальчики охотнее делятся своими переживаниями с сестрами, чем с братьями. Говорить с друзьями о своих слабостях, сексуальных проблемах и т. п. мужчины избегают, чаще говорят о работе, спорте, политике. Неуверенность в себе, чувство неопределенности своей идентичности и тревога у мужчин значительно чаще проявляются в отношениях с другими мужчинами, чем с женщинами.
К идее «мужского освободительного движения» американского образца большинство немцев относится отрицательно: «ерунда», «глупости», «подражание женскому движению». Однако многие мужчины своим положением не удовлетворены, считая, что как в социальном, так и в человеческом плане поставленных целей они не достигли. Мужчины из средних слоев меньше других гордятся своей маскулинностью и чаще выражают симпатии к андрогинным типам и ценностям. Рабочие к этому отнюдь не склонны.
Общий вывод исследования: после 1975 г. в гендерных отношениях произошли большие сдвиги. Мужчины стали более терпимыми, менее агрессивными, лучше относятся к женщинам. Медленнее всего меняется поведение мужчин в семье и по отношению к детям. Этому мешает, в числе прочего, мужской шовинизм, отождествление маскулинности с внесемейными достижениями, по формуле «профессионально неуспешный мужчина – вообще не мужчина».
Последнее крупное немецкое исследование ХХ в. «Мужчины на переломе. Как видят себя немецкие мужчины и как их видят женщины?» (Zulehner, Volz, 1998), выполненное по заказу двух религиозных мужских общин, евангелической и католической, при поддержке федерального министерства семьи, охватило две репрезентативные выборки (1200 мужчин и 800 женщин). Тот факт, что немецкие женщины успешно осваивают традиционно мужские сферы деятельности, ни у кого сомнений уже не вызывает. Однако гендерное равенство приветствуют 53 % женщин и только 31 % мужчин.
По их реакции на эти процессы авторы выделяют четыре группы мужчин: традиционалисты (19 %), прагматики (24 %), неуверенные (38 %) и «новые мужчины» (19 %).
Прежде всего, эти мужчины по-разному относятся к профессии и работе. Для традиционного мужчины главное – его работа, все остальное производно. Право на труд – привилегия мужчин, если рабочих мест не хватает, с работой должны расстаться другие, прежде всего – женщины. Для «новых мужчин» мир профессиональной деятельности менее важен и не выглядит исключительно мужским. Если традиционалистов женская конкуренция оскорбляет, то «новые мужчины» относятся к ней спокойно и не имеют ничего против совместной работы с женщинами.
Различаются и их семейные ценности. Хотя традиционалисты готовы материально обеспечивать семью, эмоциональную заботу о детях они считают делом матери. «Новые мужчины» берут на себя больше домашних функций, их браки более партнерские, они придают больше значения отцовским обязанностям, чаще гуляют и играют с детьми. Однако многие женщины относятся к этим установкам скептически, не принимая их всерьез.
В больших городах «новых мужчин» больше, чем в маленьких городах и деревнях. Политически традиционалисты тяготеют к правому, а «новые мужчины» – к левому крылу. Психологически «новые мужчины» значительно менее склонны к авторитаризму (сильный авторитаризм зафиксирован у 4 % «новых мужчин» и у 27 % традиционалистов) и меньше ориентированы на религиозные ценности.
Существенная разница наблюдается и в отношении к своему внутреннему миру. «Новые мужчины» лучше осознают свои чувства и переживания и чаще говорят о них. Они менее эгоцентричны, более эмоциональны, у них более гибкие полоролевые стереотипы. В том, что ведущая роль в партнерских отношениях принадлежит мужчине, убеждены 52 % традиционалистов и лишь 21 % «новых мужчин».
«Новые мужчины» ведут гораздо более активную сексуальную жизнь, больше удовлетворены ею и вдвое чаще говорят о ней со своими женами или подругами. Положительное отношение к сексуальности коррелирует у мужчин с общей удовлетворенностью жизнью. «Новые мужчины» значительно превосходят остальных мужчин в количестве источников сексуальной информации и охотнее признают сексуальные права женщин. С мнением, что «секс для мужчин важнее, чем для женщин», согласны 37 % всех опрошенных мужчин, но среди традиционалистов так думают 54 %, а среди «новых мужчин» – 21 %. «Новые мужчины» менее склонны к насилию, в том числе сексуальному, и значительно терпимее к альтернативным стилям жизни. Например, с суждением: «Гомосексуальность просто другой стиль жизни. В нашем обществе она должна быть открытой» – согласились 16 % традиционалистов, 32 % прагматиков, 34 % неуверенных и 64 % «новых мужчин».
Предложенная авторами типология значимо коррелирует с возрастом. Среди мужчин младше 19 лет, больше всего (46 %) неуверенных. Больше всего «новых мужчин» (29 %) среди 20-летних, а традиционалистов – среди 60– и, особенно, 70-летних. В последней группе они составляют 43 %, тогда как среди 30-летних мужчин их только 10 %. Среди старых женщин тоже больше традиционалисток. Как возрастные различия переплетаются с когортными – вопрос открытый.
В общем, по большинству показателей «новые мужчины» выглядят социально и психологически благополучнее остальных. Чтобы успешно жить и работать в современных условиях, мужчина должен стать мягче и терпимее. Тем не менее гендерные отношения остаются проблематичными.
Новейшие массовые репрезентативные немецкие исследования, включая проведенный в 2003 г. национальный опрос 9 000 молодых людей от 12 до 29 лет (аналогичные опросы проводились в 1992 и 1997 годах), показывают, что ориентация на гендерное равенство не устраняет многих старых социальных и психологических проблем (Gille, Sardei-Biermann, 2006; Gille et al., 2006).
Несмотря на то что большинство молодых немцев, определяя свои жизненные ценности, принимают принцип гендерного равенства, выбор между семьей и домашним хозяйством, профессией и партнерским разделением домашних обязанностей остается в значительно мере традиционным. Девочки и молодые женщины чаще считают центром своей жизни семью и домашнее хозяйство, тогда как представления о будущей жизни мальчиков и молодых мужчин теснее связаны с работой и профессией, чем с семьей.
Потребность иметь надежную, интересную и в какой-то степени самостоятельную профессиональную работу присуща большинству современных немцев. Однако мужчины придают больше значения а) высокой зарплате и б) возможности продвижения по службе, тогда как женщины выше ценят морально-психологическую атмосферу.
Не совсем одинаковы мужские и женские роли и в семье. Большинство опрошенных хотят делить домашнюю работу со своим брачным партнером/партнершей. Сдвиги в сторону гендерного равенства по сравнению с прошлым десятилетием значительны, но женщины стремятся к равному разделению домашнего труда гораздо больше, чем мужчины. Юноши считают этот вопрос частным, а многие взрослые мужчины вообще предпочитают традиционное разделение труда.
Сравнение результатов молодежного опроса 2003 г. с данными предыдущих опросов (1992 и 1997 гг.) позволяет сформулировать ведущие тенденции развития за последние десять лет:
1. Эгалитарные ролевые образы стали более важными для обоих полов.
2. Сдвиги в установках у молодых женщин больше, чем у молодых мужчин.
3. Структурные сдвиги противоречивы. Хотя среди оканчивающих среднюю школу число молодых женщин больше, чем число молодых мужчин, в разделении труда и получении более престижных профессий сдвиги в пользу женщин невелики. Это объясняется прежде всего конфликтом между профессиональными и семейными ролями, связанными с воспитанием детей.
4. У молодых родителей нередко даже наблюдается «ретрадиционализация» – возрождение старых установок, включая представление о принципиальной неодинаковости мужских и женских ролей в семье и на службе, у молодых мужчин эти сдвиги часто становятся долгосрочными (то есть жизненный опыт делает их традиционалистами).
Немецкие данные подкрепляются общеевропейской социальной статистикой. Вовлечение женщин во внесемейный труд – общая мировая тенденция. Параллельно этому, но в гораздо меньшем масштабе происходит вовлечение мужчин в домашнюю работу. В Норвегии мужской вклад в домашнюю работу по затратам времени по сравнению с женским вырос с 33 % в 1980 г. до 41 % в 2000 г, а в Нидерландах – с 24 до 32 %.
Интересны в этом плане итоги сравнительного европейского исследования динамики соотношения работы и семьи (проект «Работа меняет гендер») в шести странах (Австрии, Болгарии, Германии, Израиле, Норвегии и Испании) в 2001–2004 гг. (Holter, 2007). В сфере социальных установок идеал мужчины-кормильца постепенно отмирает. С суждением, что дело мужа – зарабатывать деньги, а дело жены – следить за домом и семьей, согласились лишь 10 % опрошенных мужчин при 81 % против. 96 % опрошенных согласились с тем, что дети нуждаются в таком же тесном участии отца в их воспитании, как и матери (против – 3 %). Идеалом является активное отцовство и двойная (трудовая и семейная) карьера для обоих полов.
Тем не менее многие старые проблемы сохраняются. 70 % неодиноких мужчин зарабатывают больше своих жен или партнерш, 10 % – столько же и лишь 20 % – меньше. Установки в пользу гендерного равенства сильнее у мужчин, которые а) трудятся в социальной сфере, а не в технической, б) имеют меньше рабочих часов в неделю, в) в браке или партнерстве имеют более или менее одинаковые доходы с супругами/партнерами, г) больше заботятся о детях и д) имеют маленьких детей. Мужчины, которые более активны в уходе за детьми, – моложе остальных, чаще имеют маленьких детей и сильнее поддерживают принцип гендерного равенства. Между прочим, несмотря на общее ослабление института брака, 80 % опрошенных мужчин состояли в стабильных отношениях (браке или партнерстве), из них 90 % жили с женщиной, 6 % – с мужчиной, а 4 % – неясно с кем. Несмотря на признание гендерного равенства, разделение домашней работы остается скорее традиционным: в 60 % домохозяйств стряпает преимущественно женщина, только 12 % мужчин готовят для себя сами. Уход за детьми осуществляют оба члена пары, а затрачиваемое на него время варьирует от 5 до 50 часов в неделю. Величина конкретного родительского вклада сильно зависит от продолжительности рабочего дня супругов.
Сходная картина наблюдается и в США. Опрос, проведенный в 2008 г. институтом Гэллапа, показал, что в американских семьях существует строгое разделение труда: мужчины занимаются автомобилем, а женщины уборкой. По данным опроса, за состоянием машины постоянно следят 69 % мужчин и 13 % женщин. К числу «мужских» занятий также можно отнести работу на приусадебном участке (ею постоянно занимаются 57 % мужчин и 12 % женщин) и стратегическое управление семейными финансами (соответственно 35 и 18 %).
Список «женских» обязанностей гораздо обширнее. Так, в большинстве своем, женщины отвечают за оплату счетов (сфера ответственности 48 % женщин и 34 % мужчин), мытье посуды (соответственно 48 и 16 %), закупки в продовольственных и хозяйственных магазинах (53 и 16 %), приготовление еды (58 и 14 %), стирку (68 и 10 %), уход за детьми (54 и 9 %), принятие решений о покупке мебели и украшений для дома (60 и 6 %) и за уборку дома (61 и 6 %).
Любопытно, что опрошенные по отдельности супруги по-разному оценивали многие сферы своей ответственности, мужья и жены тянули одеяло на себя и доказывали, что именно они выполняют основной объем домашних работ. Молодые супруги склонны более «честно» делить ответственность, в то время как пожилые мужчины чаще доверяют домашние работы своим женам.
По сравнению с результатами аналогичного опроса десятилетней давности, положение дел изменилось очень мало, хотя мужчины стали чуть чаще заниматься стиркой, уборкой, готовкой и детьми (Washington ProFile. April 11. 2008).
Теоретическое объяснение этих макросоциальных сдвигов неоднозначно. Соперничают две модели: «новый мужчина» или «новые обстоятельства». В первом случае подчеркивается момент сознательного и добровольного выбора стиля жизни, во втором – выбор более или менее вынужденный.
Очень важно учитывать семейный статус мужчины. С появлением ребенка, когда семейная жизнь приобретает новый центр, а гендерное равенство превращается из идеологической нормы в жизненное правило, в мужской психологии многое меняется. Однако и здесь многое зависит от социальных условий, включая отношение фирм, в которых мужчины работают, – насколько они дружественны к их семейным обязанностям. Очень важно также наличие законного отпуска по уходу за детьми. Даже если мужчина это право не реализует, оно имеет для него принципиальное значение. На вопрос о том, что меняется быстрее – условия труда или домашние условия, однозначного ответа, кажется, нет. Изменения в семейном быту и домашнем хозяйстве часто опережают прочие социальные сдвиги, домохозяйство выглядит динамичнее профессиональной работы. Однако эти процессы могут по-разному протекать у мужчин и у женщин.
В отличие от США, в Европе по-прежнему нет мужских политических движений, большинство проблем решаются практически, на бытовом уровне. Нет здесь и характерной для американцев тревоги по поводу того, что гендерное равенство «подрывает» маскулинность. Хотя европейские социологи тоже нередко пишут о мужчине как о загадочном, никому не известном существе, ни паники насчет их «несостоявшейся маскулинности», ни «размахивания кальсонами» в знак своей капитуляции перед феминизмом у европейских мужчин не наблюдается. Мужчины сталкиваются с проблемами, которые не имеют простых и однозначных решений, но это их не пугает, они меняются вместе с изменяющимся миром.
В России все выглядит драматичнее.
3. Российские маскулинности
Кто виноват, что русский мужчина рухнул? Советская власть? Да. Но кто виноват, что возникла советская власть? Русский мужчина.
Я называю русского мужчину облаком в штанах. Но не в том немом смысле, который имел в виду Маяковский. Мы говорим на языке пустоты. Русский мужчина был, русского мужчины уже-еще нет, русский мужчина снова может быть.
Виктор ЕрофеевРодина-мать или отечество?
Скорбя о подрыве «исконного» национального мужества, русские (как и любые другие) националисты любят апеллировать к имперским традициям и героическому прошлому. На самом деле гендерный порядок и стереотипы маскулинности в России всегда были противоречивыми (см.: Кон, 2005).
Древнерусское общество – типично мужская, патриархатная цивилизация, в которой женщины занимали подчиненное положение и подвергались постоянному угнетению и притеснению (Пушкарева, 1997). По словам Н. И. Костомарова, «русская женщина была постоянною невольницею с детства до гроба» (Костомаров, 1996. С. 81). В Европе трудно найти страну, где бы даже в XVIII–XIX веках избиение жены мужем считалось нормальным явлением и сами женщины видели бы в этом доказательство супружеской любви. В России это подтверждается свидетельствами не только иностранцев, но и русских этнографов (Ефименко, 1884. С. 82). О невнимании «старинных грамотников» к женщине писал и выдающийся фольклорист Ф. И. Буслаев. Абсолютная власть мужчины в семье и обществе подробно обоснована и закреплена в Домострое.
В то же время женщины всегда играли заметную роль не только в семейной, но и в политической и культурной жизни Древней Руси. Достаточно вспомнить великую княгиню Ольгу, дочерей Ярослава Мудрого, жену Василия I, великую княгиню Московскую Софью Витовтовну, новгородскую посадницу Марфу Борецкую, царевну Софью, череду императриц XVIII в. В русских сказках присутствуют не только образы воинственных амазонок, но и беспрецедентный, по европейским стандартам, образ Василисы Премудрой. Европейских путешественников и дипломатов XVIII – начала XIX в. удивляла высокая степень самостоятельности русских женщин, то, что они имели право владеть собственностью, распоряжаться имениями и т. д. Французский дипломат Шарль-Франсуа Филибер Массон считал такую «гинекократию» противоестественной, русские женщины напоминали ему амазонок, а их социальная активность и любовные приключения казались вызывающими (Greve, 1990. P. 926).
Проблема не столько в степени представленности мужского и женского начала в культуре, сколько в характере репрезентации. Многие философы, фольклористы и психоаналитики говорят об имманентной женственности русской души и характера (Hubbs, 1988; Рябов, 2001). Одни авторы делали из этого обстоятельства далеко идущие политические выводы, трактуя «вечно-бабье» начало российской жизни как «вечно-рабье» (Бердяев, 1990. С. 12), тоскующее по сильной мужской руке. У других это просто фольклорное наблюдение: «субъект русской жизни – женщина; мужчина – летуч, фитюлька, ветер-ветер; она – мать сыра земля. Верно, ей такой и требуется – обдувающий, подсушивающий, а не орошающий семенем (сама сыра – в отличие от земель знойного юга); огня ей, конечно, хотелось бы добавить к себе побольше…..» (Гачев, 1994. С. 251). Иногда акцент делают на внутрисемейных отношениях, утверждая, что в России «патриархат скрывает матрифокальность» (Rancour-Laferriere, 1995. P. 137): хотя кажется, что власть принадлежит отцу, в центре русского семейного мира, по которому ребенок настраивает свое мировоззрение, обычно стоит мать. Отец – фигура скорее символическая, реально всем распоряжается мать, и дети ее больше любят. Некоторые исследователи говорят об общей слабости или отсутствии «личностного мужского начала, умеющего увидеть одухотворенно-женское в женщине» (Кантор, 2003. С. 104).
Некоторые из этих суждений могут быть легко оспорены. В разделении властно-инструментальных и экспрессивно-эмоциональных функций, из которых первые считаются мужскими, а вторые женскими, нет ничего специфически русского. Пословицы и поговорки, которыми подкрепляются, а на самом деле только иллюстрируются глобальные обобщения, как правило, содержат в себе не только тезис, но и антитезис. Кроме того, социологу и историку трудно представить себе «русскую культуру» как нечто единое и вневременное. Если разложить правовое положение женщин на отдельные права, получится, что в XIX – начале ХХ в. русские женщины имели перед западноевропейскими преимущество только в правах собственности и наследования (Миронов, 2000. Т. 1. С. 264). Если же сравнить признаки выделенных Гертом Хофстеде «фемининных» и «маскулинных» культур, создается впечатление, что современная российская культура выглядит скорее фемининной, а традиционная – маскулинной. Однако предмет для размышлений, и не только философских, тут определенно есть.
В традиционной русской семье существовало особое почтение к женщине-матери, тогда как отцы и мужья нередко выглядели слабыми и несамостоятельными, их маскулинность часто проявлялась в деструктивной и антисоциальной форме – в бесшабашной удали, пьянстве, драках и т. п. Некоторые историки связывали это с политическим деспотизмом и недостатком индивидуальной предприимчивости. Кодекс чести, на котором держался дворянский канон маскулинности XIX в., предполагал верность царю и отечеству, воинскую доблесть, корпоративную честь, но не знал понятий рационального расчета и предприимчивости, которые были уже хорошо знакомы французам или англичанам этого периода и с которыми у них ассоциировались мужское достоинство и личная ответственность. С этим связан и гипертрофированный русский романтизм. Аристократический интеллектуал «всегда обнимал женщин, как и идеи, с той смесью страсти и фантазии, которая делала прочные отношения почти невозможными. […] В эгоцентрическом мире русского романтизма было вообще мало места для женщин. Одинокие размышления облегчались главным образом исключительно мужским товариществом в ложе или кружке» (Billington, 1970. P. 350, 432). В XIX в. буржуазный канон маскулинности – мужчина как ответственный хозяин жизни – формируется в купеческой среде, но дворянская культура его отвергает. Я еще вернусь к этому вопросу в главе об отцовстве.
Советские сценарии маскулинности
Советская власть радикально подорвала старый тендерный порядок. Одним из лозунгов Октябрьской революции было освобождение женщин и установление полного правового и социального равенства полов. Но гендерное, как и всякое прочее равенство, понималось механистически – как одинаковость и как возможность уничтожения всех и всяческих социально-групповых и даже природных различий. Уравняйте женщину в правах с мужчиной, дайте ей возможность свободно развиваться, и она будет делать все то же самое и не хуже, чем мужчина. Что можно делать что-то другое и иначе, не хуже и не лучше, а именно иначе, чем мужчина, никому в голову не приходило.
Кроме того, большевики катастрофически недооценили объективные и субъективные трудности, с которыми было связано даже частичное осуществление их программы. Все исторические, культурные, национальные и религиозные факторы традиционной гендерной стратификации игнорировались или рассматривались просто как «реакционные пережитки», которые можно устранить насильственно, административными мерами. Между тем положительные сдвиги в одной сфере жизни могут сопровождаться отрицательными в другой. Подобно тому, как форсированная «индустриализация любой ценой» содержала в себе будущие экологические катастрофы, большевистская «эмансипация» женщин неминуемо вступала в конфликт с устоями традиционной национальной жизни и культуры. Даже ее, на первый взгляд, бесспорные достижения оказывались в конечном счете пирровыми победами и часто вызывали сильную обратную реакцию.
Советская пропаганда гордилась тем, что женщины впервые в истории были вовлечены в общественно-политическую и культурную жизнь страны. Действительно, ко времени завершения советской истории женщины составляли 51 % всей рабочей силы. Девять десятых женщин трудоспособного возраста работали или учились. По своему образовательному уровню советские женщины практически сравнялись с мужчинами. Число женщин с высшим образованием было даже выше, чем число мужчин, а в таких профессиях, как учителя и врачи, женщины абсолютно преобладали.
Но было ли это действительно социальное равенство? Увы, нет. В сфере трудовой деятельности произошло не столько выравнивание возможностей, сколько феминизация низших уровней профессиональной иерархии: женщины выполняли хуже оплачиваемую и менее престижную работу и значительно слабее были представлены на высших должностях. Средний уровень заработной платы женщин был на треть ниже, чем у мужчин, потому что они занимали хуже оплачиваемые должности и среди них было значительно меньше начальников разного ранга. Например, в 1986 г. в общем числе научных работников в СССР женщины составляли 48 %, среди кандидатов наук их было 28 %, среди докторов наук – 13 %, среди членов Академии наук СССР – 0,6 %, а в составе Президиума Академии не было ни одной женщины (Вестник статистики, 1988. № 1. С. 62). В 2000 г. в России женщин – докторов наук было около 20 %, членов-корреспондентов РАН – 15 %, академиков – 1,3 %. По всем академическим институтам (с большими или меньшими отклонениями) женщин среди заведующих лабораториями было около 20 %, а среди замдиректоров – всего 4 % (Пушкарева, 2007. С. 125).
Старая шутка, что советские женщины могут выполнять любую, самую тяжелую работу, но только под руководством мужчин, была недалека от истины. В конце 1980-х годов каждый второй мужчина с высшим образованием занимал какой-нибудь административный пост; среди женщин таковых насчитывалось только 7 %. Лишь 9 % женщин возглавляли промышленные предприятия и т. д.
С переходом к рынку и общим развалом экономики положение женщин резко ухудшилось: предприниматели не хотят нанимать беременных женщин и многодетных матерей. Такая же ситуации и в политике. Пока все решалось сверху, партийной бюрократией, женщины были номинально представлены на всех ступеньках политической иерархии, за исключением Политбюро, но на первых же более или менее свободных выборах это формальное представительство рухнуло. Несколько энергичных и честолюбивых женщин стали реальными политическими фигурами, но постсоветская, как и советская, общественная жизнь направляется и управляется мужчинами, женщины остаются социально зависимыми.
В семейной жизни ситуация более противоречива из-за национальных, этнических, культурных, региональных и религиозных различий. В целом развитие шло в направлении большего социального равенства. По данным социологических исследований, около 40 % всех советских семей можно было считать в принципе эгалитарными. Российские женщины, особенно городские, были социально и финансово более независимы от своих мужей, чем когда бы то ни было раньше. Косвенным доказательством этого является и тот факт, что 50–60 % всех разводов в СССР инициировалось женщинами. Очень часто женщины несли главную ответственность за семейный бюджет и решение основных вопросов домашней жизни.
На этот счет был отличный анекдот. Три женщины разговаривают о том, кто в их доме принимает главные решения. Одна говорит: «Конечно мой муж!» Вторая: «Как можно что-то доверить такому дураку? Все решаю я сама». А третья: «У нас с этим нет никаких проблем, власть в нашей семье разделена. Муж отвечает за самые важные, большие вопросы, и я в них никогда не вмешиваюсь, зато все частные, мелкие вопросы решаю я». «А как вы разграничиваете важные и второстепенные вопросы?» – «Ну, это очень просто. Все глобальные вопросы, такие как экологический кризис, события в Чили или голод в Африке, решает муж. А частности – что купить, где отдыхать летом, в какую школу послать детей – решаю я, мужу это неинтересно. И никаких конфликтов по этому поводу у нас в семье не бывает».
Анекдот был недалек от истины. В конце 1970-х годов группа тележурналистов пришла в цех большой фабрики, где работали исключительно мужчины, и попросила их показать, сколько у них с собой денег. Мужчины смущенно доставали из карманов рубли, трешки, пятерки, редко у кого было больше десятки. В женском цехе в ответ на ту же просьбу доставали десятки и сотни: после работы женщины собирались делать крупные покупки либо держали деньги на всякий случай, поскольку все всегда было в дефиците.
Казалось бы, это свидетельство сохранения старого российского «синдрома сильной женщины» и женской власти в семье. Но было ли это привилегией или дополнительным бременем? Семейно-бытовая нагрузка советских женщин значительно превосходила мужскую. Продолжительность рабочей недели у женщин в 1980-х была такой же, как у мужчин, а на домашние дела они тратили в 2–3 раза больше времени. По данным проведенного в 1988 г. на предприятиях Москвы социологического исследования, ответы на вопрос: «Какие виды работ по дому выполняете лично вы?» показали, что жены тратили на уход за детьми в 4 раза, на покупку продуктов и уборку квартиры – в 2,5 раза, на приготовление пищи – в 8 раз, на мытье посуды – вдвое, на стирку и глажение белья – в 7 раз больше, чем мужья. Последние существенно (в 7,5 раз) опережали женщин только по ремонту домашней техники (Груздева, Чертихина, 1990. С. 157). О том же говорят и данные официальной государственной статистики.
Теоретически эти проблемы анализировались очень слабо. Обсуждая динамику гендерного разделения труда, социологи часто интерпретировали ее в свете представлений обыденного сознания: степень эмансипации женщин измерялась тем, насколько они были вовлечены в традиционные мужские занятия, а мужчины оценивались по тому, как они помогают женщинам по дому. Психология же была практически бесполой.
Оборотной стороной и естественным следствием идеологической бесполости является сексизм: при отсутствии общественно-научной рефлексии по поводу половых/гендерных категорий все эмпирически наблюдаемые различия между мужчинами и женщинами, с которыми каждый сталкивается в своей обыденной жизни, интерпретируются как извечные, биологически предопределенные. Для этого необязательно даже быть консерватором.
Начиная с 1970-х годов в СССР росла и ширилась оппозиция против самой идеи женского равноправия. Мужчины болезненно переживали неопределенность своего социального статуса, а женщины чувствовали себя обманутыми, потому что оказались под двойным гнетом. Отсюда – мощная волна консервативного сознания, мечтавшего вернуться к временам не только досоветским, но и доиндустриальным. В 1970 г. «Литературная газета» напечатала интервью с Валентиной Леонтьевой, популярнейшим диктором Центрального телевидения, которая сказала, что главная ценность ее жизни – работа. После этого один разгневанный мужчина написал, что если раньше он восхищался Леонтьевой, то теперь понял, что она вообще не женщина, и потому впредь при появлении ее на экране будет выключать телевизор…
Трудное положение женщин вовсе не означало, что хорошо жилось мужчинам. «После десятков вечеров, проведенных с затурканными, подбашмачными мужчинами и множеством суперженщин, я пришла к выводу, что Советский Союз, возможно, нуждается не только в женском, но ив мужском освободительном движении. Я проверила эту идею на нескольких своих знакомых, и она была хорошо принята», – написала известная американская журналистка (Du Plessix Gray, 1989. P. 48).
По образному выражению Виктора Ерофеева, «мужчина состоит из свободы, чести, гипертрофированного эгоизма и чувств. У русских первое отняли, второе потерялось, третье отмерло, четвертое – кисель с пузырями» (Ерофеев, 1999. С. 82). При всех этнических, религиозных и исторических вариациях традиционный канон маскулинности всегда и везде включает такие черты, как энергия, инициатива, независимость и самоуправление.
Экономическая неэффективность советской системы в сочетании с политическим деспотизмом и бюрократизацией общественной жизни оставляла мало места для индивидуальной инициативы и независимости. Чтобы добиться экономического и социального успеха, нужно было быть не смелым, а хитрым, не гордым, а сервильным, не самостоятельным, а конформным. С раннего детства и до самой смерти советский мужчина чувствовал себя социально и сексуально зависимым и ущемленным.
Социальная несвобода усугублялась глобальной феминизацией институтов социализации и персонифицировалась в доминантных женских образах. Это начиналось с раннего детства в родительской семье. Из-за высокого уровня нежеланных беременностей и огромного количества разводов каждый пятый ребенок в СССР воспитывался без отца или хотя бы отчима. Да и там, где отец физически присутствовал, его авторитет в семье и роль в воспитании детей, как правило, были значительно ниже, чем авторитет и роль матери.
В детском саду и в школе главные властные фигуры – опять-таки женщины. В официальных подростковых и юношеских организациях (пионерская организация, комсомол) тон задавали девочки (среди секретарей школьных комсомольских организаций они составляли три четверти) (Кон, 1989). Мальчики и юноши находили отдушину только в неформальных уличных компаниях, где власть и символы были исключительно мужскими.
После женитьбы молодому мужчине приходилось иметь дело с любящей, заботливой, но часто доминантной женой, которая, как некогда его мама, лучше него самого знает, как планировать семейный бюджет и что нужно для дома, для семьи. А в общественно-политической жизни все контролировалось властной «материнской» заботой КПСС. Единственным исключительно мужским институтом была армия. Считалось, что стать «настоящим мужчиной», не пройдя армейскую школу, нельзя.
Такой стиль социализации, не совместимый ни с индивидуальным человеческим достоинством, ни с традиционной моделью маскулинности, вызывал противоречивые психологические реакции.
На идеологическом уровне тоска по мужскому началу способствовала трансформации образа отсутствующего реального отца в характерный для всякого тоталитарного сознания (так было и в нацистской Германии) мифологизированный образ Вождя, Отца и Учителя. Ниже располагались идеализированные образы коллективной маскулинности, мужского, особенно воинского, товарищества и дружбы. Принадлежность к коллективному мужскому телу психологически компенсирует мужчине его слабость и несамостоятельность в качестве отдельного индивидуума: каков бы я ни был сам по себе, в рамках группового «мы, мужики» я силен и непобедим. «Русский мужчина-конь скачет, скачет, его несет, он сам не понимает, куда он скачет, зачем и сколько времени он скачет. Он просто скачет себе, и всё, он в табуне, у него алиби: все скачут, и он тоже скачет» (Ерофеев, 1999. С. 10).
Недостаток у мужчин решительности в любовных отношениях констатируют лучшие советские фильмы 1970—1980-х годов («Москва слезам не верит», «Служебный роман», «Осенний марафон», «Блондинка за углом»), в которых присутствуют «маскулинные, сильные, но неудовлетворенные, ищущие „настоящего мужчину“ женщины и убегающие, прячущиеся мужчины» (Белов, 2000).
Несоответствие собственного поведения нормам гегемонной маскулинности требовало какой-то психологической компенсации. На семейно-бытовом уровне эта компенсация и гиперкомпенсация имела несколько вариантов:
а) идентификация с традиционным образом сильного и агрессивного мужика, утверждающего себя пьянством, драками, жестокостью, членством в агрессивных мужских компаниях, социальным и сексуальным насилием;
б) покорность и покладистость в общественной жизни компенсируются жестокой тиранией дома, в семье, по отношению к жене и детям;
в) социальная пассивность и связанная с нею выученная беспомощность компенсируются бегством от личной ответственности в беззаботный игровой мир вечного мальчишества (социальный инфантилизм). Не выучившись в детстве самоуправлению и преодолению трудностей, такие мужчины навсегда отказываются от личной независимости, а вместе с нею – от ответственности, передоверяя социальную ответственность начальству, а семейную – жене.
Однако при любом раскладе люди испытывали неудовлетворенность, которая так или иначе преломлялась в советской массовой культуре. При всем тоталитаризме, а затем авторитаризме советского общества его гендерный порядок и, тем более, дискурс никогда не были ни единообразными, ни неизменными (Здравомыслова, Темкина, 2007б).
Советский тип гегемонной маскулинности складывался под сильнейшим влиянием политики гипермаскулинного милитаризованного государства (Здравомыслова и Темкина называют советский гендерный порядок этакратическим). Эта политика была направлена на то, чтобы мужчина мог самореализовываться в качестве такового лишь «на службе Родине», под которой понималось безоговорочное и самоотверженное участие в реализации любых государственных проектов (Ashwin, 2000; Kukhterin, 2000; Мещеркина, 1996; Тартаковская, 2001; Здравомыслова, Темкина, 2007б).
Главным свойством «настоящего мужчины» была подразумеваемая постоянная готовность отдать жизнь за Родину или за поддерживаемые официальной идеологией ценности. Причем такое самопожертвование не обязательно должно было произойти в контексте защиты от внешних врагов – «мирная жизнь» по динамике и идеологии максимально приближалась к военным действиям (например, пресловутые «битвы за урожай» имели своих героев и даже жертв, гибнущих при попытке спасения горящей сельхозтехники). Этот «смертельный ореол» был очень стойким свойством советской маскулинности. Например, в 1960-е годы, когда складывалась так называемая «бардовская культура» позднесоветских романтиков, культовое значение для нее имели имена погибших товарищей-туристов, в частности Валерия Грушина, имя которого до сих пор носит популярнейший фестиваль самодеятельной песни (Чернова, 2002а). На страницах российских газет и в 1990-е годы самые положительные мужские персонажи – это обычно уже погибшие, обреченные, смертники или жертвующие собой с готовностью погибнуть (Тартаковская, 2000).
Впрочем, ассоциация маскулинности с героизмом, риском и готовностью к смерти – часть общего канона маскулинности. Эрнест Хемингуэй, Эрих Мария Ремарк и Федерико Гарсия Лорка, которыми увлекались молодые люди в пору моей юности, в советской школе не обучались и никакому авторитарному государству не служили.
Наряду с нормативными и даже обязательными принципами советской маскулинности, многие ее символы и знаковые образы формировались на периферии официального общества или меняли свое содержание в процессе развития. Соотношение нормативных (обязательных), ненормативных (факультативных) и антинормативных (оппозиционных) черт и образов было текучим и переливчатым, разные социокультурные группы наполняли их разным содержанием.
В годы Великой Отечественной войны и в послевоенный период главным символом и культовой фигурой маскулинности стал фронтовик. Это была реальная, но противоречивая фигура. Воинское товарищество было настоящим мужским братством – один за всех и все за одного. Для людей, прошедших войну, оно навсегда остается эталоном идеальных человеческих отношений. Послевоенная советская литература и искусство всячески культивировали эту тему, не столько по приказу, сколько из внутренней потребности бывших фронтовиков. Но хотя этот канон героической маскулинности был идеологически приемлем, он нередко, даже независимо от воли авторов, приобретал социально-критический оттенок. В послевоенные годы окопная дружба для многих мужчин стала нравственным эталоном, камертоном, по которому они оценивали действительность и с которым эта действительность сравнения не выдерживала. Социальное неравенство и всесилие партократии, которых до войны и во время войны не замечали, в послевоенные годы становятся все более кричащими, подрывая иллюзию всеобщего товарищества. Более того: оказалось, что при столкновении с коррумпированной бюрократией пасует даже проверенная кровью фронтовая дружба.
Одним из первых это показал Виктор Некрасов в повести «В одном городе» (1954), где рассказывается, как фронтовики, не боявшиеся идти под огнем в атаку, не смеют поддержать товарища, восстающего против социальной несправедливости. За публикацию этой повести главный редактор журнала «Знамя» был снят с работы. Кстати сказать, в деспотической России, как до, так и после большевистской революции, гражданское мужество всегда было дефицитнее физического, и нередко его проявляли не привыкшие к дисциплине мужчины, а более экспансивные женщины. С этим связана и некоторая раздвоенность канона маскулинности: можешь ли ты закрыть собой амбразуру, и посмеешь ли ты выйти на площадь?
После того как фронтовики оказались неодинаковыми, партийные идеологи постепенно изменили мужской канон, превратив постаревшего фронтовика в консервативного ветерана, при участии и именем которого клеймят все новое, идеологически сомнительное. Однако этот образ, как до того образ старого большевика, быстро начал вызывать отрицательное отношение со стороны молодежи, у которой искреннее признание старых заслуг ветерана сочетается с язвительной иронией по поводу его консерватизма и отрыва от реальной жизни. Зачастую эта ирония распространяется и на его прошлые подвиги. Идеологическая спекуляция на прошлом неизбежно сопровождается его обесценением. Эта проблема становится еще актуальнее сегодня, когда со времени войны прошло больше шестидесяти лет.
Альтернативные маскулинности 1950-х годов отличаются прежде всего тем, что ослабляют связь с обязательным советским идеологическим контекстом. В студенческих кружках начала 1950-х, которые во многом предвосхищали стиль жизни будущих диссидентов, маскулинность и мужская дружба отождествлялись прежде всего с внутренней свободой и напряженными интеллектуальными духовными поисками. Не могу отказать себе в удовольствии процитировать воспоминания будущих выдающихся мыслителей, а в то время студентов философского факультета МГУ Александра Зиновьева, Бориса Грушина, Георгия Щедровицкого и Мераба Мамардашвили, которые иронически называли себя «диалектическими станковистами» или диастанкурами:
Наша четверка являла собой беспримерный образец мужской дружбы. Это было что-то совершенно невероятное: у нас у всех были семьи, но эти семьи были далеко-далеко на заднем плане. Мы принадлежали друг другу, встречались каждый день и действительно могли претендовать на роль Диоскуров.
Это было завязкой дружеских связей, связей заговорщиков личностного бытия интеллектуальной, идеально-содержательной дружбы, то есть явления, которое исключалось существующим обществом. Если дружба случалась, то уже сама по себе она становилась разрушительной оппозицией по отношению к тогдашнему обществу.
(Цит. по: Докторов, 2005. С. 187)Самым массовым сценарием альтернативной маскулинности 1960—1970-х годов был хорошо описанный Жанной Черновой тип романтика (Чернова, 2002а; Кон, 2005). Как и любая другая модель маскулинности, романтизм тесно связан с культом общения и дружбы. Характерная тенденция 1960—1970-х годов, обусловленная разочарованием молодежи в официальной идеологии, – деполитизация и деидеологизация маскулинности и «перемещение» ее ценностей из официального политического и делового мира в сферу интимной, частной жизни.
В 60-е культ общения распространился на все структуры общества^ Эпоха, когда несерьезное стало важнее серьезного, когда досуг преобразовался в труд, когда дружба заменила административную иерархию, трансформировала и всю систему социально-культурных жанров
(Вайль, Генис, 1998. С. 69, 71).Центр мужских интересов и связей переместился из политических и трудовых структур в туристические походы, альпинизм, романтику дальних странствий. Это ярко проявляется в авторской песне 1960—1980-х годов:
А от дружбы что же нам нужно? Чтобы сердце от нее пело, Чтоб была она мужской дружбой, А не просто городским делом. (Юрий Визбор. «Впереди лежит хребет скальный…..»)«Песня о друге» Владимира Высоцкого сформулировала идеал целого поколения мужчин, даже тех, которые никогда не забирались в горы, не сидели у таежного костра и не переживали ничего экстремального. Мужчина этого типа не пытается изменить социальный мир, но отвергает его господствующие ценности и от него уходит. Куда и как – не столь важно. Может быть, просто «за туманом и за запахом тайги». Его антиподом является приземленный и бескрылый «обыватель». Используемая для построения такого типа личности негативная идентификация основана «не на прямом оппонировании официальному дискурсу, а на латентном сопротивлении. Она выражается
– в дистанцировании от советского города как символа публичности;
– в неучастии в праздновании официальных советских праздников (7 ноября, Первомай);
– в отрицании официальной культуры и попытке создания собственной, альтернативной;
– в акценте на антипотребительском характере стиля жизни» (Чернова, 2002а. С. 476).
Романтическая маскулинность допускала множество вариаций отношения к женщине, от фактического исключения ее из мужского сообщества до всеобъемлющей страстной любви (кстати, одно вовсе не противоречит другому), привилегированных сфер самореализации и предпочитаемых способов художественного самовыражения (достаточно сравнить песни Булата Окуджавы, Владимира Высоцкого, Юрия Визбора, Вадима Егорова и Александра Городницкого). В дальнейшем из нее вырастали очень разные по духу и стилю молодежные субкультуры. Их общность состояла в том, что, не будучи антисоветскими, все они были несоветскими, именно в этом была их притягательность, и за это их преследовали.
Поскольку открытой политической оппозиции в СССР не было, идеологическая полемика, иногда по недомыслию, а иногда сознательно, концентрировалась на внешних, второстепенных моментах, таких как форма одежды или прически. В этом смысле очень интересна история советского мужского телесного канона (Кон, 2003б). Подобно фашистскому телу, советское мужское тело обязано было быть исключительно героическим или атлетическим. Соревновательные игры, неразрывно связанные с воинскими занятиями, предполагают культ сильного, тренированного мужского тела. Исследователи советской массовой культуры 1930-х годов обращают внимание на обилие обнаженной мужской натуры – парады с участием полуобнаженных гимнастов, многочисленные статуи спортсменов, расцвет спортивной фотографии и кинохроники. В фильмах о парадах физкультурников 1937 и 1938 годов «Сталинское племя» и «Песня молодости» на атлетах надеты только белые трусы, а самих атлетов тщательно отбирали по экстерьеру. Культовый Дворец Советов, который так и не был построен, должны были украшать гигантские фигуры обнаженных мужчин, шагающих с развевающимися флагами. Военно-спортивная тематика, наряду с портретами вождей, безраздельно господствовала и в советской скульптуре. В конце 1970-х годов тайну государственной маскулинности разоблачил Игорь Губерман:
Я государство вижу статуей: мужчина в бронзе, полный властности, под фиговым листочком спрятан огромный орган безопасности.Образ спортсмена, особенно в соревновательных коллективных видах спорта, таких как футбол или хоккей, был одним из самых популярных и культовых в советском кино и изобразительном искусстве. Он позволял утверждать официальные мужские военно-патриотические ценности (физическую силу, смелость, соревновательность, готовность к самопреодолению и одновременно – коллективизм, дисциплинированность, готовность подчинять личные амбиции интересам команды и всего общества) в более приемлемой и общедоступной форме, чем это можно было сделать при изображении армейских будней. Однако здесь тоже были свои ограничения. Из-за воинствующей большевистской сексофобии имманентный всякому тоталитарному сознанию фаллоцентризм в СССР не мог проявляться открыто. Молодой человек должен быть готов к труду и обороне, но сексуальность ему категорически противопоказана. Отсюда – многочисленные запреты на наготу, которые в равной мере распространялись на оба пола и действовали как в изобразительном искусстве, так и в быту.
Особенно большие подозрения вызывали мужские ноги. В конце 1950-х годов в СССР впервые появились шорты, но, чтобы носить их даже на курортах Крыма и Кавказа, требовалось мужество. По распоряжению местных властей мужчин в шортах не обслуживали ни в магазинах, ни в столовых, ни в парикмахерских. Увидев за рулем автомобиля водителя в шортах, милиция могла остановить машину и потребовать, чтобы человек переоделся. Местные жители говорили, что шорты оскорбляют их нравственные чувства. В Москве и в Ленинграде шорты постепенно стали привилегией иностранцев, россияне же завоевали это право только после крушения Советской власти.
Другим объектом гонения были длинные волосы. В 1970-х годах во многих городах административно преследовали юношей и молодых мужчин с длинными волосами и женщин в джинсах или брючных костюмах. В Ленинграде милиционеры и дружинники прямо на улице хватали длинноволосых юношей, всячески оскорбляли их, насильственно стригли, а затем фотографировали и снимки, с указанием фамилий и места работы или учебы, выставляли на уличных стендах, под лозунгом: «Будем стричь, не спрашивая вашего согласия». Увидев такой стенд в своем родном Московском районе, я позвонил первому секретарю райкома партии, и у нас произошел такой разговор.
– Галина Ивановна, то, что вы делаете, – уголовное преступление. Дружинники, насильственно стригущие юношей, ничем не отличаются от хулиганов, обстригающих косы девушке. Это грубое насилие.
– Длинные волосы – некрасиво, мы получаем благодарственные письма от учителей и родителей.
– Если бы вы устраивали публичные порки, благодарностей было бы еще больше. Между прочим, длинные волосы носили Маркс, Эйнштейн и Гоголь. Их вы тоже обстригли бы?
– Они сейчас стриглись бы иначе. Кроме того, дружинники стригут только подростков.
– А у подростков что, нет чувства собственного достоинства, и с ними можно делать что угодно? Вы же бывший комсомольский работник, как вам не стыдно?!
Так мы и не договорились. Скандальная практика прекратилась лишь после того, как «Литературная газета» опубликовала письмо молодой женщины, которая ждала своего возлюбленного, а он появился с опозданием, обстриженный, и в придачу у него отобрали авоську, которая, по мнению дружинников, является женской, и мужчине не пристало с ней ходить. Заместитель Генерального прокурора СССР разъяснил, что налицо состав уголовного преступления, после чего эту кампанию тихо свернули. Однако во многих других городах произвол продолжался.
Из этих примеров (длинные волосы у мужчин, брюки у женщин) можно сделать вывод, что партия боролась против нарушения гендерных стереотипов. Но одновременно с длинными волосами, которые можно было трактовать как признак женственности, советские молодые люди стали увлекаться ношением усов и бороды – явный признак мужественности, да еще можно было сослаться на основоположников марксизма-ленинизма и героического Фиделя Кастро! Тем не менее с бородами боролись так же сурово. Когда Брежнев назначил на пост главы советского телевидения своего любимца В. Г. Лапина, тот первым делом упразднил центр социологических исследований и запретил появление на голубом экране «волосатиков» и бородатых. В Сочи задерживали, показывали по телевизору и затем административно высылали как «стиляг» только за то, что молодые люди щеголяли в пестрых рубашках. То есть преследовали не столько тело или пол, сколько все нестандартное, индивидуальное, а прежде всего – все западное, иноземное. Как пелось в одной тогдашней иронической песне, «сегодня парень в бороде, а завтра где? – В НКВД». В этом смысле советский телесный канон, как и вся советская культура, был изоляционистским и ксенофобским.
Преследуя все новое и неофициальное, включая моду и сексуальность, власть сама создавала оппозицию режиму. Самым отрицательным мужским образом советской пропаганды 1950-х годов стал стиляга, советский денди, единственная вина которого заключалась в том, что он хотел одеваться не как все, а по тогдашней молодежной моде. Не только партийные активисты, но и молодые люди искренне считали «стиляжничество» серьезной опасностью. При опросе, проведенном Институтом общественного мнения «Комсомольской правды» в 1961 г., на вопрос: «Какие отрицательные черты молодых людей наиболее распространены?» «подражание западной моде», стиляжничество вышло на второе место (16,6 % всех ответов), далеко опередив такие черты, как пассивность, неуважительное отношение к труду, иждивенчество, корыстолюбие, не говоря уже о национализме (последний упомянули 0,2 % опрошенных) (Грушин, 2001. С. 180).
Но чем больше стиляг критиковали, тем притягательнее становился их образ. Стиляги пользовались успехом у девушек. Их одежду, манеры, жаргон описывал такой замечательный писатель, как Василий Аксенов. Некоторые бытовые черты стиляжничества, включая любовь к нестандартной, яркой одежде, демонстрировали популярнейшие поэты эпохи Евгений Евтушенко и Андрей Вознесенский.
Битву за молодежный канон маскулинности советская власть однозначно проиграла. Опасность для нее представляли не сами по себе одежда или длинные волосы, а стремление к нестандартности и «подражание западной моде». К тому же, поскольку легально достать (слово «покупать» в эпоху всеобщего дефицита практически уже не употреблялось) в СССР нужные аксессуары было невозможно, культурная инициатива (мода – элемент культуры) дополнялась экономической: стиляги становились фарцовщиками, которые покупали и перепродавали иностранную валюту и вещи. Это была самая настоящая новая маскулинность: не надеясь ни на государство, ни на дядю, молодые люди проявляли творческую инициативу и смекалку, сами добивались желаемого. Ни малейшего чувства неполноценности у них не было. После крушения советской власти многие из них стали основоположниками нового российского капитализма.
Неоднозначность канонов маскулинности и их несоответствие как официальным советским, так и традиционным русским стандартам уже в конце 1960-х годов вызывает у людей ощущение некоего кризиса, который ученые пытались осмыслить в социально-медицинских или социально-психологических терминах. Важнейшим знаковым событием стала опубликованная в «Литературной газете» статья выдающегося демографа Б. Ц. Урланиса «Берегите мужчин» (Урланис, 1968), в которой впервые был остро поставлен вопрос о слабостях сильного пола. Вслед за этим в той же газете были проблематизированы социально-психологические особенности мужчин и женщин, которые бесполая советская наука полагала раз и навсегда решенными (Кон, 1970). С тех пор дискуссии о «феминизации мужчин» и «маскулинизации женщин» на страницах отечественной массовой прессы не затухали. Женщины патетически вопрошали: «Где найти настоящего мужчину?» – а мужчины сетовали на исчезновение женской ласки и нежности.
Российский гендерный порядок в зеркале массовых опросов
Бытовые представления советских людей о маскулинности и фемининности оставались стереотипно-сексистскими. Сколько-нибудь профессиональных опросов на эту тему в советские годы не проводили, да и получить правдивые ответы было нелегко. «Советское социалистическое общество в самом деле было обществом необычным, кардинально отличавшимся от множества других. Оно включало в себя не одну, а две реальности, жило двойной жизнью, функционировало в двух параллельно существовавших мирах, пользуясь двумя разными языками общения. В одном из них шла нормальная, естественная жизнь, схожая с жизнью иных обществ, во втором же реализовывались фантазии и планы, рожденные „кремлевским мечтателем“ и его последователями; в первом из них люди просто жили – работали, добывая средства к существованию, рожали и воспитывали детей, ходили друг к другу в гости и пили водку, в другом же они строили коммунизм – участвовали в соцсоревновании, добиваясь высших показателей в труде, воспитывали нового человека, укрепляли коллективизм… Соответственно на самом высоком уровне генерализации в составе населения различались три типа членов этого общества: 1) жившие в рамках исключительно первой реальности представители рода homo sapiens, 2) жившие в рамках исключительно второй реальности представители рода homo communisticus и 3) жившие одновременно и там и там представители рода homo sovieticus» (Грушин, 2001. С. 544–545). На одни и те же вопросы эти люди отвечали по-разному.
В ответах на вопрос анкеты популярного еженедельника «Неделя» (1976), какие качества наиболее желательны для мужчин и для женщин, единственным общим качеством, вошедшим в пятерку важнейших, оказалась «верность». «Ум», занявший в «мужском» наборе первое место, в «женском» идеале стоит где-то в хвосте. Первое место в образе идеальной женщины занимает «женственность», а в мужском идеале за «умом» следует «мужественность». Характерно, что, хотя почти все советские женщины работали, в наборе идеальных женских качеств не было ни одного, проявляющегося преимущественно в сфере труда (Кон, 1978). Говоря о желательных свойствах женщины, мужчины автоматически представляли себе возлюбленную или жену, но никогда – товарища по работе.
Современные профессиональные опросы рисуют более сложную и дифференцированную картину.
Левада-Центр несколько раз (в 1993, 2000, 2001, 2007 и 2008 годах) задавал своим респондентам вопрос: «Что вы больше всего цените в мужчинах (женщинах)?» По итогам опроса 2008 г. (Голов, 2008), россияне больше всего ценят в мужчине ум (65 %), порядочность (54 %), заботливость, верность и хозяйственность (по 29 %), а в женщине – хозяйственность (46 %), порядочность (39 %), ум (38 %) и верность (37 %). Сами мужчины выше всего ценят в себе ум (67 %), порядочность (51 %) и умение сопротивляться невзгодам (33 %); дальше идут хозяйственность (27 %), независимость (25 %) и верность (20 %). В женщинах мужчины больше всего ценят хозяйственность (49 %), верность (48 %) и хорошую внешность (46 %), тогда как женщины ценят в мужчине порядочность (61 %), ум (56 %), заботливость (43 %) и верность (40 %) (Гендерное равноправие, 2007). Эти любовно-семейные стереотипы, особенно культ мужского ума, напоминают ценности американского спид-дейтинга, о которых говорилось выше.
Если спросить отдельно о женщине-коллеге, начальнице, жене или любовнице (так было сделано Левада-Центром в опросе 2004 г.), картина резко меняется. При оценке коллег и менеджеров нормативные ожидания сдвигаются в сторону традиционных маскулинных качеств, причем мужские и женские ожидания почти одинаковы. Главная ценность женщин-руководителей – ум, затем идут организованность и стремление к успеху. В женщине-коллеге по работе важнее всего ум, порядочность и организованность (впрочем, 30 % мужчин и 19 % женщин упоминают и хорошую внешность). Для идеальной любовницы самое важное – хорошая внешность, сексапильность и темперамент, а для жены – хозяйственность, верность и заботливость (ум занимает в этом списке четвертое место, хотя мужчины ценят его несколько выше, чем женщины). От женщины-друга ждут прежде всего порядочности, способности к сопереживанию и верности, причем по всем этим параметрам женские требования значительно выше мужских; но 47 % мужчин ждут от своих подруг также и ума (женский вариант – 34 %).
Значительно информативнее выглядят суждения о гендерном разделении труда. Практически речь идет о трех автономных сюжетах: 1) соотношении семейных и трудовых ролей, 2) существовании мужских и женских профессий и 3) содержании понятия гендерного равенства. Как и следовало ожидать, мужчины чаще женщин склонны считать существующий гендерный порядок справедливым и естественным, принимая его «биологическое» объяснение. Но по всем этим вопросам взгляды россиян крайне противоречивы.
С одной стороны, люди усвоили принцип социального равенства мужчин и женщин. По данным национального опроса ФОМ в марте 2004 г., 72 % опрошенных считают нужным, «чтобы женщины имели равные с мужчинами возможности для продвижения по службе» (так думают 67 % опрошенных мужчин и 75 % женщин). Противников равенства возможностей всего 14 %. Чаще всего они считают, что удел женщины – дом и семья, она «должна сидеть дома, готовить, убирать» (6 %), а мужчина как «сильный пол» «должен обеспечивать семью», поэтому у него должно быть больше прав и возможностей для продвижения по службе (5 %) ().
С другой стороны, в российской системе ценностей гендерное равенство выглядит второстепенным. В канун 8 марта 2008 г. организация «WorldPublicOpinion.org» провела опрос в 16 странах (в России его проводил Левада-Центр): «Насколько важно, по вашему мнению, чтобы женщины имели права, полностью равные с мужчинами?» Вариант «Очень важно» выбрали лишь 35 % россиян, при среднем мировом показателе 59 % (в этом вопросе мы опередили только египтян), зато по оценке «Не слишком важно» россияне заняли первое место (Права женщин и борьба с дискриминацией, 2008).
Несмотря на то что по российской конституции у мужчин и женщин равные права, по результатам опроса ФОМ 2004 г., 61 % респондентов, в том числе 72 % женщин и 50 % мужчин, считают, что женщинам вообще живется тяжелее, чем мужчинам; противоположного мнения придерживаются 5 и 11 %, а 18 % женщин и 31 % мужчин считают, что мужчинам и женщинам одинаково трудно. Мысль, что лучше было бы родиться человеком другого пола, возникала у 17 % женщин и только у 2 % мужчин. 62 % опрошенных (72 % женщин и 51 % мужчин) считают, что государству следует специально уделять внимание тому, чтобы женщины имели равные с мужчинами возможности; против этого высказываются 33 % мужчин и 16 % женщин.
Респонденты Левада-Центра, дважды (в 2003 и 2007 годах) проводившего аналогичный опрос, оценивают шансы женского равноправия несколько оптимистичнее, но разница мужских и женских ответов тоже очень велика (Гендерное равноправие, 2007).
Вопрос: «Как вы думаете, в современной России женщины имеют больше, столько же или меньше прав и возможностей, чем мужчины?» (результаты опросов в%)
Значительно информативнее вопрос о том, каковы причины гендерного неравенства в профессиональной сфере. В национальном опросе ФОМ 26–27 февраля 2005 г. «Положение женщин в российском обществе» (Вовк, 2006) половина опрошенных (51 %) сказали, что гендерная дифференциация профессий предопределена устройством общества, но 33 % считают, что разделение профессий на «женские» и «мужские» предопределено природой: у мужчин и женщин есть свое естественное предназначение, заданные анатомией и биологией склонности и способности. На вопрос, в чем женщины способнее мужчин, затруднились ответить только 25 % респондентов, и всего 1 % ответили, что способности не зависят от пола. На вопрос, в чем женщины менее способны, затруднились ответить 33 %, и 4 % сказали о равенстве способностей. Остальные – три четверти в первом случае и две трети во втором – назвали те или иные сферы деятельности, к которым женщины и мужчины предрасположены, по их мнению, в разной мере. Женщин считают более способными к воспитанию детей и педагогике (20 % ответов), домохозяйству (15 %), а также работе в медицине (9 %), торговле (8 %), бухгалтерии (6 %). Мужчины же способнее женщин к профессиям, связанным с физическим трудом и тяжелыми условиями работы (23 %), технике (10 %), они также более приспособлены к работе в «силовых» структурах (военная служба – 7 %; МЧС, милиция – 2 %). Как видим, ответы вполне стереотипны. Наиболее высокостатусных сфер, таких как управление, бизнес и наука, респонденты вообще не упоминали.
Ответы на вопрос Левада-Центра: «В каких из следующих сфер женщины более способны, чем мужчины?» показали, что в среднем россияне несклонны принижать интеллектуальный и трудовой потенциал женщин. Всего 5 % опрошенных затруднились назвать сферы, где женщины эффективнее мужчин, но, как правило, речь идет о традиционных женских занятиях. Преимущества женщин в воспитании детей, молодежи признают 81 % опрошенных, в домашнем хозяйстве – 80, в искусстве – 38, а в управлении государством – лишь 14 %. Причем мужские и женские оценки существенно расходятся (Седов, 2006).
Такие же противоречия существует и в представлениях россиян о распределении семейных обязанностей (этому сюжету был посвящен национальный опрос ФОМ «Мужья и жены: распределение семейных обязанностей», проведенный 24–25 февраля 2007 г. Аналогичный опрос проводился в марте 2003 г., и результаты их весьма сходны (см.: Вовк, 2007).
Из опроса видно, что хотя на нормативно-ценностном уровне многие россияне выступают за эгалитарное распределение семейных ролей, подобные установки не всегда воплощаются на практике. Декларации о необходимости равенства супругов громче всего звучат, когда речь идет о ведении домашнего хозяйства: три четверти опрошенных (73 %) заявляют, что муж и жена должны в равной мере участвовать в этом процессе. Когда дело касается заработка, поборников равенства становится гораздо меньше: лишь немногим более трети участников опроса (37 %) высказали мнение, что муж и жена должны в равной мере участвовать в финансовом обеспечении семьи. Россияне почти втрое чаще высказываются за сохранение традиционных гендерных ролей в сфере труда и денег, чем за сохранение таковых в домашней сфере: мнения, что зарабатывать – обязанность мужчины, придерживаются 60 % (63 % мужчин и 57 % женщин) опрошенных, а мнения, что вести домашнее хозяйство – обязанность женщин, 22 %. Вот результаты опроса 2007 г.:
Диаграмма 1
Вопрос: Бывает, что ведением домашнего хозяйства занимается в основном муж. Одни считают, что это нехорошо, ненормально. Другие считают, что ничего плохого в этом нет, это нормально. Какое мнение – первое или второе – вам ближе?
Из диаграммы видно, что выполнение мужчиной «исконно женской» роли вызывает больше нареканий, чем выполнение женщиной «исконно мужской роли». Ситуацию, когда ведением домашнего хозяйства занимается в основном муж, сочли нехорошей, ненормальной 28 % опрошенных, а ситуацию, когда основным кормильцем семьи является жена – 21 % (см. диаграмму 2). Женщин явно раздражает, когда мужья вторгаются на их территорию. Дело не только в защите собственных прав. Объясняя свою позицию при ответе на поставленный вопрос, респонденты говорили, что подобный порядок противоречит традиции, противен естеству и природе и, кроме того, унижает мужское достоинство, лишая мужа статуса мужчины и главы семьи. В ситуации, когда домашним хозяйством занимается муж, речи об «унижении женщин» не заходило.
В общем, эта логика вполне традиционна. Проблема состоит не столько в различии содержания гендерных ролей, сколько в их неравном статусе. Женщина, занимаясь мужской работой, повышает свой статус, а мужчина, занимающийся женской работой, свой статус понижает, и это плохо как для него самого, так и для всех членов его семьи. Аналогично тому, как казак-девчонка не вызывает осуждения, а мальчик, проводящий время в девчоночьих компаниях, считается второсортным.
С размерами зарплаты вопрос сложнее. Если в ведении хозяйства мужем ничего худого, ненормального не видят 53 % опрошенных, то ситуацию, когда заработки жены больше, чем заработки мужа, осуждают 61 % респондентов (58 % мужчин и 64 % женщин) (см. диаграмму 2). Причем мужчин обе эти ситуации напрягают сильнее, чем женщин (в первом случае разница составляет 6, во втором – 5 %). За этим явно стоит забота о поддержании мужского статуса: мужчина должен больше зарабатывать и меньше заниматься домохозяйством.
Диаграмма 2
Вопрос: «Бывает, что жена зарабатывает больше мужа. Одни считают, что это нехорошо, ненормально. Другие считают, что ничего плохого в этом нет, это нормально. Какое мнение – первое или второе – вам ближе?»
Реальное распределение семейных ролей расходится с нормативными суждениями. Хотя 73 % респондентов – сторонники равного распределения домашних обязанностей, лишь 48 % опрошенных мужчин и 36 % женщин утверждают, что в большинстве знакомых им семей супруги участвуют в ведении домашнего хозяйства на равных, 40 % мужчин и 55 % женщин говорят, что эта обязанность лежит в основном на плечах жены. О равенстве распределения работы по дому в собственных семьях говорили еще реже: 24 % сказали, что они на равных хлопочут по дому, а 33 % – что этим занимается в основном жена. Случаи, когда ведение хозяйства лежит на муже, вообще редки (3 %, когда речь шла о знакомых, и 5 % – о собственной семье).
В ситуации с заработком разрыв между ожиданиями и реальностью меньше (диаграмма 3): 52 % говорят, что в семьях их знакомых в основном больше зарабатывают мужья, о примерном равенстве доходов супругов сообщают 26 % (в отношении собственной семьи – 37 и 16 % соответственно). Выполнение женщиной роли основного кормильца упоминается чаще, чем выполнение мужчиной роли домохозяина: 8 % опрошенных сообщили, что в знакомых им семьях жена зарабатывает больше мужа, и 7 % – что так обстоит дело в их собственной семье. В целом, судя по всему, женщины гораздо активнее берут на себя роль добытчиц, чем мужчины роль хранителей очага: семьи, где жена зарабатывает больше мужа, встречали 63 % респондентов (причем 13 % – часто), а семьи, где муж ведет домашнее хозяйство, – 48 % (и только 7 % – часто). В собственных семьях респондентов доля мужей, зарабатывающих больше своих жен, встречается в 5 раз чаще противоположного варианта.
В диаграмме 3 приведены результаты ответов во время опроса ФОМ, проведенного в 2003 и 2007 годах.
Диаграмма 3
Вопрос: «Скажите, пожалуйста, в семьях ваших знакомых обычно больше зарабатывают мужья или жены? Или супруги зарабатывают примерно одинаково?»
Выводы опроса подтвердил и опрос, проведенный ФОМ 18 октября 2007 г. 37 % респондентов говорят, что для отношений в семье лучше, если заработок мужа выше заработка жены, 28 % приветствуют примерно одинаковые заработки, более высокий женский заработок приемлем лишь для 2 % опрошенных, а 30 % считают, что для взаимоотношений в семье распределение заработка не принципиально. Что же касается распределения домашних обязанностей, то 56 % респондентов предпочитают, чтобы домашним хозяйством в равной мере занимались оба супруга, 24 % полагают, что заниматься домом должна в основном жена, а 14 % не придают значения тому, кто в семье больше занимается хозяйством.
Опросы Левада-Центра и ФОМ дают более или менее адекватную картину социальных представлений россиян о нормативном (желательном) и реальном гендерном порядке. Очевидно, что в России, как и на Западе, налицо:
1. Ломка традиционных норм и практик гендерного разделения труда в семье и в обществе.
2. Повышение значимости трудовых ролей для женщин и домашних – для мужчин.
3. Изменение структуры властных отношений и престижа.
4. Частое несовпадение должного и сущего.
5. Нормативная неопределенность и связанная с ней проблематичность мужского социального статуса.
6. Неодинаковая оценка этих тенденций мужчинами и женщинами, порождающая общественно-производственные и домашние конфликты.
Однако и социальные установки, и бытовые практики россиян консервативнее европейских. В частности, роль кормильца семьи, которая на Западе многим кажется отчасти пережитком, для российского мужчины остается главной, что подтверждают и социологические исследования (Малышева, 2001; Римашевская и др., 1999).
Расхождение между публичными эгалитарными установками и бытовыми практиками в России больше, чем в Европе. С женской точки зрения, проблема состоит в том, что российские мужчины все еще недостаточно признают необходимость женского равноправия и справедливого разделения общественного и семейного труда. Из опросов и социальной статистики видно, что эти жалобы вполне обоснованны. В то же время российский мужчина постоянно сталкивается с завышенными социальными ожиданиями: общество, и прежде всего женщины, ждет от него, чтобы он воплощал в себе все традиционные патриархальные ценности (успешный работник, кормилец, властная фигура) и одновременно был демократичным, ласковым и внимательным. Насколько реалистичны эти ожидания, особенно в условиях социального кризиса и экономических потрясений?
Пытаясь совместить привычные и морально приемлемые для него самого традиционные требования с новыми историческими условиями, российский мужчина чаще своего западного современника чувствует себя социально-экономически и психологически неадекватным. Это хорошо показывают превосходные исследования Е. Ю. Мещеркиной и И. Н. Тартаковской.
Несостоявшиеся мужчины и правильные мужики
Опираясь на теоретические положения Коннелл и Бурдье, Елена Мещеркина провела в конце 1990-х годов серию глубинных групповых интервью, так называемых фокус-групп, в ходе которых мужчины от 30 до 50 лет, в одном случае – рабочие, в другом – представители среднего класса, выходцы из технической интеллигенции, обсуждали вопрос: «Что значит для вас быть мужчиной?» (Мещеркина, 2002, 2003).
Первое, что при этом выяснилось, – чрезвычайно высокая, по европейским стандартам, гомосоциальность. Российские мужчины, особенно профессионалы, гораздо интенсивнее общаются между собой, чем с женщинами, которые являются для них скорее объектами восхищения и источником эмоциональной поддержки, импульсом к жизни, чем реальными партнерами. Между прочим, этот факт констатировали и анкетные исследования. Например, проведенное в 1991/92 годах сравнительное исследование 6 000 немцев, поляков, венгров, россиян и шведов показало, что сознание россиян значительно больше подвержено влиянию гендерных стереотипов. Отвечая на вопрос, у кого они находят больше а) понимания, б) эмоциональной близости ив) практической помощи, и российские мужчины, и российские женщины отдали предпочтение представителям собственного пола. У мужчин соответствующие цифры составили 77, 57 и 74 % (Jaeckel, 1994). Высокая гомосоциальность может отрицательно сказываться на общении и уровне взаимопонимания мужчин и женщин и затрудняет мужчинам определение своего собственного маскулинного хабитуса (термин Бурдье, обозначающий матрицу действия, восприятия и мышления, связанную с осознанием собственного бытия).
В свете групповых дискуссий выяснилось, что российскому мужчине легче себя определить или позиционировать через отношения с женщинами, мужчина как таковой – загадочен и архаичен; жизненные миры мужчины и женщины разнятся, «как две Вселенные»; свое предназначение мужчины формулируют как чувство ответственности за близких/семью, что одновременно порождает иерархическую систему, в которой ответственность сопряжена с правом; современные трудности гендерной идентификации мужчины или маскулинного хабитуса сопряжены с неуверенностью, порождаемой проблематизацией роли добытчика-кормильца, а также возросшими ожиданиями со стороны женщины; гендерный контракт не имеет характер незыблемого, он подлежит пересмотру в повседневной практике взаимоотношения полов, что отзывается повышенным напряжением и фрустрациями в случае неоправданности ожиданий; наблюдается определенный кризис маскулинной идеологии, когда классические формулы не выдерживают проверки социальным временем, заставляя мужчин спускаться на грешную землю, «ставить реальные цели».
Представители рабочего класса понимают маскулинность несколько иначе. Образ маскулинности строится у них на индивидуальных умениях и самостоятельности («мужчина – это умелец»), но их приобретение требует гомосоциального воспитания и пребывания в суровых условиях и мужском сообществе. Этот маскулинный хабитус тоже построен на традиционном ролевом каркасе, но его сердцевина меньше зависит от переопределения социальной ситуации, в которую встроен гендерный контракт. У рабочих меньше выражена хабитусная неуверенность в случае неисполнения ими маскулинной роли, они меньше рефлексируют по поводу изменившейся роли женщины, а малый, по сравнению с женой, заработок не вызывает таких фрустраций.
Получается, что представители среднего класса (бывшая техническая интеллигенция) даже консервативнее и больше нагружены патриархатными стереотипами о предназначении женщины, чем представители рабочего класса.
Ту же проблему, но с другой стороны поднимает Ирина Тартаковская. Она констатирует, что, с развалом коммунистической системы советская гегемонная маскулинность, реализовавшаяся через служение государству, не только оказалась идейно ущербной, но и стала практически неосуществимой. В качестве возможных альтернатив ей могла бы выступить традиционная патриархальная маскулинность «домостроевского типа» либо либеральная «западная маскулинность» независимого собственника/профессионала/кормильца семьи, но обе эти модели были практически недостижимы: первая – из-за отсутствия религиозной и/или идеологической легитимации, а также из-за противоречащего ей опыта советских гендерных отношений; вторая – из-за отсутствия реальных экономических условий для преуспеяния семей с одним мужчиной-кормильцем (Тартаковская, 2002). Социально-экономические перемены в 1990-е годы значительно обострили этот кризис: многие традиционно «мужские» отрасли производства, такие как оборонная промышленность и станкостроение, пришли в упадок, профессиональное и экономическое положение многих прежде относительно успешных мужчин резко ухудшилось. Переживаемый ими стресс описан в статье М. Киблицкой «Раньше мы ходили королями…..» (Kiblitskaya, 2000).
Подробный анализ этой «несостоявшейся маскулинности» (термин Д. Плека) как одного из наиболее распространенных в советском и постсоветском обществах сценариев маскулинности дан в лонгитюдном исследовании Ирины Тартаковской «Гендерные стратегии на рынке труда», проведенном в четырех российских городах (в Москве, Самаре, Сыктывкаре и Ульяновске) в 1999–2001 годах (Тартаковская, 2002).
Несостоявшиеся маскулинности (по И. Тартаковской)
Группы респондентов формировались по разным принципам. В Москве это были работники промышленного предприятия и академических институтов, столкнувшиеся с длительными задержками зарплаты; в Самаре – безработные, официально зарегистрированные на городской бирже труда; в Сыктывкаре – люди, получавшие пособие по бедности через органы соцобеспечения, в Ульяновске – выпускники среднеспециального и высшего учебных заведений. В каждом городе было отобрано по 30 мужчин и 30 женщин; общее число респондентов составило 240 человек. Респонденты опрашивались четыре раза через каждые полгода (первый опрос был проведен в сентябре 1999 г.). В фокусе исследования оказались россияне обоего пола, которые в ходе трансформационных процессов столкнулись с серьезными экономическими, профессиональными и личностными трудностями. Для мужчин это означало не только утрату роли кормильца семьи и удар по профессиональному самолюбию, но и крушение жизненных ценностей. Это порождает ряд специфических стратегий как в сфере занятости, так и в частной жизни.
Чтобы отобрать случаи «несостоявшейся маскулинности» из общего числа представленных в исследовательском проекте жизненных историй, Тартаковская использовала два основных критерия: во-первых, собственное признание респондентом своей несостоятельности, четкая и недвусмысленная характеристика себя как неудачника, устойчиво сохраняющаяся хотя бы на протяжении двух этапов исследования (чтобы исключить случайные, ситуационные настроения); во-вторых, реальное ухудшение его материального и/или профессионального статуса. Второй критерий был дополнительным, поскольку «несостоявшаяся маскулинность» – по определению состояние субъективное, связанное с отношениями с собственной идентичностью, а понятие личного успеха в любом случае относительно.
Типов «несостоявшейся маскулинности» оказалось несколько:
1. «Смирившиеся неудачники»: «На работу я иду как на каторгу…..»
Главная черта этого типа – открытое признание своего поражения в области профессиональной карьеры: «Теперь счастье будет в детях. В себе вот не получилось… раньше хотел стать известным журналистом, профессионалом, специалистом, но не получилось». Ситуацию поражения, перехода в категорию неудачников сами респонденты чаще всего связывают с изменением экономической ситуации в стране. Вину за свои жизненные обстоятельства возлагают не на себя, а на внешние причины, чаще всего – на государство. В некоторых случаях переход к пассивному поведению при столкновении с жизненными проблемами, вызывающими сбой «маскулинного сценария», происходит достаточно быстро, но чаще ему предшествует период сопротивления.
Иногда (хотя и не обязательно) такой тип поведения приводит впоследствии к маргинализации и алкоголизму. Более распространена своего рода стихийная стратегия «жизнеподдержания»: внутреннее признание непреодолимости внешних по отношению к себе обстоятельств, готовность довольствоваться малым, отсутствие амбиций. Характерно равнодушное приятие своей судьбы, отказ от сознательного управления своей жизнью: «Ну, работать-то где-то надо… Жить надо на что-то. Нравится не нравится, надо, чтобы была работа». Иногда, хотя значительно реже, встречается другая крайность – стремление остаться на нынешней, пусть очень плохо оплачиваемой, работе, что вызвано паническим страхом остаться без работы вообще. Ощущение фиаско при этом, как правило, носит комплексный характер и не компенсируется ни включенностью в семейную жизнь, ни досуговыми интересами. Особую категорию в рамках этой группы составляют мужчины, которые продолжают остро ощущать основную ответственность за материальное обеспечение семьи.
«Смирившиеся неудачники» – в основном рабочие или лица, занятые трудом, не требующим высокой квалификации. Среди них немало людей с высшим образованием, в том числе имевших опыт квалифицированной и даже управленческой работы, но в силу обстоятельств оказавшихся в итоге на рабочей специальности. Так, бывший товаровед работает грузчиком, инженер – охранником, учитель – массажистом и т. п. По возрасту среди них преобладают люди старше 40 лет, но есть и 37-летние. Основу их идентичности можно сформулировать как «мужчина – жертва обстоятельств, остающийся, тем не менее, мужчиной».
2. «Несправедливо обиженные»: «Сами не знают, а мне указывают…..»
«Несправедливо обиженный» видит себя жертвой постоянных интриг, которые не дают ему самореализоваться. Основные силы уходят на борьбу с этими интригами. Так, для одного респондента смыслом жизни становится доказательство незаконности своего увольнения: «У меня сейчас одна задача: решить этот вопрос в суде». В результате никаких позитивных изменений в жизни не происходит, вместо этого имеет место стагнация с постепенным ухудшением положения, что оценивается как очередная несправедливость. Большинство членов этой группы (но не все) имеют высшее образование и стремятся работать если не по специальности, то на «достойной» квалифицированной работе.
3. «Алкоголики»: «Пока пьешь – хорошо, ни о чем не думаешь…..»
Как подчеркивает Тартаковская, феномен «несостоявшейся маскулинности» даже применительно к людям, в той или иной мере затронутым современным социально-экономическим кризисом, ни в коем случае не является прямым его порождением. Возможность «несостоятельности» заложена в самом понятии маскулинности, предполагающем внутреннюю иерархию между «настоящими», состоявшимися мужчинами и теми, кто не смог соответствовать этому критерию. Неумеренное употребление алкоголя – важная постоянная составная часть российской мужской культуры, оно было распространено и в советский, и в дореволюционный периоды. Само по себе питье мужчинами крепкого алкоголя в российском контексте отнюдь не считается признаком личной несостоятельности, наоборот – оно скорее работает на образ «аутентичной мужественности». Но только до тех пор, пока возникающие вследствие этого проблемы не становятся реальным препятствием в карьере либо в приватной сфере. Настоящий мужчина «умеет пить», и это не должно вредить его профессиональным качествам. Напротив, если он теряет из-за этого работу – это явный признак того, что реализация маскулинного сценария дала серьезный сбой. При этом у большинства таких людей остается иллюзия, что бросить пить можно в любой момент, что устройство на работу – дело времени, стоит только найти подходящее место: «Я уж лучше отработаю, а потом выпью, если нужно. Надо в ресторан – пошел, погулял, а завтра на работу». Поддерживается весьма интенсивная коммуникация с довольно широким кругом приятелей-собутыльников. «Алкоголики» всеми доступными им средствами стремятся поддерживать символический образ собственной маскулинности, подчеркивая, что сами, добровольно выбрали свой стиль жизни: «У меня все было. Все было. Мне ничего не надо…..» Их самооценка, в отличие от «смирившихся неудачников», остается довольно высокой, присутствует полный набор маскулинных амбиций.
4. «Эскаписты»: «Я же мужчина абсолютно какой-то непонятный…»
Одной из стратегий несостоявшейся маскулинности может стать своего рода эскапизм, или, говоря другими словами, инфантилизация – когда мужчина старается всеми силами избегать какой бы то ни было ответственности и на работе, и в частной жизни. Нежелание создавать семью служит гарантом определенной свободы, в том числе и на рынке труда. Главной ценностью становится поддержание своего стиля жизни, хобби и прочих приватных практик, стратегия занятости полностью этому подчинена. Эта модель маскулинности отчетливо альтернативна по отношению к гегемонной. В принципе, она не является специфически российской. В свое время ее апробировали, в частности, битники и хиппи – презирая брак, семью и домашние обязанности, они противопоставляли себя «обычным мужчинам», вынужденным много работать, чтобы заботиться о своих домашних.
5. «Домохозяева»: «Дома в кухарках…»
Другой вид адаптации к невозможности оставаться «настоящим мужчиной» – переопределение своих жизненных задач в частную сферу. Например, один из респондентов, в прошлом главный конструктор, после увольнения с работы по сокращению предпочел выход на досрочную пенсию и «карьеру дедушки»: «Пока, наверное, опять буду с внуками заниматься. Пока дочь не работает младшая – это от нее внуки, – она до трех лет будет сидеть, значит, надо будет заниматься». Такую стратегию можно определить как «приватизацию маскулинности». Безработный мужчина находит себя в том, чтобы обслуживать интересы своей семьи. При этом, однако, он, как правило, не принимает на себя обязанности женщины-домохозяйки, а старается найти «мужское занятие».
В статье С. Ашвин «Социальное исключение мужчин в современной России» (Ashwin, 2001) очень подробно и аргументированно рассматриваются проблемы, которые возникают на пути мужчины, пытающегося вести себя по такому «фемининному» образцу. Прежде всего, к такому перераспределению ролей оказываются не готовы их жены, которые без особого удовольствия воспринимают вторжение мужей на «свою территорию», а главное, ожидают от них выполнения функции кормильца, а не «домохозяина». Эта тенденция видна и в приведенных выше опросных данных ФОМ. Такой тип поведения нуждается в дополнительной легитимации, в качестве которой обычно выступает ссылка на состояние здоровья.
6. «Отец-одиночка»: «Я теперь мать…»
Оказавшись в ситуации, в которой гораздо чаще бывают женщины, – ситуации одинокого родительства (матери-одиночки), мужчина полностью воспроизводит такой же, как у большинства из них, стиль поведения: сильнейшая фиксация на интересах ребенка, ориентация скорее на «удобную», чем на денежную работу и т. п.
Тартаковская замечает, что постсоветская версия несостоявшейся маскулинности связана не только с проблемами на рынке труда, но и с недостатком позитивных (я бы добавил – альтернативных) версий легитимного маскулинного сценария. Поскольку традиционные критерии того, что значит быть «настоящим мужиком», основательно подорваны советским и, в особенности, позднесоветским опытом, для многих мужчин главным (и единственным) оставшимся критерием мужественности служит отличие от женщин: «остаточная» маскулинность определяется скорее через отрицание, чем через наличие сущностно необходимых черт: мужчина – это не женщина.
Теоретически это очень интересный момент: российские «несостоявшиеся маскулинности» выглядят издержками той самой идеологии гегемонной маскулинности, которую описали американские исследователи. Это имеет и косвенное эмпирическое подтверждение. При сравнительном исследовании 108 американских студентов из Флориды и 397 студентов Ярославского государственного педагогического университета (средний возраст обеих групп 19,8 лет) с помощью теста MRNI (Levant et al., 2003) российские студенты показали значительно более высокие результаты по всем пяти шкалам MRNI и по шкале общего традиционализма. Американские юноши разделяют лишь два традиционных аспекта маскулинности («избегание женственности» и «самодостаточность»), а американские девушки не приняли ни одного ее компонента. Напротив, российские юноши принимают все пять измерений традиционной маскулинной идеологии, а русские женщины не приняли только традиционных установок относительно секса. Это значит, что российской молодежи, не говоря уже о старших поколениях, труднее дается усвоение либеральных и более подвижных представлений о маскулинности, что усиливает ценностный конфликт.
Кроме того, российские мужчины получают от своих женщин противоречивые сигналы, как им следует поступать: они должны одновременно и принимать, и отвергать традиционные мужские гендерные стереотипы, если же они от них отклоняются, их высмеивают и подвергают остракизму. Это противоречие сильнее всего проявляется в сфере сексуальности, особенно в оценке сексуального насилия (См.: Кон, 2005. С. 303).
Самоописания мужчин с «нереализованной маскулинностью» очень часто воспроизводят синдром, который психологи называют «выученной беспомощностью». Одна из социальных предпосылок выученной беспомощности – отсутствие демократии и реального опыта свободы индивидуального выбора, что всегда было характерно для России. Недаром многие исследователи русского национального характера писали о склонности россиян к фатализму, покорности судьбе и т. д. На психологическом языке это описывается также в терминах теории локуса контроля.
Не являются чем-то исключительным и «эскаписты». О социальном инфантилизме как форме ухода от ответственности много писали исследователи молодежной культуры 1960—1970-х годов. Это понятие не просто описание определенных социально-психологических процессов, но и оценочная категория, которую старшие (начальники) используют для дискредитации любых неугодных им социально-критических движений и инициатив. Взрослость (зрелость) состоит не только в том, чтобы приспосабливаться к наличным условиям, но и в том, чтобы их изменять. Неспособность ни к тому, ни к другому (именно это подразумевает социальный инфантилизм) – реакция на авторитаризм и одновременно его продукт, потому что без свободы не бывает ответственности (см. Кон, 1984).
Еще раз хочу подчеркнуть: единого «русского канона» маскулинности никогда не было, нет и не будет. Синдром «несостоявшейся маскулинности», при всех его глубинных предпосылках, тесно связан с обстоятельствами социально-экономического кризиса 1990-х годов и переживаниями тех мужчин, которые оказались в роли его жертв.
Далеко не все постперестроечные российские мужчины склонны считать себя неудачниками. По данным массовых опросов, общая самооценка и самоуважение современных российских мужчин достаточно высоки, превосходя соответствующие показатели женщин (к сожалению, детальному сравнительному анализу эти данные никто не подвергал, хотя они того заслуживают). В каком-то смысле это универсальное явление: высокая самооценка и связанный с ней уровень притязаний – свойство всякой, тем более гегемонной, маскулинности. Более того, это один из аспектов националистической идеологии, когда люди склонны винить во всех своих трудностях не себя, а других.
Если посмотреть на предмет шире, складывается впечатление, что трансформация российских канонов маскулинности идет в разных, часто взаимоисключающих направлениях.
Прежде всего, происходит коррекция и модернизация традиционных имиджей гегемонной маскулинности. В условиях социальной нестабильности, разрушения какого бы то ни было правопорядка и, перефразируя формулу Ленина, криминализации всей страны в начале 1990-х годов среди молодежи стал популярен образ бандитской маскулинности, так называемых «братков», сочетающий культ жестокости и физического насилия с идеями воинского братства (по афганскому образцу). Вообще говоря, бандитская маскулинность была популярна в России и при советской власти. Хотя точное число заключенных ГУЛАГа неизвестно и приводимые учеными цифры сильно расходятся, счет идет на миллионы. По данным на 1 января 1953 г., за два месяца до смерти Сталина, в лагерях, колониях и тюрьмах числилось 2 625 тысяч заключенных плюс 2 753 тысячи ссыльнопоселенцев (Демографическая модернизация России, 2006. С. 425). Подавляющее большинство из них составляли мужчины. Тюремно-лагерные нравы оказывали сильное влияние на все население и культуру страны, тем более что у многих людей заключенные вызывали сочувствие. В хрущевские и брежневские времена настоящая и поддельная уголовная лирика стала любимым песенным жанром не только молодежи, но и самой рафинированной интеллигенции.
Развал советской экономики, сделавший жизнь «по закону» практически невозможной и побудивший многих молодых мужчин уйти в криминальные структуры и научиться жить «по понятиям», способствовал дальнейшей популяризации этой системы ценностей и стоящего за нею канона агрессивной супермаскулинности.
Этому способствовали также кино и телевидение. По мнению известного социолога и кинокритика Даниила Дондурея, с 1999 г. насилие и криминал стали основным семиотическим ресурсом российского телевидения (Дондурей, 2003). Десятки программ («Криминальная Россия», «Дежурная часть», «Криминал», «Честный детектив», «Человек и закон», «Совершенно секретно», «Чрезвычайное происшествие») разрабатывают тему преступности, а заодно и популяризируют ее. Более того, насилие стало единственным реальным источником массовых мифологем. На протяжении всего постсоветского времени главные герои страны – бандиты и связанные с ними предприниматели. Многие отечественные сериалы и почти все кинохиты, от «Брата-2», «Побега» и «Боя с тенью» до «Антикиллера» и «Бумера», – это фильмы про насилие, главными субъектами и жертвами которого являются мужчины. Основной слоган, прозвучавший в «Бумере»: «Это не мы, это жизнь такая».
Характерен в этом смысле фильм Алексея Балабанова «Брат» (1997). Молодой человек Даниил Багров, отслужив в армии, возвратился в маленький городок, расположенный где-то в средней полосе России. Случайно попав в переделку с заезжей съемочной группой, он отправляется искать счастья в Санкт-Петербург, где проживает надежда стареющей матери – старший брат, по слухам удачливый бизнесмен. Однако тот оказывается наемным убийцей, выполняющим заказы мафии. Несмотря на атрибуты внешнего благополучия, карьера киллера явно дала трещину. Чувствуя, что бывшие партнеры желают избавиться от него, старший брат привлекает к очередному убийству Данилу, который на удивление профессионально выполняет заказ. Дальнейшие события приводят петербургского «бизнесмена» к предательству младшего брата; в результате, спасая жизнь родственнику, герой выходит победителем из опасной борьбы с группой преступников, а затем уезжает из Петербурга в Москву – на поиски лучшей жизни.
Социолог Павел Романов счел этот фильм удачным объектом для социологического анализа кинематографической репрезентации такого типа маскулинности (Романов, 2002). Основные герои фильма – мужчины, помещенные в условно-стандартные маскулинные ситуации, связанные с насилием, преодолением преград, завоевательной сексуальностью, достижениями и борьбой за власть. Действие развивается в четко очерченных и легко узнаваемых пространственно-временных границах. Фильм насыщен доминантными мужскими стереотипами, что позволяет типизировать его образы в качестве определенных символических сообщений, обращенных к сложившимся в массовом сознании образцам.
Во второй части фильма, «Брат-2» (2000), герой едет наводить свои порядки аж в Америку. Как выразился один кинокритик, это «самый длинный российский видеоклип. Слушаем Земфиру. Трахаем Салтыкову. Мочим хохлов и негров. В сортире. Балабанов и Бодров наконец объяснили нам всем в „Брате-2“, что такое настоящая крутизна по-русски».
Я не оцениваю художественных достоинств этих фильмов (первый я смотрел с удовольствием) и не обвиняю их авторов в том, что они навязывают нам «чуждую мораль». Но не случайно этот фильм так обрадовал кинокритика газеты «Завтра»:
Герой нашего времени оказался не эстетом-декадентом, с томиком Бродского в кармане, священным пламенем антикоммунизма в сердце и мечтой уехать из «этой страны». Он оказался не бородатым монархистом, истово крестящимся на все свежеокрашенные церковные маковки, не «утомленным солнцем» и млеющим от сусально-юнкерских сказок времен Николая II. Он пришел к нам – и был сразу узнан миллионами русских людей, в своей камуфляжной куртке солдата чеченской войны, жестокий, но справедливый в своей жестокости, наивный, восторженный, но расчетливый и настороженный. Любящий «Наутилус» и легко собирающий глушитель к револьверу из подсобных материалов. Взведенный как боевая пружина и, главное, – готовый к действию. Он оказался именно таким, какого ждала страна. И потому фильм «Брат» побил все рекорды продаж…
И здесь возникает некая перекличка двух «героев своего времени». Соловьевского «Бананана» из «АССЫ», более чем десятилетней давности, и Данилы Багрова из «Брата».
Пассивный, толстовский нигилизм «Бананана», с его почти полным уходом от реальности в мир «бога БэГэ», декаданса, «комюникейшн тьюб», цветных снов, – стал символом целого поколения, которое оказалось так выгодно и удобно мафиозным Крымовым, которые на костях этих самых «Банананов» переустроили Россию в огромную «зону». «Банананы» проиграли историю и оказались не у дел.
И вот сегодня наступило время Багровых. Людей, знающих, что такое оружие и смерть, и спокойно нажимающих на курок. Людей, со своим особым кодексом чести, своей резкой, агрессивной музыкой, своим понятием о добре и справедливости. А главное, людей, живущих в России и желающих изменить ее жизнь к лучшему. И для них уже крымовы и белкины – враги, с которыми они борются беспощадно, из-под пяты которых они выдирают Россию.
У каждого времени свои герои. И может быть, что-то изменится в России, если сегодня у нее такие герои.
(Шурыгин, 2000).Разумеется, популярность криминальных фильмом не означает, что бандитская маскулинность стала единственным и самым привлекательным образцом для подражания. Как только российское государство окрепло, оно сформулировало социальный заказ на другие фильмы и сериалы, героями которых стали не менее крутые, но более идейные и организационно связанные с государством новые силовики: «агенты национальной безопасности», «менты», разведчики и иные сотрудники спецслужб. Независимо от их ведомственной принадлежности, эти новые силовики выглядят весьма стандартно и от аналогичных американских суперменов отличаются исключительно фразеологией и национальным колоритом. Однако характерны их претензии. Когда в 2007 г. между разными спецслужбами началась не подковерная, а открытая борьба за власть и деньги, руководитель одной из спецслужб в статье «Нельзя допустить, чтобы воины превратились в торговцев» публично обосновал философию чекизма как закрытой корпорации «настоящих мужчин», ставшей для России спасительным «крюком» (этот многозначительный образ прекрасно обыграли демократические публицисты), за который, падая в бездну, уцепилось постсоветское общество и который и дальше будет спасать его от всех и всяческих угроз, если только сумеет сохранить свою высокую корпоративную мораль.
Вообще говоря, «воины» (как и «жрецы») превращались в «торгашей» и до возникновения чекизма, но они обязаны были делиться с начальниками и коллегами и не выносить сор из избы (у пошлых уголовников эта групповая солидарность называется общаком и круговой порукой), поэтому президент Путин, как и ожидали эксперты, разоблачительную статью не одобрил. Чекистская маскулинность для массового сознания привлекательнее бандитской и к тому же сопряжена с меньшими индивидуальными рисками. Под крышей родной конторы походя решаются и личные дела, недаром самые лакомые места в новых экономических структурах занимают чьи-то сыновья, зятья и племянники. «Настоящий мужчина» обязан заботиться о своих.
Но не все мужчины хотят и могут стать силовиками. Наиболее социально значимой, емкой и укорененной в народной культуре мужской идентичностью в сегодняшней России остается мужик. В каком-то смысле это специфически русский феномен. «Мужик – это значимая маркировка русскости. Мужик по определению русский» (Шабурова, 2002. С. 533). Это слово обозначает одновременно пол, возраст, социальный статус и свойства характера. По Далю, «мужик» – это «человек рода он, в полных годах, возмужалый; возрастной человек мужского пола» и одновременно – «мужчина простолюдин, человек низшего сословия», поселянин, пахарь, земледелелец, хлебопашец; семьянин и хозяин; дюжий человек, крепкий, видный, но грубоватый; человек необразованный, невоспитанный, грубый, неуч, невежа (Даль, 1999. Т. 2.
С. 356–357).
Как всякий «настоящий мужчина», мужик не может довольствоваться наличным бытием. Он обязан постоянно доказывать себе и другим, что он не баба, не пацан и не гомик. В противоположность слабому иноземному джентльмену и хлюпику-интеллигенту, мужик отличается повышенной сексуальностью, любовью к спиртному, физической силой и грубостью, причем все это ему дано от природы. «Мужик» – это дикий мужчина, который ценит свои природные свойства и не нуждается в украшениях. Как гласит припев популярной песни, «да, ты права, я дикий мужчина: яйца, табак, перегар и щетина». Характерно, что все эти достоинства «не заключают в себе ничего нарочитого, то есть не являются результатом сознательного выбора и усилия. Щетину он не специально выращивает – сама вырастает; пьет вовсе не для запаха перегара, а из иных побуждений; аромат табака абсолютно натуральный и непреднамеренный, мало общего имеющий с дорогим мужским одеколоном, который тоже пахнет табаком. Яйца же даны лирическому герою от природы, все честно, никакого конструктивизма» (Утехин, 2001. С. 272).
Образ мужика укоренен не только в быту. Он широко раскручивается в кино и в коммерческой рекламе, особенно в рекламе пива, а также в политике. На выборах 2001 г. движение «Единство» успешно позиционировало себя в сливающихся друг с другом образах «мужика» и «медведя». Популярным воплощением военно-патриотического «мужичизма» в российском шоу-бизнесе является основанная Николаем Расторгуевым группа «Любэ».
Однако и этот образ неоднозначен. Называя себя мужиком, мужчина подчеркивает свои народно-патриотические истоки, связь с традицией, готовность противостоять «западному влиянию». Но новые хозяева жизни, бизнесмены и вошедшие в экономику «силовики», отнюдь не собираются возвращаться в патриархальное прошлое и настроены скорее на модернизацию жизни, начиная со своего внешнего облика.
Этот «суворовский переход с дикого Востока на дикий Запад огородами, минуя первоисточники цивилизации», первым (и очень точно!) описал Виктор Ерофеев. По его словам, место созерцательного придурка Иванушки-дурачка в современном российском мужском фольклоре занимает «бандит-активист, который не ждет милости от природы», а, сколотив состояние, сразу же дает своим детям европейское образование. Это не примитивный мужик, который принадлежит к низшему сословию, даже если разъезжает на джипе, а мужик, который встает с карачек и путем обретения индивидуальности начинает превращаться в мужчину. Он меняет пятерню на расческу, броневик на парфюм, мат на английский, партбилет на перстень, коммуналку на вертолет.
«Что было, то прошло. Русский мужик встает с карачек. Пора ему превращаться в мужчину. Ну и рожа!
– А чего?
– Отряхнись…
– Ну!
– Причешись.
– Ну!» (Ерофеев, 1999. С. 7).
Ерофеев недаром называет это процесс геологическим сдвигом. Менять приходится буквально все. «Крутимся. Чистим ботинки. Изживаем собственную историю. Боремся с дурным запахом из всех щелей. Обращаем внимание на тело. Вот оно, мое тело. Глядя в зеркало, задумываемся о сексе».
Но самое трудное – сменить «мы» на «я»:
«Мужчина – это такой мужик, который нашел (мат на английский) his own identity и перевел понятие на русский язык» (Там же. С. 9).
Современный российский бизнесмен – это двуликий Янус. Он одет по моде, и при галстуке, говорит по-английски, разбирается в новейших технологиях, но стоит ему расслабиться, как из-за этого фасада вылезает привычный, свой в доску русский мужик, со всеми его сильными и слабыми сторонами. И он сам зачастую не знает, какая из этих идентичностей для него важнее.
Сегодня споры об этом стали особенно жаркими, но в них больше идеологии, чем науки. Вестернизация распространяется не только на внешние стороны жизни, но и на главные жизненные ценности. Наряду с людьми, у которых внешний лоск лишь прикрытие «мужичизма», есть немало мужчин, особенно политиков, использующих «мужичизм» в демагогических целях, чтобы выглядеть «своим в доску» в глазах своих соплеменников, которыми он цинично манипулирует.
Эта двойственность проявляется и в сфере массовой культуры. Если судить о тенденциях развития российских маскулинностей по рекламе, картина выглядит безнадежно сексистской. «Образы мужчины и женщины в большинстве рекламных роликов на наших телеэкранах не просто созданы разными средствами, но и наделены разными обязанностями, разными устремлениями в жизни, разной социальной силой. Реклама излагает нам простым языком старый патриархальный миф о том, какими должны быть мужчина и женщина. „Настоящий мужчина“ предстает личностью творческой, профессиональной, знающей, способной принимать решения и одерживать победы в одиночку. Его действия изменяют окружающий мир. Он самодостаточен. „Настоящая женщина“ призвана сопровождать „настоящего мужчину“, являться дополнительной наградой за его победы. Она предстает в рекламе существом ограниченным, зависимым, домашним. Ей не надо быть умной и творческой личностью, а надо иметь пышные блестящие волосы, стройную фигуру, привлекательную походку. А когда благодаря этим качествам мужчина найден, ей надо следить за семейным уютом, стирать, готовить, лечить так, чтобы он оставался доволен. Он – субъект действия, творец, величие которого дополнительно подчеркнуто умением вовремя проинструктировать и поощрить представительницу слабого во всех отношениях пола. Она – объект созерцания, исполнитель, ждущий внимания, указаний и поощрений.
Повторяя эти примитивные патриархальные образы бесчисленное множество раз в самых разных вариантах, сегодняшняя российская реклама во многом работает на усиление консервативных гендерных стереотипов, которые в нашей культуре и без того достаточно консервативны» (Юрчак, 1997. С. 397).
То же самое можно сказать о мужских глянцевых журналах. Те из них, которые позиционируют себя как «русские» (например, «Андрей» и «Махаон»), открыто пропагандируют принцип мужской исключительности, с выраженной националистической доминантой (см.: Боренстейн, 1999, 2002; Чернова, 2002б). Напротив, журналы западного происхождения, такие как «Плейбой» и «Men's Health», соблюдая принятые у них на родине принципы политкорректности, неагрессивны по отношению к женщинам, а стандартные «мужские ценности», включая сексуальность, подают в современной цивилизованной упаковке. Принимая базовые идеи гегемонной маскулинности, они помогают молодым мужчинам становиться (или хотя бы выглядеть) более сильными, успешными и современными. Причем главное для них не традиция, а именно современность.
«Корпоративный стандарт» новой российской маскулинности хорошо прослежен Ж. Черновой, которая проанализировала содержание мужских глянцевых журналов «Медведь», «XXL», «Мужской клуб», «Обыватель» и др., выходивших с 1990 по 2000 г. (Чернова, 2003). Главный пафос этой маскулинности – высокая потребительская активность. «Настоящий мужчина» компетентен в сфере потребления, обладает необходимым знанием, позволяющим делать выбор, и считает потребительскую активность нормой жизни, а потребление – «мужским» видом деятельности. Отличительная черта предметов, составляющих идентификационную систему нормативной маскулинности, – престижная марка и высокая цена. Бренд выполняет две функции: утилитарную, означая качество («надежность»), и идентификационную, определяя статус владельца. Например, в мужском костюме важно все, любая мелочь: (не)идеальные стрелки брюк, (не)помятый пиджак, (не)подходящий по цветовой гамме ко всему ансамблю галстук. Эти детали могут оказаться выигрышными, обеспечивая, например, определенное преимущество при ведении деловых переговоров и карьерный рост, но могут и «подмочить» деловую репутацию мужчины.
Вследствие исторических причин, в России недостаточно осмыслена проблема гендерного равенства, даже многие либерально настроенные мужчины воспринимают его, как и феминизм, резко отрицательно либо иронически. Однако реально возродить древнерусский канон гегемонной маскулинности невозможно по социально-экономическим причинам.
Во-первых, страна не может обойтись без участия женщин в общественном производстве, а это автоматически меняет структуру гендерных ролей.
Во-вторых, российская семья не может – и не захочет – существовать на одну мужнюю зарплату.
В-третьих, эмансипация российских женщин, включая уровень их образования, зашла слишком далеко, чтобы их можно было вернуть к системе «трех К» (Kinder, Kuche und Kirche).
Тем не менее православные фундаменталисты охотно «играются» с этой идеей. Даже главный президентский национальный демографический проект стимулирования рождаемости первоначально адресовался исключительно женщинам. Но традиционалистская трактовка женщины как матери и хранительницы домашнего очага, а мужчины как добытчика и защитника отечества имеет мало общего с цивилизацией XXI века. Ориентация на воображаемое прошлое не сулит стране ничего хорошего ни в ближайшем, ни в отдаленном будущем.
В сказке Ханса Кристиана Андерсена «Калоши счастья» описан советник юстиции Кнап, который был убежден, что в Средние века жилось гораздо лучше, чем теперь, и что времена короля Ханса были лучшей и счастливейшей порой в истории человечества. Однако, оказавшись с помощью волшебных калош в том времени, Кнап нашел его отвратительным и, когда ему удалось вернуться обратно, долго «вспоминал пережитые им ужасы и от всего сердца благословлял счастливую действительность и свой век, который, несмотря на все его пороки и недостатки, все-таки был лучше того, в котором ему только что довелось побывать. И надо сказать, что на этот раз советник юстиции мыслил вполне разумно».
Подведем итоги.
В этой главе мы рассматривали макросоциальные процессы: как в постиндустриальном мире меняются мужские и женские социальные роли и как люди реагируют на эти перемены. При всех многочисленных вариантах и вариациях, ведущие глобальные тенденции выступают довольно отчетливо:
1. По всем трем главным макросоциальным позициям – общественное разделение труда, политическая власть и гендерная сегрегация – социально-ролевые различия между мужчинами и женщинам резко уменьшились в пользу женщин.
2. Причиной ломки гендерного порядка является не феминизм, а новые технологии, которые делают природные половые различия менее социально значимыми, чем раньше. Феминизм лишь отражает (зачастую односторонне) эти сдвиги.
3. Ослабление поляризации гендерных ролей не устраняет гендерных различий в социальной сфере, особенно в такой чувствительной области, как соотношение общественно-производственных и семейных функций. Отчасти эти различия коренятся в биологии (женский родительский вклад выше мужского, требует больших усилий и временных затрат, если женщины от этих функций откажутся, человечество вымрет), а отчасти – в унаследованных от прошлого социально-нормативных ограничениях и привычных стереотипах массового сознания, как мужского, так и женского.
4. Однако ведущей тенденцией является процесс индивидуализации, позволяющий людям выбирать стиль жизни и род занятий безотносительно к их половой/гендерной принадлежности, в соответствии с привычными социально-нормативными предписаниями или вопреки им, и общество вынуждено относиться к этому индивидуальному выбору уважительно.
5. Ломка традиционного гендерного порядка неизбежно порождает многочисленные социально-психологические проблемы и трудности, причем мужчины и женщины испытывают давление в противоположных направлениях. Вовлеченные в общественное производство и политику женщины вынуждены развивать в себе необходимые для конкурентной борьбы «мужские» качества (настойчивость, энергию, силу воли), а мужчины, утратив свое некогда бесспорное господство, – вырабатывать традиционно «женские» качества: способность к компромиссу, эмпатию, умение ставить себя на место другого. Ничего особенного или чрезвычайного в этом нет, то же самое происходит в сфере межнациональных и межгосударственных отношений, где принцип господства и подчинения постепенно уступает место отношениям осознанной взаимозависимости. Тем не менее здесь часто возникают конфликты, которые сплошь и рядом могут быть решены лишь на микроуровне межличностных отношений.
6. Поскольку движущей силой происходящих социальных перемен являются женщины, мужские реакции на эти перемены часто бывают консервативно-охранительными. Но эти установки, как и сами мужчины, неоднородны, варьируя от воинствующего традиционализма и моральной паники до свободного принятия новых социокультурных и психологических реалий. Это зависит как от социально-групповых, так и от индивидуально-личностных особенностей мужчин.
7. Наиболее проблематичным нормативным компонентом массового сознания стал феномен гегемонной маскулинности (маскулинная идеология). Эта идеология имеет глубокие биоэволюционные корни, без опоры на нее мальчикам трудно сформировать свою мужскую идентичность, и в то же время она часто оказывается социально и психологически вредной, дисфункциональной.
8. Данные многочисленных массовых опросов и иных социологических исследований в развитых странах Европы, Америки и Азии показывают, что ни единого мужского стиля жизни, ни единого канона маскулинности там ныне не существует. Несмотря на противоречивость своих ценностей и взглядов, современные мужчины во все большей степени ориентируются на принцип гендерного равенства. И, несмотря на то что для многих этот выбор вынужденный, а некоторые конкретные проблемы остаются спорными и решений не имеют, никакой ущербности своего социального статуса мужчины не ощущают, тем более что мужской статус все еще остается привилегированным.
9. Хотя в России исследований и надежных эмпирических данных значительно меньше, сравнение результатов массовых опросов общественного мнения, качественных гендерных исследований представленных в российских СМИ образов маскулинности приводит к заключению, что и общее направление развития маскулинности, и связанные с нею проблемы в России те же, что и в странах Запада. В то же время приходится констатировать, что: а) российское гендерное сознание, как мужское, так и женское, значительно более консервативно; б) принцип гендерного равенства чаще принимается на словах, чем на деле, а то и вовсе оспаривается; в) налицо значительное расхождение мужских и женских социальных ожиданий и предъявляемых друг к другу требований; г) существует системное недопонимание социального характера гендерных проблем и одновременно переоценка возможностей государственной власти в их решении; д) в ходе социальных трансформаций последних двух десятилетий в каноне маскулинности сформировались две противоположные тенденции: с одной стороны, признание своей мужской несостоятельности («несостоявшаяся маскулинность», выученная беспомощность и т. д.), а с другой – резкое усиление агрессивной маскулинной идеологии, чему способствуют поддерживаемое в обществе состояние моральной паники и идеализация исторического прошлого.
В долгосрочной исторической перспективе особой свободы выбора ни у России, ни у «мужского сословия» нет. От требований, выставленных временем, не уйти, изменить условия задачи не в нашей власти. Но так ли уж все это драматично? Способны ли мужчины выжить и успешно развиваться в новых исторических условиях или, как динозавры, обречены на вымирание? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно выяснить, насколько пластичны мужские психические свойства и способности.
Глава четвертая МУЖЧИНА В ЗЕРКАЛЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Итак, мы видели, что современный мужчина стоит перед серьезными глобальными вызовами, затрагивающими не только гендерный порядок, но и весь наш образ жизни. Способен ли мужчина справиться с этими вызовами? Не нарушает ли ломка традиционного гендерного порядка какого-то жизненно важного баланса, без которого человечество просто не сможет существовать? Ведь кроме нормативного канона маскулинности и фемининности существуют индивидуально-психологические черты, которые мы в просторечии называем мужскими и женскими свойствами и которые, возможно, являются врожденными? Насколько универсальны, значимы и стабильны эти свойства, существует ли в них какая-то социокультурная динамика, или нарушение традиционного гендерного разделения труда противоречит нормам полового диморфизма, которые так или иначе все равно восторжествуют?
Чтобы ответить на эти вопросы, нам придется обратиться к данным психологических исследований того, в чем мужчины и женщины предположительно отличаются друг от друга. Это —
1) способности и интересы;
2) агрессивность и соревновательность;
3) сексуальность;
4) образ тела;
5) самоуважение и удовлетворенность жизнью;
6) здоровье.
Обращаю внимание читателя на то, что речь в этом обзоре идет преимущественно о взрослых мужчинах. Как формируются и проявляются соответствующие черты у детей и подростков, обсуждается в книге «Мальчик – отец мужчины», над которой я сейчас работаю.
1. Способности и интересы
Точно знают только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение.
Иоганн Вольфганг ГетеКак было показано выше, уже в древнейших мифологиях сложились две альтернативные точки зрения о соотношении мужских и женских качеств: 1) мужчины и женщины совершенно различны, противоположны и 2) между ними больше сходств, чем различий. Эти споры продолжаются и в современной психологии.
В популярной массовой литературе, как правило, преобладает акцент на различиях. Книга Джона Грея «Мужчины – с Марса, женщины – с Венеры» (Gray, 1992), доказывающая полную противоположность мужского и женского мышления, разошлась неслыханным для психологии тиражом свыше 30 миллионов экземпляров и переведена на 40 языков. Написанная с совершенно других теоретических позиций, но тоже акцентирующая внимание на различиях книга Деборы Таннен, посвященная особенностям мужской и женской речи (Таннен, 2005), переведена на 24 языка. Тем не менее, наряду с гипотезой гендерных различий, существует гипотеза гендерных сходств, согласно которой мужчины и женщины скорее сходны, нежели различны, а большинство существующих между ними психологических различий статистически невелики.
Как и по любому другому вопросу, эмпирические данные на этот счет противоречивы. Однако за 35 лет, прошедших со времени опубликования первой фундаментальной работы, посвященной оценке исследований психологии половых различий (Maccoby, Jacklin, 1974), число признаваемых достоверными различий резко уменьшилось, прежде всего – в результате совершенствования исследовательских методов и повышения методологических требований, позволяющих лучше отличать экспериментальные данные от артефактов и стереотипов массового сознания.
Важным инструментом исследования этой проблемы является метаанализ – статистический метод, позволяющий собрать воедино результаты множества разных исследований одного и того же предмета. Суть метаанализа состоит в том, что ученый берет все научные исследования данной темы, представленные в профессиональной базе данных (публикации, не прошедшие профессиональной апробации, сюда заведомо не попадают[3]), извлекает из каждого исследования его статистику, высчитывает величину установленных им различий и затем математически обрабатывает совокупные показатели, что позволяет определить не только направление различий, но и их совокупную величину. Методологически это очень сложная работа. Ученый должен четко определить: а) какие именно явления его интересуют, б) насколько сопоставимы результаты и индикаторы сравниваемых исследований, в) как соотносятся установленные ими правила и исключения, г) каков их общий статистический эффект, насколько велики установленные различия, д) каковы возрастные тенденции развития, е) как эти показатели зависят от социального и иного контекста, ж) как преувеличение или преуменьшение гендерных различий влияет на социальное положение мужчин и женщин.
Уже в 1980-х годах метаанализу подверглись гендерные различия по таким важным психологическим свойствам, как внушаемость, умственные способности и агрессия. Затем были проанализированы моторное поведение, когнитивные процессы, коммуникативные качества, социальные и личностные черты, моральные суждения, эффективность пользования компьютером, профессиональные предпочтения и т. п. В 2005 г. ведущий американский психолог в этой области знания Дженет Шибли Хайд, обобщив и частично пересчитав 46 англоязычных метаанализов, охвативших 4 600 отдельных отчетов, представила обобщенные данные по 124 гендерным качествам, сгруппированным по шести категориям: 1) когнитивные свойства (способности); 2) вербальная и невербальная коммуникация; 3) социальные и личностные качества, такие как агрессия и лидерство; 4) аспекты психологического благополучия, например самоуважение; 5) моторно-двигательные качества, например длина броска; 6) различные другие черты, например моральное суждение. (Hyde, 2005). В 30 % проанализированных качеств статистически значимых отличий мужчин от женщин практически не обнаружено, а в 48 % они незначительны. То есть 78 % потенциальных гендерных различий невелики или близки к нулю. Большие статистически значимые различия найдены по 22 % параметрам, важнейшие из которых – сексуальное поведение и агрессия.
Выводы Хайд получили одобрение многих видных психологов, но был высказан и ряд критических замечаний. Критики отмечали, что подход Хайд атеоретичен, дело сводится к вопросу, существуют ли и насколько статистически велики гендерные различия, но не менее важно понять, почему такие различия есть или их нет. Разные сферы жизнедеятельности и связанные с ними свойства неодинаково гендерно-специфичны. Можно априори заявить, что те сферы жизнедеятельности, которые связаны с репродукцией, находятся под более сильным биологическим контролем и, следовательно, более полодиморфичны, чем некоторые виды социальной деятельности. Многое зависит и от общественного разделения труда. В когнитивных процессах, которые преимущественно обсуждает Хайд, разница между мальчиками и девочками значительно меньше, чем в характере предпочитаемых ими игр и деятельностей и взаимодействия со сверстниками своего и противоположного пола.
Спор идет не просто о величине гендерных сходств и различий применительно к разным способностям. Как почти все психологические понятия, категория способности неоднозначна. Словарное определение термина гласит, что способности – индивидуальные особенности личности, являющиеся субъективными условиями успешного осуществления определенного рода деятельности. Способности не сводятся к имеющимся у индивида знаниям, умениям, навыкам. Они обнаруживаются в быстроте, глубине и прочности овладения способами и приемами некоторой деятельности и являются внутренними психическими регуляторами, обусловливающими возможность их приобретения. Считается, что формирование способностей происходит на основе задатков, а наиболее распространенной формой оценки степени выраженности способностей являются психологические тесты.
В общей форме с этим вряд ли кто-нибудь станет спорить. Но одни люди, в том числе ученые, трактуют «способность» как нечто объективно данное, «заданное» (задатки) или «подаренное» (одаренность), а другие – как нечто выработанное, воспитанное и развивающееся. В первом случае способности рассматриваются в контексте теории индивидуальности как психические свойства или черты личности, а во втором – в свете теории мотивации. Каждый из этих подходов имеет свои плюсы и минусы (см. подробнее: Хекхаузен, 2003).
Что же психологи считают доказанным?
Относительно физических и моторных способностей метаанализы и наиболее совершенные новейшие исследования показывают, что мужчины лучше женщин справляются со многими моторными задачами (самая большая разница – в скорости и длине броска), тогда как женщины лучше выполняют задачи, требующие точности движений и гибкости. С возрастом гендерные различия во многих (но не всех) физических и моторных способностях увеличиваются. Эти различия, которые сильнее всего проявляются в знакомых, не вызывающих у детей страха, условиях, а также в присутствии ровесников, обусловлены, с одной стороны, более ранним созреванием нервной системы у девочек, что облегчает им овладение более тонкими двигательными навыками, а с другой – большей мускульной силой мальчиков, которые придают этим способностям больше значения и больше упражняются.
Еще большей нюансировки требует сравнение когнитивных способностей. Хотя заметных различий в общих умственных способностях между ними нет, мужчины и женщины различаются структурой своих когнитивных способностей и способами их применения. Некоторые исследователи предпочитают даже говорить не о гендерных различиях в способностях, а о мужском и женском когнитивном стиле.
Самые большие и стабильные различия существуют в пространственной ориентации: по большинству пространственных способностей мужчины опережают женщин. Особенно велика разница в мысленном вращении объектов и в пространственном восприятии (опознание горизонтали и вертикали, попадание в цель, например мячом, и определение своего местоположения в реальном пространстве). Это доказывается не только тестовыми данными. На соревнованиях по ориентации в пространстве, проводимых Национальным географическим обществом США, несмотря на равное участие в них мальчиков и девочек, последние на каждом следующем этапе отсеиваются, так что, как правило, все 10 финалистов оказываются мальчиками. Единственная пространственная способность, в которой девочки опережают мальчиков, – запоминание положения в пространстве.
Это подтвердило и проведенное в 2005 г. Интернет-исследование Би-би-си (в дальнейшем я буду называть его опросом Би-би-си). По первоначальному замыслу проект «Секреты полов» должен был ограничиться небольшим неформальным опросом с участием около тысячи респондентов. Однако тщательно разработанный коллективом психологов во главе с Ричардом Липпой опросник вызвал огромный интерес. Анкету целиком заполнили 255 тысяч людей (47 % женщин и 53 % мужчин) разных возрастов (шире всего представлены группы от 16 до 40 лет) из 40 разных стран (75 % выборки падает на Великобританию и США), с хорошим образованием (13,5 % кончили нечто аналогичное аспирантуре и 33,5 % учились в университете). Такой большой выборки ни одно психологическое исследование не имело. К обработке и интерпретации данных привлекли крупнейших мировых специалистов, опрос Би-би-си стал ценнейшим источником научных данных (первая научная публикация состоялась в журнале «Archives of Sexual Behavior» в апреле 2007 г.).
В частности, он показал наличие статистически значимых гендерных различий в выполнении задач, связанных с мысленным вращением объектов, с которым мужчины справляются лучше женщин, причем разница тестовых показателей коррелирует с определенными соматическими факторами (Peters et al., 2007). Во всех семи обследованных этнических группах и 40 странах мужчины опережают женщин по тесту трехмерного умственного вращения, тогда как женщины во всех семи этнических группах и в 35 странах из 40 имеют лучшие показатели по запоминанию положения объектов в пространстве (Silverman et al., 2007). По предположению авторов, половые различия в пространственной ориентировке и способности запоминать положение предметов в пространстве, возможно, имеют эволюционные предпосылки, уходя корнями в разделение труда между охотниками и собирателями. Согласно этой теории, в плейстоценовую эпоху мужчины были преимущественно охотниками, а женщины занимались собирательством. Разная деятельность требовала специфических особенностей зрения и разных навигационных стратегий. От охотника требуется умение точно определить движущуюся цель и попасть в нее, тогда как собирание съедобных растений предполагает способность отличать их от прочих растений, запоминать их местонахождение и снова находить эти места. Поэтому мужчины изначально запрограммированы на обследование больших пространств, чем женщины, и они прибегают к помощи разных ориентиров. Впрочем, эта теория оспаривается. С возрастом тестовые показатели ухудшаются, причем у мужчин это происходит раньше, чем у женщин.
С другими когнитивными свойствами дело обстоит сложнее. Распространенное мнение, что мужчины всегда опережают женщин по математическим способностям, не подтверждается: тестовые показатели зависят от типа поставленных задач и от возраста испытуемых. Хотя гендерных различий в математических понятиях не обнаружено, мужчины превосходят женщин по некоторым стандартным тестам. Мужчины и женщины нередко используют при решении сходных задач разные когнитивные стратегии. В отличие от недавнего прошлого, когда математика считалась исключительно мужским предметом, в развитых странах девочки почти сравнялись с мальчиками по выбору математики в качестве предпочитаемого школьного предмета. Тем не менее, по данным многочисленных исследований, мальчики продолжают стабильно опережать девочек по стандартным математическим тестам.
Женщины, как правило, опережают мужчин по вербальным способностям. Но это тоже зависит от характера задач и от возраста. В раннем детстве девочки имеют небольшое преимущество перед мальчиками в овладении языком, к шести годам мальчики их догоняют, тем не менее они значительно чаще девочек страдают расстройствами устной речи и письма. Метаанализы показывают, что хотя мужчины сильнее в применении аналогий, женщины имеют небольшое преимущество в других вербальных способностях: общих вербальных навыках, выполнении словесных тестов, богатстве словаря, понимании прочитанного, написании сочинений и подготовке речей. По данным нескольких крупных американских исследований, преимущество девочек-подростков перед мальчиками в понимании прочитанного и в письме даже больше, чем показывают метаанализы, это согласуется с национальными данными о грамотности. Кроме того, женщины сильнее мужчин по ряду факторов, не включенных в метаанализы, таких как беглость речи, вербальное обучение, память и т. д.
Впрочем, и здесь все неоднозначно. На вопрос: «Кто болтливее, мужчины или женщины?» житейская мудрость однозначно отвечает: конечно женщины! До недавнего времени казалось, что научная психология это подтверждает. В первом издании популярного бестселлера «Женский мозг» Луанна Бризендайн приводила широко распространенные цифры: средняя женщина произносит в день 20 000 слов, а мужчина – только 7 000. Затем она решила, что эти цифры придумали брачные консультанты, убрала их, тем не менее их продолжают тиражировать. Между тем одни и те же цифры интерпретируются по-разному. По мнению одних психологов, они доказывают вербальное превосходство женщин, а по мнению других – их социальную зависимость: женщину просто не слушают, так что 13 000 произносимых ею слов пропадает! На эту тему есть американский анекдот.
Муж: Исследования подтверждают, что женщины говорят вдвое больше мужчин.
Жена: Конечно, нам приходится повторять все, что мы говорим.
Муж: Что?
Недавнее экспериментальное исследование (Mehl et al., 2007), в ходе которого 396 испытуемых постоянно носили на себе миниатюрные микрофоны, показало, что женщины произносят в день 16 125 слов, а мужчины – 15 669, статистической разницы между ними нет. Правда, испытуемые были студентами колледжа, которые по природе разговорчивы. Между прочим, одно из первых советских исследований, проведенное в 1960-х годах в студенческом общежитии ЛГУ, показало, что мужчины тратят на разговоры даже больше времени, чем женщины, но тематика мужских и женских разговоров разная…
Теоретическая интерпретация этих различий тоже неоднозначна. С одной стороны, лингвистические способности связаны с латерализацией мозга и гормональными факторами. С другой стороны, по некоторым данным, половые различия в беглости речи в последней трети ХХ в. заметно уменьшились (Hyde, Linn, 1988). Если представить себе разговор не о любовно-семейных делах, а о футболе или технике, вполне возможно, что мужская речь окажется более беглой, чем женская.
Гендерные стереотипы относительно мужских и женских качеств действуют как самореализующиеся предсказания: если девочка заранее знает, что не может достичь успеха в математике, а мальчик – что ему не обязательно быть грамотным, они не будут выбирать соответствующие занятия. Исследования мотивации (Wigfield et al., 2006) не только подтверждают эту теорию, но и объясняют живучесть некоторых профессиональных гендерных различий.
Несмотря на все усилия учителей и свои собственные достижения, женщины сравнительно слабо представлены в технике, физике, прикладной математике, а также на высших уровнях почти всех остальных областей знания. В чем тут дело – в недостатке когнитивных способностей, нечестной конкуренции со стороны мужчин, неразвитости потребности в достижении или в чем-то еще?
В свете теории ожидаемой ценности (expectancy-value) люди наиболее склонны выбирать такую карьеру или такое образование, в которых, как им кажется, у них больше шансов преуспеть и которые имеют для них высокую предметную ценность. Ожидания успеха зависят от того, насколько индивид уверен в своих интеллектуальных способностях, и от того, как он оценивает степень трудности соответствующего предмета или деятельности. Эти убеждения формируются личным опытом индивида в данной области (например, занимался ли он математикой), его субъективной интерпретацией этого опыта (например, считает ли он свой успех следствием своих высоких способностей или приложенных усилий), а также социокультурными стереотипами относительно трудности этого предмета и распределения соответствующих талантов в разных подгруппах населения. Ценность конкретного предмета зависит также от других факторов: насколько ребенку нравится изучаемый материал, как этот предмет вписывается в его образ «Я», жизненные цели и ценности, отвечает ли он его долгосрочным и краткосрочным целям и что ему советуют на сей счет его родители и наставники.
Эмпирические данные подтверждают, что дифференцированная гендерно-ролевая социализация и сопутствующая ей интернализация (усвоение) соответствующих ценностей способствуют сохранению и воспроизводству гендерных различий. Мальчику нет смысла заниматься «девчоночьим» предметом или таким, к которому у него нет способностей (а как это узнать, если он этим предметом не занимался?), или если предмет слишком труден, а потраченные на него усилия социально и морально не вознаграждаются (например, если гуманитарные профессии оплачиваются ниже, чем инженерно-физические). Эти мотивационные различия статистически больше и практически важнее предполагаемых имманентных, от Бога или от природы, мужских и женских способностей, наличие и величина которых большей частью остаются проблематичными (несмотря на прокрустово ложе гендерных стереотипов, конкретные мужчины и женщины всегда были разными). Поэтому некоторые психологи полагают, что в теоретических и, тем более, в практических социально-педагогических целях надежнее опираться не на сложные тестовые показатели, а на более приземленные индикаторы вроде направленности интересов.
Как указывает Ричард Липпа, наибольшая гендерная разница, и среди детей, и среди взрослых, существует не в сфере общих когнитивных способностей, а в направленности интересов, выборе предпочитаемых игр и повседневных занятий (покупка одежды, посещение спортивных зрелищ, участие в спортивных играх и т. п.), а позже – в выборе профессии и требованиях, предъявляемых к своим занятиям. Метаанализ шести проведенных за последние 40 лет голландских исследований, совокупным объектом которых было свыше 14 000 мужчин и женщин, начиная со старшего школьного возраста, показал удивительную стабильность гендерных различий в этом вопросе (Lippa, 1998, 2001). То же продемонстрировал и метаанализ 242 отдельных выборок (их общий объем – 321 672 мужчин и мальчиков и 316 842 женщин и девочек) в США с 1970 по 1998 год о наличии гендерных различий в свойствах предпочитаемой работы (Konrad et al., 2000). Хотя разница в предпочтениях мужчин и женщин невелика и многие свойства профессий стали для женщин в 1980—1990-х годах более значимыми, чем в 1970-х, что свидетельствует о повышении уровня женских притязаний, эти предпочтения большей частью совпадают с гендерными ролями и стереотипами.
Динамика образовательной и трудовой деятельности молодежи в 12 «старых» странах Евросоюза зависит как от гендера, так и от социального происхождения, которое определяется образовательным уровнем родителей. Но уровень полученного образования теснее связан с социальным происхождением (дети более образованных родителей, независимо от своего пола, имеют более высокое образование), тогда как гендер сильнее влияет на выбор специальности. Интересно, что степень влияния этих факторов неодинакова в разных странах. Гендерная дифференциация на рынке труда зависит от общественного строя, поэтому она сильнее выражена в консервативных и семейно-ориентированных странах. Социальное неравенство в образовании и на рынке рабочей силы меньше выражено в Финляндии и Швеции вследствие меньшей дифференцированности их образовательных систем, массовости высшего образования и социал-демократической политики «всеобщего благоденствия». Напротив, в странах Восточной Европы социальное неравенство выражено сильно, отчасти из-за их высокодифференцированных образовательных систем, но прежде всего – из-за трудностей, связанных с преобразованием коммунистических режимов (Iannelli, Smyth, 2008).
Из этих фактов вытекают важные социально-политические выводы. То, что сегодняшние мужчины и женщины предпочитают одни интересы или занятия другим, вовсе не означает, что так было, есть и будет всегда, что такова «природа» мужских (женских) способностей. Но вряд ли есть основания для того, чтобы пренебрежительно третировать все эти исторические константы как простые пережитки «патриархатного» прошлого и добиваться их преодоления любой ценой.
Мужчины и женщины могут быть одинаково успешными в самых разных сферах жизнедеятельности и имеют право выбирать себе занятия в соответствии со своими индивидуальными пристрастиями. Навязывать мальчикам «мальчиковое», а девочкам «девочковое» или, наоборот, противиться их гендерно-специфическим наклонностям – социально неконструктивно и педагогически бессмысленно. Сохранится ли в будущем гендерное разделение труда и какое именно – решит история. Задача и родителей, и воспитателей – дать детям возможность свободного выбора.
2. Агрессивность и соревновательность
Только тот, кто готов пойти на чрезмерный риск, узнает, как далеко вообще он может зайти.
Томас ЭлиотХарактерные черты гегемонной маскулинности – высокая соревновательность, агрессивность, стремление к достижению, любовь к новизне и риску, «крутизна» – являются нормативными, базовыми для любой мужской культуры. А как обстоит дело со среднестатистическим мужчиной? Насколько распространены среди мужчин эти качества, как они сочетаются друг с другом и проявляются в разных социальных контекстах?
Согласно метаанализам, гендерные различия в агрессивности реально существуют, но большей частью являются умеренными, средними (Hyde, 2005), многое зависит от характера оцениваемого поведения и социального контекста. Черты личности и свойства ее поведения далеко не одно и то же.
Соревновательность и агрессивность тесно связаны с эмоциональным миром личности, который описывается множеством разных, сплошь и рядом не соподчиненных друг с другом понятий: чувства, эмоции, эмоциональная реактивность, эмоциональность, регулирование эмоций (эмоциональный самоконтроль), эмоциональная культура, эмоциональная компетентность, эмоциональная коммуникация и даже «эмоциональный интеллект». В общей сложности, психологи насчитали 412 отдельных эмоций. Иногда эмоциональные реакции подразделяют на первичные и вторичные (Greenberg, Safran, 1987). Первичные – это непосредственные эмоциональные реакции (такие, как страх, гнев или печаль), вызываемые конкретной причиной (например, физической угрозой собственной безопасности или потерей любимого) и измеряемые силой реакции (например, интенсивностью или частотой переживания чувства). Вторичные реакции – это индивидуально выработанные реакции на переживание первичных эмоций (например, боязнь испытывать страх или чувство тревоги по поводу переживаемого гнева).
Половые/гендерные различия существуют на обоих уровнях, начиная с психофизиологии и степени выразительности лица и кончая способностью расшифровывать эмоциональное выражение других людей и описывать собственные переживаний. Поскольку мужчины реже женщин выражают свои эмоции, хуже расшифровывают выражение лица других людей и реже сообщают о своих отрицательных эмоциональных переживаниях, их считают менее эмоциональными, чем женщины. При национальном опросе ФОМ «Чувства и эмоции в нашей жизни» (июнь 2007 г.) на вопрос «Скажите, пожалуйста, вы считаете себя эмоциональным или неэмоциональным человеком?» эмоциональными признали себя 57 % российских мужчин и 69 % женщин. На вопрос «Скажите, пожалуйста, а вам обычно легко или трудно сдержать, скрыть свои эмоции?» вариант «трудно» выбрали 27 % мужчин и 37 % женщин (Вовк, 2007б).
Особенно велики различия в переживании и передаче более тонких вторичных эмоций. Женщины чаще мужчин выражают чувства грусти, страха, стыда и вины, тогда как мужчины больше сообщают о переживаниях, связанных с властью (например, гнев). Сравнение данных по 37 странам показало, что эти различия культурно универсальны (Fisher et al., 2004).
У мужчин и женщин разная эмоциональная память. Ученые из Стэнфордского университета сканировали мозг 12 мужчин и 12 женщин в то время, когда им показывали серию из 96 образов, из которых одни были нейтральными, скучными, а другие эмоционально-заряженными, вызывающими тревогу. Три недели спустя испытуемым показали те же самые образы плюс 48 новых и предложили вспомнить, какие из этих 144 картинок им уже знакомы. Оказалось, что скучные картинки мужчины и женщины запомнили одинаково, а эмоционально заряженные сцены женщины запомнили на 10–15 % лучше. Причем во время сканирования эмоционально заряженных образов у мужчин и женщин активизировались разные участки мозга, у женщин ярче светилась левая сторона мозга, а у мужчин – правая. Поскольку левая сторона мозга ассоциируется с речью, ученые предполагают, что просмотр эмоциональных сцен вызывал у испытуемых женщин внутренний диалог, что и способствовало лучшему запоминанию этих сцен (Canli et al., 2002). Позднейшие исследования эти выводы подтвердили.
Женщины лучше мужчин способны описывать свои личные воспоминания (Herlitz, Rehnman, 2007). Их воспоминания содержат больше конкретных эпизодов, связанных с человеческими взаимоотношениями. Это доказано большим популяционным исследованием взрослых (от 35 до 80 лет), которые должны были запомнить ранее предложенные им слова, предметы и действия. Женщины также во всех возрастах лучше мужчин распознают лица (Lewin, Herlitz, 2002; Lewin, Wolgers, Herlitz, 2001). Эти различия проявляются в мужских и женских дневниках и автобиографиях (см.: Пушкарева, 2007), косвенно подтверждая гипотезу Ричарда Липпы, что женщины больше ориентируются на людей, чем на вещи.
Различия мужской и женской эмоциональности связаны с особенностями мужского и женского стиля мышления. По мнению кембриджского психолога Саймона Бэрон-Коена (Baron-Cohen 2003), у женщин лучше развита эмпатия, то есть способность непосредственного вчувствования в чужие эмоциональные переживания (мозг типа E), тогда как мужчины являются скорее систематизаторами, их мозг (мозг типа S) запрограммирован на то, чтобы исследовать законы функционирования вещей (это близко к тому, что было сказано выше об экспрессивности и инструментальности и об особенностях мужских и женских хобби и интересов). Среди обследованных в лаборатории Бэрон-Коена людей типично «женский», «эмпатизирующий» мозг типа E проявили 44 % женщин и 17 % мужчин, а типично «мужской», «систематизирующий» мозг типа S – 54 % мужчин и 17 % женщин. Однако эти свойства не являются взаимоисключающими, существует значительное число обладателей и обладательниц «сбалансированного» мозга (мозг типа B), которые одинаково хорошо (или одинаково плохо) справляются с обоими типами задач. Кроме того, в основе этой дифференциации могут лежать не имманентные свойства «мужского» и «женского» мозга, предположительно уходящие своими корнями в эволюционную биологию, а особенности индивидуального развития и те нормы, которые общество предписывает мальчикам и девочкам.
Сила и способы проявления эмоциональной реакции зависят от социальной ситуации, которая часто имеет для мужчин и женщин разное значение. В отличие от психофизиологов, говорящих о пониженной эмоциональности мужчин, социальные психологи склонны думать, что «мужчины так же эмоциональны, как женщины, но их эмоции возникают в несколько ином контексте, как функция социальных процессов, которые они переживают в этих контекстах» (Larson, Pleck, 1999. P. 27). Недаром результаты экспериментальных исследований зачастую противоречивы.
Например, в исследованиях, основанных на словесных самоотчетах, женщины выглядят более тревожными и чаще испытывающими страх, чем мужчины, тогда как объективное, с помощью кожно-гальванической реакции, измерение эмоциональных реакций мужчин и женщин в стрессовых ситуациях показывает, что гендерные различия невелики. Сопоставляя эти факты с тем, что традиционная мужская роль запрещает мальчику (мужчине) испытывать страх, психологи предполагают, что мальчики просто подавляют или утаивают часть своих, не соответствующих канону маскулинности, чувств и переживаний, о которых женщины говорят открыто. Недаром мужчины имеют в этих вопросах более высокие показатели по контрольным шкалам «лжи» и «психологической защиты».
Экспериментальные исследования на довольно больших выборках (Jakupcak et al., 2003) показывают, что эмоциональные реакции мужчин сильно зависят от идеологии маскулинности. Мужчины, придерживающиеся менее традиционной идеологии, переживают первичные эмоции гораздо интенсивнее, чем те, кто считает, что мужчина всегда должен держать себя в руках. Жесткая маскулинная идеология побуждает бояться не только таких специфически «немужественных» чувств, как страх, тревога или нежность, но и любых аффективных состояний, которые ассоциируются с потерей самообладания. Подавление и скрывание эмоций – элемент стратегии сохранения контроля над своими переживаниями и опытом (Timmers, Fischer, Manstead, 2003).
Нормативные запреты и нежелание выглядеть слабым, немужественным блокирует выражение чувств у мужчин, которые рассматривают любые неконтролируемые эмоции как признак зависимого, подчиненного статуса. Недаром в нормативных определениях маскулинности часто педалируется эмоциональная невыразительность, за исключением чувства гнева как признака необходимой воину или борцу агрессивности и одновременно – средства устрашения врага. Хотя это кажется всего лишь «правилом дисплея», «выражение» и «переживание» взаимосвязаны.
Для понимания этих тонких переходов структурный анализ индивидуальных различий между мужчинами и женщинами (gender-as-difference) дополняется процессуальным анализом межличностных взаимоотношений (gender-as-process), причем общение мужчин друг с другом, особенно на работе, рассматривается отдельно от общения мужчин с женщинами, прежде всего в семье. Чтобы зафиксировать спонтанно возникающие, неконтролируемые эмоции, психологи применили такой метод. Испытуемые постоянно носили пейджер, в определенное время суток им звонили и просили сообщить их эмоциональное состояние в данный момент (непосредственный отчет дает меньше искажений, чем ретроспективные самоотчеты). Хотя разница между мальчиками-подростками и девочками-подростками при описании своих эмоциональных состояний оказалась меньше, чем между взрослыми мужчинами и женщинами, гендерные различия были значительными. Мальчики реже девочек сообщали о положительных эмоциях (чувство радости, возбуждения) и значительно чаще – о чувстве тревоги и беспокойства. В то же время мальчики, как и взрослые мужчины, чаще девочек осознавали себя сильными и соревновательными(Larson, Pleck, 1999).
Степень психологических гендерных различий зависит не только от типа индивидуальности (одни люди склонны к тревоге и депрессии, а другие – нет), но и от социального контекста – с кем и по какому поводу индивид в данный момент взаимодействует. Отношения между мужчинами на работе в основном безличны и соревновательны, между ними редко возникают нежные чувства. В домашней среде, с женщинами и детьми характер общения другой, вместе с ним изменяются и мужские чувства. Как полагают Ларсон и Плек, у мужчин и женщин не столько разная эмоциональная реактивность, сколько разная эмоциональная культура: от мужчин требуется максимум самоконтроля и сдержанности, тогда как у женщин проявление чувств допускается и предполагается. Соответствующие навыки вырабатываются в детстве, в процессе общения детей друг с другом, которое чаще всего происходит в условиях гендерной сегрегации. Позже, когда мальчики и девочки начинают интенсивно интересоваться друг другом, ранее выработанные ими качества зачастую оказываются дисфункциональными, но изменить сложившуюся систему самоконтроля уже сложно.
Впрочем, как и во всякой другой деятельности, здесь существуют большие внутригендерные социальные вариации. Например, доказано, что женщины, занятые в сфере соревновательного индивидуализма (бизнес, соревновательный спорт), и мужчины, задействованные в сфере межличностных отношений и взаимной поддержки, становятся более похожими друг на друга, чем те, кто живет в более традиционной культуре.
Все это необходимо иметь в виду, говоря о мужской агрессии. В массовой литературе мнения на сей счет часто бывают полярными. Одни авторы утверждают, что мужчины самой природой предназначены быть насильниками и агрессорами, потому что агрессивное поведение детерминируется и стимулируется тестостероном, а любые попытки его модификации эквивалентны кастрации или психологической девирилизации мужчин. Другие, напротив, считают мужскую агрессивность исключительно следствием неправильного воспитания мальчиков. По мнению автора популярной американской книги «Мальчики останутся мальчиками. Как разорвать связь между маскулинностью и насилием» (Miedzian, 1991), спасти человечество от мужской агрессивности можно лишь путем радикального изменения воспитания мальчиков, которых нужно с раннего детства готовить к отцовству и учить мирно разрешать конфликты. За поведением взрослых мужчин также нужен контроль. Следует запретить все виды агрессивных спортивных игр, включая футбол и бокс, дети должны смотреть по ТВ только специальные программы, без агрессии и секса, подросткам не следует продавать диски хэви-металл и т. д.
Впрочем, крайние точки зрения редко подтверждаются. Прежде всего, сами понятия агрессии и агрессивности многозначны (Бэрон, Ричардсон, 1997; Берковиц, 2001; Реан, 2001 и др.). В общем виде, агрессивными называются действия, умышленно направленные на причинение вреда кому-либо другому (или самому себе). По способу действия психологи различают агрессию физическую и вербальную, активную и пассивную, прямую и косвенную, а по мотивации – враждебную (когда главной целью является причинение вреда жертве) и инструментальную (когда агрессия является не самоцелью, а только средством достижения каких-то других целей, например достижения господства, власти и т. п.). Не совпадают и понятия агрессии и насилия (violence), причем оба эти явления могут быть как анти-, так и просоциальными. Инструментальная агрессия легко смешивается с потребностью в достижении, высокой соревновательностью, предприимчивостью, готовностью и умением отстаивать свои интересы, стремлением к власти и т. п. Вероятность сочетания этих мотивов или реализации их с помощью насильственных методов зависит, с одной стороны, от принятых в обществе методов разрешения конфликтов и распространенности в нем «культуры насилия», а с другой – от индивидуальных особенностей личности.
В разговорах о человеческой агрессивности часто используются аналогии с поведением животных. О повышенной (по сравнению с самками) драчливости и агрессивности самцов существует огромная этологическая литература, начиная с классических работ Конрада Лоренца. Между поведением доминантного Альфа-самца, пахана преступной шайки и авторитарного политического лидера действительно много общего (Дольник, 2007; Протопопов). Но при всей эвристической ценности таких сравнений следует учитывать, что формы и характер внутригруппового насилия – против кого оно направлено, в чем оно проявляется и как поддерживается – зависят от особенностей видового образа жизни и даже отдельно взятой популяции животных. Этой темой серьезно занимаются этологи и приматологи. Изучение агрессивности как проявления индивидуального состояния индивида (индивидуальная модель) дополняется и отчасти заменяется при этом пониманием агрессии как производной конфликта интересов и одного из способов социального решения конфликта (модель отношений) (см. об этом подробнее: Агрессия и мирное сосуществование, 2006).
Кровожадные самцы. Материал к размышлению
Одно из интереснейших свидетельств этого – книга известного приматолога, профессора биологической антропологии Гарвардского университета Ричарда Рэнгэма и журналиста Дейла Петерсона «Дьявольские самцы» (Wrangham, Peterson, 1996). В этой занимательной книге, получившей высокую оценку специалистов, приводятся многочисленные факты самцовой жестокости и агрессивности, причем именно эти малосимпатичные свойства обеспечивают самцам высокий ранг и господствующее положение в стаде, а тем самым – возможность передать свои гены потомству. Резко критикуя созданный некоторыми антропологами миф об изначальном миролюбии древнего человека, авторы показывают, что вся история человечества – история войн с себе подобными.
Обобщив статистические данные по 90 обществам, Кэрол и Мелвин Эмбер (Ember К., Ember М., 1994) нашли, что лишь 8 из них находились в состоянии войны реже, чем раз в десять лет. Уже древнейшие охотники-собиратели постоянно враждовали с соседними племенами. Из 31 общества этого типа, по которым есть достоверные данные, 64 % пребывали в состоянии войны как минимум раз в два года, 26 % воевали реже и лишь 10 % не воевали вообще или делали это редко. Все развитые древние цивилизации, будь то ацтеки, майя или римляне, только и делают, что воюют, безжалостно убивают чужих мужчин, насилуют женщин и т. п. Необходимость защиты и расширения своей территории делает агрессивными даже относительно миролюбивые племена. Территориальный императив порождает патриотизм, а патриотизм порождает агрессию. Создание военных группировок, защита территории и собственность на женщин – типично мужское поведение. Многие великие полководцы и императоры имели огромные гаремы, сотни жен и наложниц. Это не просто феномен культуры, а эволюционная константа, возникшая задолго для появления homo sapience.
Рэнгэм и Петерсон подчеркивают, что говорить о самцовой агрессивности «вообще» нельзя, необходимо строго разграничивать отношения а) между самцами и б) между самцами и самками. Хотя у большинства видов самцы крупнее и физически сильнее самок, явного соперничества и драк между самцами и самками, как правило, не бывает, потому что их главные социальные функции и роли распределены биологически. Избиение самки самцом чаще всего связано с нарушением самкой норм «супружеской верности» и иерархических отношений, что происходит довольно часто, или с повышенной индивидуальной жестокостью самца. Зато драки между самцами или группами самцов, прежде всего (но не только) из-за самок – явление практически всеобщее. В большинстве случаев потенциального соперника просто прогоняют, внутривидовые убийства редки (исключение составляют львы, волки и гиены). Зато убийство чужих детенышей встречается часто, у некоторых видов, например у львов, это обязательное правило и необходимое условие репродуктивного успеха самца. Нередки также драки между стаями и внутри одной и той же стаи. Наиболее драчливыми при этом оказываются особи, которым принадлежит власть в данном животном сообществе. Например, у гиен вожаками бывают самки, и они значительно агрессивнее самцов (высокий статус надо сначала завоевать, а потом поддерживать в борьбе с конкурентами).
Ученые подробно описывают взаимоотношения и способы проявления агрессии у разных видов приматов (часть этих наблюдений снята на кинопленку, эти фильмы периодически показывают по нашему телевидению, особенно на канале «Культура»), причем все они выглядят не слишком миролюбивыми. Например, орангутаны очень ласковы и избирательны в своих взаимоотношениях друг с другом и часто проявляют взаимную нежность, в том числе при спаривании. Однако большие и сильные самцы нередко бьют и унижают маленьких. Принуждение имеет место и в сексуальных отношениях. Из 179 спариваний, которые ученые наблюдали в юго-восточном Борнео, 88 % проходили с применением принуждения и силы.
Живущие стабильными семьями гориллы, как правило, весьма миролюбивы и нежны друг с другом, тем не менее самцы горилл нередко убивают чужих детенышей.
Особенно подробно описаны социальные отношения шимпанзе. Внутригрупповое соперничество и драки у шимпанзе происходят не столько непосредственно из-за самок, сколько за статус. Агрессивность помогает самцу занять почетное место в иерархии. Как и у многих других животных, у шимпанзе существует особый дисплей угрозы. Побежденный должен признать свое поражение, приняв позу подчинения или звуковым сигналом. Как только альфа-самец получает признание в качестве вожака, его внешние проявления агрессивности уменьшаются, они больше не нужны, статус установлен, теперь его нужно лишь поддерживать. Но без демонстрации превосходства в силе это невозможно. Сходное соревнование развертывается и внутри группы самок, где также есть своя иерархия.
Сильные и агрессивные самцы находят поддержку у самок, которые предпочитают их другим самцам. Связь с высокоранговым самцом обеспечивает самкам и их детенышам защиту от других самцов и дает репродуктивные преимущества их сыновьям. В основе этих предпочтений лежит не индивидуальный вкус, а репродуктивный выбор. Многие самки шимпанзе, как и жены богатых и могущественных мужчин, возможно, предпочли бы других, более мягких и ласковых партнеров, но у них нет свободы выбора, кроме эпизодических измен, когда «хозяин» не видит, что происходит очень часто.
Наряду с внутригрупповым соперничеством, существует межгрупповая конкуренция. Шимпанзе не только защищают свою территорию, но и нападают на соседей, совершая рейды в чужие владения и организуя для этого специальные самцовые группы. Самцы быстрее двигаются и меньше устают, им не нужно носить с собой детенышей, а широкие плечи и сильные руки позволяют им хорошо драться. Жертвами этой агрессии бывают особи любого пола и возраста, но наибольшему риску подвергаются взрослые самцы и детеныши, а наименьшему – готовые к спариванию самки. Эти набеги осуществляются не в поисках пропитания или вследствие дефицита ресурсов, а скорее являются проявлением дисбаланса власти в стаде, это часть выработанной самцами поведенческой стратегии. (Watts et al., 2006). Такие же набеги на соседей устраивают паукообразные обезьяны. Их рейды не похожи на поиски пищи, они тщательно готовятся, предполагают высокую сплоченность самцовой группы и направлены на причинение физического вреда попавшемуся потенциальному сопернику (Aureli et al., 2006). Инфантицид (детоубийство) и каннибализм практикуются и внутри собственной общины шимпанзе, так что самкам с детенышами приходится быть настороже. Причины этого явления пока неясны (Watts, Mitani, 2000).
Единственный вид приматов, у которых практически нет агрессии и насилия, это карликовые шимпанзе бонобо.
29-килограммовая самка и 40-килограммовый самец бонобо – стройные, изящные и миролюбивые животные. Отсутствие в стаде институционализированного насилия обеспечивается прежде всего половым равенством. Самцы бонобо не имеют власти над самками и спариваются с ними только по взаимному согласию. Хотя в стаде бонобо существует определенная иерархия, ранг особи определяется не ее полом, а индивидуальными свойствами, происхождением и социальными связями – кто готов тебе помочь.
Вот конкретный пример. Уде был второранговым самцом, а Аки – одной из самых высокоранговых и влиятельных самок в стаде. Сын-подросток Аки стал задирать старших самцов, включая Уде. Миролюбивый Уде сначала не обращал на него внимания, но когда мальчишка совсем обнаглел, решил его побить. Однако на помощь сыну тут же прибежала его мать и ее подруги. Уде пришлось бежать, в результате чего он навсегда «потерял лицо» и даже через 10 лет после этого случая был вынужден при встречах с сыном Аки принимать подчиненную позу. То есть материнская поддержка повысила групповой статус юного хулигана.
Чем объясняется такое влияние самок? Во-первых, связь между матерью и сыном у бонобо теснее, чем между самцами и самками. Во-вторых, у них существуют тесные связи между самками, коалиции, имеющие сексуальный характер. Взрослые самки бонобо часто вступают в дружеские отношения с девочками-подростками, причем они занимаются взаимной стимуляцией гениталий. Такие отношения продолжаются в течение нескольких месяцев, создавая между двумя самками тесную эмоциональную привязанность, которая сохраняется всю жизнь, не препятствуя спариванию с самцами. Такая социальная структура позволяет самкам сообща подавлять агрессивные действия самцов, делая тех более миролюбивыми.
В отношениях между самцами бонобо агрессия обычно имеет демонстративный характер, не доходя до драки, и чаще всего разрешается путем добровольного спаривания в самых разных позициях. Сексуальный контакт без различия пола служит универсальным средством примирения после ссоры, разрядки эмоциональной напряженности и т. п. Я видел это своими глазами не только в научно-популярных фильмах, но и в зоопарках Берлина и Сан-Диего. Кроме того, самки бонобо не имеют специфического запаха, который сигнализирует приближение готовности к овуляции и тем самым активизирует соперничество между самцами. Самцы бонобо не знают, какая самка готова к оплодотворению, их сексуальная активность практически не связана с репродукцией. «Они могут спариваться много раз в день; самцы и самки активно занимаются гетеросексуальным и гомосексуальным сексом; они манипулируют гениталиями друг друга руками и ртом: они используют внушительное разнообразие копулятивных позиций; их гениталии, как у самцов, так и самок, пропроционально больше, чем у людей, и они начинают заниматься сексом задолго до полового созревания – приблизительно с годовалого возраста» (Wrangham, Peterson. 1996. С. 213).
«Сексуальная терпимость» проявляется и вовне. Встречаясь с особями из соседних групп, бонобо не проявляют агрессии, а стараются вступить с ними в дружеские отношения. Разведчиками и парламентерами у них бывают не самцы, а самки, которые сразу же предлагают соседям, будь то самцы или самки, вступить с ними в сексуальный контакт. Самцы же спокойно смотрят, как «их» самки спариваются с чужаками обоего пола.
Бонобо не являются вегетарианцами, они любят мясо и вполне могут убить и съесть маленьких детенышей антилопы или белки летяги, но они никогда не едят других обезьян, воспринимая их не как добычу, а как игрушку или потенциального партнера по игре. Описан случай, когда молодой самец бонобо до смерти замучил маленькую обезьянку другого вида, но сделал это явно неумышленно, просто его игровые приемы оказались для маленькой обезьянки слишком грубыми.
Нет ли в этой картине идеализации бонобо и преувеличения «миротворческой» роли сексуальных контактов? Мнения приматологов на сей счет расходятся. Самый известный специалист по бонобо Франс де Вааль (de Waal, 1997, 1998) разделяет точку зрения Рэнгэма, но некоторые другие исследователи считают, что у нас слишком мало данных о поведении бонобо в естественной среде, а не в неволе. Недавно этот спор вышел за рамки академической науки. Летом 2007 г. журнал «New Yorker» опубликовал статью журналиста Яна Паркера, который, ссылаясь на интервью с работающим в Конго немецким приматологом Готфридом Хоманном, утверждает, что бонобо – такие же кровавые убийцы, как и шимпанзе (Parker, 2007). Де Вааль эти соображения опровергает (de Waal, 2007), и известный канадский приматолог Пол Вейзи с ним согласен. Однако другой авторитетный приматолог, Ким Уоллен из университета Эмори (обмен мнениями состоялся в январе 2008 г. на сексологическом сайте Sexnet), считает, что для сравнения сексуального поведения бонобо и шимпанзе пока что нет достаточно надежных данных. В любом случае, ученые предостерегают против политических спекуляций и переноса на животных современных идеологических споров.
О том, что агрессивность самцов приматов не столь фатальна, как кажется, говорят и наблюдения за дикими бабуинами (Sapolsky, Share, 2004). Самцы бабуинов обычно крайне агрессивны. Стэнфордские приматологи много лет (с 1978 до 1986 и затем после 1993 года) наблюдали в Кении за живущим недалеко от туристического кемпинга стадом бабуинов, которое она назвали лесным стадом. Как и в других колониях бабуинов, в лесном стаде всем заправляли свирепые, агрессивные самцы. Их самой лакомой пищей было содержимое помойки рядом с близлежащим гостиничным комплексом. Самок и подчиненных самцов они к ней не подпускали. Но в 1983 г на свалку вывезли инфицированное мясо, все доминантные самцы (46 % всех самцов) заразились бычьим туберкулезом и в течение трех месяцев вымерли. В результате в стае, во-первых, изменилось соотношение самцов и самок, а во-вторых, выжили только неагрессивные самцы.
И что же, популяция погибла? Ничего подобного. Оставшись без вожаков, бабуины самоорганизовались иначе, создав социальную структуру, в которой не стало насилия по отношению к слабым. Иерархические отношения и лидерство в стае не исчезли, но стали более мягкими. Менее агрессивные самцы, получив возможность самореализации, стали проявлять больше внимания друг другу, чаще заниматься грумингом, мирно общаться. То есть у них сформировалась новая культура, которая сохранилась даже двадцать лет спустя, когда первоначальные члены стада вымерли. Не только детеныши воспитывались в новом духе, но вновь прибывшим бабуинам давали понять, что здесь драться не принято, и те принимали эти правила. Долго ли просуществует эта новая культура, особенно если пришельцев станет много или если изменившаяся экология сделает соперничество за ресурсы более жестким, никто не знает. Эта история имеет сугубо академический характер. Частный случай сам по себе не опровергает общего правила, но дает пищу для размышлений. Если даже у бабуинов агрессивность зависит не только от уровня гормонов, но и от образа жизни и особенностей социализации, стоит ли нам беспомощно разводить руками перед лицом мальчишеской агрессивности только потому, что «мальчики всегда остаются мальчиками»?
Некоторые антропологи считают, что традиционное для приматологии преимущественное внимание к соревновательности и агрессии в ущерб кооперативному и аффилиативному (связанному с принадлежностью к группе) поведению односторонне. Кооперативное поведение (сотрудничество) у всех видов приматов встречается чаще агонистического (соревновательного). Чтобы понять природу социального поведения приматов, нужно учитывать контекст, функции и тактику аффилиативного и соревновательного поведения. Количественный анализ данных 81 исследования, объектами которых были животные 28 родов и 60 обезьяноподобных видов, показал, что живущие группами обезьяны обычно посвящают активному взаимодействию друг с другом меньше 10 % всех своих активных интеракций, а на долю соревновательного поведения приходится меньше 1 % всех активных интеракций. Аффилиативное поведение (тот же груминг) встречается чаще. Причем соотношение того и другого зависит от того, как и насколько такое поведение вознаграждается (Sussman et al., 2005).
Короче говоря, современная этология и приматология рисуют гораздо более сложную и нюансированную картину «самцовой агрессивности», чем та, которая господствовала в недалеком прошлом.
Сходства в поведении самцов приматов и молодых мужчин настолько велики, что в антропологической литературе, как я уже говорил, существует даже понятие «синдром молодого самца» (Daly, Wilson, 1994), свойства которого более или менее одинаковы у людей и у многих видов животных.
Однако слишком широкие обобщения и прогнозы, основанные исключительно на аналогиях, порой скорее запутывают, чем проясняют проблему. В одном случае за «самцовой агрессивностью» скрывается гиперактивность и повышенная импульсивность, в другом – доминантность и борьба за социальный статус, а в третьем – просто отсутствие навыков разрешения конфликтов. Соответственно и гендерные различия могут быть как количественными, так и качественными.
Очень многие проявления мужской агрессии связаны с символической культурой общества. Характерная черта всякой мужской культуры – силовые соревнования и драки, причем не только с чужими, но и среди своих. В мужских развлечениях всегда присутствует «силовая» составляющая, причем и «победа», и «сила» понимаются не только как физическое, но и как моральное превосходство над соперником. С этим связана особая жесткость мужских игр и особенно наказаний в них. Мужская силовая игра предполагает выход за рамки обыденности, проникновение в чужое, опасное «пространство риска», а мужское соперничество часто описывается в сексуальных терминах или имеет какие-то скрытые сексуальные компоненты. Нужно подмять соперника, «опустить» его, заставить просить о пощаде, отказаться от своего мужского достоинства. Иногда весь смысл игры заключается именно в наказании проигравшего, которого ставят в смешное, унизительное положение (Морозов, Слепцова, 2001).
Драки и соревнования, победа в которых определяет ранг отдельного мужчины или мужского сообщества, могут быть как индивидуальными (поединок), так и групповыми, они большей частью рассчитаны не только на самих участников, но и на зрителей, то есть являются зрелищем (Морозов, 1998). Ритуальный характер драки и отсутствие личных счетов между драчунами не делает драку менее опасной, жестокой, подчас даже смертоубийственной. Этнография русской деревни полна описанием таких, казалось бы, бессмысленных драк, которые людям кажутся совершенно нормальными и неустранимыми:
«Без драки какой праздник?! Какой праздник, если двух покойников нету?! Это уже за праздник не считали. Эти драки испокон веков».
«Не праздник, чтобы человека не убить. Что за праздник – никого не зарезали, никому ножом не ткнули?!» (Попова, Мехнецов, 2007. С. 148).
Деревенские кулачные бои «стенка на стенку» по территориальному признаку (например, правобережные против левобережных) продолжаются и в городской среде: один двор против другого или Петроградская сторона против Выборгской (такие побоища часто происходили в послевоенном Ленинграде). Современный эквивалент этого – драки футбольных болельщиков. Такая агрессия не носит личного характера, это, прежде всего, способ конструирования маскулинности и поддержания соответствующего социального статуса.
Вместе с тем мужская импульсивность, несдержанность и агрессивность определенно имеют свои биологические предпосылки. Ведущая роль в этом принадлежит мужским половым гормонам (андрогенам), особенно тестостерону.
Тестостерон, агрессия и соревновательность
Тестостерон (от лат. testis – яички и греч. stereo – делаю сильным, укрепляю) – главный мужской гормон. В целом, андрогены способствуют синтезу протеинов, от чего зависит масса тела, а также росту тканей, имеющих андрогенные рецепторы. Тестостерон (Т) производит два вида эффектов, разграничение которых довольно условно, но иногда весьма существенно. Анаболический эффект Т состоит в том, что он способствует росту мускульной массы и силы, увеличивает плотность костей и способствует их росту. Вирилизирующий эффект Т в том, что он обеспечивает созревание половых органов, особенно пениса и мошонки, а затем, в период пубертата – появление вторичных половых признаков (ломку голоса, появление лицевых и подмышечных волос и т. п.). У взрослых (больше у мужчин, чем у женщин) Т способствует сохранению мускульной массы и силы, плотности и силы костей, поддержанию полового влечения, умственной и физической энергии. Некоторые из этих эффектов с возрастом снижаются.
Вопрос об искусственном повышении уровня Т очень сложен. Опыты на животных показывают, что Т сильно влияет на агрессивность, сексуальное поведение, тревожность, обучаемость, а также на те отделы мозга и нейротрансмиттеры, от которых зависят соответствующие реакции. У человека повышение уровня Т может вызывать серьезные психические нарушения, включая депрессию, психозы и агрессию. Увеличение Т в большинстве случаев понижает умственные способности – IQ. Причины этого неизвестны, но, по данным биохимиков (Estrada et al., 2008) из Йельского университета, высокая концентрация Т приводит даже к саморазрушению клеток мозга. Т является одним из анаболических стероидов, ускоряющих синтез протеина в мышцах, что повышает их силу и выносливость. Поэтому он относится к категории запрещенного допинга. К тому же искусственное повышение Т вредно сказывается на здоровье спортсменов, особенно на их сексуальности (хотя нормальная секреция Т – необходимая предпосылка сексуального желания и активности).
Наличие связи между секрецией Т и агрессивным поведением животных у ученых сомнений не вызывает, это доказано как корреляционными, так и экспериментальными исследованиями. У людей, по данным метаанализов (Archer et al., 2005), положительная связь между Т и агрессией существует, но является довольно слабой; она немного выше у молодых (13–20 лет), чем у старших (старше 35 лет) испытуемых, но это верно только для мужчин.
Самый сложный вопрос: каково направление причинно-следственной связи? Доказано, что у животных уровень Т часто повышается вместе со статусом или успехом в конфликтной ситуации, но этот эффект зависит от множества ситуативных факторов: кто инициировал конфликт, каков социальный статус противников и т. п. (Virgin, Sapolsky, 1997). У людей механически «вывести» уровень агрессивности, доминантности и антисоциального поведения личности из уровня Т тем более невозможно (Kemper, 1990; Mazur, Booth, 1998). Во-первых, нужно различать базовый, более или менее постоянный для данного индивида уровень Т и временные, ситуативные флуктуации. Во-вторых, надо различать соревновательно-доминантное и агрессивно-насильственное поведение. В-третьих, между уровнем Т и социальным поведением существует сложная взаимосвязь.
В 1980—1990-х годах в мире было проведено множество исследований, доказывающих громадную роль Т. Сначала речь шла преимущественно об агрессивности и склонности к насилию. Замеры Т у 600 заключенных американских тюрем показали, что те, кто имел более высокий уровень Т, считались в тюрьме наиболее «крутыми», имели больше конфликтов с тюремной администрацией, а совершенные ими преступления чаще были насильственными. Проверка уголовного прошлого 4 462 ветеранов войны показала, что мужчины с высоким уровнем Т гораздо чаще имели конфликты с законом, применяли насилие, употребляли алкоголь и наркотики и имели больше сексуальных партнеров. Повышение Т делает молодых мужчин и женщин более агрессивными и одновременно сексуально возбудимыми. Уровни Т коррелируют с агрессивностью даже у 9—11-летних мальчиков.
Однако Т связан не только с агрессией, но и с соревновательностью. Замеры Т в ситуации соревнования (испытывались участники теннисных и борцовских соревнований, студенты-медики после экзамена, соискатели должностей после собеседования) показали, что у победителей уровень Т резко повышается, а у проигравших остается тем же или снижается. При этом ключевым фактором был не сам по себе Т, а достижение успеха: в результате переживания успеха секреция Т повышается, но предсказать по уровню Т, кто победит, невозможно. Непосредственно перед состязанием Т повышается у атлетов как предвосхищение соревнования, это делает индивида более способным к риску, улучшает его координацию, сосредоточенность и когнитивные действия. Через 1–2 часа после соревнования Т у победителей остается выше, чем у побежденных. На сей раз это связано с повышенным настроением, экстазом. Если атлет выиграл состязание без особых усилий, случайно, или если этот выигрыш для него не важен, повышение настроения, а вместе с ним и Т будет меньше. Забавно, что гормональные флуктуации иногда происходят не только у спортсменов, но и у зрителей. Например, после футбольного чемпионата на Кубок мира 1994 года, когда бразильцы победили итальянцев, у бразильских болельщиков, смотревших матч по ТВ, Т повысился, а у итальянских понизился.
Можно ли объяснить эти разнородные факты с точки зрения эволюционной биологии? Первоначально ученые интерпретировали связь Т и агрессивности у человека по аналогии с тем, что происходит у домашних мышей, у которых после полового созревания самцов влияние Т на агрессию систематически усиливается. Но «мышиная модель» оказалась не применимой к людям, потому что у пубертатных мальчиков повышения агрессивности не наблюдается. Тогда была предложена другая теоретическая модель, первоначально отработанная на моногамных птицах и получившая название «гипотезы вызова» (challenge hypothesis) (Wingfield et al., 1990), а затем усовершенствованная на опыте диких шимпанзе (Muller, Wrangham, 2004). Главные ее положения, если не вдаваться в специальные вопросы, сводятся к следующему (см.: Archer, 2006).
В отличие от того, что имело место в опытах с лабораторными мышами, взрослые уровни секреции Т, начинающиеся в период пубертата, не вызывают у мальчиков повышения агрессивности.
Взрослые мужчины проявляют повышенную чувствительность (сензитивность) к Т в разных ситуациях, включая а) половое возбуждение и б) соперничество с другими мужчинами. Присутствие сексуально привлекательной и предположительно доступной женщины повышает уровень Т, так же как и соревновательные ситуации между молодыми мужчинами. Это распространяется и на ситуации, которые молодой мужчина переживает как вызов своей чести или репутации. Во всех перечисленных случаях можно ожидать повышения Т.
В таких ситуациях можно ожидать и усиления агрессии, если провокация кажется существенной для репродуктивного соревнования. Этот вызов может быть как прямым, в виде спора из-за женщины или ее репутации, так и косвенным, в виде спора из-за ресурсов или статуса.
Таким образом, связь между Т, с одной стороны, и сексуальностью, агрессией и соревновательностью – с другой определенно существует. Недавние метаанализы показывают, что связь эта особенно сильна в криминальных популяциях и у молодых, 20—30-летних, людей; она сильнее проявляется в поведении, чем в самоотчетах. Интересно, что эта связь характерна не только для мужчин, она так же – и даже сильнее! – проявляется у женщин.
Важную роль при этом играют социальные и ситуативные факторы, от которых зависит мотивация испытуемых. Я уже говорил, что мужское соперничество и агрессия тесно связаны со статусными соображениями – желанием повысить свой статус или избежать его потери. Оскорбленное самолюбие провоцирует агрессию больше, чем что бы то ни было. Когда подростков спрашивают, что может их рассердить, чаще всего упоминаются оскорбление или поддразнивание. Законопослушные студенты колледжа чаще всего совершают в своем воображении убийства после того, как их кто-то унизит, а реальные уличные драки происходят в результате того, что одна сторона посягает на честь и статус другой. Умышленные ритуальные оскорбления, с которых начинается любая мальчишеская драка, показывают, что главное – не содержание спора, а имидж, специфическая «культура чести».
Чтобы выяснить, как «культура чести» влияет на психологические реакции и поведение современных молодых мужчин, ученые провели три эксперимента на белых студентах Мичиганского университета, одни из которых выросли на Севере, а другие – на более традиционном Юге США. Когда тайный сообщник экспериментатора толкал и словесно оскорблял их, называя «задницами», студенты-северяне не придавали этому особого значения и конфликт разрешался относительно мирно. Южане, напротив, были а) более склонны думать, что оскорбление угрожает их мужской репутации, б) больше озабочены происходящим (это проявлялось в повышении уровня секреции кортизона), в) более физиологически готовы к агрессии (у них повышался уровень Т), г) более когнитивно готовы к агрессии, как это принято в их среде, и д) более склонны предпринимать агрессивные действия. Этот эксперимент хорошо проясняет цикл «оскорбление – агрессия» в культурах чести, где считают, что оскорбление умаляет достоинство мужчины, и он пытается восстановить свой статус агрессивным или насильственным поведением (Cohen et al., 1996). Однако это верно только для тех мужчин, которые привыкли побеждать, у других мужчин Т не повышается (Flinn et al., 1998).
С позиций эволюционной биологии, колебания секреции Т должны иметь какой-то репродуктивный смысл и быть связаны с различием мужских и женских репродуктивных стратегий. Мужчины, вовлеченные в заботу о детях или готовящиеся к отцовству, должны иметь пониженные уровни Т, так же как это имеет место у моногамных птиц. Рядом исследований действительно доказано, что мужчины-отцы имеют существенно более низкие уровни Т, чем неженатые или женатые, но бездетные мужчины (Gray et al., 2002, 2004, 2007). Сходные различия в периоды, когда самцы участвуют в выхаживании потомства, отмечены и у других видов, имеющих институт отцовства. Иначе говоря, высокий Т и связанные с ним агрессивность и соревновательность нужны тем мужчинам, которые тратят больше времени и энергии на спаривание, чем на родительские заботы. При обследовании 4 462 американских ветеранов войны выяснилось, что уровень Т положительно связан с холостяцким статусом и нестабильностью брака и отрицательно – с такими факторами, как количество времени, проводимого со своими женами, и числом внебрачных связей. Высокий Т корреллирует также с частой физической агрессией по отношению к своим женам (Dabbs, Morris, 1990). Иными словами, высокий Т ассоциируется с агрессивностью, доминатностью и поиском острых ощущений. Это благоприятствует экстенсивным, краткосрочным сексуальным связям, но плохо сочетается с хорошими домашними отношениями.
За долговременными различиями в уровнях Т стоят определенные индивидуальные особенности. У шимпанзе доминантные самцы имеют более высокий Т, чем низкостатусные самцы (Muller, Wrangham, 2004), и последовательно демонстрируют высокие степени агрессии. У других приматов связь между рангом и агрессией также опосредствуется повышенной агрессивностью, поддерживаемой Т. Это позволяет ожидать и у взрослых мужчин общей корреляции между агрессией и Т, но необязательно – между высоким статусом и Т, за исключением ситуаций, когда высокий статус достигается и поддерживается физической агрессией.
Новейшие исследования приматов показывают, что корреляции Т, агрессивности и группового статуса самцов зависят от разных причин. Например, у мадагаскарских лемуров (Lemur catta) корреляции между уровнем фекального Т и соперничеством самцов за доступ к рецептивным самкам в период спаривання оказались ниже, чем предполагает «гипотеза вызова» (Gould, Ziegler, 2007). Зато выявились статусные различия: самые высокоранговые самцы имели более высокий уровень Т, чем низкоранговые, а молодые самцы – выше, чем находящиеся в расцвете сил и старые самцы. После периода спаривания групповые различия исчезают, Т возвращается к первоначальному базовому уровню (см.: Muehlenbein, 2004). Четырехкратное, с интервалом в один год, сравнение базового уровня мочевого Т и поведенческих свойств (доминантный ранг, проявления агрессии по отношению к сверстникам и общий стиль поведения) 16 подростков-шимпанзе (Pan troglodytes) показало, что уровень Т положительно коррелирует с иерархическим рангом подростка и его агрессией по отношению к другим и отрицательно – с частотой агрессии по отношению к нему (забияку боятся и предпочитают с ним не связываться). Видимо, гормональные сдвиги в период, предшествующий взрослости, связаны не только с возрастными изменениями, но с и индивидуальными и статусными свойствами (Anestis, 2006).
Из «гипотезы вызова», вытекает, что высокий уровень Т несет в себе не только выгоды, но и адаптивные издержки. Индивидуальные различия мужских жизненных стратегий, включая неодинаковую потребность в спаривании, связаны с долгосрочными различиями в уровнях Т.
Если перевести это на язык психологии, то можно сказать, что мужчины с высоким Т – стабильные экстраверты, которые склонны отдавать предпочтение не долгосрочным, а краткосрочным целям не только в сексе, но и в других сферах жизни. Они чаще вовлекаются в антиобщественные действия, берут на себя больше риска и имеют менее стабильные сексуальные отношения. Эти свойства проявляются уже в раннем возрасте, хотя во многом зависят от социальных обстоятельств. Высокий Т часто коррелирует с антисоциальным типом личности, алкоголизмом и наркозависимостью. В одном исследовании 10 % мужчин с максимальным уровнем Т значительно превосходили всех остальных по антисоциальному поведению, включая нападения (Dabbs, Morris, 1990). Однако дело не просто в Т, а в его сочетании с образовательным и социально-экономическим уровнем (Mazur, 1995). Психические свойства, по которым можно предсказать девиантную биографию, также неоднозначны; очень часто с девиантностью коррелирует не агрессия, а импульсивность.
Как бы то ни было, в современном мире мужчины с максимальными уровнями Т чаще оказываются на малопрестижных рабочих местах – успешная профессиональная карьера плохо совместима с несдержанностью и импульсивностью. Напротив, для женщин высокий уровень Т благоприятен, так как делает их более напористыми и карьерно-ориентированными, но одновременно – более агрессивными.
Я довольно подробно, опираясь на новейшие научные данные, рассказал о соотношении тестостерона и маскулинности. Что же мы узнали? Вопреки распространенным мнениям, ничего похожего на биологический детерминизм мы не обнаружили. Т выступает не как абсолютная первопричина мужских достижений, а как одно из опосредствований, с помощью которых природа направляет и корректирует поведение человека в соответствии с меняющимися условиями среды и его собственными адаптивными – в том числе, но не только – репродуктивными стратегиями. Мужчина с высоким уровнем Т в наибольшей степени соответствует канону гегемонной маскулинности. Однако этот тип никогда не был и не мог быть единственным. Даже с чисто биологической точки зрения он далеко не идеален. Такой мужчина энергичен, хорошо дерется, часто спаривается, зачинает детей и, увы, рано умирает. Как и всякого другого человека, его следует любить и беречь. Но для успешного выращивания потомства, не говоря уже о производстве материальных и культурных ценностей, нужны также многие другие свойства, которые проявляет либо другой тип, если хотите – другая порода мужчин, либо те же самые мужчины, но в другом возрасте или в другой социальной ситуации.
Люди обладают разной степенью природной психологической пластичности, от которой зависит диапазон их жизненных стратегий. В обществе, в котором социальный успех в большей мере зависел от физической агрессии и состязания в физической силе, мужчины этого типа (условно – высокотестостеронные) имели определенные преимущества перед остальными. Они и сегодня лидируют в мальчишеской подростковой среде. Думаю, что так будет всегда. Но в обществе взрослых действуют более сложные механизмы социального отбора. Успешная профессиональная карьера требует прежде всего интеллекта и настойчивости. Да и женщины, выбирая себе не временного любовника, а постоянного партнера, отдают предпочтение таким чертам, как порядочность, ум, заботливость и верность. К тому же репродуктивный успех, на котором зациклена эволюционная биология, не является единственной социальной ценностью. Достижения мужчины издавна измеряются тем, насколько он успешен во внесемейной трудовой, общественно-политической и духовной деятельности. Творцу, лидеру и пророку культура готова простить и отсутствие семьи, и бездетность. То, что для простого смертного – непозволительный эгоизм, для него – высшее проявление альтруизма.
Так может быть, плюрализм маскулинностей не только гуманен, оправдывая существование разных, а не только гегемонных мужчин, но и биологически целесообразен? Может быть, обществу для успешного развития нужны разные типы мужчин и женщин и осознание этого факта – необходимый компонент современного экологического императива?
Но оставим в покое тестостерон. В конце концов, это всего лишь один гормон, а агрессия не самое приятное человеческое качество.
Сделаем еще один экскурс в психологию личности, на сей раз – со стороны теории риска. Современное общество часто называют обществом риска, а мужчины всегда отличались большей готовностью и любовью к риску, нежели женщины. Это свойство явно имеет биолого-эволюционные предпосылки (Daly, Wilson, 2001) и вызывает общественное восхищение. Мужчины, особенно молодые, гораздо чаще женщин готовы идти на риск, особенно публично, при свидетелях. Опасность и риск – необходимый аспект соревновательности и потребности в достижении. Что стоит за этой мотивацией?
Любители острых ощущений. Материал к размышлению
Соревновательность, стремление к достижению и любовь к новизне и риску – разные психологические черты. Однако профессор психологии Делавэрского университета (США) Марвин Зуккерман в 1960-х годах предположил, что за ними может стоять общая личностная черта, которую он назвал жаждой острых ощущений (sensation seeking). Ее признаки: поиск разнообразных, новых, сложных, интенсивных чувств и переживаний и готовность идти ради такого опыта на значительный риск (см.: Zuckerman, 2007).
Само по себе принятие риска не является главным признаком поведения, направленного на получение острых ощущений; это лишь цена, которую люди готовы платить за определенные виды деятельности, удовлетворяющие их потребность в новизне, изменении и возбуждении. Многие вещи, которые делают любители острых ощущений (например, слушание тяжелой рок-музыки, просмотр сексуальных фильмов и фильмов ужасов или путешествия по экзотическим местам), вовсе не рискованны.
Жажда острых ощущений может удовлетворяться по-разному:
1) погоня за напряженностью, приключениями, физическим риском, включая необычный или экстремальный спорт;
2) жажда нового эмоционального опыта, увлекательных и сильных переживаний, сопряженных со всевозможными рисками;
3) расторможенность, повышенная склонность не к физическим, а к социальным рискам, включая опасное для здоровья поведение (пьянство, незащищенный секс);
4) повышенная чувствительность к скуке, нетерпимость к любому однообразию и монотонности.
Эти явления общеизвестны, и психологи обычно оценивали их отрицательно. Например, некоторые фрейдисты полагали, что любовь к риску связана прежде всего с невротизмом и является способом экстернализации (выражения вовне) внутренних конфликтов. Однако многолетние исследования Зуккермана и его сотрудников показали, что любовь к физическому риску вовсе не всегда сочетается с чертами невротизма или тревожности. Рискованные действия, например бесшабашная езда на автомобиле, не являются способами выражения агрессивности и враждебности. Принятие риска может быть просто выражением обобщенной потребности в деятельности как таковой, как бывает с гиперактивными индивидами, которые таким образом обеспечивают себе стимул, необходимый для преодоления скуки.
Многие рискованные занятия, например пьянство и употребление наркотиков, особенно в молодежной среде, имеют место в определенном социальном контексте и зависят от уровня общительности. Изучая студентов, многие из которых занимались всеми шестью видами рискованной деятельности (курение, пьянство, наркотики, секс, неосторожное вождение и азартные игры[4]), ученые пытались ответить на два вопроса: 1) действительно ли за этими действиями стоит общая склонность к риску и 2) если да, то с какими личностными чертами связана эта тенденция?
Зуккерман предположил, что многие или даже все виды рискованной деятельности связаны с общей импульсивной жаждой острых ощущений, но проверяли и роль таких черт, как невротизм – тревожность, агрессия – враждебность, общительность и активность. Все эти черты измерялись с помощью специального 5-факторного личностного теста Zuckerman-Kuhlman Personality Questionnaire (ZKPQ). Одна из его шкал приводится ниже.
Шкала любви к острым ощущениям из Zuckerman-Kuhlman Personality Questionnaire
1. Мне нравится новый и волнующий опыт и переживания, даже если они немного пугают. Да, нет.
2. Я люблю делать что-то просто ради острых ощущений.
Да, нет.
3. Иногда я делаю «сумасшедшие» вещи просто ради удовольствия.
Да, нет.
4. Иногда мне нравится делать слегка пугающие вещи. Да, нет.
5. Мне нравится попадать в новые ситуации, когда не знаешь, чем это все обернется.
Да, нет.
6. Я готов пробовать все.
Да, нет.
7. Я люблю «дикие», раскованные компании. Да, нет.
8. Я хотел бы проводить жизнь в движении, много путешествовать, многое менять в своей жизни и испытывать много волнений.
Да, нет.
9. Я человек импульсивный. Да, нет.
10. Мне нравится самому исследовать незнакомый город или район, даже с риском заблудиться.
Да, нет.
11. Я хотел бы отправиться в путешествие без заранее составленного маршрута и расписания.
Да, нет.
12. Прежде чем начать сложное дело, я его тщательно планирую.
Да, нет.
13. Я очень редко трачу время на детальное планирование будущего.
Да, нет.
14. Я склонен начинать новое дело без детальной проработки того, как его делать.
Да, нет.
15. Прежде чем что-то делать, я обычно думаю, как следует поступить.
Да, нет.
16. Я часто действую импульсивно. Да, нет.
17. Меня так увлекают новые вещи и идеи, что я никогда не думаю о возможных осложнениях.
Да, нет.
18. Я склонен часто менять свои интересы. Да, нет.
Каждый конкретный вид рискованного поведения оценивался также по своей собственной шкале. Например, оценка рискованной езды включала вопросы о предпочитаемой респондентом скорости, его реакции на дорожные знаки и указатели скоростей и т. п. При оценке рискованного сексуального поведения учитывалось число сексуальных партнеров и насколько систематически применялись презервативы.
Выяснилось, что курение, пьянство, секс и наркотики действительно связаны друг с другом. Студенты и студентки, занимающиеся чем-то одним из перечисленного, как правило, занимаются и другим. Напротив, неосторожная езда связана лишь с одним видом риска – пьянством (зато эта связь зачастую приводит к смерти). Азартные игры у мужчин связаны с пьянством и сексом, у женщин таких корреляций нет. Главные результаты у мужчин и женщин оказались сходными. Самые «рисковые» люди имеют наиболее высокие показатели по трем из пяти личностных черт: импульсивная погоня за новыми ощущениями, агрессивность-враждебность и общительность. Эти черты – самые надежные предикторы такого типа личности.
С точки зрения нашей темы, мужчины – гораздо большие любители риска, чем женщины, и имеют более высокие показатели по импульсивной любви к острым ощущениям. По данным Зуккермана, гендерная разница в степени принятия риска целиком определяется различиями в степени импульсивного влечения к острым ощущениям. Это свойство характернее всего для мальчиков и юношей. Жажда острых ощущений усиливается между 9 и 14 годами, достигает своего пика в юности, в 20 с небольшим лет, после чего заметно снижается. Почему?
В своих последних работах Зуккерман связывает это, прежде всего, с данными эволюционной биологии (Zuckerman, 2005, 2007). Человек как биологический вид не мог бы развиться и распространиться по Земле, если бы он не обладал стремлением к новизне и любовью к освоению нового и необычного. Охота, которой занимались в первую очередь мужчины, невозможна без риска и авантюризма. То же самое нужно сказать и о войне. Вместе с тем чрезмерная отчаянность также не способствует выживанию и сохранению популяции. Поэтому любовь к острым ощущениям неодинаково распространена у разных индивидов.
Классические исследования однояйцевых и двуяйцевых близнецов, воспитывавшихся в одних и тех семьях, показали, что любовь к острым ощущениям является генетически наследуемой почти на 60 %. Это очень высокий показатель, наследуемость большинства других личностных черт варьирует между 30 и 50 %. Так что если дети в этом отношении похожи на своих родителей или сибсов, то это объясняется скорее общими генами, чем семейными условиями.
Эту тенденцию подтверждает и молекулярная генетика. Группа израильских ученых обнаружила связь между стремлением к новизне (novelty-seeking), которое тесно связано с импульсивной жаждой новых ощущений, и геном, управляющим классом дофаминовых рецепторов, так называемым дофаминовым рецептором-4 (DRD4) (Munafo et al., 2008). Дофамин – важный нейротрансмиттер, регулирующий пути, связывающие мозговые центры удовлетворенности и удовольствия. Реагируя на стресс, он позволяет людям предвидеть вознаграждение и стимулирует ведущие к ним действия. Существуют две главные формы DRD4, причем одна из них преобладает как у индивидов, имеющих высокие показатели по жажде новизны, так и у некоторых наркозависимых личностей. Правда, этот ген ответственен лишь за 10 % генетических вариаций, но Зуккерман надеется, что новые открытия сделают картину более ясной.
Впрочем, одни только гены сами по себе не создают психологических черт. Между генами и поведением стоит множество нейрохимических и иных факторов. Больше всего любителей риска и острых ощущений среди мальчиков-подростков и юношей. Военные всегда предпочитали в качестве солдат молодых мужчин не только из-за их физической силы, но и из-за их готовности рисковать жизнью. Но это также возраст максимальной жажды острых ощущений и пика тестостерона, секреция которого значимо коррелирует с «растормаживающими» типами любви к острым ощущениям, ассоциирующимися с пьянством, наркотиками, сексом и антисоциальным поведением. В нормальном поведении Т также коррелирует с доминантностью, общительностью и активностью. С уменьшением секреции Т мужские агрессивные и антисоциальные тенденции начинают ослабевать. Показатели 50—59-летних мужчин по любви к острым ощущениям вдвое ниже, чем у 16—19-летних. У женщин Т значительно меньше, но его поведенческие корреляты те же, что у мужчин (напористость, агрессия и сексуальное возбуждение).
Другой биологический коррелят любви к острым ощущениям, который, возможно, способствует гендерным и возрастным различиям, – моноаминоксидаза, фермент, поддерживающий равновесие нейротрансмиттеров. У людей с сильной потребностью в острых ощущениях уровень моноаминоксидазы ниже, чем у остальных. Это означает отсутствие или слабость самоконтроля и саморегуляции. У женщин уровень этого фермента выше, чем у мужчин, с возрастом его содержание в мозге и в крови повышается. Низкие уровни моноаминоксидазы обнаружены также у психических больных, стремящихся к немедленной эмоциональной гратификации (получению удовольствия или удовлетворения), не заботясь о последствиях.
Как любая другая личностная черта, любовь к острым ощущениям может играть как положительную, так и отрицательную роль. Это особенно ярко проявляется у мальчиков-подростков. Поскольку любовь к новизне и риску воплощает в себе традиционные ценности маскулинности, мальчики этого типа имеют значительные преимущества перед менее «крутыми» сверстниками. По данным одного лонгитюдного исследования, в 6-м классе такие мальчики пользовались наибольшей популярностью среди сверстников, в старших классах они сохранили лидирующее положение, раньше других начали сексуальную жизнь, пользовались большим успехом у девушек и т. д. Но – оборотная сторона медали – эти юноши наиболее склонны проявлять сексуальную агрессию, злоупотреблять доверием своих подружек, употреблять алкоголь и наркотики. Пониженный порог восприятия риска толкает их на совершение социально– и личностно-опасных действий, в результате чего они входят в группы риска по незащищенному сексу, инфицированию ВИЧ и ЗППП, участию в изнасиловании, алкоголизму, наркозависимости и делинквентности (правонарушениям).
Иными словами, c любовью к новизне и риску, как и с тестостероном, не все однозначно. Мужчина, который занимается восточными единоборствами и бесстрашно катается на горных лыжах, вызывает восхищение. Но эти качества не гарантируют, что он будет хорошим отцом семейства или глубоким мыслителем и не окажется консерватором в политике.
3. Сексуальность
…Утренняя эрекция – это единственная вещь, которая делает мужчину загадкой природы.
Виктор ЕрофеевОт агрессивности и соревновательности мы незаметно перешли к сексуальности. Такой переход закономерен. По данным метаанализов, самые большие различия между мужчинами и женщинами существуют в сфере сексуальности. Иначе и быть не может, потому что сексуальность теснее всего связана с репродукцией и здесь лучше всего работают изложенные выше биоэволюционные теории, включая теорию родительского вклада Роберта Трайверса и основанную на ней теорию сексуальных стратегий Дэвида Басса (Buss, 1998).
Поскольку самцы биологически и поведенчески инвестируют в потомка меньше, чем самки, и потенциально способны зачать много потомков, тогда как женское потомство ограничено, у мужчин развилась более «количественная» репродуктивная стратегия, тогда как для женщин важнее «качество». Мужчины больше заинтересованы в случайном сексе и менее обязательны в своих сексуальных установках и поведении. Женщины более избирательны в выборе партнеров, меньше заинтересованы в сексе ради секса и выбирают преимущественно таких партнеров, которые могут обеспечить выживание их детям, гарантируя им долгосрочную безопасность и жизнеобеспечение. Так как судить об эволюционном процессе только по поведению невозможно, биология дополняется эволюционной психологией сексуальности, которая стремится понять закономерности развития сексуального желания, включая его вариации у мужчин и женщин, общие и культурно-специфические механизмы сексуального возбуждения, критерии сексуальной привлекательности, принципы подбора пары, сексуальной ревности и т. д. (Symons, 1979).
Эмпирическая проверка этой теории в целом оказалась успешной. При всех индивидуальных и социально-групповых различиях мужская сексуальность по целому ряду параметров отличается от женской, причем эти различия соответствуют прогнозу.
Сила сексуального желания. Сексуальное влечение (сегодня его чаще называют сексуальным желанием) – специфическая мотивация, сконцентрированная на сексуальной активности и стремлении к сексуальному удовольствию. Человек с более сильным сексуальным влечением интенсивнее и/или чаще испытывает желание заниматься сексом ради секса, а не для удовлетворения других, более отдаленных целей, таких как репродукция, власть или освобождение от стресса, причем эта мотивация пересиливает другие желания и потребности. Аналитический обзор 5 400 научных статей (Baumeister et al., 2001) показал, что по большинству показателей (частота сексуальных мыслей, фантазий и спонтанного возбуждения; желаемая частота секса; частота мастурбации; желаемое число сексуальных партнеров; предпочтение секса другим занятиям; активный поиск секса; готовность инициировать сексуальные действия; наслаждение разными типами сексуальных практик; готовность жертвовать ресурсами ради секса; положительное отношение к сексуальной активности; распространенность расстройств, связанных с понижением сексуального желания; самооценка силы сексуального влечения) мужское сексуальное влечение значительно сильнее женского.
Это подтверждают и данные репрезентативных национальных сексуальных опросов (Eplov et al., 2007). Например, в Швеции (опрос 4 781 человек от 18 до 74 лет) сексуальное желание испытывали часто 49 % мужчин и 22 % женщин, редко или никогда – 4 и 15 %. Среди жителей норвежской столицы Осло (2 135 человек от 18 до 49 лет) часто имеют сексуальное желание 81 % мужчин и 47 % женщин. В Дании (10 458 человек от 16 до 70 лет) мужчины во всех возрастах испытывают желание чаще, чем женщины, среди 16—24-летних мужчин имеют сексуальное желание часто 72 %, а среди женщин – 50 %; в старшей возрастной группе (старше 67 лет) – соответственно 14 и 4 %.
В австралийском национальном опросе 2000–2001 гг. (репрезентативная выборка из 19 307 респондентов от 16 до 59 лет) об отсутствии интереса к сексу сообщили 24,9 % мужчин и 54,8 % женщин, о неспособности испытывать оргазм – соответственно 6, 3 и 28,6 %, об отсутствии сексуального удовольствия – 5,6 против 27,3 % (Richters et al., 2003).
В России подобных опросов не проводилось, но тенденции те же самые. Левада-Центр трижды, в 1995, 1999 и 2002 гг., задавал своим респондентам вопрос: «Насколько важен для вас секс?» Доля ответов «очень важен» выросла за эти годы с 17 до 33 %, причем для мужчин секс всегда важнее, чем для женщин. В 2002 г. вариант «очень важен» выбрали 41 % мужчин и 25 % женщин; пик важности приходится на возраст между 16 и 29 годами.
С возрастом сексуальное желание у обоих полов ослабевает, это связано не только с процессами старения, но и с состоянием здоровья и рядом социокультурных факторов (состояние в браке, материальное благополучие, культурные установки и т. д.), причем эти факторы у мужчин и женщин зачастую различны. Возможно, что, отвечая на вопросы анкеты, мужчины в соответствии с существующими гендерными стереотипами преувеличивают, а женщины преуменьшают свои сексуальные желания. Специальное исследование показало, что открытые (эксплицитные), контролируемые сознанием, и неосознаваемые (имплицитные) установки в этом случае нередко расходятся. Однако и на бессознательном уровне женское отношение к сексуальности выглядит более негативным, нежели мужское (Geer, Robertson, 2005).
Экстенсивность и селективность. Мужская сексуальность более экстенсивна и менее селективна, чем женская. Мужчины хотят иметь и действительно имеют больше сексуальных парнерш или партнеров, чем женщины. Ученик и сотрудник Дэвида Басса американский психолог Дэвид Шмитт с помощью 118 ученых из разных стран провел массовый анкетный опрос более чем 16 000 студентов 52 народов из 10 основных регионов мира (Schmitt, 2003). Молодых людей спрашивали, скольких сексуальных партнеров они хотели бы иметь вообще и в ближайшем месяце, готовы ли они приложить для достижения этой цели определенные усилия и как быстро они готовы согласиться на сексуальное сближение с малознакомым человеком. Оказалось, что, независимо от страны, региона, брачного/партнерского статуса и сексуальной ориентации респондентов, мужчины хотят иметь больше сексуальных партнеров, чем женщины (желание иметь в течение ближайшего месяца больше одного партнера выразили свыше 50 % мужчин и меньше 20 % женщин), и легче идут на сексуальное сближение после кратковременного знакомства.
Эта тенденция подтверждается и многочисленными экспериментальными исследованиями. Например, в 2002 г. Би-би-си повторила классический эксперимент Ричарда Кларка и Элайн Хатфилд (Clark, Hatfield, 1989). Два молодых симпатичных репортера, мужчина и женщина, со скрытыми камерами интервьюировали группу студентов Кембриджского университета на разные нейтральные темы, а потом ненавязчиво спрашивали: «А ты не согласишься зайти ко мне домой для секса?» Согласием ответили 75 % мужчин и ни одна из женщин (Voracek et al., 2005).
Меньшую сексуальную избирательность мужчин демонстрируют и исследования быстрых свиданий (спид-дейтинг) (Kurzban, Weeden, 2005; Fisman et al., 2006; Dating Study, 2007). Что бы мужчины ни говорили перед экспериментом, главным фактором выбора партнерши для них является ее внешность. При этом они не особенно избирательны. По данным массового американского исследования (свыше 10 тысяч участников), средний мужчина был выбран 34 % женщин, а средняя женщина – 49 % мужчин (Kurzban, Weeden, 2005). При исследовании в Мюнхене оказалось, что мужчины от 26 до 40 с небольшим лет готовы назначить свидание почти любой сколько-нибудь привлекательной женщине (Dating Study, 2007).
При любых опросах оказывается, что мужчины значительно терпимее относятся к краткосрочным связям и любым разновидностям случайного, одноразового и даже анонимного секса, особенно если речь идет не о женщинах, а о самих мужчинах. Например, в 2006 г. на вопрос Левада-Центра: «Как вы считаете, допустимо ли для мужчин часто менять половых партнеров?» утвердительно («вполне допустимо» и «скорее допустимо») ответили 46 % мужчин и 27 % женщин. На сходный вопрос о допустимости внебрачных связей положительные ответы мужчин и женщин соотносятся как 40 и 22 %.
Удается ли мужчинам реализовать эти желания? Вопрос не так прост, как кажется. Практически все выборочные и национальные опросы свидетельствуют, что мужчины имеют больше сексуальных партнерш-женщин, чем женщины партнеров-мужчин (уточнение необходимо, чтобы исключить однополые связи). Например, недавний американский национальный опрос показал, что средний мужчина имеет в течение жизни семь сексуальных партнерш, а средняя женщина – четырех партнеров-мужчин (Sexual Behavior, 2002). Британские исследователи получили соотношение 12,7 к 6,5. Согласно канадскому национальному опросу (1 479 взрослых старше 18 лет), мужчины по всем параметрам (частота сексуальных мыслей, орального секса, возраст сексуального дебюта, число сексуальных партнеров и намерений относительно случайного секса) оказались пермиссивнее (снисходительнее, терпимее) и активнее женщин (Fischtein, Herold, Desmarais, 2007).
Сексологов эти цифры не смущают, но математики говорят, что такая большая разница логически невозможна, мужчинам просто негде взять такое количество «дополнительных» женщин (Kolata, 2007). Может быть, мужчины лгут, преувеличивая, в соответствии с гендерными нормами, свои сексуальные достижения, тогда как женщины свою активность, напротив, преуменьшают? И то и другое, безусловно, имеет место, особенно у женщин, на которых традиционная мораль давит сильнее (Alexander, Fisher, 2003). Но дело не только в этом. Вполне возможно, что мужчины и женщины считают по-разному. Женщины чаще перечисляют своих партнеров: «Джон плюс Джим плюс Питер, кто там еще?» – что ведет к уменьшению их общего числа (кого-то можно и забыть), тогда как мужчины чаще прибегают к грубому суммарному подсчету, тяготеющему к преувеличению (Brown, Sinclair, 1999). Кроме того, мужчины могут включать в свой подсчет такие сексуальные практики, которые женщины «сексом» не считают, например, оральный секс (Wiederman, 1997).
Мотивация и легитимация. Хотя «в конечном счете» сексуальность обеспечивает продолжение рода (и это главное, что интересует эволюционную психологию), на самом деле это две разные формы жизнедеятельности. Репродуктивные мотивы крайне редко становятся сексуальными (см.: Кон, 2004), причем мужская сексуальность анатомо-физиологически и социально связана с репродукцией гораздо слабее, чем женская. Экстенсивность мужской сексуальности означает меньшую эмоциональную вовлеченность и психологическую интимность и большее разнообразие мотивов. Опросив около 2 000 американских студентов, ученые нашли, что из 237 возможных мотивов для занятий сексом, 20 из 25 чаще всего упоминаемых мотивов являются общими для мужчин и женщин (Meston, Buss, 2007). Без этой базовой общности интересов сексуальная гармония была бы принципиально невозможной. Но в рамках этой общности есть важные гендерные различия. Мужчины значительно чаще женщин называли мотивы, связанные с внешней привлекательностью объекта. Это объясняется тем, что они вообще больше полагаются на визуальные стимулы. Кроме того, они чаще называли ситуативные моменты («просто представилась возможность»). Перечисляя возможные и реальные мотивы вступления в связь, мужчины значительно чаще называют безличные, не связанные с конкретным партнером, «сексуальные потребности», статусные соображения типа «улучшить свою репутацию» или «повысить самоуважение», доводы практической выгоды и т. п.
Различие мужских и женских мотивов показывает и опрос молодежи Левада-Центром (2006 г.) – 1775 респондентов от 16 до 29 лет.
В связи с чем прежде всего вы пошли на ваш первый сексуальный контакт? Вы сделали это… (можно было давать до трех ответов. – И. К.)
Разумеется, «первый контакт» – случай по определению исключительный, и судить по нему о повседневных мотивах сексуального сближения нельзя. Тем не менее гендерные различия показательны. «Сексуальное влечение» назвали 44 % мужчин и 16 % женщин, «любопытство» – 29 и 14 %, желание «быть как все» – 16 и 5 %, самоутверждение – 10 и 1 %, потребность повышения самооценки – 10 и 2 %. Мужская мотивация выглядит более эгоцентрической и, если угодно, циничной, чем женская, стереотипно объясняющая все «любовью».
Но насколько правдивы женские ответы? За рассказом о мотивах сексуального сближения часто скрывается его ретроспективное оправдание, легитимация. Романтический мотив «любви» в современном мире выглядит таким же респектабельным, каким раньше было вступление в брак. Остальные мотивы с традиционными ценностями, на которые женщины ориентируются сильнее, чем мужчины, плохо совместимы. Хотя эмоциональный фон отношений для женщин действительно важнее, чем для мужчин, многие женщины склонны преувеличивать этот момент и просто говорят то, что общество (и прежде всего мужчины) ожидает от них услышать. Местон и Басс удивились тому, что мужчины чаще женщин называют сугубо прагматические мотивы сексуального сближения (Meston, Buss, 2007). Однако женщины в этом отношении ничуть не менее расчетливы, это прямо вытекает из теории сексуальных стратегий. Разница лишь в том, что мужчины и женщины могут преследовать при этом разные выгоды. Какие именно – зависит не только от «эволюционных универсалий», но и от конкретных социально-экономических условий.
Инструментальность. Еще одна особенность мужской сексуальности, не вытекающая из эволюционной теории пола, но подтверждающая теорию Ричарда Липпы, – ее предметно-инструментальный характер. В мужском сексуальном сценарии «секс» не только удовольствие, порой запретное и стыдное (например, при мастурбации), но и работа, которая обязательно требует успеха, завершения, достижения чего-то, мужчине необходимо «кончить». На первый план при этом выдвигаются количественные показатели: сколько женщин и сколько актов (хотя «больше» не обязательно «лучше»).
Общая инструментальность мужского стиля жизни порождает и «техницизм» сексуального мышления, озабоченность прежде всего тем, как продлить эрекцию, усилить ощущения, связанные с семяизвержением. Естественная кульминация интимной близости для мужчины – интромиссия и семяизвержение. Все «остальное» – предварительные ласки, нежность, следующая за соитием, – кажется необязательным, без чего можно и обойтись. В основе представления о сексе как о непрерывном нарастании полового возбуждения, которое непременно должно завершиться эякуляцией, лежит, в сущности, опыт подростковой мастурбации – скорей, скорей!
Вследствие инструментальности и соревновательности своего стиля жизни многие мужчины не доверяют собственным переживаниям, им нужны объективные подтверждения своей сексуальной «эффективности». Самое весомое подтверждение своей маскулинности мужчина получает от женщины. Именно поэтому так важен для юноши его первый сексуальный опыт, да и взрослые мужчины нередко заводят случайные связи не только и не столько из сексуальных потребностей и жажды разнообразия, сколько ради самоутверждения. Но мужчина, стремящийся прежде всего доказать свою силу, невольно превращает интимную близость в экзамен и часто «проваливается» на этом экзамене именно потому, что не чувствует себя достаточно свободно и раскованно. Одно из самых распространенных мужских сексуальных расстройств – так называемая «исполнительская тревожность», сомнение в своем «мастерстве». В последние десятилетия этот синдром, похожий на те трудности, которые испытывают актеры, встречается значительно чаще.
Традиционная модель сексуального поведения склонна приписывать всю активность, начиная с ухаживания и кончая техникой полового акта, мужчине, оставляя женщине пассивную роль объекта. Строго говоря, эта модель никогда не соответствовала действительности – отношения полов в постели, как и в других сферах жизни, всегда были скорее партнерскими, хотя и неравноправными. Но в обществах, где безраздельно господствовал двойной стандарт и женская невинность до брака тщательно оберегалась, в такой модели все-таки был некоторый смысл. Свой первый сексуальный опыт юноши обычно приобретали с проститутками или с женщинами значительно старше себя. Положение «ученика» в подобных ситуациях не роняло их мужского достоинства, а своих целомудренных жен они всему учили сами, не опасаясь конкуренции и нежелательных сравнений с кем-то другим. Сегодня эта модель утратила силу, поставив как мужчин, так и женщин перед новыми проблемами и сделав прежние критерии сексуальной самооценки более сложными, проблематичными и, главное, индивидуальными. Немецкая исследовательница Карстен Руттер, проведя 20 детальных интервью с 30-летними мужчинами, обнаружила у них два разных полюса эротической ориентации: 1) на собственное удовольствие и 2) на то, чтобы удовлетворить женщину (Rutter,1993). Хотя каждый пятый мужчина подчеркивает, что испытывает к партнерше чувство нежности, собственная сексуальная удовлетворенность многих мужчин практически не зависит от переживаний партнерши. Это серьезная психосексуальная проблема.
Пластичность и разнообразие. Экстенсивность и инструментальность мужской сексуальности не только увеличивают вероятность более частой смены партнеров, но и повышают разнообразие мужских сексуальных сценариев, зачастую весьма далеких от нормативной репродуктивной сексуальности.
Мужчины далеко опережают женщин по распространенности всех нерепродуктивных сексуальных практик, начиная с мастурбации. Почти все так называемые парафилии (буквально – неправильные влечения) являются исключительно или преимущественно достоянием мужчин (Ткаченко, 1999). Характерная для некоторых мужчин импульсивность сексологически проявляется в форме сексуальной компульсивности (неспособности контролировать свои сексуальные реакции). Обследование 876 гетеросексуальных американских студентов показало, что уровень компульсивности у мужчин выше, чем у женщин, причем люди с более высоким уровнем сексуальной компульсивности чаще имеют множественные сексуальные связи, больше мастурбируют, чаще занимаются сексом в общественных местах и рискованным сексом (Dodge et al., 2004).
Более экстенсивный и разнообразный секс требует дополнительных усилий и стимуляции. Мужчины всегда были и остаются главными заказчиками и потребителями коммерческого сексуального обслуживания, будь то проституция или материалы эротического характера, причем мужская эротика грубее и откровеннее женской. Статистический анализ общенационального опроса, охватившего свыше 20 тысяч французов от 18 до 69 лет (Giami, 1997) показал, что «часто» и «иногда» смотрят порнофильмы 47 % мужчин и 23 % женщин, порнографические журналы читают 47,4 % мужчин и 19,3 % женщин. Исследование репрезентативной выборки гетеросексуальных молодых датчан (316 мужчин и 372 женщин от 18 до 30 лет) показало, что когда-либо смотрели порнографию 97,8 % мужчин и 79,5 % женщин; в последние полгода это делали 92,2 % мужчин и 60 % женщин, в последнюю неделю – 63,4 и 13,6 %, в последние сутки – 26,2 и 3,1 %. Мужчины смотрят порнографию значительно чаще женщин. Средний молодой датчанин тратит на просмотр порнографии 80,8 минут в неделю, а женщина – 21,9 минуты (Hald, 2006).
Мужчины значительно активнее женщин используют сексуальные возможности Интернета (виртуальный секс), будь то онлайновая сексуальная активность (ОСА) или собственно киберсекс, и тратят на это больше времен и денег. С содержательной стороны (сюжеты и характер деятельности) гендерные различия в виртуальном сексе те же, что и в обычном.
Жизненный путь. Мужская и женская сексуальность неодинаково проявляются на разных стадиях жизненного пути. Сильно упрощая вопрос, можно сказать, что мужчины начинают свою сексуальную жизнь раньше, а заканчивают позже, чем женщины. За этим стоит сложное переплетение биологических и социальных факторов. Хотя девочки созревают на 2–3 года раньше мальчиков, последние традиционно опережали их по уровню своей сексуальной активности, возрасту сексуального дебюта и т. д. В последние десятилетия эта гендерная разница сильно уменьшилась, а в некоторых странах вовсе исчезла (девочки-подростки осуществляют сексуальный дебют раньше мальчиков). Видимо, дело не столько в гормональных процессах и особенностях мужского эротизма, сколько в социокультурных нормах и возможности отделить сексуальное поведение от репродуктивного (эффективная контрацепция).
Так же неоднозначны процессы старения (Bancroft, 2007). Практически все современные массовые опросы (Beutel et al., 2007) и, что еще важнее, лонгитюдные исследования (Araujo et al., 2004) показывают, что с возрастом как уровень сексуального желания, так и уровень сексуальной активности снижается у женщин больше, чем у мужчин. Это связано как с гормональными факторами, которые для мужчин более значимы, чем для женщин, и состоянием здоровья, так и с брачным статусом, наличием постоянного партнера и т. д. Среди сексуальных проблем пожилых женщин первое место (43 %) занимает низкое сексуальное желание, а у мужчин (37 %) эректильные трудности (Lindau et al., 2007). Иными словами, мужчина страдает оттого, что он не может, а женщина оттого, что она не хочет. Неудивительно, что почти все мужчины переживают снижение своей сексуальной активности болезненно, тогда как многие женщины воспринимают это спокойно. Например, в шведском национальном опросе только 47 % женщин с низким сексуальным желанием воспринимали это как нечто болезненное (Hamilton et al., 2001). Каково здесь соотношение биологических и социокультурных факторов – вопрос открытый. К сожалению, индивидуальные различия, которые могут и не совпадать с половой/гендерной принадлежностью, слабо изучены. Установленную Балтиморским лонгитюдом (Martin, 1981) закономерность, что мужчины, имевшие наиболее высокую сексуальную активность в молодости, сохраняли это преимущество и в зрелом возрасте, новейшие исследования не проверяли (Bancroft, 2007).
Насилие и агрессия. В мужской сексуальности представлено значительно больше элементов насилия и агрессии. Это коренится, с одной стороны, в общих законах эволюционной биологии (сексуальная агрессия как форма проявления общей агрессивности), а с другой – в особенности мужских сексуальных стратегий (сексуальный успех как победа, завоевание и т. д.). Мужское сексуальное «Я» предполагает напористость, властность, доминантность и т. д. Эти черты закреплены и в культурных ритуалах ухаживания, где мужчине предписывается ведущая, активная роль. Эти установки реализуются как в реальном поведении (мужчины инициируют секс вдвое чаще, чем женщины), так и в эротическом воображении мужчин и женщин. В мужском сексуальном воображении часто присутствуют сцены принуждения, насилия и т. п. По данным австралийского национального опроса, сексуальные игры садо-мазохистского типа в последний год практиковали 2,2 % мужчин и 1,3 % женщин (Richters et al., 2008).
С этим связан целый ряд психосоциальных проблем. Мужчины, у которых агрессивные импульсы понижены, воспринимаются окружающими и сами чувствуют себя недостаточно маскулинными, а те, у кого они повышены, часто оказываются в конфликте с законом и моралью. Среди людей, осужденных за насильственные сексуальные преступления, всегда преобладают мужчины, а их жертвами бывают не только женщины, но и другие мужчины.
Сексуальное насилие – неотъемлемый элемент жизни любого закрытого мужского сообщества. Оно служит не только и не столько средством реализации заблокированных культурой сексуальных желаний, сколько способом создания и оформления иерархических отношений: «опустив» соперника, мужчина лишает его вирильности, делает собственным рабом или рабом своей социально-возрастной группы (хейзинг, дедовщина и т. п.) (Кон, 2007а). Эта двойственная, одновременно сексуальная и статусная, мотивация характерна и для массовых групповых изнасилований побежденных в войнах. Мужская сексуальная агрессия вообще тесно связана с милитаризмом.
Разграничение условной, игровой, подчас даже нормативной эротической агрессии и реального насилия, крайним случаем которого является изнасилование, – дело очень тонкое. Гендерное равенство делает некоторые границы в этом вопросе проблематичными и спорными, причем мнения мужчин и женщин сплошь и рядом расходятся. Это порождает немало конкретных правовых и социально-психологических коллизий.
Гомоэротизм и гомофобия. Принято думать (и многочисленные исследования подтверждают это), что на поведенческом уровне гомосексуальность (однополые сексуальные контакты) распространена среди мужчин значительно больше, чем среди женщин. Однако новейшие исследования, которые различают открытое поведение и гомоэротические чувства (влюбленность, влечение, эмоциональную близость), рисуют более сложную и противоречивую картину.
Например, американский национальный опрос 12 571 мужчин и женщин от 15 до 44 лет (2002 National Survey of Family Growth, NSFG) показал, что за последние 12 месяцев оральный или анальный секс с другим мужчиной имели 3 % мужчин, а сексуальный опыт с другой женщиной имели 4 % женщин. В течение жизни однополый сексуальный контакт имели 6 % мужчин и (при ответе на другой вопрос) 11 % женщин. Около 1 % мужчин и 3 % женщин имели за последние 12 месяцев сексуальных партнеров обоего пола. Отвечая на вопрос: «Считаете ли вы себя гетеросексуалом, гомосексуалом, бисексуалом или кем-то другим?» – 90 % мужчин от 18 до 44 лет назвали себя гетеросексуальными, 2,3 % – гомосексуальными, 1,8 % – бисексуальными, 3,9 % – «кем-то другим» и 1,8 % на этот вопрос не ответили. Женские ответы были такими же. Эти данные похожи на результаты национального опроса 1992 г. (Laumann et al., 1992). На вопрос, испытывали ли они когда-нибудь влечение к мужчинам, женщинам или к тем и другим, среди 18—44-летних мужчин 92 % сказали, что их привлекали только женщины, и 3,9 % – преимущественно женщины. Среди женщин 86 % сказали, что их привлекали только мужчины, и 10 % – преимущественно мужчины (в 1992 г. так ответили лишь 3 %) (Sexual Behavior, 2002).
Многое зависит от возраста опрашиваемых. Данные о поведении и чувствах подростков (до 18 лет) обычно анализируют отдельно. Возможно также, что мужчины и женщины не совсем одинаково понимают и описывают однополую любовь. Чтобы избежать лишних недоразумений, употребляются разные термины: в эпидемиологических исследованиях, где важны прежде всего факторы риска, говорят о «мужчинах, имеющих секс с мужчинами» (MSM), а в психологических и психиатрических работах – о сексуальной идентичности, предпочтениях, чувствах и т. д.
По большинству исследованных параметров мужская и женская однополая любовь и основанные на ней отношения воспроизводят гендерные различия, существующие у гетеросексуальных пар, и подчас даже гипертрофируют их (см.: Кон, 2003). Социальные и психологические профили мужчин-геев, как и «натуральных» мужчин, так же различны и индивидуальны, хотя в выборе любимых занятий и в эмоциональных реакциях у них есть определенный сдвиг в «фемининную» сторону (Lippa, 2000, 2007). Для понимания их проблем и психологии очень важно учитывать исторически изменчивый социальный контекст, в частности установки традиционной культуры.
Гомофобия, то есть иррациональный страх и ненависть к гомосексуалам, является, с одной стороны, проявлением общей ксенофобии, а с другой – весьма специфическим социально-психологическим феноменом (см.: Киммел, 2006а; Кон, 2007б). Важное отличие мужской гомосексуальности от женской – ее тесная связь с гомосоциальностью (ориентация на общение с себе подобными, в данным случае – с другими мужчинами). На протяжении значительной части истории мужчины большую часть времени проводили отдельно от женщин, в более или менее закрытых мужских сообществах. Главной референтной группой для мужчины были, да и по сей день остаются, другие мужчины. Эти мужские отношения, товарищеские или соревновательные, всегда эмоционально окрашены, и, как все значимые отношения, они могут иметь какие-то эротические обертоны (тем более что мужской язык едва ли не все чувства и отношения описывает в сексуальных терминах). Чтобы избежать их прямой сексуализации, которая могла бы осложнить социальную жизнь мужской группы, культура маргинализировала, а то и вовсе табуировала соответствующие чувства, тем более что они противоречили базовым репродуктивным и семейным ценностям. То есть гомофобия – продукт и одновременно противовес гомоэротизма, она служит средством символической демаркации «настоящих» (доминантных) мужчин от «ненастоящих» (женственных и подчиненных). В сочетании с объективными индивидуальными различиями это создает весьма жизнеспособную и опасную гремучую смесь, которая дает о себе знать даже сегодня. Недаром гомофобия везде и всюду гораздо больше характерна для мужчин, чем для женщин, а ненависть к геям в разы (в современной России – в 5 раз) сильнее ненависти к лесбиянкам. Как и всякая ненависть, она отравляет жизнь не только своим жертвам, вселяя в них страх и неприятие себя, но и своим носителям, которым она затрудняет эмоциональное общение с другими мужчинами. Вопрос о взаимодействии социальных норм и личных страхов, как всегда, остается открытым.
Сексуальное здоровье и субъективное благополучие. Судя по данным массовых опросов, мужчины во всех возрастах придают своей сексуальной активности больше значения и получают от нее больше удовольствия, нежели женщины. Разница между полами особенно усиливается после 40 лет, когда многие женщины уже не испытывают сексуального желания. Это во многом зависит от социально-экономических условий и культурных установок. Чтобы в этом разобраться, нужны сравнительные кросснациональные исследования.
Одна из первых попыток такого рода – опрос 27 500 мужчин и женщин от 40 до 80 лет из 29 стран, в которых представлены все регионы и культуры (Laumann et al., 2006). Исследователи хотели выяснить взаимосвязь четырех факторов субъективной сексуальной удовлетворенности:
1) физическая удовлетворенность: «Насколько физически приятными были ваши отношения с вашим текущим партнером в течение последних 12 месяцев?»
2) эмоциональная удовлетворенность: «Насколько эмоционально удовлетворительными были ваши отношения?»
3) удовлетворенность своим сексуальным здоровьем: «Если бы вам пришлось провести остаток жизни при сегодняшнем уровнем сексуальной активности/сексуального здоровья, что бы вы чувствовали по этому поводу?»
4) важность сексуальной жизни: «Насколько важное место в вашей жизни занимает секс?»
Кроме того, респондентов спрашивали об общей удовлетворенности жизнью, о состоянии физического и психического здоровья, характере партнерских отношений, сексуальных практиках и сексуальных установках, связанных с полом и возрастом.
В результате кластерного анализа, в зависимости от степени общего сексуального благополучия, все 29 стран распределились на три группы:
1. Страны с высоким уровнем сексуальной удовлетворенности – западноевропейские и связанные с Европой западные страны. Их общая черта – установка на гендерное равенство (Австралия, Австрия, Бельгия, Канада, Франция, Мексика, Новая Зеландия, Южная Африка, Испания, Швеция, Германия, Великобритания).
2. Страны со средним уровнем сексуальной удовлетворенности – исламские страны и некоторые азиатские и европейские страны, для которых характерны «андроцентрические сексуальные режимы» (Алжир, Бразилия, Египет, Израиль, Италия, Корея, Малайзия, Марокко, Филиппины, Сингапур, Турция).
3. Страны с низким уровнем сексуальной удовлетворенности (Китай, Индонезия, Япония, Тайвань, Таиланд).
К сожалению, исследование было теоретически недостаточно продумано, а доля заполненных анкет оказалась слишком низкой. То, что по всем четырем аспектам субъективного сексуального благополучия во всех трех группах стран мужчины опережают женщин и что самый высокий уровень сексуального благополучия (две трети мужчин и женщин выразили удовлетворенность своими отношениями и 80 % удовлетворены своим сексуальным здоровьем) достигнут в странах западной культуры с установкой на гендерное равенства, кажется правдоподобным. Но чем объяснить региональные различия? Глобальное исследование фирмы «Пфайзер», частью которого был данный опрос, связано с изучением «Виагры», поэтому опрашивались люди старше 40 лет. Но пригодна ли такая выборка для оценки национальных сексуальных культур? В бедных странах многие просто не доживают до этого возраста, а некоторые культуры считают сексуальную активность в этом возрасте необязательной и даже неприличной (так было когда-то и в Европе). Удивляет обнаруженная исследователями низкая оценка значимости секса как аспекта жизни в странах третьей группы. Это страны древней развитой эротической культуры, какая и не снилась христианской Европе, некоторые из них являются международными центрами сексуального туризма. Если тамошние респонденты считают секс несущественной стороной жизни, видимо, что-то неладно с выборкой (например, с возрастным составом) или с анкетой. Вопрос о сексуальных ценностях и критериях сексуального благополучия требует более обстоятельного исследования.
Изучение особенностей мужской сексуальности показывает условность и ограниченность оппозиции эволюционно-биологического подхода и социального конструктивизма. Хотя мы видим здесь целый ряд кросскультурных и трансисторических констант, некоторые аспекты мужской и женской сексуальности в последние десятилетия существенно изменились и продолжают меняться. Это касается и возраста сексуального дебюта, и характера сексуально-эротических ценностей, и даже типа предпочитаемых сексуальных партнеров, выбор которых сильно зависит от таких социально-структурных факторов, как неравенство оплаты труда и социального статуса мужчин и женщин, а также от идеологических установок, гендерных ролей и структуры брака (Eagley, Wood, 1999).
Это подтвердил и кросснациональный опрос Би-би-си (2007), в ходе которого мужчины и женщины 53 национальностей ранжировали по степени значимости (первое, второе и третье место) 23 черты, которые они считают самыми важными для постоянного сексуального партнера. Наиболее важными, общими для большинства респондентов оказались ум, чувство юмора, честность, доброта, хорошая внешность, привлекательное лицо, ценности, коммуникативные навыки и надежность. При этом выявились и гендерные различия. Главное из них – роль внешности, которой мужчины всюду придают значительно большее значение: в число трех важнейших черт ее включили 43 % мужчин и только 17 % женщин, которые больше ценят в своих постоянных партнерах честность, юмор, доброту и надежность. В каком-то смысле это всего лишь стереотипы массового сознания. Но более детальный анализ открывает и нечто нетривиальное: если черты физической привлекательности у всех 53 наций более или менее одинаковы, то предпочитаемые характерологические свойства культурно-специфичны. В индивидуалистических обществах люди называют другие черты, не такие, как в традиционных, поставив, например, юмор и приятность выше ответственности. Похоже, что ранжирование мужчинами и женщинами физической привлекательности потенциальных сексуальных партнеров больше зависит от биологических факторов, а характерологических черт – от культурных. Поэтому, «вместо того чтобы выбирать между эволюционными и социально-структурными теориями, исследователи половых различий в партнерских предпочтениях должны систематически исследовать области правомерного применения каждой теории» (Lippa, 2007. P. 208).
Об уменьшении традиционных различий мужской и женской сексуальности свидетельствует и недавнее исследование сексуальности французов (телефонный опрос 12 364 мужчин и женщин от 18 до 69 лет под руководством известных социологов Натали Бажо и Мишеля Бозона – Enquete 2008). Сравнение данных этого опроса с результатами опросов 1970 и 1992 годов выявило резкое уменьшение разницы в мужских и женских сексуальных ценностях и практиках. Женская сексуальность становится все более похожей на мужскую. Число женщин, сказавших, что они имели в течение жизни только одного сексуального партнера, уменьшилось с 68 % в 1970 г. до 43 % в 1992-м и 34 % в 2006 г. (соответствующие цифры у мужчин – 18, 21, и 16 %). Разница в возрасте сексуального дебюта уменьшилась за 55 лет с двух лет (20,6 лет против 18,8) до нескольких месяцев (17,6 против 17,2). Выросла продолжительность женской сексуальной активности в старших возрастах. Уменьшилась разница среднего числа сексуальных партнеров: у 30—49-летних женщин оно выросло с 1,9 в 1970 г. до 4-х в 1992 и 5,1 в 2006 г., а у их сверстников-мужчин осталось на прежнем уровне – 12,9. Хотя и мужчины, и женщины продолжают считать, что у мужчин сексуальные потребности выше, чем у женщин, пятая часть мужчин от 18 до 24 лет вообще не обнаруживают интереса ни к сексуальности, ни к созданию пары. Среди мужчин между 18 и 35 годами доля сексуальных абстинентов вдвое выше, чем среди женщин (6,2 % против 3,5), причем это не связано с распространением гомосексуальности. Доля мужчин-гомосексуалов с 1992 г. не изменилась и составляет 4,1 %, а влечение к представительницам своего пола у женщин сильнее, чем у мужчин (6,2 % против 3,9).
Сексуальная революция ХХ в. помимо либерализации нравов и изменения форм социального контроля за сексуальностью включает две главные тенденции: а) отделение сексуальности от репродукции и б) постепенное утверждение принципа гендерного равенства. Первая тенденция сближает женскую мотивацию с мужской; сексуально раскованные женщины начинают равняться на традиционные мужские образцы и стратегии, где требования к партнеру несколько иные, чем при долгосрочном партнерстве. В то же время принцип гендерного равенства заставляет мужчин больше считаться с женщинами, воспринимая их не как объект покорения или покупки, а как равноправных партнеров. Это ставит мужчин перед новыми вызовами. С одной стороны, секс стал значительно более доступен, для удовлетворения сексуальных потребностей необязательно вступать в брак, долго ухаживать и т. п. С другой стороны, мужчины сталкиваются с противоречивыми социальными ожиданиями, ответом на которые являются разные сексуальные сценарии.
За средними цифрами сексологических опросов индивидуальные различия не видны. Между тем на вопрос: «Что значит секс для мужчины?» нет универсального ответа.
Мужская сексуальность крайне мифологизирована как на уровне идеологии, так и в обыденном сознании. Известный американский сексолог Берни Зилбергелд перечисляет целую дюжину мужских мифов (Zilbergeld,1992):
Мы «крутые» ребята, в сексе для нас нет никаких трудностей.
Настоящий мужик не занимается такими бабскими вещами, как чувства и разговоры.
Всякое прикосновение сексуально или должно вести ксексу.
Мужчина всегда заинтересован в сексе и всегда готов кнему.
Настоящий мужик проверяется прежде всего в сексе.
Секс – это твердый член и то, что с ним делают.
Секс и половой акт – одно и то же.
Мужчина должен быть способен заставить свою партнершу испытать как бы землетрясение или, по крайней мере, ошеломить ее.
Хороший секс обязательно предполагает оргазм.
Занимаясь сексом, мужики не должны слушаться женщин.
Хороший секс происходит сам собой, без подготовки и разговоров.
У настоящих мужчин нет сексуальных проблем.
Эти мифы, тесно связанные с идеологией гегемонной маскулинности, никогда не помогали мужскому сексуальному благополучию, сегодня они просто опасны. Современные молодые женщины ожидают от своих сексуальных партнеров, постоянных и временных, не только высокой потенции, но и понимания, ласки и нежности, которые в прежний мужской джентльменский набор не входили. Разные индивиды везде и всюду имеют не только количественно неодинаковый уровень «сексуальных потребностей», но и качественно разные, не сводимые друг к другу, иерархии личных жизненных ценностей. Сублимация (замещение одного мотива другим), о которой говорит психоналитическая теория, – дело вынужденное и культурно-специфическое. Для классической протестантской этики мужчина, которого сегодня назвали бы трудоголиком, – явление нормальное и даже положительное, а того, кто был увлечен сексом, считали нездоровым развратником и потенциально опасным маньяком. Сексуально активная женщина тем более казалась моральным уродом, что не могло не накладывать отпечаток на ее самосознание.
Многообразие мужских типов можно показать даже без сложных теоретических моделей. Одному мужчине нужны деньги и власть, чтобы иметь много женщин и секса, от которого он получает больше всего удовольствия. Другому нужно много женщин и секса, чтобы другие мужчины завидовали тому, какой он «крутой», его главная ценность – власть. Третий любит одну-единственную женщину, количественные показатели ему глубоко безразличны. Четвертый – трудоголик, получающий главное удовольствие от своей работы, в чем бы она ни состояла, секс для него только необходимая разрядка. Пятый вообще любит не женщин, а мужчин, причем разные люди переживают это по-разному.
Традиционная модель мужской сексуальности, как и гегемонной маскулинности, этих индивидуальных различий не признавала, тщетно пытаясь подогнать разных людей к одному образцу (прокрустово ложе). Сегодня эта модель рухнула, заставив нас задуматься, что хорошо и правильно не для мифического абстрактного «настоящего мужчины», а «лично для меня»? Думать и выбирать утомительно. У некоторых мужчин чувство несовместимости собственного «Я» и нормативного коктейля из «крутизны», соревновательности и гиперсексуальности даже порождает особую «мужскую сексуальную тревожность». Но так ли уж плоха возможность выбора, тем более что свобода и самостоятельность – такие же неотъемлемые черты мужского стереотипа, как сила и соревновательность?
4. Тело и внешность
Жить в мужском теле – все равно что иметь банковский счет. Пока оно здорово, вы о нем не думаете. По сравнению с женским телом, его содержание необременительно: периодический душ, подстригание ногтей раз в десять дней и стрижка волос раз в месяц. Ну и, конечно, ежедневное бритье.
Джон АпдайкОдним из главных измерений маскулинности, как на уровне культуры (телесный канон – каким должен быть мужчина), так и на уровне индивидуального сознания (образ собственного «Я»), является телесность. Здесь тоже есть биоэволюционные, транскультурные константы.
Телесный канон и гендерная иерархия
Главный принцип гегемонной маскулинности – мужчина не должен ни в чем походить на женщину – распространяется и на репрезентацию мужского и женского тела. Как бы ни варьировались религиозно-философские метафоры маскулинности и фемининности, оппозиция мужского и женского строится по одним и тем же осям: субъект – объект, сила – слабость, активность – пассивность, жесткость – мягкость. Дело тут не столько в анатомии, сколько в том, что «мужчина создается своими деяниями, а женщина – своими свойствами» (Schehr, 1998. P. 79).
Одной из главных функций телесного канона издревле была демаркация мужского и женского. Переодевание мужчин в женскую одежду и наоборот, за исключением особо оговоренных случаев (ритуальное переодевание, карнавал), воспринималось как нарушение божеских и человеческих законов и строго наказывалось. Различными были и способы художественной репрезентации мужского и женского (Кон, 2003б). В архаическом искусстве изображения мужчин подчеркивают прежде всего их властные функции, мужчина ассоциируется то с фаллосом, то с социальным статусом. Античная Греция гуманизирует мужское тело, видя в нем воплощение божественной красоты, грубый фаллицизм сменяется элегантной эротикой. Средневековое христианство отрицает античную поэтику телесности, пренебрегая красивым телом ради одухотворенного лица. Возрождение пытается сочетать обе традиции, утверждая гармонию плоти и духа. В искусстве классицизма тело снова идеализируется, подчиняется формальному эстетическому канону красоты. Романтизм положил начало исследованию мужской субъективности, показав, что мужское тело может быть не только красивым и сильным, но и ранимым. Реализм и натурализм деконструируют идеализированную красоту в пользу естественности; изображение обычных мужчин в обычных ситуациях способствует индивидуализации и психологизации мужского тела. Развитие физической культуры и спорта создает новые возможности телесной самореализации, но мускулистое атлетическое тело легко превращается в военизированное, становясь символом антиинтеллектуализма и фашизма. Модернизм и постмодернизм деконструируют все и всяческие каноны мужественности; благодаря текучести, съемности и множественности гендерных идентичностей, мужское тело теперь может быть и не совсем мужским, и не вполне телом. Гомоэротический взгляд и женский взгляд на мужское тело еще больше усиливают эти тенденции. В противовес им снова возникает тоска по «настоящему мужскому телу», и мечта о нем реализуется не столько в элитарном искусстве, сколько в массовой культуре.
Соответственно менялись и формы одежды. До наступления буржуазной эпохи стереотип маскулинности не исключал многоцветья и разнообразия. Знатные и богатые мужчины старались не уступать своим женам в роскоши и изощренности нарядов, и это не воспринималось как недостаток мужественности. Мужское «украшательство» нисколько не противоречит законам эволюционной биологии и, возможно, даже вытекает из них; у многих видов самцы обладают более яркой и привлекательной внешностью, чем самки (хвост у павлина, грива у льва, рога у оленя и т. п.).
Капитализм во многом изменил привычную систему ценностей. Сочетание пуританской этики с крестьянским практицизмом породило новые представления о мужском теле. Главные буржуазные добродетели – бережливость, скромность, практичность, деловитость и самодисциплина. В отличие от выставляемого напоказ эротического женского тела, мужское тело – это работающая машина, которая прежде всего должна быть исправна. «Настоящий мужчина» должен быть грубоватым и сдержанным. Соблазнительность, изящество и стремление нравиться ассоциируются если не с женственностью, то с недостатком мужественности и гомосексуальностью. Описывая бывшего каторжника Вотрена/Колена, Бальзак подчеркивает его грубую силу. Напротив, элегантный молодой красавец Люсьен де Рюбампре, в которого безоглядно влюбляются и женщины, и мужчины, отличается женственной внешностью: «Взглянув на его ноги, можно было счесть его за переодетую девушку, тем более что строение бедер у него… было женское» («Утраченные иллюзии». Т. 8. С. 310[5]). Вообще, Люсьен «был неудавшейся женщиной» («Блеск и нищета куртизанок». Т. 10. С. 493). Телесная женственность предопределяет и психологическую слабость Люсьена: он слабоволен, берет деньги у проституток, продает собственный талант, уступает домогательствам Колена и в конечном итоге кончает с собой. Такое противопоставление характерно не только для Бальзака.
Гендерная революция ХХ в. подорвала оппозицию мужского и женского, сделала ее менее глобальной и жесткой. Это отражается как в потребительских стандартах, так и в эстетике. Старый буржуазный канон эффективности сводил мужские телесные потребности и заботы к минимуму, многие мужчины даже гордились этим. Теперь положение изменилось. Под давлением моды и социальных обстоятельств – плохо выглядящий, неухоженный мужчина не найдет ни приличной работы, ни жены – современные мужчины тратят все больше времени и денег на уход за телом, косметику и т. д. Это сильно повлияло на бытовую практику.
Современную массовую культуру не без основания называют культурой стриптиза, причем изменение отношения к наготе распространяется и на мужчин. Обнаженное и полуобнаженное мужское тело все чаще демонстрируется публично (многочисленные голые марши и велосипедные гонки при участии тысяч людей). Нью-йоркский фотограф Спенсер Тьюник срежиссировал и заснял многотысячные голые шествия и сцены под экологическими лозунгами в Риме, Мельбурне, Барселоне, Монреале и Мехико; в последнем таком шествии в мае 2007 г. участвовали 18 тысяч обнаженных мексиканцев. Это не коммерческие шоу, а социальные акции.
Обнажению мужчин весьма способствовало кино. В США полностью обнаженное мужское тело впервые появилось в фильме Джона Хастона «Библия… В начале» (1966), где красавец-блондин Майкл Паркс сыграл Адама. К 1971 г. число голливудских фильмов, содержащих сцены с обнаженными мужчинами, уже перевалило за сто. Изменилась и зрительская реакция на наготу. Если в 1960—1970-х годах поражал сам факт ее демонстрации: «Вы можете поверить, он был голым?!», то в 1980-х удивление вызывало другое: «Вы только подумайте, какое у него тело!» Обнаженные тела таких актеров, как Арнольд Шварценеггер, Сильвестр Сталлоне и Жан Клод Ван Дамм, стали эталонами маскулинности и примерами для подражания. Затем фабрика грез начала раздевать и менее мускулистых, но весьма привлекательных актеров, таких как Брюс Уиллис, Мел Гибсон, Кевин Костнер и Том Круз (Dotson, 1999).
Репрезентация полуодетого или полностью обнаженного мужского тела в потребительской культуре – одновременно и раскрепощение, и «новый способ капиталовложения, когда контроль осуществляется не столько путем подавления, сколько путем стимулирования: „Раздевайся, но будь стройным, красивым, загорелым!“» (Foucault, 1980. P. 57). Не случайно тон в этом деле задает реклама. Сравнение рекламных полос в женских журналах «Glamour» и «Cosmopolitan» показало, что доля объявлений с изображением более или менее раздетых женщин, с 1950 г. до 1990-х оставалась относительно стабильной, тогда как количество объявлений, изображающих неодетых мужчин, выросло с менее 5 до 35 % (Pope et al., 2000). Такие тенденции заметны и в российской рекламе. Мужское тело особенно широко эксплуатируется в рекламе косметики, парфюмерии, кофе, сигарет и спортивных товаров, хотя степень обнажения и сексуальности мужских и женских образов остается разной (Бутовская, 2004).
Особенно агрессивна реклама мужского белья, настоящую революцию в которой совершил Калвин Клайн. Его знаменитый рекламный плакат, выполненный фотографом Брюсом Вебером (1983) и представлявший идеально сложенного молодого мужчину в плотно облегающих белых трусах, был, по мнению специалистов, не только самой удачной рекламой мужского белья, но и величайшим изменением телесного облика мужчины со времен Адама: «Адам стал закрывать свои гениталии, а Брюс Вебер выставил их напоказ»; «Бог создал Адама, но только Брюс Вебер дал ему тело» (Doty, 1996. P. 288). С тех пор реклама ушла далеко вперед. Как сказал герой повести Януша Гловацкого «Последний сторож», создавший новую модель облегающих мужских трусов, «трусы могут рассказать о своем владельце гораздо больше, чем его тело, куда больше, чем целая библиотека трудов доктора Фрейда. Тело может быть несовершенным. А трусы – это камуфляж, протест против несовершенства наших ягодиц. В том же случае, когда они плотно облегают ягодицы, это диктатура абсолютного совершенства» (Гловацкий, 2004).
В конце 2002 г., отмечая 20-летний юбилей «нагой» рекламы, в которой обнаженным позировал сам Ив Сен-Лоран, знаменитый дизайнер Том Форд выпустил рекламный плакат духов «M7». На нем бывший чемпион Франции по воинским единоборствам Самюель де Кюббер, сидя в непринужденной позе лицом к зрителю, демонстрирует все свои мужские достоинства (в смягченном варианте их заменяет крупный план красивого лица, волосатой груди и подмышек). Комментируя этот плакат, Форд сказал: «Духи наносят на кожу, так зачем скрывать тело? Реклама „М7“ очень целомудренна, это академическая нагота. Я хотел показать мужчину, представляющего естественный и непринужденный образ мужской красоты».
Изменился и социальный статус мужской фотомодели. В 1990-х годах эта профессия, как некогда роль балетного танцовщика, стала престижной не только для женщин, но и для мужчин, а доходы успешных манекенщиков приблизились к гонорарам звезд Голливуда. Эти парни уже не просто рекламируют одежду: их изображения, в том числе полунагие, печатаются в самых престижных журналах и даже издаются отдельными альбомами. Правда, некоторые мужчины по-прежнему относятся к манекенщикам пренебрежительно, считая их занятие немужским и ассоциируя его, зачастую необоснованно, с гомосексуальностью. Обтянутое тонким трико напряженное тело штангиста или борца показывает себя не менее откровенно, чем тело классического танцовщика или манекенщика, но в первом случае демонстрируется работа и сила, а во втором – изящество и грация, которые «настоящему мужчине» по штату не положены, и любоваться ими невместно. Мощные ноги и торс футболиста – это святое, а стройное тело танцора – нездоровый соблазн.
Но и этот стереотип подрывается. В августе 2003 г. на демонстрации мужской моды в Милане в качестве моделей в полном составе выступала футбольная команда знаменитого «Интера», причем они демонстрировали всё – от вечерних костюмов до трусов и плавок. Это значит, что знаменитому футболисту отныне не зазорно демонстрировать не только свое мастерство, но и свое тело, а само его тело отвечает не только спортивным, но и эстетическим критериям.
Значительно более свободной и индивидуализированной стала мужская одежда, к которой современные мужчины проявляют гораздо больше внимания, чем прежние поколения. По подсчетам американских специалистов, в 1985 г. только четверть всей мужской одежды и аксессуаров покупали сами мужчины, три четверти покупок за них делали женщины. В 1998 г. эта цифра выросла до 52, а в 2004 г. до 69 % и продолжает расти. В эпоху Интернета мужчины могут покупать одежду там, куда они не решились бы зайти лично, а сама одежда утратила жесткое деление на «геевскую» и «натуральную». Сегодня даже эксперты, например продавцы мужской одежды, не могут различить сексуальные предпочтения своих клиентов (Colman, 2005). Разумеется, даже самый тщеславный американский натурал не рискнет появиться на публичном пляже в плавках «спидо», но таких различий становится все меньше. Серьги и кольца, по которым раньше распознавали геев или хиппи, теперь встречаются практически в любой социальной среде. Резко расширились границы дозволенного в сфере художественной репрезентации мужского тела в «высокой» культуре и т. д.
Те же самые тенденции, хотя бедность населения и консервативные установки старших поколений их притормаживают, существуют и в России. «Молодежь уже почувствовала вкус и силу стиля и все больше отрывается от навсегда отставших стариков. Появляется первое поколение стилистически озабоченных русских, получающих кайф от стиля. Включающихся в стиль. Отрыв будет болезненным, как и всё в русской истории, но он не просто необходим. Это путь русского человека к себе» (Ерофеев, 1999. С. 16).
Россияне о моде и манере одеваться (по данным массовых опросов)
В проведенном Левада-Центром в 2006 г. репрезентативном национальном опросе молодежи (1 775 человек от 16 до 29 лет) в ответе на вопрос: «Какие из перечисленных ниже качеств в наибольшей степени характерны, типичны для современных молодых мужчин?» первое место – 46 % (так ответили 53 % мужчин и 39 % женщин) – занимает вариант «следящие за собой», второе и третье (по 35 %) – «модные» (42 % мужчин и 28 % женщин) и «сексуальные» (45 и 24 %).
О резком повышении интереса к моде и стилю говорит и национальный опрос Фонда «Общественное мнение» (Шмерлина, 2006). На вопрос: «Нравится вам или нет, как одевается большинство людей, которых вы видите на улицах, в транспорте, магазинах, прочих общественных местах?» положительно ответили половина (51 %) россиян, отрицательно – 23 %. 26 % – каждый третий мужчина и каждая пятая женщина – затруднились ответить на этот вопрос. Удовлетворенность экипировкой окружающих чаще других выражают люди обеспеченные, а также жители больших городов (58 %).
Те, кому нравится внешний вид окружающих, в ответ на открытый вопрос отмечали, что люди одеты красиво (10 %), стильно, со вкусом (9 %), модно (8 %), ярко (6 %) и разнообразно (5 %). Некоторые респонденты (6 %) аргументировали свой ответ сравнением с прошлыми временами: «Народ стал одеваться лучше». По мнению половины россиян (51 %), «для культурного человека обязательно быть модно, современно одетым». Однако каждый третий не считает модную, современную одежду обязательным атрибутом культурного человека; затруднились ответить на этот вопрос 16 %.
За отношением к модной одежде часто стоят конфликт поколений и идеологические расхождения. Те, кому не нравится, как одеты люди вокруг, больше всего недовольны молодежной модой, которая раздражает их подчеркнутой сексуальностью: «разврат полнейший молодежи в одежде, никакая не мода, а просто разврат»; «девушки слишком голые»; «молодежь агрессивно одета, оголена»; «молодые все пузо свое напоказ – это плохо, пупы видны» (11 %). Любопытно, что некоторые до сих пор негодуют по поводу женских брюк: «женщины ходят в брюках – все у них забрали, у мужиков»; «все бабки идут в штанах – это что такое? Даже в церковь» (1 %).
Оценивая собственный облик, лишь 39 % участников опроса заявили, что одеваются модно, современно, однако молодые люди, от 18 до 35 лет, оценивают себя гораздо выше (64 %). Интересно, что между распределениями ответов мужчин и женщин статистически значимых различий нет. Каждый второй россиянин хотел бы одеваться более модно, современно, нежели он одевается сейчас. Это желание гораздо чаще присуще женщинам (60 %, среди мужчин – 37 %) и молодежи (61 %). Главная причина, почему люди не могут это сделать, – недостаток средств.
Вместе с тем большинство опрошенных (61 %) заявили, что предпочитают одеваться так, чтобы не слишком выделяться на фоне окружающих. Противоположной установке – одеваться так, чтобы быть непохожими на других, – следуют 24 % россиян. Чаще других ее разделяют молодые люди (38 %), но и среди них больше (49 %) предпочитающих не выделяться.
Колоссальное влияние на формирование нормативного образа сильного, стройного и мускулистого мужского тела оказывают спортивные зрелища и СМИ. В 1999 г. американские мужчины истратили на спортивные клубы больше 2 миллиардов долларов плюс еще 2 миллиарда на домашнее спортивное оборудование. Разными формами бодибилдинга регулярно занимаются 25 миллионов американцев, которые имеют в своем распоряжении 25 000 клубов здоровья. Число подписчиков «Men's Health» в США за 10 лет (с 1990 г.) выросло с 250 тысяч до 1,6 миллиона.
Мужские тела и их оформление стали разнообразнее. Широкое распространение в молодежной среде получили разные формы модификации тела (более или менее постоянное сознательное изменение тела), такие как татуировка и пирсинг. Эти практики издавна существовали во многих культурах Азии, Африки, Америки и Океании, да и в Европе они известны уже 5 тысяч лет. Пирсинг часто использовался в обрядах инициации как средство включения индивида в определенную социально-возрастную группу, а татуировки служили для обозначения религиозной принадлежности или социального статуса. В Европе начала ХХ в. татуировки были распространены среди матросов и простонародья, а затем стали знаком принадлежности к определенным группам, например к заключенным или байкерам. В 1980-х годах инвазивную (связанную с нарушением кожного покрова) модификацию тела практиковали, главным образом как форму протеста против консервативных норм среднего класса, панки и геи. До 1990-х годов телесные модификации оставались провокативными элементами девиантных субкультур, в последнее десятилетие они стали массовыми и распространились в разных слоях общества.
В связи с этим обогатились социально-знаковые функции и мотивы применения модификаций. Недавнее сравнительное исследование (Wohlrab et al., 2007) перечисляет десять мотивов: 1) желание украсить тело, сделать его модным аксессуаром и предметом искусства; 2) индивидуализация, потребность выразить свою непохожесть на других; 3) личный нарратив, выражение своих личных ценностей и жизненного опыта; 4) проявление физического терпения, способности перенести боль; 5) обозначение групповой принадлежности и вовлеченности; 6) протест и сопротивление, например, родителям; 7) выражение каких-то духовных ценностей и культурных традиций; 8) аддиктивность, психическая зависимость от эндорфинов, выделяющихся при болезненных процедурах, или потребность постоянно пополнять свою коллекцию татуировок; 9) сексуальные мотивы, особенно характерные для пирсинга сосков или гениталий; 10) отсутствие четкой мотивировки, когда решение принимается импульсивно. В любом случае модификации тела составляют неотъемлемую часть современного телесного канона и становятся предметом напряженной рефлексии и саморефлексии.
Новые психологические проблемы
Повышение телесной открытости и связанная с нею проблематизация мужского тела имеют серьезные культурологические и психологические последствия. С одной стороны, эти процессы повышают уровень мужской рефлексивности и стимулируют усиление заботы о своем здоровье и красоте (эти вещи не совпадают, но тесно связаны). С другой стороны, выставляя, по доброй воле или вынужденно, свое тело напоказ и зная, что оно постоянно подвергается оценке, мужчины создают себе те же проблемы, с которыми всегда сталкивались и которые болезненно переживали женщины. Платье «играет» короля не меньше, чем свита, голый король лишается божественной ауры, над ним начинают смеяться, и это делает его стеснительным. В современной психологической литературе такие процессы часто описываются в терминах теории объективации.
Теория объективации
Эта теория, предложенная Барбарой Фредриксон и Томи-Энн Робертс (Fredrickson, Roberts, 1997), утверждает, что западные общества сексуально объективируют, овеществляют женское тело. Женщины чувствуют, что их воспринимают как вещи, постоянно оценивают (например, мужской взгляд) и используют в индустрии развлечений и рекламе. Средства массовой информации все время посылают обществу, и прежде всего самим женщинам, сигналы, что женщин нужно оценивать не по тому, кем они являются, а по тому, как они выглядят. Популярный в массовой культуре идеал худощавой красоты побуждает женщин думать, что если они хотят быть положительно оценены другими, они обязаны соответствовать этому идеалу. Мнение, что женщин нужно оценивать по тому, как они выглядят, усваивается и принимается самими женщинами. Этот процесс, в результате которого индивиды начинают думать, что они действительно являются объектами или товарами, подлежащими разглядыванию и оцениванию, Фредриксон и Робертс называют самообъективацией. А самообъективация, в свою очередь, порождает беспокойство о внешности, телесный стыд, депрессию, неудовлетворенность своим телом, пониженное самоуважение, расстройства питания и т. д.
Многочисленные исследования показали, что все эти и многие другие проблемы и симптомы действительно свойственны женщинам в большей степени, чем мужчинам. Но хотя все женщины живут в объективирующей культуре, они переживают это по-разному. Если физические упражнения ради поддержания стабильного веса или привлекательности коррелируют с ростом неудовлетворенности телом, пониженным самоуважением и расстройствами питания, то функциональные мотивы упражнений (ради здоровья, удовольствия или хорошей физической формы), напротив, способствуют повышению самоуважения и телесной самооценки. Больше всего психологических проблем у тех женщин, которые чаще других демонстрируют свое тело (например, занимаясь аэробикой или танцами). Затем выяснилось, что те же самые проблемы свойственны гомосексуальным мужчинам, которые существенно опережают других мужчин по самообъективации, телесному стыду, неудовлетворенности телом и стремлению к стройности (Tiggemann et al., 2007).
Думаю, что популярность теории объективации обусловлена не столько ее предсказательной силой, сколько тем, что она как бы соединила в себе две разные интеллектуальные традиции: 1) социально-критическую, уходящую своими идейными корнями в марксизм, философию отчуждения, согласно которой все проблемы современного человека порождены его овеществлением и превращением в товар, и 2) психологическую теорию самосознания как зеркального «Я». На самом деле эти традиции ставят разные проблемы (см.: Kon, 1967). Психологически опредмечивание – универсальная предпосылка самопознания: чтобы познать себя, человек должен превратить себя в объект саморефлексии, посмотреть на себя глазами какого-то «Другого». Социальное овеществление, превращение чего-то в выставленный на продажу товар – нечто качественно другое. Чтобы разобраться в этом всерьез, нужно детально рассматривать психологические и социально-философские (в том числе статусно-иерархические, кто на кого имеет право смотреть) предпосылки теории взгляда. Сейчас мне это не требуется. Заслуга теории объективации в том, что она высветила гендерные аспекты взгляда и зависимость женского телесного канона и субъективного образа тела от подчиненного социального положения женщин. Теперь выяснилось, что те же самые проблемы существуют и у мужчин. Связано ли это с потерей ими господствующего статуса или имеет причины более общего порядка?
Поскольку тело и внешность стали важными компонентами мужского образа «Я», от них сильно зависят общая самооценка, самоуважение и уровень субъективного благополучия личности. Объективированное, ставшее доступным чужому взгляду мужское тело утрачивает свою фаллическую броню и становится более уязвимым. Это порождает у мужчин тревоги и нервные расстройства, которые недавно считались исключительно женскими (Strelan, Hargreaves, 2005).
Конечно, до женщин мужчинам еще далеко. При национальном опросе Левада-Центра в 2007 г. на вопрос: «Что вы больше всего цените в женщине?» «хорошую внешность» назвали 30 % россиян, а применительно к мужчинам такой ответ выбрали 6 % опрошенных; у московских студентов-мужчин, обследованных М. Л. Бутовской и О. В. Смирновым (1993), в оценке желательных качеств постоянной партнерши внешность заняла 5-е, а у студенток 19-е место. Однако значение этого фактора быстро растет, самовосприятие молодых людей сильно отличается от критериев и оценок старших поколений; «внешние» свойства занимают в их шкале значительно больше места, чем было принято раньше.
Усиленная забота о внешности и равнение на заведомо нереалистические образцы мужского тела, пропагандируемые кино и телевидением, – американские исследователи (Pope et al., 2000) назвали это «комплексом Адониса», – сопряжены со значительными психологическими издержками. Анализ мужских образов в рекламе с 1987 по 1997 г. (Rohlinger, 2002) показал, с одной стороны, их растущую эротизацию, а с другой – повышенное внимание к мускулатуре. Сравнение произведенных между 1964 и 1998 гг. игрушечных мужских фигурок, часто изображающих теле– и киноперсонажей вроде Бэтмана, Человека-паука и т. п. (action figures), с которыми, в отличие от девчоночьих кукол, играют мальчики, показало, что они становились все более и более мускулистыми. Если представить их в натуральную величину, то телесные пропорции у них окажутся не только неэстетичными, но физиологически невозможными (Pope et al., 1999). Молодые мужчины на вкладках журнала «Playgirl» с 1973 по 1997 г. тоже с каждым годом выглядели все более мускулистыми, а некоторые из моделей явно не могли быть «сделаны» без помощи анаболических стероидов (Leit et al., 2000).
Ориентируясь на предлагаемые СМИ идеализированные образы, молодые мужчины и женщины плохо представляют себе, чего они на самом деле хотят друг от друга: мужчины переоценивают степень привлекательной для женщин мускулистости, а женщины переоценивают степень привлекательной для мужчин худобы. Чтобы угодить своим читателям, журналы, рассчитанные на мужскую аудиторию, склонны изображать идеальное мужское тело с более рельефными мускулами, чем в женских журналах. Систематически сравнив глянцевые журналы «Cosmopolitan», «Men's Health», «Men's Fitness» и «Muscle & Fitness», психологи нашли, что идеальное мужское тело, продаваемое мужчинам, имеет более мощную мускулатуру, чем идеальное мужское тело, продаваемое женщинам. Это внушает людям нереалистические нормативные представления о том, какими они могут и должны быть, и создает рассогласованность между предпочтениями одного пола и личными стремлениями представителей другого пола (Frederick et al., 2005).
Американские, европейские и даже азиатские исследователи дружно отмечают, что среди молодых мужчин заметно усиливается неудовлетворенность собственным телом и внешностью. По данным американского журнала «Psychology Today» (Jan/Feb 1997), в 1972 г. своей внешностью были недовольны 15 % американских мужчин, в 1985 г. их стало 34 %, а в 1997-м – 43 %. 11 % мужчин говорят, что ради обретения нормального веса они готовы пожертвовать пятью годами жизни. Правда, за эти годы американцы действительно заметно растолстели, но собственная внешность «постоянно» и «часто» беспокоит 46 % мужчин с нормальным весом. Пока что мужчины в этом отношении отстают от женщин.
При Интернет-опросе 52 677 гетеросексуальных взрослых от 18 до 65 лет (это самый большой опрос в мире) на избыточный вес пожаловались 61 % женщин и 41 % мужчин, считают свое тело непривлекательным соответственно 21 и 11 %, избегают появляться на публике в купальном костюме 31 % женщин и 16 % мужчин (Lever et al., 2006a). Но число неудовлетворенных своим телом мужчин растет (чаще всего это худые и толстые мужчины), и все больше мужчин прибегают для исправления своих действительных и мнимых телесных недостатков к помощи пластической хирургии.
Пластическая хирургия в США стала крупным бизнесом, уже в 1994 г. каждая четвертая операция делалась мужчинам. Это поветрие распространяется и в других странах. Среди клиентов Лондонской клиники эстетической пластической хирургии 40 % – мужчины (MacKinnon, 1997. P. 114). Самые распространенные операции, которые делают мужчины, – пересадка волос, изменение формы носа, липосакция (отсасывание жира), подтягивание век и мышц лица, прокалывание ушей, увеличение подбородка, химическое воздействие на кожу. Увеличить свои грудные мышцы хотели ли бы 38 % опрошенных американских мужчин; это на 4 % больше числа женщин, желающих увеличить свои молочные железы. Быстро растет популярность силиконовых имплантаций, изменяющих форму грудных мышц и бедер, а также операций по удлинению и утолщению пениса. Растет спрос на такие услуги и в России.
Эта тенденция свидетельствует прежде всего о достижениях пластической хирургии, которая способна на то, о чем раньше нельзя было и мечтать. Она связана и с ростом продолжительности жизни, причем пожилые люди хотят быть не только здоровыми, но и привлекательными, и, что немаловажно, у них есть на это деньги. Однако за этим стоит также качественное изменение мужского самосознания.
«Неудовлетворенность телом» – сложное явление.
Во-первых, что именно беспокоит мужчин? Ученые предлагают разграничивать а) общее стремление к маскулинности, включающее образ тела, поведение и установки, и б) конкретные параметры мужской неудовлетворенности телом – мускулистость, телесный жир и рост. Эти моменты далеко не всегда совпадают (Bergeron, Tylka, 2007).
Во-вторых, какова степень неудовлетворенности? Это может быть как нормальное недовольство собой, которое переживает практически каждый человек, так и патологический навязчивый невротический страх, связанный с реальным или воображаемым физическим недостатком, отвращение к своему телу, бред физического недостатка, который итальянский психиатр Энрико Морселли впервые описал в 1886 г и назвал дисморфофобией (греч. dys – затруднение, morphe – вид, форма и фобия – страх). В американской психиатрии эта болезнь называется дисморфическим расстройством тела (Body dysmorphic disorder – BDD). Это весьма распространенное, тяжелое и мучительное психическое расстройство. До недавнего времени психиатры считали, что его жертвами бывают преимущественно женщины, но теперь от этого мнения отказались.
Дисморфофобия поражает и мужчин, и женщин, они переживают ее одинаково тяжело, хотя есть некоторые различия (Phillips, Castle, 2001). Мужчины чаще всего недовольны своей кожей, волосами (страх облысения), носом (форма или размер) и гениталиями. В группе риска преобладают мужчины старшего возраста, холостые, одинокие (часто вследствие той же дисморфофобии) и наркозависимые. Они скрывают свое состояние, редко обращаются к врачу. Многие испытывают психосексуальные трудности и склонны к самоубийству.
Недавно выделенная специфически мужская форма заболевания, так называемая мускульная дисморфия (muscle dysmorphia), состоит в том, что собственное тело кажется мужчине слишком маленьким, тщедушным, недостаточно мускулистым, хотя в действительности оно может быть абсолютно нормальным. Чтобы исправить воображаемый недостаток, такие мужчины посвящают все свое время «накачке» мускулов или увлекаются разными диетами. Самое опасное последствие мускульной дисморфии – применение анаболических стероидов (это делают 6–7 % американских старшеклассников). Хотя современная психиатрия достаточно успешно лечит это заболевание, многие мужчины предпочитают обращаться за помощью не к психиатрам, а к дерматологам или хирургам, чье вмешательство большей частью неэффективно.
Серьезной проблемой является нервная анорексия, когда желание похудеть заставляет человека практически отказываться от пищи и приводит к истощению и голодной смерти. Совсем недавно нервная анорексия считалась исключительно женской болезнью, ее жертвами были преимущественно девочки-подростки. Сейчас ей подвержены также мальчики и молодые мужчины. По данным американской организации, занимающейся профилактикой расстройств питания (см.: ), около 10 % людей, попадающих в связи этим в поле зрение психиатров, – мужчины, а клиническая картина их расстройств практически не отличается от женской. Тем не менее гендерные различия сохраняются (Phillips, Menard, Fay, 2006). Анорексия у мужчин часто бывает проявлением и следствием мускульной дисморфии, в группах риска встречаются спортсмены, занятия которых предполагают ограничение веса, особенно гимнасты, бегуны, бодибилдеры, гребцы, борцы, жокеи, танцоры и пловцы. Больные анорексией мужчины и юноши значительно чаще женщин испытывают психосексуальные трудности и тревоги по поводу своей сексуальной активности.
Особую группу риска в этом плане, как и в других аспектах образа тела, представляют геи. Именно в их среде появились первые мужчины с анорексией. На это есть несколько причин, соотношение которых не совсем ясно:
1. У геев больше сомнений в своей маскулинности, поэтому они больше озабочены и меньше удовлетворены своим телом и внешностью, чем «натуральные» мужчины (Tiggemann et al., 2007).
2. Гей-сообщество придает больше значения телу и внешности, причем его нормативные идеалы разнообразны и даже полярны (одних привлекают стройные эфебы, других – волосатые «медведи»), но часто гипертрофированы.
3. Геи чаще натуралов смотрят порно и эротические образы, представляющие мужское тело откровенно нереалистично, отсюда – завышенный эталон для самооценки и разочарование в собственных качествах (Duggan, McCreary, 2004).
4. Геи вообще больше подвержены невротическим расстройствам.
Странно, на первый взгляд, то, что в группе риска по удовлетворенности своим телом одно из первых мест занимают бодибилдеры, тела которых по определению ближе всего к стереотипному идеалу мужественности. Но хотя бодибилдеров часто считают тщеславными гордецами, в действительности многие из них страдают от пониженного самоуважения, связанного с крайним перфекционизмом (стремлением к совершенству) относительно собственного тела.
Мужчины всегда занимались физическими упражнениями и накачкой мускулов, причем делали это публично, но для обычного атлета, так же как для воина или охотника, мускулатура функциональна, ее наращивают для решения какой-то «действенной» задачи – поднять, пробежать, метнуть, прыгнуть. В бодибилдинге мускулатура стала самоцелью: выпуклые мускулы нужны для того, чтобы их показывать.
Для многих бодибилдеров первичным стимулом накачивания мускулов является потребность в самозащите, детские переживания слабости и страха перед более сильными мальчишками. «Я буквально соорудил себе бронированный костюм, спрятав в нем хрупкого маленького неженку, каким я себя воображал. Несмотря на эту броню, временами я все еще вижу, как этот застенчивый неуклюжий мальчик смотрит на меня из прошлого», – признавался обладатель титула «Мистер Вселенная» Боб Пэрис (Jackson-Paris, 1994. P. 102). К тому же этот спорт больше любого другого тяготеет к нарциссизму. Бодибилдер целенаправленно «делает себя», на его тренировках обязательно наличие зеркал, а сами тренировки часто описываются в сексуальных терминах (английское to pump – качать означает также мастурбировать). При неправильных упражнениях и применении стероидов часто происходит потеря вирильности, грудь начинает походить на женскую и т. п. Мужская аудитория тоже воспринимает бодибилдинг неоднозначно.
Одна из главных мужских тревог – размеры и форма половых органов. Поскольку пенис – главный признак маскулинности, мужчины всегда придавали большое значение его габаритам, воспринимая его как фаллический символ. Это, пожалуй, единственное свойство, в оценке которого мужчины гиперсамокритичны и склонны считать свое достоинство меньшим, чем достоинство соседа. В недавнем Интернет-опросе 52 031 гетеросексуальных мужчин и женщин большинство мужчин (66 %) оценили свои пенисы как средние, 22 % – как большие и 12 % – как маленькие. Самооценка размеров пениса положительно коррелирует с ростом и отрицательно – с весом владельца (то есть высокорослые мужчины считают свои пенисы большими, а толстые мужчины – маленькими). При этом для самих мужчин размеры пениса значительно важнее, чем для женщин: 85 % женщин удовлетворены размерами пениса своего партнера, и лишь 55 % мужчин удовлетворены размерами собственного пениса; 45 % хотели бы, чтобы он был больше, а 0,2 % – меньше. Характерно, что мужчины, оценившие размеры своего пениса выше среднего, более благоприятно оценивают и свою внешность (Lever et al., 2006b). Во всемирном опросе журнала «Men's Health», в котором участвовали 3 159 российских мужчин, в основном моложе 35 лет, на вопрос: «Тебя устраивает размер собственного члена?» 17,7 % ответили «безусловно», 74,93 % – «более-менее» и 4,75 % – «нет» (русский «Men's Health», июль 2006). Популяризация этой темы в массовой культуре (раньше об этом можно было говорить лишь в мужской компании), включая рекламу операций по увеличению «мужского достоинства», способствует усилению таких тревог, что, в свою очередь, порождает серьезные психосексуальные проблемы: если у тебя маленький или некрасивый пенис, какая женщина тебя полюбит? Страх и пониженная самооценка действуют как самореализующийся прогноз, превращая мужчину в сексуального неудачника. Особенно драматично воспринимают эти проблемы подростки.
В России привыкли обвинять во всех трудностях телевидение. Но при всей влиятельности ТВ образ тела и неудовлетворенность им не являются простым продуктом «фабрики грез». Прежде всего, существуют большие гендерные различия. Лонгитюдное исследование взаимосвязи телесной неудовлетворенности и ряда психологических факторов (самоуважение, пониженное настроение, просмотр телевизионных программ и глянцевых журналов, избыточный вес и насмешки по этому поводу, увлечение родителей и друзей диетами и т. п.) у 1 386 женщин и 1 130 мужчин (средний возраст 19,6 лет) показало, что у молодых женщин удовлетворенность телом зависит от медийных образов значительно сильнее, чем у мужчин, для которых сравнение себя с этими образами менее значимо(Berg et al., 2007). Дело не столько в большей впечатлительности женщин, сколько в том, что мужчины и женщины имеют разные телесные стратегии: если девушки хотят просто похудеть, чтобы лучше выглядеть, то юноши стремятся превратить жир в мускулы, что можно сделать только с помощью физических упражнений. Это более активная установка.
Мужчины в этом отношении также неодинаковы. Английские психологи (Halliwell et al., 2007) исследовали, как влияние идеализированных мужских образов зависит от того, пытаются ли мужчины активно изменить силу и мускулистость своих тел или нет. Испытуемыми было 116 мужчин (средний возраст 28,62 лет), одни из которых регулярно посещали местный фитнес-клуб, а другие нет. Оказалось, что на мужчин, которые спортом не занимались, идеализированные образы глянцевых журналов производили только отрицательный эффект: сравнивая себя с этими образами, они испытывали неудовлетворенность собственным телом. Напротив, для мужчин, которые занимались спортом, идеальные образы служили стимулом продолжать упражнения и добиваться поставленных целей (хотя эти цели могли быть завышенными и утопическими). С точки зрения психологической теории, в этом ничего нового нет, но такие исследования важны для выработки более эффективных методов пропаганды спорта и физического здоровья.
Судя по данным национального опроса ФОМ «Культура тела: физическая форма, спорт, красота» (Вовк, Миськова, 2007 г), в России дело с этим обстоит не слишком благополучно.
Отношение россиян к культуре тела, спорту и красоте (по данным ФОМ)
Хорошая физическая форма пока что не считается в нашей стране непреложной ценностью. Хотя 39 % респондентов согласились с мыслью, что красивой можно счесть только спортивную, подтянутую фигуру, заметно большая доля (49 %) придерживается иного мнения: чтобы быть красивым, тело не обязательно должно быть спортивным и подтянутым. Первой точки зрения чаще придерживаются мужчины (44 %), второй – женщины (53 %), от возраста распределение мнений не зависит.
Стремление к хорошей физической форме присуще мужчинам и женщинам в равной степени. В целом по выборке его декларируют 55 % опрошенных. Пожилые люди выражают такое желание вдвое реже, чем молодежь (35 и 69 %). Отчасти это отражение распространенного в обществе представления о «хорошей физической форме» как атрибуте молодости.
Из приведенной ниже диаграммы видно, что мужчины оценивают свою физическую форму выше, чем женщины. На вопрос: «А если говорить о вас лично, вы для мужчины (женщины) вашего возраста находитесь в хорошей или в плохой физической форме?» первый вариант ответа выбрали 62 % мужчин и 48 % женщин, а второй – соответственно 28 и 41 %.
Однако заметной разницы в прилагаемых ради этого усилиях между ними нет, хотя мужчины больше женщин хотят заниматься физкультурой и спортом (58 % против 49) и фактически чаще делают это (вовсе не занимаются спортом 53 % мужчин и 65 % женщин). Наличие у себя избыточного веса признают 44 % женщин и только 19 % мужчин, никогда не взвешиваются 29 % женщин и 42 % мужчин (Васильева, 2008). Более высокая оценка мужчинами своей физической формы, на мой взгляд, объясняется тем, что мужчины вообще склонны переоценивать свою физическую форму и состояние здоровья. Кроме того, мужчины и женщины не совсем одинаково понимают, что такое «хорошая физическая форма».
На следующей диаграмме представлены результаты ответов на вопрос: «Есть разные представления о том, что такое „хорошая физическая форма“. Для одних „хорошая физическая форма“ – это общее физическое состояние, хорошее самочувствие. Для других „хорошая физическая форма“ – это не только общее физическое состояние, но и красивое тело, хорошая фигура. Какая точка зрения – первая или вторая – вам ближе?» Если для 54 % мужчин и 47 % женщин это – просто «общее физическое состояние, хорошее самочувствие», то для 39 % мужчин и 48 % женщин это также – «красивое тело, хорошая фигура».
Более сложные и тонкие эстетические притязания удовлетворить труднее. У западных мужчин рост неудовлетворенности своим телом связан прежде всего с появлением новых эстетических критериев оценки своего телесного «Я». В России этот процесс только начинается.
Если взглянуть на Россию за пределами Садового кольца, многие вопросы, волнующие западных исследователей, для россиян не особенно актуальны: какой там фитнес, если в деревне нет газа и электричества, да и есть нечего?! Но нужно смотреть вперед. Изучение физкультурно-спортивной мотивации и самооценок подростков (Ильин, 2002) показывает, что и гендерные различия, и тенденции развития в этом вопросе у нас те же самые, что в других странах. А то, что сегодня чувствуют подростки, завтра станет достоянием взрослых. Как бы ни были сильны в массовом сознании консервативные настроения, общий тон развития задают не брюзжащие пенсионеры и мечтающие о возвращении к далекому патриархальному прошлому священники, а городская молодежная культура.
В этой связи представляет интерес не только всеми одобряемый спорт, но и почти всеми не одобряемые мужской стриптиз и мужская проституция. Для России эти явления относительно новые. Раньше мужчины были лишь зрителями женского стриптиза, а теперь они нередко становятся действующими лицами, показывающими свою наготу за деньги, для сексуального удовлетворения публики. Как это сказывается на их образе «Я»? (См.: Кон, 2003б.)
Мужской стриптиз. Интерлюдия
С точки зрения гегемонной маскулинности, мужчина, торгующий собственным телом и занимающийся сексуальным обслуживанием, – это предел падения. Но чувство унижения и утраты вирильности ассоциируется не с оголением как таковым, а с потерей статуса. Стриптизер, или артист эротического шоу, поначалу чувствует себя беззащитным под оценивающими взглядами публики. «Стоя голым перед четырьмястами людьми, чувствуешь себя таким ранимым. Трудно не воображать, что каждый в аудитории критически оценивает твой „размер“. Но я никогда не заботился об эрекции – ты слишком напряжен, слишком много думаешь об аудитории», – признавался артист лондонского «грязного шоу». Смущение по поводу собственной наготы – чаще всего проявление обычной исполнительской тревожности. Молодой человек легко может убедить себя в том, что он демонстрирует не столько свою природную наготу, которой нужно стесняться, сколько совершенное владение телом, самообладание и мастерство, а это вполне почтенные мужские качества. Кроме того, важную роль играет мотив социального успеха.
Московские журналисты, посетившие дорогой женский клуб с мужским стриптизом и познакомившиеся с «мальчиками по вызову», обнаружили, что эти молодые мужчины не чувствуют себя униженными. Молодому журналисту из «Men's health», который пробрался в закрытый клуб, переодевшись женщиной, стриптизеры не понравились, показались наглыми, приставучими и выглядящими «не по-мужски», особенно его шокировала их плотно обтягивающая одежда. Впрочем, в его рассказе явно проступает забота о том, чтобы его самого, не дай Бог, не приняли за гея.
Впечатления журналисток более разнообразны и скорее положительны. По словам журналистки «Московских новостей», самое «неприличное» в клубе «Красная шапочка» – цены. Все остальное скорее хорошо. Красивые стриптизеры, от 19 до 29 лет, приходят сюда из специальных школ танцев и моделей. Танцуют они в плавках, но за особую плату могут раздеться совсем. Можно «заказать» парня к себе за столик или на приватный танец «в абсолютно обнаженном виде», пойти с ним в солярий или совместно принять душ. Сексом в клубе официально не занимаются. Кроме случайных посетительниц, там около ста постоянных клиенток. Это богатые женщины средних лет, которые держатся свободно и могут оплатить любое удовольствие. В общем, если разобраться, сервис как сервис. Женщины испокон веков обслуживали мужчин, так почему не сделать наоборот?
В отличие от дешевых уличных сексработников, клубными «коллбоями» (мальчиками по вызову) работают студенты престижных вузов, красивые парни с большими «стволами». Все оплачивается по таксе, время и каждая услуга – отдельно. Можно заказать по картотеке спутника на вечер или даже взять его с собой в круиз. Журналистка из «СПИД-инфо» «арендовала» на вечер 26-летнего красавца Серджио, пошла с ним в ночной клуб, и все ее подруги им дружно восхищались. Можно нанять «мальчика» и в постель, но это дорого.
А как воспринимает свою роль Серджио? Казалось бы, выставляя себя на продажу, он должен потерять самоуважение. Ничего подобного. Так как его труд хорошо оплачивается и на него всегда есть спрос, он может чувствовать себя мачо и даже смотреть на заказчицу сверху вниз: «Мне нравится красивая жизнь, дорогие машины… Если честно, возбуждает мысль, что женщина покупает меня. Она ощущает себя моей хозяйкой, но только до тех пор, пока не окажется со мной в постели. Там я умею сбивать с клиенток спесь. Ведь стоит только женщине раздвинуть ноги, как она тут же становится покладистой и нежной» (Серова, 2000).
Возможно, парень отчасти выдает желаемое за действительное, но его психология мало чем отличается от психологии дорогих куртизанок. Экономические соображения для него важнее сексуально-гендерных: настоящий мужчина обязан прежде всего хорошо зарабатывать, а каким способом – не так уж важно. Вспоминается старый кавказский анекдот.
В сухумском обезьяньем питомнике настырная женщина спрашивает экскурсовода, указывая на вожака:
– Это мужчина?
– Нет, это самец.
– А какая разница?
– Мужчина – тот, у кого деньги.
Даже будучи выставленным напоказ за деньги, мужское тело может оставаться доминантным. Это с удивлением констатировала группа российских феминисток, которые в 1999 г. после семинара в Сочи рискнули посетить мужской стриптиз. Вопреки ожиданиям, «мальчики» оказались вовсе не мягкими женоподобными юношами, а типичными качками, похожими «на группу молодых шабашников, подрабатывающих летом на постройке коровника, в лучшем случае на стройотряд […]. Все кружившиеся перед нами мужские тела были накачаны и напряжены, каждая мышца выпирала, как в анатомическом атласе, каждая блестела и пружинила. Каждое движение натертых маслом, великолепно тренированных тел олицетворяло мощную, властную, победительную мужественность» (Ашвин и др., 2000. С. 289).
Таким же было и их поведение. Вопреки обещаниям, ни один из «мальчиков» не разделся догола, они до конца оставались в плавках, вели себя вызывающе, трогали сидевших за столиками женщин и даже пытались их частично раздевать. «„Мальчики“ были мужчинами, сильными, холеными мужчинами, отборными образцами своего пола – и они сами могли выбирать, с кем им играть свое шоу» (Там же. С. 290). Одних женщин это возбуждало, других нет. Мужчин на это действо не пускают не потому, что они могли бы смутить присутствующих женщин, а потому что «мальчики» боятся ироничного, вожделеющего и одновременно контролирующего их мужского взгляда. Женские же взгляды их нисколько не смущают. «„Мальчики“ полностью владели женской аудиторией, все шоу было утверждением мужской власти… Была подчеркнута беспроблемная гетеросексуальность стриптизеров, подтверждена их власть над женщинами. Эти мужчины не были жертвами, а были, наоборот, инициаторами; не пассивными, а активными; не женщинами, а мужчинами» (Там же. С. 288).
Короче говоря, даже раздетый и оказавшийся в «женской» роли мужчина сохраняет свою маскулинность и остается субъектом действия. Мужская идентичность «пересиливает» игровую, перформативную женскую роль.
Таким образом, в сфере телесности современная культура также ставит перед мужчинами ряд новых проблем, но ничего катастрофического с ними не происходит. Ослабление поляризации мужского и женского телесного канона всего лишь один из аспектов ломки привычного гендерного порядка и плюрализации стилей и образов жизни. Выяснилось, что мужчины не железные и не каменные и что они, подобно женщинам, могут чего-то бояться и стесняться. Ну и что? Никакого глобального «унисекса» и отмены всех и всяческих половых различий при этом не происходит. Даже неприятный им избыточный вес мужчины и женщины переживают и преодолевают не совсем одинаково. Многие упомянутые мною проблемы не столько новые, сколько недоосознанные, и страдают от них не столько взрослые мужчины, сколько подростки и юноши. Чем лучше эти проблемы осмыслят профессиональные сообщества психологов и врачей, а вслед за ними – родители, тем легче будет их смягчать и корректировать.
«Кризис мужского телесного канона» плоть от плоти кризиса канона гегемонной маскулинности, которому реальные мужчины из плоти и крови никогда полностью не соответствовали. Взамен утраченной и отчасти иллюзорной гегемонии мужчины многое приобретают. Мы постепенно усваиваем, что мужское тело может быть эротическим объектом, на него можно смотреть, и этот взгляд не унижает ни того, кто смотрит, ни того, кем любуются. Пенис освобождается от тягостной обязанности постоянно притворяться фаллосом. Снятие с мужского тела фаллической брони повышает его чувствительность и облегчает эмоциональное самораскрытие. Даже такие традиционные мужские ценности, как развитая мускулатура, становятся средствами эмоциональной и сексуальной выразительности. Понимание своего тела не как крепости, а как «представления», перформанса, расширяет возможности индивидуального творчества, самоизменения, обновления, нарушения ставших привычными и стеснительными границ и рамок. Это вызовы, а не катастрофа (Кон, 2003б).
5. Самоуважение и удовлетворенность жизнью
Мужчины молчат о своих тайнах, делая вид, что их нет. Мнительные, они стесняются своих страхов^ Они вообще куда более стеснительны, чем женщины, которые угощают друг друга тайнами, как пастилой и печеньем… Мужчины по своей природе заики, которые с трудом учатся говорить.
Виктор ЕрофеевМужская телесность вывела нас на более высокие, интегративные личностные черты – образ «Я», самоуважение и удовлетворенность жизнью. Эти черты наиболее индивидуальны, а их критерии наиболее культурно специфичны, поэтому широкие обобщения в этой сфере трудны и проблематичны.
Самоуважение как обобщенная самооценка личности и как целостное отношение к себе стало популярным сюжетом западной психологии в середине 1960-х годов; я познакомил советских читателей с соответствующими исследованиями в книгах «Открытие Я» (1978) и «В поисках себя» (1984). Но понятие «самоуважение» чрезвычайно многозначно, подразумевая и удовлетворенность собой, и принятие себя, и чувство собственного достоинства, и положительное отношение к себе, и согласованность своего наличного и идеального «Я».
Ранние психологические тесты и шкалы самоуважения Морриса Розенберга (1965) и Стэнли Куперсмита (1967) измеряют, прежде всего, более или менее устойчивую степень положительности отношения индивида к себе. По Куперсмиту, самоуважение выражает установку одобрения или неодобрения и указывает, в какой мере индивид считает себя способным, значительным, преуспевающим и достойным, «это личное ценностное суждение, выраженное в установках индивида к себе». В зависимости от того, идет ли речь о целостной самооценке себя как личности или о каких-либо отдельных социальных ролях и свойствах, различают общее (глобальное) и частное (например, учебное или профессиональное) самоуважение. Поскольку высокое самоуважение ассоциируется с положительными, а низкое с отрицательными эмоциями, мотив самоуважения – это «личная потребность максимизировать переживание положительных и минимизировать переживание отрицательных установок по отношению к себе» (Kaplan, 1980).
На этой теоретической основе было выполнено множество исследований, в том числе посвященных гендерным аспектам самосознания. Однако эти исследования имели два ограничения. Во-первых, почти все они посвящены детям и подросткам, оставляя в тени другие фазы жизненного пути. Во-вторых, они недостаточно строго разграничивали когнитивные (представления о себе и своих качествах) и эмоциональные (отношение к себе) аспекты образа «Я».[6]
Что касается гендерных особенностей, то в конце 1970-х было установлено, что у девочек самоуважение ниже, чем у мальчиков, и с возрастом эта разница увеличивается. Такое открытие вызвало большую тревогу у американских учителей и родителей. Судя по новейшим данным, уровень самоуважения, уверенности в себе, социальных притязаний и веры в собственный успех у мальчиков во всех возрастах и средах действительно выше, чем у девочек. В какой-то мере это верно и для взрослых мужчин и женщин. Метаанализ психологической литературы 1958–1992 гг. и нормативных данных самых авторитетных личностных опросников 1940–1992 гг. показал, что мужчины выглядят более напористыми и имеют немного более высокий уровень самоуважения, чем женщины, а женщины превосходят мужчин по экстраверсии, тревожности, доверчивости и, особенно, мягкости характера. Существенных гендерных различий в социальной тревожности, импульсивности, активности, идеях, локусе контроля и организованности выявлено не было (Feingold, 1994).
Склонность мужчин к более высокому самоуважению подтверждена и недавними метаанализами (Kling et al., 1999; Major et al., 1999), обобщившими результаты свыше 200 отдельных исследований гендерных различий в глобальном самоуважении. В одном исследовании компьютеризированный литературный поиск, охвативший 97 121 респондента от 7 до 60 лет, нашел между мужчинами и женщинами 216 различий, с небольшим общим преимуществом у мужчин (значительный эффект появляется в юношеском возрасте, 15–18 лет). В другом исследовании, обобщившем три репрезентативные выборки Национального центра педагогической статистики (48 000 молодых американцев от 13 до 32 лет), мужчины имели более высокие показатели по глобальному самоуважению, но разница небольшая (максимальная у восьмиклассников, но уже в десятом – двенадцатом классах она уменьшается). Отсюда вытекает, что преимущество мужчин невелико, величина различий варьирует на разных стадиях жизненного пути и зависит от характера оцениваемых черт. В недавнем метаанализе коммуникативных черт (Sahlstein, Allen, 2002) мужчины обнаружили более высокое самоуважение в оценке своих социальных и физических черт, но уступили женщинам по ряду других показателей.
Насколько стабильны индивидуальные показатели самоуважения на протяжении жизненного пути? Метаанализ 50 опубликованных статей, с общим числом испытуемых 29 817 человек от 6 до 83 лет, и четырех больших национальных исследований (число испытуемых 74 381 человек) (Trzesniewski et al., 2003) показал, что в целом самоуважение – достаточно устойчивая личностная черта. Наименее стабильное самоуважение характерно для детей, в переходном возрасте и в молодости оно становится более устойчивым, а в середине жизни и в старости снова менее стабильным.
Одна из первых попыток оценить устойчивость гендерных особенностей мужского и женского самоуважения – Интернет-опрос 326 641 американских мужчин и женщин от 9 до 90 лет (Robins et al., 2002). В целом, траектория самоуважения мужчин и женщин, независимо от их этнической принадлежности и социально-экономического положения, оказалась сходной: высокое самоуважение в детстве, резкое снижение в переходном возрасте, постепенный подъем в течение взрослости и заметное снижение в старости.
Как и в предыдущих исследованиях, обнаружились интересные половозрастные различия. У 9—12-летних мальчиков и девочек уровень самоуважения практически одинаков (то же показал метаанализ, см.: Major et al., 1999). В пубертатном возрасте (13–17 лет) уровень общего самоуважения резко снижается, у девочек – вдвое больше, чем у мальчиков.
Психологи связывают это с тем, что девочки тяжелее переживают сдвиги, связанные с изменением своего телесного облика в период полового созревания (Rosenberg, 1986). У взрослых самоуважение постепенно повышается, но у мужчин оно выше, чем у женщин. Разница между ними сильно уменьшается к 70 годам, после чего самоуважение снова быстро снижается, причем на этот раз мужчины впервые уступают женщинам.
Однако Интернет-опрос не может заменить лонгитюдных исследований, тем более что эмпирические индикаторы разных исследователей не совпадают. В грубых социологических измерениях индикаторы самоуважения трудно отделить от показателей субъективного благополучия. В рамках международного проекта по изучению ценностей (опрошено 146 000 взрослых респондентов из 65 стран) уровень субъективного благополучия (СБ) (subjective well-being, сокращенно SWB) более молодых, до 45 лет, женщин оказался даже несколько выше мужского: очень счастливыми считают себя 24 % мужчин и 28 % женщин, а в старости картина меняется: очень счастливыми признают себя 25 % мужчин и только 20 % женщин (Inglehart, 2002). Роналд Инглехарт объясняет это характерной для индивидуалистических западных обществ социальной недооценкой роли пожилых женщин. Но, хотя самоуважение и СБ не одно и то же, эти показатели близки друг к другу. Метаанализ 300 исследований гендерных различий в удовлетворенности жизнью, в счастье, самоуважении, одиночестве и в оценке своего здоровья (Pinquart, Sorensen, 2001) обнаружил, что, хотя старшие женщины по всем этим параметрам существенно уступают своим ровесникам-мужчинам, в целом гендерные различия объясняют меньше 1 % всех вариаций в СБ и образе «Я».
Может быть, разница в степени самоуважения и субъективного благополучия мужчин и женщин вообще зависит не столько от их психологических особенностей, сколько от социально-экономических факторов? Метаанализ 446 выборок с общим числом респондентов 312 940 (Twenge, Campbell, 2002) показал, что люди с более высоким социально-экономическим статусом (СЭС) (а в этом отношении мужчины, как правило, стоят выше женщин) обладают и более высоким самоуважением. Этот эффект незначителен у маленьких детей, которые могут не знать своего СЭС, но существенно усиливается в молодости вплоть до средних лет и снова уменьшается после 60 лет. Так что интерпретировать эти данные нужно осторожно. Тем более что они связаны не только с экономикой, но и с культурным символизмом.
Независимость или взаимозависимость? Материал к размышлению
Самоуважение и субъективное благополучие индивида неотделимы от ценностных ориентаций тех культур и обществ, к которым он принадлежит. Это вновь выводит нас на проблему соотношения индивидуализма и коллективизма. Хотя оба понятия широко используются и в психологии, и в социальной антропологии и специалисты в этих областях знания нередко ссылаются друг на друга, данные категории имеют для них не совсем одинаковое значение. По этим вопросам сейчас разворачивается увлекательная теоретическая дискуссия (Oyserman et al., 2002; Markus, Kitayama, 2004).
Предложенное Гертом Хофстеде (Hofstede, 1980) концептуальное различение индивидуалистических и коллективистских культур оказало сильное влияние на общественные науки и психологию.
Базовый элемент, ядро индивидуализма – предположение, что индивиды независимы друг от друга. Нормативный индивидуализм выше всего ценит личную ответственность и свободу выбора, право на реализацию своего личного потенциала при уважении неприкосновенности других. Индивидуалистические культуры ставят во главу угла личные ценности, личную уникальность и личный контроль, отодвигая все социальное, групповое на периферию. Важными источниками субъективного благополучия и удовлетворенности жизнью в этой системе ценностей является открытое выражение эмоций и достижение личных целей субъекта (Diener et al., 1999; Hofstede, McCrae, 2004).
Напротив, базовый элемент коллективизма – представление, что социальные группы связывают и взаимно обязывают индивидов. Здесь обязанности стоят выше прав, а удовлетворенность жизнью вытекает не из личной самореализации, а из успешного выполнения своих социальных ролей и обязанностей и избежания неудач в этих сферах. Для поддержания внутригрупповой гармонии в коллективистской культуре рекомендуется не столько прямое и открытое выражение личных чувств, сколько ограничение эмоциональной экспрессии. Иными словами, индивидуалистические общества больше ценят независимость, а коллективистские – взаимозависимость.
Соответственно варьируют и критерии субъективного благополучия. Оно может вытекать как из внутренних (восприятие и свойства самости – самоуважение, последовательность «Я» и внутренние эмоциональные состояния), так и из внешних источников (восприятие и свойства групп и отношений – выполнение социальных обязательств, поддержание культурных норм и гармонических личных отношений). Исследование 31 страны показало, что в индивидуалистических странах субъективное благополучие людей гораздо больше зависит от самоуважения, чем в коллективистских. Те же результаты были получены относительно эмоциональных состояний и последовательности «Я». Сравнение удельного веса самоуважения (внутренний фактор) и гармонии в личных взаимоотношениях (внешний фактор) как источников субъективного благополучия в «индивидуалистических» США и «коллективистском» Гонконге также подтвердило эту гипотезу.
Однако предметом этих исследований были не индивидуальные свойства людей, а нормативные ожидания соответствующих обществ. Из высокого индивидуализма американского (США) общества как целого вовсе не следует, что все составляющие его этнические и социальные группы тоже будут индивидуалистическими. Почему бы этой проблеме не иметь и свой гендерный аспект?
(Reid, 2004.) Маскулинные и фемининные нормы по-разному представляют соотношение индивидуализма и коллективизма. Составляющая ядро маскулинности субъектность (потребность быть действующим лицом, агентом действия) делает мужскую культуру более индивидуалистической, подчеркивающей свою независимость, отдельность от других, тогда как женская культура, больше ориентированная на других, подчеркивает скорее взаимозависимость.
Специалисты по-разному интерпретируют это различие. Одни приписывают его биологическим свойствам. Другие выводят его из особенностей взаимоотношений матери и дочери: формируя свою идентичность по материнскому образцу, девочка тем самым развивает в себе базовое чувство тождественности и взаимосвязанности, тогда как мальчик, идентичность которого резко отлична от материнской, формирует чувство различия и отдельности (Ходоров, 2000). Социальная психология связывает эти различия с особенностями типичных мужских и женских ролей (Eagly, 1987): женщины чаще выполняют функции, предполагающие заботу о других (мать, сестра), тогда как мужские роли подчеркивают необходимость независимости и самопродвижения. Феминистские теории выдвигают на первый план проблему власти: будучи подчиненными членами общества, женщины должны уметь угадывать желания более могущественных «других», тогда как мужчинам, принадлежащим к господствующей группе, это требуется в меньшей степени.
Интересно, что, хотя теоретические объяснения расходятся, самого феномена различия мужской и женской самореализации никто вроде бы не отрицает. Но если гендерные различия в ориентации преимущественно на независимость или взаимозависимость существуют, то они неизбежно скажутся и на критериях субъективного благополучия. Женщины, чья ориентация на взаимозависимость напоминает коллективистские культуры, будут при оценке своего благополучия принимать во внимание как внутренние, так и внешние источники, тогда как мужчины, чья ориентация на независимость близка к индивидуалистическим культурам, будут при оценке своего благополучия отдавать предпочтение внутренним источникам. Хотя кросскультурные исследования эту гипотезу не проверяли, существуют ее косвенные подтверждения.
В одном исследовании было показано, что мужское и женское самоуважение покоится на разных основаниях, связанных с культурно-заданными гендерными ролями: мужское самоуважение теснее связано с личными достижениями, а женское – с успешными межличностными отношениями. По некоторым предположениям, мужчины и женщины не совсем одинаково определяют свое «Я». Мужчины склонны конструировать схемы самости, центральным принципом которых является «отдельность от других», а первичными компонентами – черты, навыки и свойства, имманентно присущие индивиду, тогда как женщины конструируют схемы, в основе которых лежит принцип связи с другими. Правомерны ли столь широкие обобщения – сказать трудно. Однако исследование, проведенное Анной Рейд, показало, что американские мужчины и женщины действительно основывают оценки своего жизненного благополучия на разных источниках: для мужчин главное – самоуважение, удовлетворенность собой, тогда как для женщин – это только полдела, вторая половина счастья – участие в гармоничных и взаимно удовлетворяющих личных отношениях (Reid, 2004).
Косвенным подтверждением наличия сходных тенденций в России может служить сравнительное изучение мужских и женских автобиографий. Судя по этим данным, российские мужчины гораздо чаще женщин выражают удовлетворенность тем, как сложилась их биография. Неудачной считают свою жизнь 28,6 % мужчин, удачной – 68,9 %. Большинство мужчин видит свою удачу в выборе жены и рождении детей (28,2 %), затем (17,9 %) – в выбранном образовании, профессии и работе, 11,8 % – и в работе, и в семье (Мещеркина, 2004). Формируя биографический конструкт «самодостаточного Я», мужчины стремятся представить себя, прежде всего, с точки зрения полученного ими образования и пройденного профессионального пути и гораздо реже – с точки зрения отношений с кем бы то ни было. Вдвое больше мужчин, чем женщин, полагают, что они сами кузнецы своей судьбы. Мужчины в два раза реже женщин повторяют родительский биографический проект. Код «семья и обзаведение детьми» занимает в их рассказе маргинальное положение. Согласно их автобиографической самооценке, мужчины менее склонны зависеть от обстоятельств, они чаще женщин приписывают управление биографией лично себе, но в то же время чаще женщин подвластны влиянию значимых «других» (родителей, друзей). Среди наиболее употребимых смысловых кодов мужской биографии: «как сложилось, так сложилось», «повлияла перестройка и общее ухудшение экономической обстановки», «упущенные возможности, в том числе образование». Мужчины почти в три раза реже женщин связывают свою удачу с полученным образованием, зато втрое чаще отмечают неудачи, связанные с работой. Суть «мужской биографической нормы» Мещеркина видит в оседлости, верности выбранной распространенной профессии, стабильности социального контекста, усредненности, наличии полной семьи, следовании норме здоровья и поведения. Мужчины вдвое реже женщин ориентированы на повторение своей судьбы в детях, среди них больше тех, кто видит биографию своих детей иной, нежели их собственная. Таким образом, социальное изменение чаще стимулируется мужской, чем женской биографической практикой.
Думаю, что для серьезных теоретических обобщений этих данных недостаточно. Однако определенную пищу для размышления они дают. Самое интересное, на мой взгляд, заключается в том, что от глобального отождествления (мужчины и женщины одинаковы) и такого же глобального противопоставления (мужчины – с Марса, женщины – с Венеры) мы приходим к констатации тонких социально-групповых, этнокультурных и индивидуальных вариаций.
Еще одно мое замечание касается предполагаемого «индивидуализма» мужской культуры. Хотя такое предположение для мужчин лестно, потому что с индивидуальностью ассоциируются новизна и креативность (очко в пользу теории Геодакяна), практически любая мужская культура (и по данным антропологии, и по психологическим данным) представляет собой противоречивое сочетание высокой соревновательности (всех опередить, подчинить и выделиться) и такого же высокого коллективизма (чувство локтя, принадлежность к стае, умение подчиняться групповой дисциплине). Как эти потребности преломляются в самосознании и оценке своей успешности и благополучности – нелегкий вопрос. Вероятно, разные мужчины в разных обществах и в разных конкретных ситуациях отвечают на эти вызовы по-разному. Может быть, большая индивидуализация мужчин по сравнению с женщинами следствие не столько их природных качеств, сколько большей дифференциации их жизнедеятельности (индивидуальная работа – социальная привилегия)? Этот вопрос возникал у нас при обсуждении древнейших форм разделения труда, но пока ни антропология, ни психология ответить на него не могут.
И последнее. Мужчины во всех возрастах склонны считать себя более сильными, энергичными, властными и деловыми, чем женщины, но при этом они, особенно мальчики-подростки, нередко переоценивают свои способности и положение, не любят признавать свои слабости и недостаточно прислушиваются к информации, которая противоречит их завышенной самооценке. Хотя такой защитный механизм (игнорируя информацию, противоречащую его образу «Я», человек защищает свое самоуважение) кажется иррациональным, он способствует формированию жизнестойкости и внутренней установки на самостоятельность. То есть он идет мужчинам на пользу. Но прекрасное нормативное мужское качество – уверенность в себе – легко превращается в опасную самоуверенность. Это имеет свой социально-педагогический аспект.
С 1970-х годов в США проводится широкая социально-педагогическая кампания по повышению самоуважения школьников и особенно – представителей стигматизированных групп. Она, несомненно, приносит пользу. Но «аффирмативный (поддерживающий) дискурс» – похвалы независимо от реальных достижений – имеет и немалые издержки. Если в последней трети ХХ в. влиятельные американские психологи писали об опасных последствиях низкого самоуважения, то в последние годы по крайней мере трое видных психологов – Рой Баумейстер, Дженнифер Крокер и Николас Эмлер, опираясь на данные социальной статистики, утверждают, что плохие ученики, вожаки криминальных уличных шаек, расисты, убийцы и насильники вовсе не страдают пониженным самоуважением, напротив, зачастую они считают себя выше и лучше других. Само по себе высокое самоуважение не ведет к агрессии, но если оно не находит признания и подкрепления со стороны окружающих, оно превращается в опасный нарциссизм, некритическую самовлюбленность, которая может быть использована в каких угодно антисоциальных целях вплоть до терроризма. Многие религиозные экстремисты, и не только исламские, прямо говорят, что они призваны Богом исправить греховный мир и уничтожить тех, кто этому препятствует. Вот только боги и ценности у них разные. Между прочим, склонность к крайностям и экстремизму тоже типичное мужское свойство…
Чтобы успешно жить и развиваться, индивид должен сочетать убеждение в своей личной ценности и своем праве на счастье с трезвой и достаточно самокритичной оценкой своих реальных возможностей и достижений. Каких-либо данных, что мужчины обладают в этом отношении превосходством над женщинами (или наоборот), у меня нет. Методологически изучение этого вопроса ничем не отличается от изучения других когнитивных процессов и способностей.
6. Мужское здоровье
Здоров, как сто коров.
(Поговорка)Хотя мужчин называют сильным полом, с точки зрения теоретической биологии и медицины это утверждение сомнительно. Мужчины действительно физически сильнее женщин и имеют более высокий энергетический потенциал, но по целому ряду параметров они существенно уступают женщинам. Прежде всего это касается продолжительности жизни: в среднем мужчины умирают раньше женщин. Демографы называют это мужской сверхсмертностью. Похоже, что такая же закономерность действует и в животном мире, по крайней мере среди млекопитающих (Kohler, Preston, Lackey, 2006), но общепринятого объяснения этому в науке нет (Kruger, Nesse, 2004).
Иногда мужскую сверхсмертность напрямую связывают с размерами мужского родительского вклада: поскольку самец зачинает, но не выращивает потомство, в продолжении его жизни нет объективной необходимости, мавр сделал свое дело, мавр может уйти (в том числе и из жизни). Но он может зачать новую жизнь с другой самкой.
Согласно теории В. А. Геодакяна, общие тенденции мужского здоровья, включая продолжительность жизни, коренятся в биологических закономерностях полового отбора и специфических функциях мужского и женского пола, причем их адаптивные процессы и факторы риска могут быть неодинаковыми в фило– и онтогенезе. Принимая на себя весь фронт внешних воздействий, связанных с изменениями среды, самцы значительно чаще самок становятся жертвами неудачного «экспериментирования» природы и своего собственного, отсюда – меньшая продолжительность их жизни. С этой точки зрения мужская сверхсмертность не является реальной общественной проблемой – бессмысленно бороться с законом природы, повышенная смертность мужского пола целесообразна и даже полезна для популяции в целом. Но мужчины выполняют не только репродуктивные, охранительные и поисковые функции, они также производят материальные и духовные ценности, причем их возможности в этом отношении не обязательно уменьшаются с возрастом.
Ученые, занимающиеся конкретными проблемами мужского здоровья, избегают глобальных обобщений. Динамика мужской и женской смертности и заболеваемости неодинакова в разных обществах и популяциях и зависит от множества конкретных условий. Например, известно, что от сердечно-сосудистых заболеваний (одна из главных причин мужской смертности) женщин предохраняют эстрогены, кроме того, у них более сильная иммунная система. Но одни биологические факторы не могут объяснить флуктуаций мужской и женской смертности в разных странах и даже социальных слоях. Например, в США гендерный разрыв в показателях смертности (в пользу женщин) с 1900 по 2003 г. заметно уменьшился, достигнув минимального значения в 5,3 года, но этот показатель варьирует в зависимости от возраста и когортной принадлежности (Gorman, Read, 2007). Современные исследования уделяют много внимания социально-структурным и поведенческим факторам здоровья. Богатые развитые страны добились резкого снижения женской смертности в молодом возрасте путем значительного снижения материнской смертности и связанных с нею явлений. Кроме того, за последние десятилетия значительно улучшилось социальное и материальное положение женщин, а риски для здоровья у обоих полов тесно связаны с бедностью и низким уровнем образования.
Поведенческие факторы мужской и женской заболеваемости тоже неоднозначны. Например, мужчины больше двигаются и занимаются спортом (положительный фактор), зато они значительно чаще женщин заняты опасными профессиями, ведут более рискованный и нездоровый образ жизни (алкоголизм, наркозависимость, курение, экстенсивная сексуальная жизнь) и уделяют меньше внимания своему здоровью. Большая подверженность мужчин алкоголизму (мужчины чаще и больше пьют) удваивает вероятность цирроза печени. Мужчины в 2–4 раза чаще женщин преждевременно погибают вследствие насильственных действий, убийств и самоубийств. Они гораздо больше курят, это одна из главных причин разницы в показателях мужской и женской смертности. По каждой из десяти главных причин смерти мужчины опережают женщин. В США выравненная по возрасту мужская смертность от сердечно-сосудистых заболеваний составляет по отношению к женской 1,8, от рака – 1,4, от несчастных случаев и ДТП – 2,4, от самоубийства – 4,3 (NVSR 1998. Men's Health Facts).
Состояние мужского здоровья вызывает серьезную озабоченность мирового научного, и не только медицинского, сообщества, заставляя ученых говорить о наличии в этой сфере «скрытого кризиса здоровья» (Дэвид Гремильон, руководитель Men's Health Network). Мужским здоровьем специально занимаются несколько профессиональных сообществ, междисциплинарных научных журналов (например, «Aging Male»), научно-популярных Интернет-сайтов (например, ) и т. д. Говорят не столько об имманентных половых различиях, сколько о новых социальных вызовах и о том, как с ними справляться.
Постиндустриальное общество, новые информационные технологии, ускорение темпов технологического и культурного обновления и ломка традиционной системы гендерной стратификации, в которой мужчины играли господствующую роль, действительно ставят мужчин перед новыми проблемами. Хотя биологически мужчины вполне способны с ними справиться, – современное общество часто называют обществом риска, а любовь к новизне и риску всегда считалась одним из главных признаков и ценностей маскулинности, – освоение новых социальных ролей и видов деятельности требует от них значительной психологической перестройки. Многие привычные стереотипы, отождествляющие маскулинность с физической силой, господством и агрессией, в современных условиях становятся дисфункциональными на уровне социума и патогенными – на индивидуально-психологическом уровне. Это проявляется, в частности, в изменении показателей психического здоровья и субъективного благополучия мужчин, причем за медико-биологическими проблемами часто скрывается социально-экономическое неравенство.
Экология и репродуктивное здоровье
Самой сложной проблемой, не имеющей пока даже теоретического решения, является мужское репродуктивное здоровье. Быстрое изменение среды обитания и появление целого ряда неблагоприятных экологических факторов вызывает в последние десятилетия в индустриально-развитых странах глобальное ухудшение показателей репродуктивного здоровья. Эта тенденция затрагивает оба пола, но мужские показатели особенно тревожны, причем сходные тенденции обнаруживаются и в мире животных. Тревогу бьют не только экологи, которых часто подозревают в упрощениях и преувеличениях, но и академические ученые. Речь идет если не о вымирании мужчин, то о возможном – и скором! – выходе их из репродуктивной деятельности (см.: Greenpeace report 2006).
Ученые констатируют, что в результате воздействия созданных человеком и широко применяемых в промышленности и в быту ядохимикатов, особенно так называемых эндокринно-разрушительных (то есть воздействующих на эндокринную систему человека и животных) химикатов (например, фталатов), нарушается биологически нормальное соотношение мужских и женских особей и происходит «недомаскулинизация» (undermasculinization) самцов, которые начинают вести себя по «женскому» типу или обнаруживают анатомо-физиологические нарушения, делающие их неспособными к репродукции. Многочисленные случаи такого рода обнаружены как среди животных – рыб, пресмыкающихся, птиц, крыс, мышей и т. д., так и среди людей (Edwards et al., 2006).
В результате воздействия широко распространенных в Европе и США поллютантов, содержащих эстроген, лягушки, начавшие жизнь в качестве самцов-головастиков, утрачивают самцовые качества и превращаются в самок (Pettersson, Berg, 2007). Под влиянием диоксинов нарушается нормальное соотношение новорожденных мальчиков и девочек. В канадских городах, расположенных неподалеку от нефтеперерабатывающих предприятий, целлюлозно-бумажных комбинатов и металлургических заводов, вместо положенных 51 на 49, на каждые 46 мальчиков рождается 54 девочки. Половой дисбаланс и опасность для здоровья людей возникают, если они проживают в радиусе 25 км от источника загрязнения. Это в пять раз больше, чем считалось нормальным до сих пор (#37).
За последние 50 лет во многих индустриально развитых странах у мужчин резко ухудшилось качество спермы. Средний западный мужчина производит вдвое меньше спермы, чем его отец или дед (Swan, 2006). Исследования в Дании, Шотландии и Франции показывают, что плотность спермы у молодых мужчин ниже, чем у старших. В некоторых европейских странах низкое качество спермы характерно для каждого пятого молодого мужчины. Зависимость качества спермы от экологических условий подтверждается тем, что оно может быть разным даже в таких близких по уровню развития странах, как Дания и Финляндия, и в разных регионах одной и той же страны. В некоторых европейских странах количество случаев рака яичек среди 20—34-летних мужчин за 50 лет выросло в 3–4 раза, а в странах Азии и Африки оно остается традиционно низким.
Все больше мальчиков появляются на свет с врожденными дефектами пениса или яичек (тестикулярный дисгенез – недоразвитие яичек, гипоспадия – расщелина мочеиспускательного канала, крипторхизм – неполное опущение яичек в мошонку), причем эти явления взаимосвязаны и обусловлены одними и теми же причинами. В Великобритании ежегодно рождается больше 1200 мальчиков с генитальными аномалиями. Эксперты считают, что за последние 25 лет их число удвоилось, причиной этого являются химикаты, содержащиеся в таких безобидных вещах, как косметика или синтетический коврик. Косметика или моющие средства, содержащие эстроген, могут вызывать у мальчиков гинекомастию.
Ученые констатируют в последние десятилетия резкое ухудшение качества спермы, рост мужского бесплодия и т. п. (J0rgensen et al., 2006). В индустриальных странах бесплодие поражает 15–20 % супружеских пар, по сравнению с 7–8 % в начале 1960-х годов, причем все чаще его «виновниками» оказываются мужчины. На ежегодной конференции European Society of Human Reproduction and Embryology (ESHRE) в Копенгагене (июнь 2005 г.) впервые были приведены данные о том, что мужчины чаще женщин являются источниками бесплодия. Появились тревожные сообщения о систематическом снижении уровня тестостерона у американских мужчин (Travison et al., 2007) и мужчин, живущих в двух экологически различных районах Австралии (Liu et al., 2007). Объяснить эти факты ученые пока не могут.
Но как быть с другими, более традиционными вопросами? Помогает ли гегемонная маскулинность мужчинам преодолевать трудности или усугубляет их?
Социально-психологические проблемы
При всей неод нозначности демографических тенденций в них отчетливо представлены социальные факторы. Характерная для мужчин повышенная смертность от внешних причин (травмы, ДТП, убийства, отравления, в том числе алкогольные) может быть сокращена с помощью рациональной социальной политики и соответствующего воспитания населения. В более образованной и социально благополучной среде контраст между мужской и женской смертностью по многим показателям меньше, чем в мире бедности и невежества (Rigby, Dorling, 2007).
Социально-психологический аспект этой макросоциальной проблемы – отношение людей к своему здоровью. Помимо лечения и профилактики специфически мужских заболеваний, существует общемировая проблема, состоящая в том, что мужчины значительно реже женщин пользуются услугами медицинских, особенно психиатрических, служб и вообще предпочитают не обращаться к врачу. По данным американского минздрава, на протяжении своей жизни мужчины реже женщин общаются с врачом, число мужчин, которые последний раз были у врача два или больше года тому назад, вдвое превышает число женщин (DHHS, 1998). Одна из причин мужской сверхсмертности – мужчины часто упускают время для своевременной диагностики. Это касается практически всех заболеваний и всех категорий мужчин, но особенно – бедных слоев населения, в которых глубже всего укоренен традиционный канон маскулинности.
В этом нет ничего удивительного. Богатыри из сказки не заботились о своем здоровье, оно предполагалось «железным» и данным от природы. Традиционный стереотип «настоящего мужчины» внутренне противоречив. Ориентируя мужчину на самостоятельное преодоление стрессов и трудностей (что хорошо), он одновременно тормозит осознание и вербализацию собственных слабостей (что плохо). Вместо того чтобы объяснять мужскую сверхсмертность чисто биологически, современная наука выдвигает на первый план социальное определение мужской роли и идентичности (Addis, Cohane, 2005; Mansfield et al., 2005; Бурмыкина, 2006; Корхова, 2000).
Социологи и психологи констатируют, что мужчины везде и всюду а) переоценивают качество своего здоровья;
б) стесняются признаться в собственной слабости;
в) не умеют и не любят просить о помощи.
Эти установки плоть от плоти гегемонной маскулинности. Хотя соотношение и причинно-следственная связь этих явлений не вполне ясны и разные теории объясняют их по-разному, без их учета выработать социально эффективные и психологически адекватные способы вмешательства, профилактики и лечения мужских болезней невозможно. Речь идет не просто о рациональном подходе, но и о возможных путях коррекции глубинных личностных черт.
Интересно в этом плане семнадцатилетнее когортное исследование 704 мужчин и 847 женщин, страдавших сердечно-сосудистой недостаточностью в Глазго (Шотландия) (Hunt et al., 2007). С 1988 по 2005 г. умерли 88 мужчин и 41 женщина из этой группы. Сами по себе эти цифры никого бы не удивили, потому что мужская смертность от коронарной недостаточности всегда бывает выше женской, но в данном случае исследователи имели в своем распоряжении не только истории болезней, но и достаточно подробные психологические характеристики больных, включая оценку их «фемининности» и «маскулинности». После того как были статистически взвешены такие факторы, как курение, пьянство, общий вес тела, артериальное давление, семейный доход и психологическое благополучие, оказалось, что риск смерти от коронарной недостаточности уменьшается у мужчин с более высокими показателями по фемининности. Иными словами, мужчины с более стереотипно-маскулинным образом «Я» («крутой», замкнутый и т. п.) рискуют умереть от инфаркта больше, чем сравнительно «мягкие» мужчины. Конечно, вопрос о причинно-следственной связи остается открытым: жесткая маскулинная идеология может быть как одной из причин, так и следствием индивидуально-типических свойств. Тем не менее проблема реальна.
В десятилетнем лонгитюдном исследовании 313 американских мужчин, ветеранов вьетнамской войны, выяснилось, что раздражительные, депрессивные и агрессивные мужчины имеют больше шансов заболеть сердечно-сосудистыми заболеваниями и диабетом (Boyle et al., 2007). Изучение взаимосвязи мужского здоровья и гендерного равенства идет и по многим другим направлениям. Хотя окончательные выводы делать преждевременно, для многих мужчин традиционная доминантная маскулинность явно не выглядит положительным фактором.
Все эти проблемы актуальны и для России.
Страна избыточной мужской сверхсмертности
Глобальные проблемы мужского здоровья в России в принципе те же, что и в остальном мире, но они крайне идеологизированы.
О том, что проблемы существуют, первым сказал выдающийся советский демограф Б. Ц. Урланис в своей знаменитой статье «Берегите мужчин» (Урланис, 1968). Вопреки представлению о мужчинах как о сильном поле, – писал Урланис, – их «слабость» проявляется с самого рождения.
В 1966 г. в нашей стране появилось на свет 2 175 тысяч мальчиков, из них 63 тысячи не дожили до одного года. Это составляет 29 на 1 000 родившихся. В том же году родилось 2 066 тысяч девочек, из них 48 тысяч не дожили до одного года, то есть 23 на 1 000. 23 и 29 – различие существенное! А ведь младенец-мальчик не пьет и не курит, в чем же причины повышенной смертности грудных младенцев-мальчиков? Очевидно, их следует искать в большей биологической жизнестойкости женского организма, которая выработалась на протяжении сотен тысяч лет существования человека: ведь жизнь женщин более важна для сохранения вида, чем жизнь мужчин! У взрослых мужчин трудности усугубляются. Уже в 15–19 лет у юношей коэффициент смертности в два раза выше, чем у девушек этих же лет. С возрастом это различие увеличивается, у 25—29-летних мужчин коэффициент смертности в 2,5 раза выше, чем у женщин! Обобщающим показателем уровня смертности является средняя продолжительность жизни. Для мужчин она в нашей стране равна 66 годам, а для женщин – 74 годам. Разница в 8 лет! Что с этим можно сделать?
В небольшой газетной статье Урланис, конечно, не мог дать всесторонний анализ вопроса, но он указал на некоторые самые больные точки российского мужского нездоровья: пьянство, дорожный травматизм, курение, полное невнимание общества к мужскому здоровью, – и призвал страну этим заниматься.
С тех пор прошло 40 лет. Что изменилось?
Разница в продолжительности жизни мужчин и женщин увеличилась до 13,5 лет, о чем свидетельствуют данные из Демографического ежегодника России (М.: Росстат, 2006. С. 101):
Ожидаемая продолжительность жизни в России, 2005 год
Резко увеличилась разница между Россией и западными странами (см. таблицу ниже). Смертность мальчиков превышает смертность девочек уже в 5–9 лет, причем в России она вдвое выше, чем в странах ЕС (Население России, 2002).
Мировые данные за 2005 г. практически такие же (Основные демографические показатели по всем странам мира в 2005 году, 2005).
Отставание России (в годах) по ожидаемой продолжительности мужской жизни, 2000 г. (Вишневский, 2005)
«Если называть более высокую смертность мужчин мужской сверхсмертностью, то применительно к России и к некоторым другим странам можно говорить об „избыточной мужской сверхсмертности“, превосходящей средний уровень мужской сверхсмертности в странах с аналогичным уровнем женской смертности» (Андреев, 2001).
Обсуждая конкретные причины избыточной мужской сверхсмертности, ученые называют прежде всего алкоголизм, с которым связаны также ДТП и преждевременные насильственные смерти (Халтурина, Коротаев, 2006), и курение, влияющее на сердечно-сосудистые и легочные заболевания. Часто говорят и о плохом состоянии общественного здравоохранения (см.: Демографическая модернизация России, 2006). Обсуждение этих вопросов выходит за рамки моих задач и компетентности.
Кроме социально-структурных и экономических причин, на динамику рождаемости и смертности влияют этнокультурные факторы. Хотя соответствующая демографическая статистика не вполне достоверна, у некоторых народов России (в частности, Северного Кавказа) смертность трудоспособных мужчин от внешних причин и от болезней органов кровообращения ниже, чем у русских (Там же. С. 306–308). Джудит Шапиро (Shapiro, 1995) и Марк Филд связывают избыточную мужскую сверхсмертность не только с бедностью, пьянством и культурой насилия, но и с особенностями традиционной русской ментальности – нечувствительностью к факторам социального и личного риска и угрозы смерти и повышенной чувствительностью мужчин к макроэкономическому стрессу. Это признают и некоторые отечественные авторы. «Мужчинам больше свойственно вовлечение в политическую и экономическую сферу, где разочарование и потеря контроля над собственной судьбой могут доминировать. Женщины, в силу причин экономического характера также вовлеченные в сферу общественной занятости, имеют обычно традиционный круг забот: домашнее хозяйство, семья, дети, муж, родители. Эти заботы вносят в их жизнь ощущение смысла и чувство ответственности, которые в определенной мере служат защитой от социального стресса и способны компенсировать его последствия» (Неравенство и смертность в России. М., 2000. С. 23).
Гендерные исследования, о которых рассказывалось выше (синдром «несостоявшейся маскулинности»), отчасти подтверждают эту гипотезу. В том же направлении движутся психологические исследования так называемой выученной беспомощности, когда индивид отказывается от активной борьбы с трудностями, используя свою беспомощность в качестве средства эксплуатации других. В этнопсихологии давно сложилось мнение, что фатализм и выученная беспомощность свойственны русским мужчинам больше, чем европейцам. В периоды кризиса это может способствовать усилению депрессивных настроений, социальной апатии, самоубийствам и т. п. Традиционная маскулинная идеология, сочетающая высокие социальные притязания (на власть, статус, уважение и т. д.) с оправданием и поэтизацией заведомо нездорового образа жизни (пьянства, курения, принятия неоправданных рисков и т. д.), не может не сказываться и на состоянии мужского здоровья (Levant et al., 2003). Подчас это самый настоящий «психологический суицид», когда более или менее добровольно выбранный «стиль жизни» в конечном итоге неотвратимо приводит к утрате здоровья и преждевременной смерти.
Однако ученые очень осторожны в выводах. Во-первых, стереотипные черты «национального характера», будь то покорность судьбе или бесшабашность, сплошь и рядом противоречат друг другу и никогда не распространяются на весь народ. Во-вторых, их проявление зависит от конкретных условий. Сравнив отношение к здоровью и тяжелым заболеваниям (раку и инфаркту) 307 здоровых этнических немцев, переехавших из России в Германию, 300 русских, живущих в России, и контрольной группы из 100 этнических немцев, психологи выяснили, что через полтора года жизни в Германии разница в установках уменьшается, в более благоприятных социальных условиях у людей повышается оптимизм, вера в возможность выздоровления от рака и инфаркта (Kirkcaldy et al., 2007). А от этого зависит и связанное со здоровьем поведение – обращение к врачу, соблюдение необходимой осторожности, мер профилактики и т. п. По мере повышения уровня жизни и улучшения социально-психологического климата подобные положительные сдвиги возможны и в России. Сложную зависимость причин смертности от образования рисует и историческая демография (Shkolnikov et al., 2004).
Как бы то ни было, снизить мужскую сверхсмертность и помочь улучшению мужского здоровья можно только рациональными методами. К сожалению, модная в России консервативная идеология, ориентированная не на адаптацию к реальным новым условиям, а на реставрацию идеализированного патриархально-имперского прошлого, предлагает прямо противоположное.
В январе 2007 г. «Литературная газета» перепечатала старую статью Урланиса и ответ на нее Ю. И. Крупнова под заголовком: «Прекратите нас беречь!»:
Фактическая и косвенная эпидемия самоубийств русских мужчин – вот ключевой факт, лежащий в основе дичайшей сверхсмертности. И за этим симптомом стоит утеря смысла жизни.
Мужчина в России либо защитник и воин, труженик, получающий достойное вознаграждение за свой качественный труд, либо существо, отказывающееся жить, поскольку не имеет возможности полноценно отвечать за семью, родных, за страну и самого себя.
Жизнь русского мужчины всегда трагична, поскольку исторична. С хрущевской «оттепели» мы приобрели и полюбили комфорт, но утеряли трагедию. Перестали быть ее героями. Решили, что полноценность и вкус жизни зависят от «объективных» законов – и не важно, политологии социализма или «рынка». И тем самым подписали сами себе приговор.
В России смертность мужчин – показатель состояния духовно-общественного благополучия и общего состояния развития страны. Качество жизни у нас напрямую определяется наполненностью личного бытия вместе со страной. Без мобилизации в России всегда не просто прозябание и застой, а деградация и ранняя смерть. Именно в 60-е за спором «о физиках и лириках» проглядели, пропустили вопрос о мужественности. А статьей Урланиса проблема мужественности, мужского призвания и достоинства и попросту была запечатана на долгие годы.
В этой ситуации мужественность должна стать объектом целенаправленного культивирования и роста. Необходимо вернуть уважение к мужчинам и самоуважение у самих мужчин. Необходимо объявить своего рода мужской призыв – т. е. возвращение мужчин к роли фундамента семейной жизни в стране.
Дальше идут стандартные предложения об административной защите и пропаганде семейных ценностей и т. п. плюс дать каждой русской семье отдельный дом.
Но если героизм, трагизм и поиск смысла жизни – имманентные черты, отличающие «русскую маскулинность» от западной, спрашивается, какую «мобилизацию», «достойное вознаграждение» и долгосрочный смысл жизни имел крестьянин, остававшийся до 1861 г. крещеной собственностью помещика? Чем была «наполнена» его личная жизнь? Кто и как доказал, что «воины» вообще живут дольше и зачинают больше детей, чем землепашцы, ремесленники и торговцы? Жизнь в сталинском ГУЛАГе, конечно, была трагичнее, чем во времена хрущевской «оттепели», но вряд ли это можно считать положительным демографическим фактором.
Универсального рецепта «мужского здоровья», как и единого канона маскулинности, не существует. Разные люди выбирают наиболее подходящие для себя образцы самореализации. Наука только помогает им осознать наличные варианты и сделать свой жизненный выбор более осознанным. А вот эволюция «Литературной газеты» огорчает. В 1968 г. она как могла ставила реальные вопросы «сбережения народонаселения», а в 2007 г. творческую мысль вытеснила «мобилизационная» риторика.
Подведем итоги.
В третьей главе мы говорили об изменении мужских социальных ролей и занятий, бросающем вызов ныне живущим мужчинам. Теперь я попытался выяснить, какие в связи с этим возникают психологические проблемы и как это отражается на мужских способностях и интересах, агрессивности и соревновательности, сексуальности, образе тела, самоуважении и здоровье. Что же мы узнали?
1. Хотя гендерные различия психических свойств и качеств велики и многообразны, их влияние на социальное поведение мужчин и женщин неоднозначно и не исключает их фундаментальных сходств. По большинству социально значимых психических черт различия между индивидуальными мужчинами и женщинами больше, чем межполовые. Формирование и проявление большинства гендерно-специфических черт зависят не только от нашего эволюционного наследия, но и от социокультурных условий, образования и характера деятельности. Выравнивание характера деятельности мужчин и женщин делает поляризацию их психических черт и способностей более проблематичной, чем когда-либо раньше.
2. В сфере когнитивных процессов мужчины опережают женщин по ряду пространственных способностей, тогда как женщины имеют преимущества в вербальной сфере. По большинству когнитивных способностей гендерные различия статистически невелики, так что в принципе мужчины и женщины могут одинаково успешно заниматься любой деятельностью. Однако способности и одаренность тесно связаны с мотивацией, которая всегда зависит от социальных условий. Наиболее выраженные и исторически стабильные, несмотря на все социальные сдвиги, различия между мужчинами и женщинами наблюдаются в выборе занятий и направленности интересов. Мужчины традиционно имеют более «вещные», технические интересы и хобби, тогда как женщин больше занимают человеческие отношения. Однако по мере ослабления гендерной сегрегации в труде и общественной жизни мужчинам и женщинам приходится существенно обогащать свой когнитивный и коммуникативный репертуар, заимствуя приемы и качества, которые еще недавно считались исключительной привилегией (или недостатком) противоположного пола.
3. В сфере эмоций половые различия кажутся более выраженными, чем в умственных способностях, но это тесно связано с языком и особенностями мужской и женской эмоциональной культуры.
4. Повышенная агрессивность и соревновательность мужчин – одна из наиболее заметных и устойчивых транскультурных и кроссвидовых констант маскулинности. Но и тут приходится говорить не столько о количественных, сколько о тонких качественных различиях. Агрессия – не просто эмоциональная разрядка, а определенная социальная стратегия. Сравнительное изучение агрессивного поведения человека и приматов показывает, что здесь взаимодействует целая совокупность межгрупповых, внутригрупповых и индивидуальных факторов, а исследования гормональных факторов агрессии (в частности, тестостерона) проясняют значение индивидуальных различий. В том же направлении указывают психологические исследования любителей острых ощущений. В любой популяции представлены разные типы мужчин, каждый из которых выполняет свою особую роль. Современная критика гегемонной маскулинности только высвечивает это многообразие.
5. Самые большие биологически обусловленные гендерные различия существуют в сфере сексуальности. Несмотря на все сдвиги, вызванные сексуальной и гендерной революцией ХХ в., мужская сексуальность остается значительно более экстенсивной и инструментальной, нежели женская. Тем не менее и здесь происходят изменения. Многие эмансипированные женщины усваивают «мужские» сексуальные стратегии и стили поведения, а мужчинам, которые уже не могут просто «завоевывать» или покупать женщин, приходится учиться тонким коммуникативным навыкам и эмпатии. Подобно другим наукам о человеке, современная сексуальная медицина все больше ориентируется не столько на «пол», сколько на индивидуальность.
6. Важные перемены происходят в психологии телесности. Мужское тело стало более открытым, что дает мужчинам дополнительную свободу и повышает уровень их рефлексивности. Но объективация мужского тела одновременно сталкивает мужчин с целым комплексом проблем и трудностей, которые раньше считались исключительно женскими. Здесь опять-таки нужна профессиональная психологическая помощь.
7. Один из самых сложных вопросов темы – особенности мужского самоуважения. Прежде всего, о взрослых мужчинах и женщинах мало достоверных психологических данных. По большинству критериев мужские самооценки и глобальное самоуважение выше, чем у женщин, это дает мужчинам определенные социальные преимущества. Но уверенность в себе часто оборачивается необоснованной самоуверенностью, завышенной самооценкой, а то и просто средством психологической самозащиты. Чем проблематичнее становится мир, в котором мы живем, тем больше издержки такой ориентации.
8. Все трудности и противоречия мужской психологии наглядно проявляются в проблемах здоровья. Представление о мужчинах как о «сильном поле» вступает в противоречие с низкой продолжительностью мужской жизни. Хотя мужская сверхсмертность – феномен биологический, это также и социальная проблема. Мужчина не только зачинает детей, но и производит материальные и духовные блага, причем эта его деятельность продолжается значительно дольше, чем его репродуктивная активность. Общество обязано заботиться о сохранении мужского здоровья. Одним из социальных факторов мужского (не)здоровья является традиционная маскулинная идеология (не обращаться к врачу, не признавать своих слабостей, избегать самораскрытия и т. д.). В России, которая стала страной избыточной мужской сверхсмертности, все эти проблемы и трудности гипертрофированы и возведены в степень.
9. Современный мужчина, как и его предки, обладает необходимыми адаптивными способностями, чтобы справиться с этим вызовами. Но для этого ему нужно считаться с новыми социальными реалиями и не равняться на один-единственный образец гегемонной маскулинности.
Глава пятая ОТЦОВСТВО И ОТЦОВСКИЕ ПРАКТИКИ
1. «Кризис отцовства» – кризис чего?
Когда-то в мире существовала вертикаль власти. На небе был всемогущий Бог, на земле – всемогущий царь, а в семье – всемогущий отец. И всюду был порядок.
Но это было давно и неправда. Именем Бога спекулировали жуликоватые жрецы, именем царя правили вороватые чиновники, а отец, хоть и порол своих детей, от повседневного их воспитания уклонялся.
Потом все изменилось. Богов стало много, царя сменила республика, а отцовскую власть подорвали коварные женщины, наемные учителя и непослушные дети. И теперь мы имеем то, что мы имеем.
Многим людям кажется, что раньше было лучше, и они призывают нас вернуться в прошлое. Какое именно?
Едва ли не самая главная мужская роль и идентичность – отцовство. Поэтому неудивительно, что одновременно с «кризисом маскулинности» социологи и педагоги всего мира забили тревогу по поводу «кризиса отцовства». Книга известного австрийского психоаналитика Александра Мичерлиха «Общество, лишенное отцов» стала мировым бестселлером уже в конце 1960-х годов. Безотцовщина, физическое отсутствие отца в семье, незначительность и бедность отцовских контактов с детьми по сравнению с материнскими, педагогическая некомпетентность отцов, их незаинтересованность и неспособность осуществлять воспитательные функции стали предметом ожесточенных публичных споров и серьезных научных дискуссий.
На самом деле на ослабление или неэффективность института отцовства жаловались и ветхозаветные пророки, и древние греки классического периода, и французские просветители XVIII в., и русские писатели XIX в. В конце XX в. проблема приобрела глобальный характер. Президент Клинтон в 2001 г. заявил о своей решимости «сделать преданное, ответственное отцовство национальным приоритетом… Наличие двоих преданных, активных родителей непосредственно способствует повышению школьной успеваемости, снижению наркозависимости, преступности и делинквентности, уменьшению эмоциональных и других поведенческих проблем, понижению риска злоупотребления, заброшенности и подростковых самоубийств. Исследовательские данные ясны: отцы многое значат в жизни своих детей. Любовь, внимание и забота ответственного отца не могут быть заменены ничем другим». Созданная Клинтоном организация Presidential Fatherhood Initiative была поддержана Джорджем Бушем, который ежегодно тратит на «поддержание ответственного отцовства» 300 миллионов долларов. В США и в Европе существует множество государственных и общественных организаций, фондов и служб, специально занимающихся проблемам отцовства. Эти организации широко представлены в Интернете. Министерство здравоохранения США поддерживает профессиональный портал . Его дополняют National Fatherhood Initiative (/) и National Center for Fathering (/). Отцовству посвящено множество книг и журналов, например онлайновый журнал «для мужчин с семьями» «Fathering Magazine» (FatherMag. com). С 2003 г. издается научный журнал «Отцовские практики: Журнал по теории, исследованиям и практике мужчин как отцов» (Fathering: A Journal of Theory, Research, and Practice about Men as Fathers).
Вопросов действительно много. Автор книги «Безотцовская Америка» Дэвид Бланкенхорн называет безотцовщину «самой разрушительной тенденцией нашего поколения» (Blankenhorn, 1995. P. 1). По данным социальной статистики и специальных исследований, отсутствие или слабость отцовского начала связаны решительно со всеми социальными и психологическими патологиями: преступностью, насилием, наркотической и алкогольной зависимостью, плохой успеваемостью, самоубийствами и психическими расстройствами. Почти 80 % американцев, ответивших на анкету Института Гэллапа в 1996 г., признали отцовство самой серьезной проблемой современности (National Center for Fathering, 1996).
Однако в определении причин болезни люди радикально расходятся. Одни видят корень зла в слабости современных мужчин, уклоняющихся от ответственности за воспитание детей. Другие считают причиной кризиса «не оставление детей отцами, а политику, которая стимулирует матерей инициировать расторжение брака и развод» (Baskerville, 2004). А третьи думают, что вся проблема создана искусственно.
Разногласия имеют не только идеологический характер. Часто одни и те же слова обозначают совершенно разные комплексы проблем. Например, знаменитая «проблема отцов и детей» в одном случае подразумевает взаимоотношения поколений, обладающих разным жизненным опытом, социальным положением и властными функциями, в другом – возрастной конфликт старших и младших, в третьем – отношения детей и родителей, независимо от пола тех и других, в четвертом – специфические особенности взаимоотношений между отцами и сыновьями и т. д. Жалобы на то, что дети не хотят (или не могут) повторять жизненный путь своих отцов и не следуют их добрым советам, практически универсальны. Их прекращение означало бы конец истории, превращение ее в простое повторение однажды пройденного. Возлагать ответственность за межпоколенные различия на нерадивых отцов так же наивно, как и на непослушных детей.
Как и все слова, которыми нам приходится здесь пользоваться, термины «отцовство» и «отец» неоднозначны. Например, английское paternity (от латинского pater – отец) обозначает: а) биологический феномен, генетическое происхождение отпрыска по мужской линии, от родителя мужского пола, и/или б) формальное, чаще всего юридическое, признание отношений между отцом и ребенком, в данном случае отцовство – элемент родственных отношений, социальная категория, смысл которой зависит от принятой в данной культуре системы и терминологии родства. «Установление отцовства» в разных обществах может означать совершенно разные процедуры и последствия: в одном случае сравнивают ДНК, а в другом достаточно того, что ребенок появился на свет в законном браке или что мужчина признает его своим.
Английское fatherhood (отцовство) обозначает социальный институт, систему прав, обязанностей, социальных ожиданий и требований, предъявляемых к мужчине как родителю и коренящихся в нормативной системе культуры и в структуре семьи. Реальные отцовские практики (английское fathering), то есть деятельность, связанная с выращиванием и воспитанием детей, более текучи, изменчивы и разнообразны. Если изучение отцовства предполагает анализ социокультурных норм – чего общество ожидает от отца «вообще», то изучение отцовских практик – это описание того, что фактически делают и чувствуют конкретные отцы.
«Кризис отцовства» можно и нужно рассматривать в трех автономных контекстах.
Во-первых, как аспект кризиса семьи. В этом контексте в центре внимания оказываются такие явления, как нестабильность брака, изменение критериев оценки его успешности, проблематичность распределения супружеских обязанностей в мире, где оба супруга работают, появление нетрадиционных форм семьи и брака и т. п.
Во-вторых, как аспект кризиса маскулинности: ослабление привычной мужской гегемонии и связанное с этим изменение традиционных представлений о мужественности, конфликт между трудовыми и семейными обязанностями, превращение отцовства из обязательного в факультативное, появление новых отцовских практик и связанных с ними психологических проблем и т. д. Все это преломляется в самосознании мужчины и его гендерной идентичности, с которой соотносятся его самоуважение и частные самооценки: что нужно, чтобы стать отцом, каковы критерии отцовской эффективности, в чем современные мужчины видят плюсы и минусы отцовства, и насколько оно важно для их субъективного благополучия?
В-третьих, как аспект кризиса власти. Ведь власть-то раньше была какая? Мужская, отцовская, патриархатная. Подобно тому, как рыба тухнет с головы (хотя чистить ее почему-то начинают с хвоста), ослабление власти отдельно взятого отца в отдельно взятой семье начинается с ослабления власти царя и государя, но между этими процессами есть обратная связь. Однажды я сформулировал это в виде притчи «Отцовство как вертикаль власти. И наоборот», которую поставил эпиграфом к данной главе.
Речь идет вовсе не о семейных, а о макросоциальных проблемах. В патриархатном и, особенно, в монотеистическом обществе, отцовство – своеобразная вертикаль власти, где каждый вышестоящий начальник – символический отец нижестоящей власти, которую он порождает, содержит, контролирует, дисциплинирует и наставляет на путь истинный. Людям, привыкшим воспринимать государственную власть как отцовское начало («царь-батюшка», «отец народов», «вождь и учитель» и т. п.), нужно символически осиротеть, понять, что государство не зачинает, не питает и не воспитывает своих подданных, а только контролирует их поведение, причем не столько в интересах подданных, сколько в интересах господствующего класса. Граждане демократических стран, не считающие своих правителей отцами и готовые, как бы это ни было трудно, брать ответственность за свою жизнь на себя, в политическом смысле – сироты. Без учета этих моментов обсуждать философию и психологию отцовства невозможно.
Однако нас интересуют не отвлеченные символы, а проблемы реальных отцов из плоти и крови. Чтобы разобраться в сложном хитросплетении биоэволюционных, социокультурных и психологических процессов, мы начнем с общей характеристики роли и функций отцовства по данным эволюционной психологии, а затем суммируем основные тенденции социальной истории отцовства на Западе и в дореволюционной России. После этого рассмотрим, как и почему представления об отцовстве и отцовские практики изменились в новое и новейшее время, какие это порождает новые социальные и социально-педагогические проблемы и как их решают на Западе и в постсоветской России. Исходя из этого, нам, возможно, станут яснее психологические проблемы современного отцовства: а) что отцы дают детям, б) что отцовство дает мужчинам, в) от чего зависят индивидуальные стили отцовских практик и степень их успешности и, наконец, г) в какой социальной и психологической помощи нуждаются отцы.
2. Отцовство как биосоциальный институт
Отец – это биологическая необходимость, но социальная случайность.
Маргарет МидЗачем нужны отцы?
У большинства биологических видов, за исключением некоторых птиц, отцовский вклад сводится к оплодотворению самки (Redican, 1976). В уходе за собственным потомством самцы большей частью не участвуют, а при случае могут его даже сожрать. Особенно плохими отцами считаются львы, медведи и лангуры. Впрочем, есть и приятные исключения. Например, самцы мартышек-мармозеток в течение первых двух лет жизни своих малышей 70 % времени носят их на себе, отдавая самкам лишь для кормления. Отец-бобр, передвигаясь по пруду, поощряет своих детенышей держаться за свой хвост. Замечательными отцами являются волки, которые не только снабжают свое потомство пищей, но и заботливо обучают его необходимым жизненным навыкам.
У некоторых высших животных, например у гамадрилов, существует даже своеобразный институт адопции (усыновления или удочерения), когда подчиненные, низкоранговые самцы, не имеющие возможности обзавестись собственным потомством, берут на себя заботу о чужих детенышах. Впрочем, функции этого института спорны. В одних случаях это похоже на популяционный альтруизм, который нередко проявляют самки, сообща выращивающие чужих детенышей; при этом самец, берущий на себя опекунские функции, социально вознаграждается тем, что повышает свой групповой статус. В других случаях, «удочеряя» маленькую самочку и терпеливо ожидая ее созревания, самец просто готовит из нее будущую «жену».
Вообще поведение самцов по отношению к детям и подросткам сложнее и разнообразнее, чем было принято думать. Хотя самцы млекопитающих редко физически заботятся о своем потомстве, многие приматы проявляют заботу о детенышах и подростках своего стада в форме груминга, ношения детенышей на себе, их поддержки в соревновательных играх и защиты от убийства. Поскольку самцы обычно спариваются не с одной, а с несколькими самками, определить, является ли такое поведение проявлением избирательной отцовской заботы о собственных потомках или о младших членах стада вообще, казалось невозможным: откуда мы знаем, чьим именно потомком является данный детеныш? Генетические методы помогли решить эту проблему.
Наблюдая в течение трех лет за пятью группами диких бабуинов (Papio cynocephalus) в Кении, ученые с помощью ДНК точно определили отцов 75 подростков. После этого оказалось, что о собственных отпрысках взрослые самцы заботятся больше, например оказывая им поддержку в соревновательных играх, чем о детенышах тех самок, с которыми они просто спаривались, и тем более – о «посторонних» подростках. Как самцы узнают, что детеныш свой, остается загадкой, но поддержка в соревновательных играх может способствовать приобретению детенышем более высокого ранга и предохранять его от травм и стрессов, так что это можно считать проявлением отцовской заботы (Buchan et al., 2003).
Эволюционная психология и ее новейшая субдисциплина – эволюционная психология развития (изучение индивидуального развития в свете общих принципов эволюционной психологии) не сводится к констатации отдельных фактов, но формулирует ряд закономерностей эволюции и факультативного (то есть необязательного) проявления отцовского вклада.
Эволюционная теория Дэвида Гири
По мнению Дэвида Гири, объем отцовской заботы зависит от трех главных факторов: 1) выживание потомства, 2) благоприятные условия для спаривания и 3) уверенность в собственном отцовстве (Geary, 2005).
Первый фактор, выживание потомства, означает, что если отцовский вклад мал или не влияет на вероятность выживания или качество потомства, то отбор будет благоприятствовать тем самцам, которые при наличии дополнительных брачных партнеров бросают своих потомков. Если отцовский вклад способствует относительному, но не абсолютному улучшению шансов на выживание или улучшение качества потомства, то отбор будет благоприятствовать самцам со смешанной репродуктивной стратегией. Поведение самцов может варьировать в зависимости от степени их интереса к спариванию и/или родительству или от социальных (статуса самца, наличия потенциальных партнерш) и экологических условий (например, наличия пищи).
Второй фактор, благоприятные условия для спаривания, означает, что если отцовский вклад не обязателен и у самцов имеются партнерши для спаривания, то отбор будет благоприятствовать либо тем самцам, которые бросают своих потомков (если отцовский вклад мало влияет на выживание и качество потомства), либо, если отцовский вклад улучшает шансы на выживание и улучшение качества потомства, смешанной самцовой репродуктивной стратегии. Социальные и экологические факторы, неблагоприятные для спаривания самцов (например, если самки рассредоточены в пространстве или у них нет явных признаков овуляции), будут снижать издержки отцовского вклада. В таких условиях отбор будет способствовать отцовскому вкладу, если этот вклад повышает степень выживания или качество потомства, не возлагая при этом на самца дополнительных больших издержек.
Третий фактор, уверенность в отцовстве, означает, что если уверенность низкая, то отбор будет благоприятствовать самцу, бросающему свое потомство, если же уверенность в отцовстве велика, то отбор будет благоприятствовать отцовскому вкладу, а) если вклад улучшает выживание или улучшает качество отпрыска и б) связанные с вкладом издержки (например, уменьшение возможностей для спаривания) меньше связанных с ним выгод. Когда уверенность в отцовстве высока и его издержки (в смысле потерянных шансов на спаривание с другими самками) также высоки, отбор будет способствовать самцам со смешанной репродуктивной стратегией.
Эта теория имеет отношение не только к животным, но и к человеку. Гири подробно обсуждает, например, такую проблему, как влияние отцовского вклада на физическое благополучие ребенка. Это непростой вопрос. В традиционных обществах показатели детской смертности всегда тесно связаны с отцовским вкладом: дети, растущие без отцов, умирают раньше. Но найти здесь причинную связь не всегда удается. Во-первых, «высококачественные» мужчины, как правило, соединяются с такими же «высококачественными» женщинами, поэтому приписать ответственность за пониженную смертность их детей только отцам невозможно. Во-вторых, неясна связь косвенных генетических факторов и непосредственного родительского влияния на детей. В-третьих, некоторые отцовские практики адресованы не столько детям, сколько женщинам, которых мужчины хотят привлечь или удержать (забота о ребенке усиливает расположение женщины к мужчине).
Тем не менее даже в самых примитивных социальных условиях наличие отца сильно повышает шансы детей на выживание. Например, у парагвайских охотников-собирателей индейцев ахе (гуарани) отсутствие отца утраивает шансы ребенка умереть от болезни и удваивает его шансы быть убитым соплеменниками. Постоянная связь между брачным статусом и детской смертностью существует во всех развивающихся странах. О том же свидетельствует историческая демография: дети, имевшие законных отцов и принадлежавшие к обеспеченным слоям общества, всегда имели больше шансов на выживание и жизненное благополучие, чем внебрачные дети или сироты. Эта разница сохраняется и сейчас, даже в самых развитых и благополучных странах. Сегодня одним из главных показателей этого является образовательный уровень детей: отцовский вклад, включая совокупный семейный доход и непосредственную заботу о детях, коррелирует с более высокими учебными показателями детей, а когда они взрослеют – с более высоким социально-экономическим статусом (Pleck, 1997). Хотя причинная связь между этими явлениями не установлена (нельзя исключить влияние генетических факторов), социальная статистика достаточно выразительна.
О важности отцовского вклада в психическое и социальное развитие ребенка говорят и многочисленные психологические исследования, к которым я вернусь позже. Тем не менее, замечает Гири, учитывая неравное распределение социального капитала (например, интеллекта) и богатства, не все мужчины имеют возможность повысить социальную конкурентоспособность своих детей, а некоторые обладающие ресурсами мужчины предпочитают вкладывать их не в детей, а в многочисленных женщин. Хотя отцовство, за исключением случаев искусственного оплодотворения, – результат спаривания, мужчинам нередко приходится выбирать между спариванием и отцовством. В этой связи весьма актуален и вопрос, как влияет на отцовские практики уверенность мужчины в своем отцовстве. Хотя достоверной статистики женских супружеских измен не существует, по-видимому, от 7 до 10 % мужей фактически воспитывают детей, зачатых не ими (Bellis, Baker, 1990).
В целом, заканчивает Гири, и мужчины, и женщины выигрывают от отцовского вклада, но е г о вклад необязателен. Мужское родительство скорее факультативно и больше зависит от личных, социальных и экологических условий, включая наследуемые индивидуальные различия в предпочтении спаривания или родительства, свойства личности, качество супружеских отношений и особенности ребенка. Собственный детский опыт (например, развод родителей), а также более общие социальные и экологические факторы (например, законы против многоженства) тоже коррелируют с тем, сколько мужчины вкладывают в благополучие своих детей.
Судя по теории Гири, современная эволюционная психология, вопреки распространенным обвинениям, не претендует на то, чтобы свести все многообразие отцовских отношений к раз и навсегда принятой системе биологических координат, а лишь фиксирует существующие в этой сфере и эмпирически доказанные тенденции развития. Как эти тенденции проявляются и трансформируются в конкретных обществах – изучают общественные и гуманитарные науки.
Объем и содержание конкретных отцовских практик всегда зависят от существующих в обществе нормативных установок. При всех межкультурных различиях нормативный канон, «идея» отцовства, включает два главных компонента: а) прародитель, первоисточник жизни и б) властное начало.
Первый момент прямо или косвенно представлен в самых различных мифологиях. Может быть, именно потому, что отцовство в отличие от материнства биологически проблематично, мужчины всегда искали его доказательств, которые должны были уравновесить, а еще лучше – перевесить бесспорное материнское начало. С этим связан и культ мужского семени, от которого якобы преимущественно, а то исключительно зависят индивидуальные свойства ребенка, и напряженные поиски внешнего сходства ребенка с его предполагаемым «законным» отцом, которыми одинаково озабочены и описанные Малиновским тробриандеры, и античные греки, и средневековые крестьяне, и современные европейцы (см.: Lett, 1997; Vernier, 1994).
Второй момент – отец как персонификация власти – тесно связан с социальной структурой общества. Даже там, где властные функции в семье и обществе принадлежат мужчинам, они не всегда правят миром, в том числе своими детьми, непосредственно и единолично.
В традиционном обществе отец чаще всего позиционируется как а) кормилец, б) дисциплинатор, в) пример для подражания и д) непосредственный наставник сыновей (но не дочерей) в общественно-трудовой деятельности. Но часто отцовство бывает чисто символическим, и едва ли не самый распространенный транскультурный его архетип – образ отсутствующего отца, который всем управляет, но конкретных социально-педагогических функций не имеет.
На возвышенно-символическом уровне монотеистических религий конкретные отцовские функции не особенно заметны, их поглощает и заслоняет властная вертикаль. Существует большая и очень интересная богословская литература о понимании отцовства в Ветхом и Новом завете (Goshen-Gottstein, 2001) В иудаизме Бог – Творец, Создатель всего сущего, Отец Всемогущий (богословы обсуждают вопрос, считать ли слово «всемогущий» прилагательным или существительным, синонимом «Отца»). Прежде всего, это грозная, карающая сила: «Я Господь, Бог твой, Бог ревнитель, за вину отцов наказывающий детей до третьего и четвертого рода, ненавидящих Меня» (Второзаконие 5:9). Но одновременно это также Отец и покровитель народа Израиля, который обязан почитать Его заповеди: «Почитай отца твоего и матерь твою, как повелел тебе Господь, Бог твой, чтобы продлились дни твои, и чтобы хорошо тебе было на той земле, которую Господь, Бог твой, дает тебе» (Второзаконие 5:16).
Христианство существенно изменило ветхозаветную концепцию отцовства. С появлением Христа и Божественной Троицы возникло понятие Бога Отца не только как Творца всего сущего, но и как отца своего Сына Иисуса. Образ Бога Отца предельно абстрактен. «Бог совершенно неизобразим в Своем существе, непостижим в Своей сущности и непознаваем. Как бы одет неприступным мраком непостижимости. Не только попытки изображения Бога в Его существе немыслимы, но и какие-либо определения не могут охватить и выразить существа Божия, оно неприступно для человеческого сознания, является неприступным мраком сущности Божией. Самое богословие может быть только апофатическим, то есть составленным в отрицательных терминах: Непостижимый, Неприступный, Непознаваемый» (Инок Григорий).
В православном каноне доминантная роль Бога Отца «чрезвычайно выражена: он высится над сыном и Богородицей и не виден в своей небесной резиденции. Возникает ощущение его незримого присутствия в мире, но нет его конкретного облика. Он правит миром семьи издали, не присутствуя в нем. Мать и Дитя предоставлены сами себе, но периодически ощущают незримую и грозную власть Отца… Он доминирует, властвует, но не управляет, или же его управление неподвластно земному разумению. Отвечает за дела семьи Мать и царица небесная. Сын психологически ближе к матери, чем к отцу, и мать также ближе к сыну, чем к отцу… От грозного Бога Отца людям ничего хорошего ждать не приходится, но Богоматерь с младенцем Христом на руках может вымолить у Всемогущего прощение и заступиться за своих детей, уберечь их от гнева Господня» (Дружинин, 2005. С. 64–65).
Кроме Божественной Троицы, в христианстве появился образ Святого Семейства (Богородица, младенец Иисус и его номинальный отец – святой Иосиф), занявший важное место в изобразительном искусстве Средних веков и Нового времени.
Какое отношение это имеет к реальному отцовству? По данным кросскультурных исследований, реальный отцовский вклад в воспитание детей, как и вообще отцовские контакты отца с детьми, в большинстве обществ значительно меньше материнского вклада. Дети проводят с отцом гораздо меньше времени. Например, по данным наблюдений за поведением 3—6-летних детей в Кении, Индии, Мексике, Филиппинах, Японии и США (Whiting, Whiting, 1975), в присутствии матери дети находились от 3 до 12 раз чаще, чем в присутствии отца. У 4—10-летних детей в обществах Африки, Южной Азии, Южной, Центральной и Северной Америки соответствующая разница составляет от 2 до 4 раз (Whiting, Edwards, 1988). Особенно ничтожен отцовский вклад в воспитание детей моложе 3 лет.
Впрочем, сравнивать величину отцовского и материнского вклада в воспитание ребенка можно только с учетом возраста ребенка и социальной структуры общества. Чем младше ребенок, тем больше роль матери. Применительно к младенцам это непосредственно связано с лактацией. Тем не менее не одна только мать ухаживает за младенцем. Лишь в половине обществ, по которым имеется более или менее достоверная статистика, за младенцами ухаживают исключительно матери, а остальные взрослые выполняют вспомогательные роли. В большинстве архаических обществ забота о маленьких детях, особенно после их отлучения от груди, разделена между матерью и другими членами семьи, прежде всего старшими девочками. А по мере взросления детей в этом начинают участвовать и отцы, особенно в роли дисциплинаторов и когда речь идет о мальчиках (Barry et al., 1977; Weisner, Gallimore, 1977). Иногда этим занимаются все взрослые члены общины (Broude, 1995).
Физическое отсутствие отца в патриархальной семье, его отстраненность от ухода за детьми – не только следствие его внесемейных обязанностей или его нежелания заниматься подобными делами, но и средство создания социальной дистанции между ним и детьми ради поддержания отцовской власти.
У некоторых народов существовали специальные правила избегания, делавшие взаимоотношения между отцом и детьми чрезвычайно сдержанными. Например, традиционный этикет кавказских горцев требовал, чтобы при посторонних, особенно при старших, отец не брал ребенка на руки, не играл с ним, не говорил с ним и вообще не проявлял к нему каких-либо чувств. По свидетельству осетинского классика Косты Хетагурова, «только в самом интимном кругу (жены и детей) или с глазу на глаз позволительно отцу дать волю своим чувствам и понянчить, приласкать детей. Если осетина-отца в прежние времена случайно заставали с ребенком на руках, то он не задумывался бросить малютку куда попало… Я не помню, чтобы отец назвал меня когда-нибудь по имени. Говоря обо мне, он всегда выражался так: „Где наш сын? Не видал ли кто нашего мальчика?“» (Хетагуров, 1960. С. 339–340). Это было средством поддержания отцовской власти и иерархических отношений в семье ивобществе.
Из истории отцовства
Несмотря на наличие транскультурных констант, история отцовства, будь то его идеология или повседневные практики, так же как история детства, не укладывается в простые эволюционные схемы. В научной литературе 1970—80-х годов, находившейся под сильным влиянием идей Филиппа Арьеса и, в меньшей степени, психоистории Ллойда Демоза (см. о них: Кон, 2003в), отцы упоминаются редко и преимущественно в негативном ключе: подчеркивается их жестокость, властность, авторитарность и т. п. Исследования 1990-х годов показали, что это, как и отнесение «открытия детства» к началу Нового времени, – сильное упрощение: не только отцовские практики, но и нормативные каноны отцовства в исторических обществах никогда не были вполне единообразными, причем всюду с усложнением общества отцовская власть, как правило, ослабевает. Характерный пример – античность.
Древняя Греция и Рим – рабовладельческие и одинаково патриархатные общества. Первоначально отцовская власть над детьми в них фактически абсолютна, что порождает бесчисленные противоречия и конфликты. Современные исследователи не устают удивляться жестокости образов архаического отцовства в древнегреческих мифах. Тантал убивает своего сына Пелопса и подает его тело на банкете в честь богов. Кронос кастрирует своего отца Урана, а затем пожирает собственных детей. Агамемнон приносит в жертву свою дочь Ифигению. Геракл убивает своих детей в припадке ярости. Агав убивает и расчленяет своего сына Пентея. Зевс сбрасывает своего сына Гефеста с Олимпа. Лай мучает, а затем изгоняет своего сына Эдипа (бросает младенца в горах).
Вместе с тем Геродот (1. 136. 2) хвалит персидский обычай не приводить сыновей к отцу до достижения ими пяти лет, чтобы не расстраивать отца, если ребенок умрет во младенчестве. С одной стороны, это свидетельство естественного в условиях высокой детской смертности пренебрежения маленькими детьми, а с другой стороны, не лишенный комизма призыв щадить нежные отцовские чувства – своеобразное признание наличия отцовской любви. Гомер красочно описывает отцовскую скорбь Приама по поводу гибели Гектора и т. п. Несмотря на строгие нормы сыновнего (о дочерях и говорить нечего!) послушания отцовской воле, древнегреческая литература много говорит о разнообразных межпоколенческих конфликтах, столкновениях сыновей и отцов (вспомним хотя бы Аристофана). Причем, как правило, утверждается, что «раньше» ничего подобного не было, дети были послушны и внимательны. Люди всегда проецировали золотой век в прошлое…
Предельный, крайний случай абсолютной отцовской власти – древнеримский pater familias (Veyne, 1985), который обладал правом жизни и смерти над всеми своими чадами и домочадцами, даже над взрослыми и женатыми сыновьями. Даже когда право казнить своих детей было отменено, отец в любой момент мог лишить их наследства. Постоянная зависимость порождала взаимную ненависть, а в периоды смут и гражданских войн – частые отцеубийства.
Средневековые монархии унаследовали римские нормы отцовского права, но они подверглись серьезным ограничениям. Важную роль в ограничении отцовского деспотизма сыграло христианство. Некоторые высказывания Христа, взятые вне своего исторического контекста, выглядят откровенно «антисемейными»:
«Кто любит отца или мать более, нежели Меня, не достоин Меня; и кто любит сына или дочь более Меня, не достоин Меня» (Матфей 10:37).
«Если кто приходит ко Мне, и не возненавидит отца своего и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, а притом и самой жизни своей, тот не может быть Моим учеником» (Лука 14:26).
«И отцем себе не называйте никого на земле, ибо один у вас Отец, Который на небе» (Матфей 23:9).
Иудейским первосвященникам эти слова, вероятно, казались экстремистскими, а христианство – опасной тоталитарной сектой, подрывающей семейные устои. Думаю, что и в сегодняшней России по жалобе родителей за такие слова любую секту немедленно запретили бы. Но в том историческом контексте это имело освободительный смысл. Иисус ставит свободно, индивидуально выбранные духовные связи выше естественных, природных, и отрицает принятый в римском праве принцип абсолютной отцовской власти. Кроме того, он говорил от лица Бога. Со временем это повлекло за собой, еще в рамках Римской империи, запрещение детоубийства, а затем, как показывает французский историк Дидье Летт (Lett, 2000, 2000a), изменилось и само понятие отцовства.
По римскому праву, отцовство создается волей мужчины, который может признать своим ребенком практически кого угодно. Христианство намертво связывает институт отцовства с браком: любой ребенок, рожденный в законном (то есть церковном) браке, автоматически признается потомком соответствующей супружеской пары. Презумпция отцовства лучше всего иллюстрируется примером Святого Семейства: хотя Иисус появился на свет в результате непорочного зачатия, муж Марии святой Иосиф автоматически стал его земным отцом.
Конфликт между духовным и земным отцовством в житиях святых подчеркивается тем, что многие святые начинают свой сознательный жизненный путь с разрыва со своим биологическим отцом, предпочитая ему духовное родство с Богом. Параллельно возникает новое понятие – «духовный отец». Аббат (игумен) как глава монастыря становится духовным отцом всех своих монахов, которые, в свою очередь, называют себя «братьями». Начиная с VIII–IX вв. каждый христианин при церемонии крещения получает также крестного отца, который обязан специально заботиться о духовном, религиозном воспитании своего крестника. То есть возникает нечто вроде множественного отцовства, где каждая ипостась выполняет свои особые функции.
Земной, биологический, отец также хочет воплотиться в ребенке и передать ему не только свою кровь и имущество, но и свою символическую сущность. Прежде всего, речь идет об имени. Пока семейных имен («фамилий») не существовало, знатные отцы включали в имя своего сына собственное имя: Хлодвиг называет сына Хлодомиром, а Теодеберт – Теодебальдом. Иногда одно и то же имя передается от отца к сыну и далее, так что все наследники данного рода будут Робертами или Людовиками. Или же отцовское имя чередуется с именем деда. Все это имело важный символический смысл. Как писал около 1260 г. известный французский юрист, «через своих потомков, носящих его имя, отец более прочно увековечивает память о себе и о своих предках» (Lett, 2000. P. 26).
Такой же смысл имеют и настойчивые поиски «фамильного сходства» внешности, черт лица и т. п. Производя на свет себе подобных, средневековый отец не только получал подтверждение своего биологического отцовства, но и становился соучастником продолжающегося цикла творения, подобно тому, как Адам «родил сына по подобию своему, по образу своему» (Бытие 5:3) после того, как Бог сотворил его самого «по образу Своему».
Быть отцом в средневековой Европе и в начале Нового времени было почетно и даже обязательно. Почти все мужчины состояли в браке. Бесплодие – несмываемый позор и бесчестье для мужчины. Импотенция – не только сексуальное, но и общее бессилие. Однако высокая детская смертность (только половина детей доживали до 10 лет) и повышение среднего возраста вступления мужчин в первый брак (в XVI–XVII вв. в Англии и Франции брачный возраст был около 27 лет) приводят к тому, что фактически детей в семье было не так много: «много отцов, мало детей».
Зато очень много незаконнорожденных. В среднем по Европе число внебрачных рождений в XVII–XVIII вв. составляло от 1 до 5 %, но в некоторых странах и регионах оно доходило до 8,4 % (Adair, 1996). В знатных семьях бастарды даже ценятся. По достоверным данным, с 1400 до 1649 г. бастарды составляли 24,5 % всех детей королей Франции и 10,3 % детей высших военачальников. Герцог Бургундский Филипп Добрый был отцом двадцати шести бастардов, а Генрих IV Французский – по меньшей мере, одиннадцати (от шести разных женщин), шестерых из них он узаконил. Бастарды не могли претендовать на трон, но их можно было выгодно женить или выдать замуж, что помогало расширению династических связей.
Однозначного ответа на вопрос: «Как средневековые отцы обращались со своими детьми?» быть не может. Нормативные предписания и, тем более, повседневные отцовские практики никогда не были единообразными. Энциклопедии ХШ в. подчеркивают, что хотя базовая отцовская ответственность вытекает из факта зачатия ребенка, отец продолжает формировать его и после рождения. Но главные заботы отца, в отличие от материнских, – поддержание дисциплины и преодоление греховных влияний. Главным средством того и другого были телесные наказания, подкрепленные авторитетом Ветхого Завета: «Кто жалеет розги своей, тот ненавидит сына своего, а кто любит, с детства наказывает его» (Притчи Соломоновы 13:24). «Не оставляй юноши без наказания» (Притчи 23:13). «Розга и обличение дают мудрость» (Притчи 29:15). Должен признаться, аналогичных высказываний Иисуса я не нашел.
На протяжении всех Средних веков педагоги, юристы и богословы настойчиво напоминают мужчинам, что они должны не только физически заботиться о своих детях, но и духовно воспитывать их. Это не проходило даром. Вопреки представлению о постоянном физическом отсутствии отцов в семье, средневековые рисунки и миниатюры часто изображают отца присутствующим у постели больного ребенка (особенно если происходит чудо), маленьких детей нередко берут с собой в поход, на рынок или в путешествие. Даже когда детей отдавали на воспитание в чужие семьи, о чем говорилось выше, в этом проявлялось не столько равнодушие к ребенку, сколько забота о его собственном благе, как его тогда понимали.
Это касается и телесных наказаний. То, что средневековое воспитание, особенно отцовское, было суровым и жестоким, не подлежит ни малейшему сомнению. Даже возросшее внимание к детям в XV–XVI вв. означало в первую очередь усиление требовательности. Теологи говорят исключительно об обязанностях детей по отношению к родителям, прежде всего – к отцу, и ни слова – о родительских обязанностях. Автор популярного во Франции первой половины XVII в. трактата о моральной теологии писал, что если отец и сын некоего человека окажутся в одинаково бедственном положении, человек должен в первую очередь помочь отцу, потому что он получил от своих родителей гораздо больше, чем от детей (см.: Flandrin, 1976. P. 135).
После Тридентского собора трактовка четвертой заповеди стала более расширительной. Из одиннадцати «покаянных книг», изученных Жаном-Луи Фландреном, четыре, написанные между серединой XIV и серединой XVI в., ничего не говорят о долге родителей по отношению к детям; зато семь книг, опубликованных между 1574 и 1748 годами, затрагивают эту тему все более подробно. Из семи пенитенциариев, упоминающих родительский долг, и шести катехизисов, подробно комментирующих четвертую заповедь, в двух трудах, опубликованных до 1580 г., свыше 80 % текста посвящено обязанностям детей и меньше 20 % – родительским; в трех книгах, изданных между 1580 и 1638 гг., родительским обязанностям посвящено от 22 до 34 % текста, а в восьми книгах, относящихся к 1640–1794 гг., доля подобных наставлений колеблется от 40 до 60 % (Flandrin, 1976. P. 135–136).
Если средневековые тексты говорят исключительно о властных функциях отца, которого домочадцы должны почитать и слушаться, а самому ему мало что предписывается, то начиная с эпохи Возрождения и Реформации, и особенно в XVII–XVIII вв., в Западной Европе появляется много поучений и наставлений отцам, как им следует воспитывать детей. Этот сюжет занимает важное место в протестантской этике. Акцент все чаще делается на любви к детям. Это проявляется, в частности, в культе доброго святого Иосифа, который растил маленького Иисуса, и призывах подражать ему.
Заметно индивидуализируется и сама мужская психология. Знатные и образованные отцы все чаще говорят, что они вынуждены наказывать своих детей против собственной воли. Меняется и смысл понятия семейной преемственности: наряду с извечным вопросом, станет ли сын достойным продолжателем отцовского дела, в чем бы оно ни заключалось, возникает новая забота: а каким мой сын меня запомнит?
Монтень об отцовстве. Интерлюдия
Мишель де Монтень много размышлял об отцовстве и воспитании детей как на личном опыте, так и по просьбе друзей. В частности, глава «О воспитании детей» написана по просьбе жены его близкого приятеля графини Дианы де Фуа, ожидавшей рождения первого ребенка, который, по убеждению философа, непременно должен был быть мальчиком: «…..вы слишком доблестны, чтобы начинать иначе как с мальчика» (Монтень, 1958. Т. 1. С. 191). Обратите внимание: адресатом педагогического трактата является женщина, но родить она должна непременно сына!
Монтень разделяет общее «мнение, что неразумно воспитывать ребенка под крылышком у родителей» (Там же. С. 198). К новорожденным детям он откровенно равнодушен, признавая, что «не особенно любил, чтобы их выхаживали около меня» (Там же. Т. 2. С. 69). О смерти своих маленьких детей он тоже говорит спокойно: «Я сам потерял двоих или троих детей, правда, в младенческом возрасте, если и не без некоторого сожаления, но, во всяком случае, без ропота» (Там же. Т. 1. С. 77). На этом основании Филипп Арьес, а за ним и многие другие, включая меня, обвиняли философа в равнодушии к детям. Это несправедливо.
Как большинство мужчин любой исторической эпохи, Монтеня больше интересуют подросшие дети, которым отец может передать свое духовное богатство. «Мы любим наших детей по той простой причине, что они рождены нами». Но эту заслугу приходится делить с матерью ребенка, между тем существует «другое наше порождение»: «ведь то, что порождено нашей душой, то, что является плодом нашего ума и душевных качеств, увидело свет благодаря более благородным органам, чем наши органы размножения; эти создания еще более наши, чем дети; при этом творении мы являемся одновременно и матерью и отцом, они достаются нам гораздо труднее и приносят нам больше чести, если в них есть что-нибудь хорошее» (Там же. Т. 2. С. 86).
Философ осуждает институт кормилиц и обычай отдавать детей в чужие семьи. По его мнению, мужчине следует жениться в 35 лет, чтобы возраст родителей не был близок к возрасту детей. Слишком молодой, как и слишком старый, отец не может быть ни хорошим наставником, ни примером. Не следует также держаться за свое имущество и власть. Идеал отцовства – дружеские отношения с детьми, готовность открываться им.
Интересно, что некоторые современники Монтеня остро осознают потребность в общении с детьми, но не могут ее реализовать:
Покойный маршал де Монлюк, потеряв сына жаловался мне на то, что среди многих других сожалений, его особенно мучит и угнетает то, что он никогда не общался со своим сыном. В угоду личине важного и недоступного отца, которую он носил, он лишил себя радости узнать как следует своего сына, поведать ему о своей глубокой к нему привязанности и сказать ему, как высоко он ценил его доблесть. Таким образом, рассказывал Монлюк, бедный мальчик встречал с моей стороны только хмурый, насупленный и пренебрежительный взгляд, сохранив до конца убеждение, что я не смог ни полюбить, ни оценить его по достоинству. «Кому же еще мог я открыть эту нежную любовь, которую я питал к нему в глубине души? Не он ли должен был испытать всю радость этого чувства и проявить признательность за него? А я сковывал себя и заставлял себя носить эту бессмысленную маску; из-за этого я лишен был удовольствия беседовать с ним, пользоваться его расположением, которое он мог выказывать мне лишь очень холодно, всегда встречая с моей стороны только суровость и деспотическое обращение» (Там же. С. 80).
Индивидуальные отцовские практики могли быть и были совершенно разными. Некоторые коронованные отцы не стеснялись возиться со своими маленькими детьми, переживая их болезни и смерти как личную драму. Сохранились 34 нежных письма Филиппа II Испанского инфантам Изабелле и Екатерине, которым было в то время 15 и 14 лет (Histoire des peres. P. 128–129). Кто бы подумал, зная мрачный характер этого человека и печальную судьбу его наследника дона Карлоса!
Удивительно заботливым и ласковым отцом был Генрих IV Французский, который нежно любил не только детей своих многочисленных любовниц, но и своего дофина, будущего Людовика ХШ (Ibid. P. 210–214). Король берет его с собой на охоту и на прогулки, часто разговаривает и играет с мальчиком. Подробные записки придворного врача Эруара позволяют нам сегодня услышать ту влюбленную интонацию, с которой мальчик обращается – всегда на Вы! – к своему обожаемому папе.
Некоторые современные историки даже называют период с середины XV до начала XVIII в. «золотым веком отцов», потому что в это время отцовская власть уже перестала быть тиранической, но еще оставалась бесспорной. Возможно, это преувеличение. Однако то, что в Новое время отцовство становится все более многомерным и многоликим, сомнению не подлежит. Вопрос, были ли эти перемены преимущественно дискурсивными – мужчины научились выражать чувства, которые они раньше испытывали молча, или же сами эти чувства впервые появились, изменив мужское социальное поведение, – однозначного ответа не имеет.
В любом случае, развитие эмоциональной культуры было связано с социально-структурными изменениями. В середине XVIII в. у дворянских, а отчасти и у буржуазных мальчиков заметно расширяются возможности относительно самостоятельного выбора своего жизненного пути. Это, равно как и расширение сферы внесемейного воспитания, в какой бы форме оно ни осуществлялось, заметно ослабляет отцовскую власть и влияние.
Натерпевшиеся в юности от отцовского деспотизма просвещенные отцы предпочитают воспитывать своих детей иначе. Джон Локк в трактате «Некоторые мысли о воспитании» (1693), выдержавшем до 1800 г. 25 изданий, не отрицая телесных наказаний в принципе, требовал применять их более умеренно, потому что рабская дисциплина формирует рабский характер. В 1711 г. к этому мнению присоединился Джонатан Свифт, который писал, что порка ломает дух благородных юношей, а в 1769 г. – Уильям Шеридан. Сэр Филип Фрэнсис, вручая воспитателю в 1774 г. своего единственного сына, писал: «Поскольку моя цель – сделать его джентльменом, что предполагает свободный характер и чувства, я считаю несовместимым с этой целью воспитание его в рабской дисциплине розги… Я абсолютно запрещаю битье». Сходные инструкции давал лорд Генри Холланд: «Не надо делать ничего, что могло бы сломить его дух. Мир сам сделает это достаточно быстро» (Цит. по: Stone, 1979. P. 278–280).
Переориентация с власти на авторитет – процесс долгий и мучительный. Женщины-матери, которые сами только-только начали освобождаться от мужского деспотизма, уловили и реализовали эту потребность эпохи раньше, чем суровые и властные мужчины. Вся вторая половина XVIII в., особенно после трактата Жан Жака Руссо «Эмиль» (1762), проходит под флагом критики семейного, особенно отцовского, воспитания. «Поглядишь на теперешних отцов, и кажется, что не так уж плохо быть сиротой, а поглядишь на сыновей, так кажется, что не так уж плохо остаться бездетным» (Честерфилд, 1971. С. 194).
И отцы, и дети, вслед за Руссо, все чаще констатируют, что «нет интимности между родными» (Руссо, 1981. С. 40). Князь де Талейран (1754–1838) писал, что «родительские заботы еще не вошли тогда в моду… В знатных семьях любили гораздо больше род, чем отдельных лиц, особенно молодых, которые еще были неизвестны» (Талейран, 1959. С. 89). Талейрану вторит принц Шарль Жозеф де Линь (1735–1814): «Мой отец не любил меня. Я не знаю почему, так как мы не знали друг друга. Тогда немодно было быть ни хорошим отцом, ни хорошим мужем» (Ago, 1994. P. 255).
Эти жалобы продолжаются и в XIX в. «Нас воспитывали в старом стиле, без всякой фамильярности и излияния чувств со стороны наших родителей, и особенно нашей матери, мы подчинялись из страха. Мы бунтовали, когда чувствовали силу, потому что связей, основанных на доверии и нежности, не существовало» (барон Буриньо де Варенн) (Houbre, 1997. P. 40). Бальзак в повести «Лилия долины» (во многом автобиографической) говорит устами своего героя Феликса де Ванденеса: «Не успел я родиться, как меня отправили в деревню и отдали на воспитание кормилице; семья не вспоминала о моем существовании в течение трех лет; вернувшись же в отчий дом, я был таким несчастным и заброшенным, что вызывал невольное сострадание окружающих. Я не встретил ни искреннего участия, ни помощи, которые помогли бы мне оправиться после этих первых невзгод; в детстве счастье было мне неведомо, в юности – недоступно» (Т. 8. С. 6–7).
Говорят ли эти жалобы о том, что отношения отцов и детей стали холоднее, или о том, что у людей появились новые психологические потребности, которые раньше не осознавались? Мне кажется – второе.
Изменение содержания отцовской роли в Новое время обусловлено двумя взаимосвязанными макросоциальными процессами: а) ускорением темпа социально-экономического обновления и вытекающим отсюда усилением значения внесемейных факторов социализации и 2) изменением характера властных отношений в обществе (Gillis, 2000).
Первую тенденцию подметил еще Монтескье, который писал, что у древних народов воспитание было гармоничнее и прочнее, чем теперь, потому что «последующая жизнь не отрицала его. Эпаминонд и в последние годы своей жизни говорил, видел, слышал и делал то же самое, чему его учили в детстве. Ныне же мы получаем воспитание из трех различных и даже противоположных друг другу источников: от наших отцов, от наших учителей и от того, что называют светом. И уроки последнего разрушают идеи первых двух» (Монтескье, 1955. С. 191).
Рассматриваемое на фоне сегодняшней неустойчивости и мобильности, традиционное воспитание кажется исключительно успешным и стабильным. Но, во-первых, современники любой эпохи были недовольны качеством воспитания детей, уверяя, что в прошлом оно было лучше. Во-вторых, известная рассогласованность целей и результатов социализации – необходимое условие и предпосылка исторического развития: если бы какому-то поколению взрослых удалось сформировать детей целиком по своему образу и подобию, – а ничего другого, по крайней мере относительно конечных, главных ценностей бытия, люди, как правило, вообразить не могут, – история стала бы всего лишь простым повторением пройденного. В-третьих, традиционные институты социализации были эффективны главным образом в передаче унаследованных от прошлого ценностей и норм. Малейшее изменение социальной среды и образа жизни ставило традиционную систему социализации в тупик, вызывало напряжение и неустойчивость. Она никак не может быть образцом для динамичного, быстро меняющегося общества, озабоченного в первую очередь проблемой инновации.
Эту сторону дело хорошо схватила Маргарет Мид, различающая в истории человечества три типа культур: постфигуративные, в которых дети учатся главным образом у своих предков; кофигуративные, в которых и дети, и взрослые учатся прежде всего у равных, сверстников, и префигуративные, в которых взрослые учатся также у своих детей (Мид, 1988. С. 222–261).
Постфигуративная культура преобладает в традиционном, патриархальном обществе, которое ориентируется главным образом на опыт прежних поколений, то есть на традицию и ее живых носителей – стариков. Традиционное общество живет как бы вне времени, всякое новшество вызывает в нем подозрение – «наши предки так не поступали». Взаимоотношения возрастных слоев здесь жестко регламентированы, каждый знает свое место, и никаких споров на этот счет не возникает. Ускорение технического и социального развития делает опору на опыт прежних поколений недостаточной.
Кофигуративная культура переносит центр тяжести с прошлого на современность. Для нее типична ориентация не столько на старших, сколько на современников, равных по возрасту и опыту. В науке это значит, что мнение современных ученых считается важнее, чем, скажем, мнение Аристотеля. В воспитании влияние родителей уравновешивается, а то и перевешивается влиянием сверстников и т. д. Это совпадает с изменением структуры семьи, превращающейся из «большой семьи» в нуклеарную. Отсюда – растущее значение юношеских групп, появление особой молодежной культуры и всякого рода межпоколенческих конфликтов.
Наконец, в наши дни, считает Мид, темп развития стал настолько быстрым, что прошлый опыт уже не только недостаточен, но часто оказывается даже вредным, мешая смелым и прогрессивным подходам к новым, небывалым обстоятельствам.
Префигуративная культура ориентируется главным образом на будущее. Теперь не только молодежь учится у старших, но и старшие все больше прислушиваются к молодежи. Раньше старший мог сказать юноше: «Ты должен слушаться меня, потому что я был молодым, а ты не был старым, поэтому я лучше тебя все знаю». Сегодня он может услышать в ответ: «Но вы никогда не были молоды в тех условиях, в которых нам предстоит жить, поэтому ваш опыт для нас бесполезен».
На непослушание и мятежный дух подростков отцы жаловались и до XVIII в. Но раньше они могли подавить неповиновение детей, теперь это стало труднее, что побуждает отцов прислушиваться к ним и пытаться понять происходящее. Это тесно связано с изменением характера властных отношений в обществе, а важнейшим рубежом стала Французская революция. Критика отцовского авторитаризма была своеобразной формой критики королевской власти. Недаром ею занимались такие политики, как Мирабо и Дантон, который заявил, что «прежде, чем принадлежать своим родителям, дети принадлежат республике» (цит. по: Mulliez, 2000. P. 301). Замена патриархально-монархического государственного устройства «братски-республиканским» повлекла за собой и изменение канона отцовства: абсолютный монарх, который волен карать и миловать, уступает место «кормильцу», у которого значительно меньше власти и гораздо больше обязанностей (Gillis, 2000).
Новая политическая философия в корне меняет понимание не только отцовства, но и самой семьи. По определению Гегеля, «семья по существу составляет только одну субстанцию, только одно лицо. Члены семьи не являются лицами по отношению друг к другу […]. Лишь семья составляет личность. Долг родителей перед детьми – заботиться об их прокормлении и воспитании; долг детей – повиноваться, пока не станут самостоятельными и чтить родителей всю свою жизнь» (Гегель, 1971. С. 68).
В XIX в. на первый план все больше выходит индивидуальность каждого из членов семьи.
«Конец патриархов» означает, что вместо авторитарного отцовства базовой политической категорией становится демократическое братство, отношения равных. Переход от преимущественно семейного воспитания к общественному и ограничение прав отца полновластно распоряжаться своим имуществом по завещанию были не менее радикальными социальными сдвигами, чем когда-то – запрет детоубийства и продажи детей в рабство.
Соответственно меняется и общественная психология. Обязанности индивида по отношению к собственной семье расширяются до долга по отношению к отечеству, а чувство любви к конкретному отцу – до идеи патриотизма.
Усложняются и реальные отношения ребенка с его воспитателями. Индивидуальный отец все больше дополняется, а то и заменяется «коллективными отцами», наемными учителями, а в дальнейшем – о, ужас! – и учительницами, которые могут быть совершенно разными.
Во взаимоотношения отцов и детей все чаще и энергичнее вмешивается государство, становясь посредником в решении спорных вопросов между родителями и детьми.
Законодательное ограничение отцовских прав дополняется расширением отцовских обязанностей в отношении детей. Но одновременно растет число брошенных детей. Ежегодное число подкидышей в Париже выросло с 1700 в 1700 г. до 6 000 в 1789-м и 31 000 в 1831 г. (Cabantous, 2000. P. 351). Между прочим, Руссо, который считается едва ли не «родоначальником» идеи родительской любви, собственных детей от своей постоянной сожительницы Терезы отдавал в приют, не испытывая при этом особых угрызений совести. Конечно, это не было общим правилом.
Реальные отцовские практики в XIX в., как и раньше, были разными. Известный английский историк Джон Тош (Tosh, 1999) на примере семи тщательно отобранных мужских историй жизни (адвоката, акцизного чиновника, врача, мельника, банкира и директора школы) убедительно показал, что в жизни викторианских мужчин семейные дела занимали центральное место, причем викторианский отец испытывал давление с разных сторон. Он обязан был не только кормить, но и защищать членов своей семьи от суровых реалий развращенного мира. Он все еще остается властной фигурой, хотя жена уже похитила часть его могущества, а романтизация детства сделала проблематичными его дисциплинарные практики. Тош различает четыре типа викторианских отцов: отсутствующий отец, тиранический отец, далекий отец и теплый, интимный отец. При этом наиболее типичным оказывается ответственный, но далекий отец, которому трудно совместить противоречивые требования своей роли, что и делает его взаимоотношения с детьми психологически напряженными.
По мере увеличения разнообразия отцовских функций начинает дробиться, утрачивая свою былую монолитность, и художественный образ отца. В художественной литературе XIX в. наряду с традиционным патриархальным отцом семейства появляется мигрирующий отец, разведенный отец, отсутствующий отец, отец-пьяница, отец-каторжник, отец-насильник. Так же разнятся и психологические типы отцов. Наряду с холодным и деспотичным мистером Домби появляется самоотверженный отец Горио. Рядом с образами брошенных на произвол судьбы детей появляются образы оставленных без помощи престарелых отцов. Говоря словами французского историка, некогда цельный образ отца стал в XIX–XX вв. больше напоминать разбитое зеркало, каждый фрагмент которого отражает что-то свое (Menard, 2000. P. 359).
Образ родительства в художественной литературе еще ждет своего исследователя-социолога.
В родных пенатах
В отличие от французского, немецкого, английского, американского и даже японского отцовства, которым посвящено немало серьезных историко-психологических исследований, история русского отцовства не написана даже вчерне, хотя количество и качество доступных источников у нас не меньше и не хуже, чем в странах Запада.
При поверхностном подходе к теме на первый план неизбежно выпирают крайности. Одни авторы видят в древней Руси сплошное темное царство жестокого отцовского авторитаризма, а другие считают, что не только тиранического, но и вообще сколько-нибудь строгого отцовства тогда не было, потому что всем всегда заправляли женщины. Кроме идеологических соображений, эта поляризация отчасти связана с тем, каким источникам отдает предпочтение тот или иной историк и интересует ли его нормативный канон отцовства или конкретные отцовские практики.
Нормативные представления феодальной Руси мало чем отличались от западных, однако они, как и крепостной строй, продержались здесь значительно дольше, и это существенно.
Как и в любом феодальном обществе, в древнерусской культуре дети занимали подчиненное положение. Слова, обозначающие подрастающее поколение («отрок», «детя», «чадо»), встречаются в «Повести временных лет» в десять раз реже, чем слова, относящиеся к взрослым мужчинам. Мужская родственная терминология составляет чуть меньше трети всего комплекса летописных существительных, при том что вообще «родственная» лексика дает 39,4 % от всех существительных, употребленных летописцем. Проблема «отцов и детей» в русском средневековье чаще всего принимала вид проблемы «сыновей и родителей» (см: Данилевский, 1998).
Отношения в семье, как и в обществе, были суровыми и авторитарными. «Между родителями и детьми господствовал дух рабства, прикрытый ложною святостью патриархальных отношений… Чем благочестивее был родитель, тем суровее обращался с детьми, ибо церковные понятия предписывали ему быть как можно строже… Слова почитались недостаточными, как бы убедительны они ни были… Домострой запрещает даже смеяться и играть с ребенком» (Костомаров, 1887. С. 155).
«Изборник» 1076 г. учит, что ребенка нужно с самого раннего возраста «укрощать», ломать его волю, а «Повесть об Акире Премудром» (XII в.) призывает: «от биения сына своего не воздержайся» (Долгов, 2006. С. 78). Строгость обосновывалась тем, что в ребенке сидит неуправляемое злое начало, выражение «чертенок» – не просто шуточная метафора.
Педагогика «сокрушения ребер» подробно изложена в «Домострое», учебнике семейной жизни, сочиненном духовником Ивана Грозного протопопом Сильвестром.
Следует мужьям воспитывать жен своих с любовью примерным наставлением; жены мужей своих вопрошают о всяком порядке, о том, как душу спасти, Богу и мужу угодить и дом свой подобру устроить и во всем покоряться мужу; а что муж накажет, с любовью и страхом внимать и исполнять по его наставлению.
Заботиться отцу и матери о чадах своих; обеспечить и воспитать в доброй науке… А со временем, по детям смотря и по возрасту, учить их рукоделию, отец – сыновей, мать – дочерей, кто чего достоин, какие кому Бог способности дал. Любить и хранить их, но и страхом спасать.
Наказывай сына своего в юности его, и успокоит тебя в старости твоей. И не жалей, младенца бия: если жезлом накажешь его, не умрет, но здоровее будет, ибо ты, казня его тело, душу его избавляешь от смерти. Если дочь у тебя, и на нее направь свою строгость, тем сохранишь ее от телесных бед: не посрамишь лица своего, если в послушании дочери ходят […]. Воспитай детей в запретах и найдешь в них покой и благословение. Понапрасну не смейся, играя с ним: в малом послабишь – в большом пострадаешь скорбя. Так не дай ему воли в юности, но пройдись по ребрам его, пока он растет, и тогда, возмужав, не провинится перед тобой и не станет тебе досадой и болезнью души, и разорением дома, погибелью имущества, и укором соседей, и насмешкой врагов, и пеней.
Чада, любите отца своего и мать свою и слушайтесь их, и повинуйтесь им во всем. С трепетом и раболепно служите им.
(Домострой, 1990. С. 134–136, 141, 146)Церковные установки подкреплялись светским законодательством. Согласно Уложению 1649 г., дети не имели права жаловаться на родителей, убийство сына или дочери каралось всего лишь годичным тюремным заключением, тогда как детей, посягнувших на жизнь родителей, закон предписывал казнить «безо всякие пощады». Это неравенство было устранено только в 1716 г., когда Петр I собственноручно приписал к слову «дитя» добавление «во младенчестве», ограждая тем самым жизнь новорожденных и грудных детей.
Суровые авторитарные нормы, с упором на телесные наказания, разделяет и русская народная педагогика: «За дело побить – уму-разуму учить»; «Это не бьют, а ума дают». «Силовое наделение разумом» предписывается прежде всего отцу: «Какой ты есть батька, коли твой детенок и вовсе тебя не боится»; «Люби детенка так, чтобы он этого не знал, а то с малых лет приучишь за бороду себя таскать и сам не рад будешь, когда подрастет он». Особенно полезно порка для сыновей: «Жалеть сына – учить дураком»; «Ненаказанный сын – бесчестье отцу»; «Поменьше корми, побольше пори – хороший парень вырастет» (Холодная, 2004. С. 176).
Даже в петровскую эпоху, когда педагогика «сокрушения ребер» стала подвергаться критике, строгость и суровость оставалась непререкаемой нормой.
«…..Ни малыя воли ему не давай, но в велицей грозе держи его», – поучает своего сына И. Т. Посошков (Посошков, 1893. С. 44).
По словам В. Н. Татищева, «младенец» (до 12 лет) «упрям, не хочет никому повиноваться, разве за страх наказания; свиреп, даже может за малейшую досаду тягчайший вред лучшему благодетелю учинить; непостоянен, зане как дружба, так и злоба не долго в нем пребывают» (Татищев, 1979. С. 67).
Лишь в XVIII в. в русской педагогике появляются новые веяния, причем изменение отношения к отцовской власти было тесно связано с критическим отношением к власти государственной. Например, А. Н. Радищев призывает к отказу от родительской власти как принципа воздаяния за «подаренную» детям жизнь: «…..Изжените из мыслей ваших, что вы есте под властию моею. Вы мне ничем не обязаны. Не в рассудке, а меньше еще в законе хошу искати твердости союза нашего. Он оснуется на вашем сердце» (Радищев, 1952. С. 108). Однако подобные взгляды были не правилом, а исключением.
Как убедительно показывает Б. Н. Миронов (Миронов, 2000. Т. 1. С. 236–281), русская семья и в XIX в. оставалась патриархальной и авторитарной. Сильнее всего это выражено в крестьянской среде. Для русского крестьянина отец и царь почти одно и то же: «Царь-государь – наш земной Бог, как, примерно, отец в семье». Отцу принадлежат и власть, и собственность, и распорядительные функции. Вот несколько свидетельств, касающихся жизни крестьян Владимирской губернии конца XIX в.:
Имуществом глава семьи распоряжается бесконтрольно, несколько ограничить его власть могут лишь взрослые сыновья.
За непочтительное отношение к себе отец вправе выслать сына из дома без всякого вознаграждения. Никто не может его обязать даже наделить сына землей, поскольку мир и власти всегда на стороне родителей.
Отношение родителей к детям строгое. Отец распоряжается в одинаковой степени детьми обоего пола, имеет всю полноту власти. При этом власть отца над замужней дочерью сохраняет свою силу, в то время как отделенный сын становится абсолютно независимым.
Отец распоряжается сыновьями, мать – дочерьми. Власть отца безгранична: он может отдать в найм и принудить к браку. Лишь отделившиеся сыновья и замужние дочери не подвластны отцу.
(Быт великорусских крестьян-землепашцев, 1993. С. 188, 200, 185)В семьях процветают рукоприкладство и грубое насилие, которое часто маскируется под телесные наказания. Об этом хорошо сказал В. С. Курочкин (1831–1875):
Розги – ветви с древа знания! Наказанья идеал! В силу предков завещания Родовой наш капитал! Мы до школы и учителей, Чуть ходя на помочах, Из честной руки родителей Познавали божий страх. И с весною нашей розовой Из начальнических рук Гибкой, свежею, березовой Нам привили курс наук. И потом, чтоб просвещением Мы не сделались горды, В жизни отческим сечением Нас спасали от беды. (Поэты «Искры», 1955. Т. 1. С. 181)Почти столь же суровыми были нравы городских торгово-ремесленных и купеческих семей. В дворянских домах господство главы семьи носит более утонченный, просвещенный характер. «Однако как просвещенный абсолютизм не переставал быть абсолютизмом, так и просвещенный авторитаризм оставался авторитаризмом» (Миронов, 2000. Т. 1. С. 260). Русские дворяне XVIII – начала XIX в. часто вспоминают о материнской нежности и ласке, отцы же рисуются суровыми и отчужденными, и это не ставится им в вину. Проявление любви и нежности считалось качеством, недостойным мужчины, так что даже мягкие по характеру отцы его стеснялись.
«Что принадлежит до нас, детей его, то любил он нас потолику, сколько отцу детей своих любить должно, но без дальнего чадолюбия и неги. Он сохранил от всех детей своих к себе любовь, однако и страх и почтение», – писал знаменитый мемуарист Андрей Болотов (1738–1833)-
(цит. по: Кошелева, 2000. С. 168)«Отец мой был всегда занят предприятиями по службе его, был несколько угрюм и не всегда приветлив: такова была большая часть военных людей его времени; притом и не любил много заниматься своими детьми в малолетстве их. Но он был совсем иначе к ним расположен в другом нашем возрасте». Впрочем, и тогда «отец мой мало имел времени рассматривать склонности детей своих и заниматься их образованием», – вспоминает С. А. Тучков.
(1766–1839) (Там же. С. 253, 256)«Отец мой чрезвычайно был к детям своим строг и взыскателен, и я в жизнь свою ничего так не боялся, как гнева отца моего», – свидетельствует В. Н. Геттун (1771–1848).
(цит по: Миронов, 2000. Т. 1. С. 258)«Несмотря на мягкость, он был деспотом в семье; детская веселость смолкала при его появлении. Он нам говорил „ты“, мы ему говорили „вы“… Внешняя покорность, внутренний бунт и утайка мысли, чувства, поступка – вот путь, по которому прошло детство, отрочество, даже юность. Отец мой любил меня искренне, и я его тоже; но он не простил бы мне слова искреннего, и я молчал и скрывался», – пишет Н. П. Огарев.
(1813–1877)(Огарев, 1953. С. 676)«Не было мне ни поощрений, ни рассеяний; отец мой был почти всегда мною недоволен, он баловал меня только лет до десяти… […] Отец мой не любил никакого abandon, никакой откровенности, он все это называл фамильярностью, так, как всякое чувство – сентиментальностью. […] Он видел, как улыбка пропадала с лица, как останавливалась речь, когда он входил; он говорил об этом с насмешкой, с досадой, но не делал ни одной уступки и шел с величайшей настойчивостью своей дорогой», – вторит ему А. И. Герцен (1812–1870).
(Герцен, 1956. Т. 4. С. 34, 88–89)Известный писатель граф В. А. Соллогуб (1813–1888) пишет, что «в то время любви детям не пересаливали. […] Их держали в духе подобострастия, чуть ли не крепостного права, и они чувствовали, что созданы для родителей, а не родителя для них».
(цит. по: Миронов, 2000. Т. 1. С. 258)Такие примеры можно приводить бесконечно, но было и немало исключений. Хотя русские отцы второй половины XVIII – начала XIX в. считали себя обязанными быть строгими и суровыми, далеко не у всех это получалось. Отчасти это связано с традиционно высоким удельным весом женского начала в русской культуре, о котором говорилось выше. С выходом женщин из теремов и появлением женского образования постепенно возникает новый, более тонкий стиль материнства, обеспечивающий матери дополнительную психологическую близость с детьми, которая вызывает у отцов одновременно раздражение и зависть. Нельзя забывать и об индивидуальных характерологических свойствах.
Каждый мужчина, став отцом, так или иначе опирается на собственный детский опыт, но одни люди более или менее механически копируют педагогический стиль своих отцов, а другие, наоборот, стараются его улучшить, избегая того, от чего им в детстве пришлось страдать.
Цитированный выше Андрей Тимофеевич Болотов старался компенсировать своим детям недополученную им самим отцовскую ласку. Женившись на молоденькой девушке, и отнюдь не по страстной любви, он достаточно спокойно относился к превратностям судьбы, включая неизбежную в те времена высокую детскую смертность: «Оспа… похитила у нас сего первенца к великому огорчению его матери. Я и сам, хотя и пожертвовал ему несколькими каплями слез, однако перенес сей случай с нарочитым твердодушием: философия помогла мне много в том, а надежда… вскоре опять видеть у себя детей, ибо жена моя была опять беременна, помогла нам через короткое время и забыть сие несчастие, буде сие несчастием назвать можно» (Болотов, 1871. Т. 1. С. 645). Тем не менее Болотов был образцовым отцом.
Произведя на свет девять детей, он уделял очень много внимания их воспитанию, будучи убежден, что «блаженны дети, о коих родители их в самом младенчестве о них пекутся и о исправлении их нравов старание прилагают» (Там же.
Т. 2. С. 1074).
Это были не просто слова. Болотов лично занимался со своими детьми, создал первый в России детский домашний театр, в котором самолично ставил спектакли. В поместье Болотова была богатейшая домашняя библиотека, причем отец читал и обсуждал книги вместе с детьми. Из дошедшего до нас дневника его любимого сына Павла (1771–1850) видно, что мальчик значительную часть своего времени проводил в интеллектуальных беседах с отцом. В дневнике даже взрослого Павла Болотова (1829) часто встречаются записи: «Духовное чтение с батюшкой…»; «Все утро прошло кое в чем-то чтении батюшке»; «Занимался с батюшкою чтением и разговорами» (Козлов, 2006. С. 30). Жена даже ревновала Павла к отцу, с которым он переписывался до самой смерти старика.
Семейная традиция продолжилась. У Павла Болотова было десятеро детей. Болотов-старший в старости писал нравоучительные сочинения для многочисленных внуков: «Старик со внуком или разговоры у старого человека с молодым. Сочинение 84-летнего старика» (1822). То, что родительская любовь Болотова была востребована и дала плоды, доказывается не автобиографическими сочинениями, рассчитанными на прославление и идеализацию своего рода, а архивными документами.
Если бы кто-нибудь взял на себя труд систематически исследовать описания отцовских практик в русских дневниках и автобиографиях XVIII–XIX вв., то наряду с нормативно обязательными выражениями сыновней почтительности и благодарности (порядочный человек не мог быть «непочетником» и неуважительно отзываться о своей семье, какой бы она ни была) и жалобами на отцовскую суровость и холодность («отец был скор на расправу», «отец мною почти не занимался»), контрастирующими с материнской заботой и нежностью, он нашел бы немало индивидуальных вариаций.
Образы отцов в русской литературе XIX в. Материал к размышлению
Многообразие отцовских стилей и практик, при более или менее одинаковом нормативном каноне отцовства, отражено и в русской классической литературе.
Отчасти это многообразие обусловлено собственным жизненным опытом писателей. Общеизвестно, что взаимоотношения многих русских писателей (например, Некрасова, Достоевского, Чехова) с их отцами были откровенно враждебными или холодными. Иногда это было связано с жестоким отцовским деспотизмом. Кроме того, вследствие занятости мужчин внесемейными делами, главенствующая роль в семье, причем не только в эмоциональных, но и в деловых вопросах, часто принадлежала матери. Личный опыт не мог не сказываться на художественных образах отцовства. Однако писатели не только выражали собственные чувства, но и описывали окружавший их мир. Какой же стиль отцовства преобладал?
По мнению Михаила Серафимова, фигура деспотичной матери представлена в русской литературе чаще, чем образ отца-деспота (Серафимов, 2007). Отец чаще выступает как фоновая фигура, которая просто выполняет положенные ей социальные функции (например, в «Капитанской дочке» главный герой упоминает отца только одной фразой: когда «матушка была мною брюхата, отец записал меня в *** полк»), или как слабый и невлиятельный человек, который лишь притворяется главой семьи, тогда как на самом деле всем заправляет его жена (генерал Епанчин из романа Достоевского «Идиот»).
Если присмотреться поближе, в русской литературе вырисовывается несколько разных отцовских типов.
Образ авторитарного отца встречается в нескольких вариантах. Иногда это откровенный самодур и жестокий тиран, как Троекуров из «Дубровского» или Дикой и Тихон в пьесах А. Н. Островского. Отцовская домашняя тирания описывается отрицательно и связывается не только с характерологическими, но и с социальными факторами (у Пушкина – с крепостничеством, у Островского – с купеческим бытом).
Естественная реакция на отцовский произвол – сыновняя ненависть, как у лермонтовского «Сашки» (1839):
Он рос. Отец его бранил и сек — Затем, что сам был с детства часто сечен, А слава богу вышел человек: Не стыд семьи, не туп, не изувечен. Понятья были низки в старый век.Большинство сыновей с этим смирялись, но гордый Саша устроен иначе:
Умел он помнить, кто его обидел, И потому отца возненавидел(Т. 2. С. 409).[7]
Но сильная отцовская власть не обязательно бывает тиранической. Отцовская суровость оправдывается нормативными ожиданиями, а ее последствия для детей часто смягчаются тем, что отец ими практически не занимается. Отец героя «Капитанской дочки» Андрей Петрович Гринев – человек довольно крутой, он «не любил ни переменять свои намерения, ни откладывать их исполнение» (Т. 5. С. 489).[8] Однако чтение «Придворного календаря» занимает его гораздо больше, чем воспитание сына; однажды он даже забыл его возраст и «оборотился к матушке: „Авдотья Васильевна, а сколько лет Петруше?“» (Там же. С. 489) – после чего немедленно решил отправить его в службу. Суровость и категоричность нисколько не мешают Андрею Петровичу оставаться в глазах своего сына хорошим отцом и примером дворянской чести, которую нужно беречь смолоду.
Неоднозначен и образ старого князя Болконского из «Войны и мира» Л. Н. Толстого. Хотя это типичный домашний тиран, с которым никто не смеет говорить свободно, для своих детей, особенно для князя Андрея, он остается благородным рыцарем и воплощением дворянской чести.
Психологически своеобразный тип деспота – Алексей Александрович Каренин у Толстого. В сущности, это самый добросовестный отец в русской литературе. Он забирает сына, прежде всего, чтобы причинить боль Анне, но также из чувства долга: «Да, я потерял даже любовь к сыну, потому что с ним связано мое отвращение к вам. Но я все-таки возьму его» («Анна Каренина». Т. 8. С. 402).[9] Взявшись за воспитание сына, он искренне старается быть хорошим отцом: прочитал «несколько книг антропологии, педагогики и дидактики», составил подробный план воспитания мальчика, пригласил лучшего петербургского педагога и лично занимался с сыном изучением Евангелия. Однако с собственной сухостью, которая проявляется в его отношениях со всеми людьми, он ничего поделать не может. Маленький Сережа стесняется отца, робеет, ему с ним скучно. «Отец всегда говорил с ним, – так чувствовал Сережа, – как будто он обращался к какому-то воображаемому им мальчику, одному из таких, какие бывают в книжках, но совсем не похожему на Сережу. И Сережа всегда с отцом старался притвориться этим самым книжным мальчиком» (Там же. Т. 9. С. 204). С наемным учителем у мальчика отношения ближе, чем с отцом, а настоящий эмоциональный контакт возникает лишь со сверстниками в школе.
В противоположность отцу как воплощению власти, слабый отец – это человек, который не может справиться с ролью главы семьи, а домашние, включая детей, относятся к нему снисходительно-иронически.
Если отец полностью уступает бразды правления жене, он становится комической фигурой. Например, фонвизинский Митрофанушка жалел свою матушку, которая «так устала, колотя батюшку».
Иногда отцовская слабость – следствие социальной неуспешности или безответственности, например того, что он игрок или мот. Так, об Онегине мы знаем, что,
Служив отлично-благородно, Долгами жил его отец, Давал три бала ежегодно И промотался наконец.(Т. 4. С. 000).
Типичным вечным мальчиком, бонвиваном, который любит своих детей, но постоянно изменяет жене, а быть ответственным главой семейства не может и не хочет, предстает толстовский Стива Облонский.
Впрочем, независимо от его служебных и имущественных дел, дворянину-отцу зачастую не до детей, разбираться в детских делах и увлечениях ему некогда. «Отец, конечно, меня любил, но вовсе обо мне не беспокоился и оставил меня на попечение французов, которых беспрестанно принимали и отпускали» (А. С. Пушкин. «Русский Пелам». Т. 5. С. 511). О Дмитрии Ларине, отце пушкинской Татьяны, нам известно, что
Отец ее был добрый малый, В прошедшем веке запоздалый; Но в книгах не видал вреда; Он, не читая никогда, Их почитал пустой игрушкой И не заботился о том, Какой у дочки тайный том Дремал до утра под подушкой(Т. 4. С. 48–49).
Отвечая на вопрос: «Что за человек был мой отец?» – толстовский Николенька дает ему в целом благожелательную, но довольно отчужденную, даже ироническую характеристику: «Бог знает, были ли у него какие-нибудь нравственные убеждения? Жизнь его была так полна увлечениями всякого рода, что ему некогда было составлять их себе, да он и был так счастлив в жизни, что не видел в том необходимости» (Л. Н. Толстой. «Детство». Т. 1. С. 37). Эмоциональной близости с отцом, в отличие от отношений с матерью, мальчик не чувствует.
Весьма иронично выведен институт отцовства в «Горе от ума» А. С. Грибоедова. Чацкий одинаково скептически относится и к символическим отцам отечества: «Где, укажите нам, отечества отцы, которых мы должны признать за образцы?» – и к реальным, физическим отцам: «Чтоб иметь детей, кому ума недоставало?» Желчный, не имеющий семьи и нигде не служащий Чацкий, возможно, не в состоянии объективно оценить семейные ценности. Ему противостоит реальный «человек семьи» – Фамусов, образ которого сейчас нередко трактуют положительно. Но отношение самого Фамусова к отцовской роли выражено в словах: «Что за комиссия, Создатель, быть взрослой дочери отцом!» Да и как он мог бы справиться с этой ролью? Почтенный старый человек гордится своей нравственностью, но сам ухаживает за горничной Лизой, а дочери побаивается, да и с ее покойной матерью ему тоже было не совладать: «Дочь, Софья Павловна! страмница! Бесстыдница… как мать ее, покойница жена. Чуть врозь – уж где-нибудь с мужчиной». Социально Фамусов вполне успешен, но ни на авторитарного, ни на авторитетного отца он явно «не тянет». Из всех персонажей «Горя от ума» по-настоящему почитает своего отца только Молчалин: «Мне завещал отец…» Но мы помним, каковы эти заветы.
Не годятся на роль назидательных примеров и герои Гоголя. На одном полюсе стоит воинственный и непреклонный Тарас Бульба, собственноручно убивающий собственного сына, который перед ним бессилен, как колос перед серпом или как беспомощный барашек. А на другом – целая серия сатирических образов из «Мертвых душ»: карикатурно-нежный Манилов, который дал своим сыновьям претенциозные имена Алкид и Фемистоклюс, а затем перепоручил их безграмотному учителю-французу; пьяница Ноздрев, который лучше всего чувствует себя в конюшне, и холостой бездетный Чичиков, озабоченный тем, что может окончить жизнь без потомства, «не доставивши будущим детям ни состояния, ни честного имени» (Т. 5. С. 126).[10] Это у него-то – честное имя?! Не является хозяином в собственном доме и Городничий из гоголевского «Ревизора».
Многие отцы классической русской литературы тушуются не только перед женами, но и перед сыновьями. Характерный пример – тургеневские «Отцы и дети». Отец Базарова безмерно гордится талантливым сыном, но все его честолюбие состоит в том, «чтобы со временем в его биографии стояли следующие слова: „Сын простого штаб-лекаря, который, однако, рано умел разгадать его и ничего не жалел для его воспитания.“» (Т. 3. С. 214).[11] В присутствии сына Базаров-старший не смеет даже высказывать свои чувства, а Евгений от этого чувствует только скуку да злость. Очень мягок со своим сыном и Николай Петрович Кирсанов. Желание не обидеть приятеля сына заставляет его в спорах с Базаровым сдерживаться и даже уступать ему, со стороны эта деликатность воспринимается как слабость.
Безотцовщина и тоска по отцовскому началу. Мало кто в русской поэзии испытывал такую острую потребность в отцовской любви и боль от ее отсутствия, как М. Ю. Лермонтов. О взаимоотношениях поколений он пишет «с насмешкой горькою обманутого сына над промотавшимся отцом». Отцовство для него – таинство рождения и смерти:
Какая сладость в мысли: я отец! И в той же мысли сколько муки тайной — Оставить в мире след и, наконец, Исчезнуть!(«Сашка». Т. 2. С. 407)
Поэт, который не пережил ни сыновних радостей, ни счастья отцовства, ведет мысленный диалог с воображаемым отцом:
Ужасная судьба отца и сына Жить розно и в разлуке умереть.(Т. 1. С. 208)
Прости! Увидимся ль мы снова? И смерть захочет ли свести Две жертвы жребия земного, Как знать! итак прости, прости!.. Ты дал мне жизнь, но счастья не дал; Ты сам на свете был гоним, Ты в людях только зло изведал. Но понимаем был одним.(Т. 1. С. 269)
Претензии героев русской классической литературы к отцам были не только личными, но и социально-нравственными. Сыновья упрекают отцов не столько в слабости характера, которая нередко вызывает у них даже симпатию, сколько в том, что они требуют от своих детей того, чего сами не делают. Об этом говорят не только романтические, но и сатирические персонажи. Например, Чичиков вспоминает: «Отец мне твердил нравоучения, бил, заставлял переписывать с нравственных правил, а сам крал у соседей лес и меня еще заставлял помогать ему» (Н. В. Гоголь. «Мертвые души». Т. 5. С. 511).
Уязвимым местом дореформенной семьи были неизбежные при крепостном праве незаконнорожденные дети. Дворянский кодекс чести не придавал им большого значения.
Отец лермонтовского Сашки Иван Ильич,
…хоть правом дворянина Он пользовался часто, но детей, Вне брака прижитых, злодей, Раскидывал по свету, где случится, Страшась с своей деревней породниться.(«Сашка». Т. 2. С. 407)
Троекурова такие мелочи не смущали, «множество босых ребятишек, как две капли воды похожих на Кирилла Петровича, бегали под его окнами и считались дворовыми», и лишь сын от m-lle Мими был им признан (А. С. Пушкин. «Дубровский». Т. 5. С. 183). Старый граф Безухов из «Войны и мира» также безразличен к множеству своих незаконнорожденных детей, хотя по какому-то капризу выделил и признал Пьера. Однако дети отцовские слабости замечали, и если автор, как Герцен, или лирический герой произведения, как «Подросток» Достоевского, сам был незаконнорожденным, это давало пищу очень серьезной и сложной рефлексии.
Добрые отцы. Самые симпатичные отцы в русской литературе те, которые свободны от одержимости властью и просто добры к своим детям. Впрочем, это свойство отцы чаще проявляют к дочерям, нежели к сыновьям. Очень хорош со своими детьми, особенно с младшей дочерью Кити, старый князь Щербацкий, эмоциональная близость с Кити даже делает его более проницательным. Кити «всегда казалось, что он лучше всех в семье понимает ее, хотя он мало говорил о ней» (Л. Н. Толстой. «Анна Каренина». Т. 8. С. 137).
Другой положительный образ – старый граф Ростов. На первый взгляд, его роль в семье не особенно велика, всеми делами вершит графиня. Но Илья Андреич нежно любит своих детей и принимает за них ответственность. Когда Николай, проиграв огромную для семьи сумму, довольно развязно – «Что же делать? С кем это не случалось…» – обратился за деньгами к отцу, граф не стал его упрекать.
«Да, да, – проговорил он, – трудно, я боюсь, трудно достать. с кем не бывало! Да, с кем не бывало. – И граф мельком взглянул в лицо сыну и пошел вон из комнаты. Николай готовился на отпор, но никак не ожидал этого.
– Папенька! Па. пенька! – закричал он ему вслед, рыдая, – простите меня! – И схватив руку отца, он прижался к ней губами и заплакал» (Л. Н. Толстой. «Война и мир». Т. 5. С. 66)
Отцовская мягкость, выглядящая как слабость, оказалась более действенным средством воспитания, чем вполне естественные в данной ситуации вспышка гнева или нудные нравоучения.
Амбивалентность отцовства. Поскольку отец зачастую физически отсутствует или психологически недоступен, русская классическая литература нередко наделяет его образ чертами загадочности. Далекий или воображаемый отец вызывает к себе противоречивые чувства – от страстной любви до такой же страстной ненависти. Богаче всего эти мотивы представлены в творчестве Достоевского. Не буду касаться взаимоотношений писателя с собственным отцом и «отцеубийственных» фантазий, которым посвящена огромная психоаналитическая литература, начиная со знаменитого очерка Фрейда «Достоевский и отцеубийство».
Для Достоевского отцовство – первооснова всякой общественной власти и одновременно – самая интимная потребность личности. В одном из черновых набросков к предполагавшейся переработке повести «Двойник» г-н Голядкин думает: «Как можно быть без отца, я не могу не принять кого-нибудь за отца» (Т. 1. С. 436).[12] Защитник Дмитрия Карамазова Фетюкович говорит, что «настоящий отец» – это великое слово и «страшно великая идея», однако эта идея не всегда материализуется, иной отец, как Федор Павлович Карамазов, больше «похож на беду».
На мой взгляд, самый глубокий психологический анализ отношений отца и сына Достоевский дал в «Подростке». Устами Версилова писатель говорит, что неблагополучное отцовство катастрофически сказывается на судьбе детей: «…Есть дети, уже с детства задумывающиеся над своей семьей, оскорбленные неблагообразием отцов своих и среды своей» (Т. 13. С. 373). «Они уже с детства начинают понимать беспорядочность и случайность основ всей их жизни, отсутствие в ней благородного и красивого великого уважаемого родового предания и всего прочего, что найдешь только в высшем незыблемом слое людей» (Там же. С. 144).
Неудовлетворительное отцовство травмирует обе стороны отношения. На одном полюсе стоит одинокий Подросток, мечтающий об отце, который его бросил и не признает, но тем не менее бесконечно ему нужен. «Каждая мечта моя, с самого детства, отзывалась им: витала около него, сводилась на него в окончательном результате. Я не знаю, ненавидел или любил я его, но он наполнял собою все мое будущее, все расчеты мои на жизнь…» (Там же. С. 16). На другом – столь же одинокий Версилов, который с трудом находит в себе силы откровенно поговорить с собственным сыном. «А прежде, прежде что бы я мог тебе сказать? Теперь я вижу твой взгляд на мне и знаю, что на меня смотрит мой сын; а я ведь даже вчера еще не мог поверить, что буду когда-нибудь, как сегодня, сидеть и говорить с моим мальчиком» (Там же. С. 373). Несостоявшееся отцовство – одновременно социальная и личная драма.
Из этого беглого очерка видно, что русская классическая литература отнюдь не является апофеозом гегемонной маскулиности. Сняв фигуру отца с величественного пьедестала, она приоткрывает его человеческие слабости и педагогическую неумелость, которые в интимной среде проявляются ярче, чем в официальных отношениях. Даже говоря о заведомо отрицательных типах, русская литература вызывает к ним не ненависть, а жалость. Может быть, именно в этом и заключается ее сила?
Поскольку отцовство привычно нормативно ассоциируется с властью, люди склонны видеть в нем нечто монолитное и монологическое. «…Случайность современного русского семейства, по-моему, состоит в утрате современными отцами всякой общей идеи в отношении к своим семействам, общей для всех отцов, связующей их между собой, в которую они бы сами верили и научили бы так верить детей своих, передали бы им эту веру в жизнь» – писал Достоевский (Т. 23. С. 27). Но где и когда существовала такая общая идея, и в чем именно она состояла? Не исключено, что именно аморфность «идеи отцовства» побуждает мужчин индивидуализировать свои отцовские практики, делая взаимоотношения с детьми откровенно проблемными, но зато более разнообразными и гибкими.
В какой-то степени это касается и материнства. В ценностной символике России материнство занимает особое место – представление о России как о матери, особая роль Божьей матери для православного сознания и т. д. Но воплотились ли эти идеи в классической русской литературе? Галина Брандт в этом сомневается (см.: Брандт, 2006).
По словам Брандт, «блестящая вереница женских образов от Татьяны Лариной до трех сестер представляет собой один из самых мощных нарративов всей русской культуры. Жертвенность, готовность к духовному подвигу, глубина чувств, простота и ясность мысли, наконец, красота душевная, духовная, физическая – все это „русская женщина“, но все эти замечательные качества проявляются в ней на литературном пространстве не как в матери, а как в любящей и/или страдающей в „отсутствие любви и смерти“ женщине. Матери, конечно, в русском романе присутствуют, и в немалом количестве, но не этими образами… фундирована символика „русской женщины“». Русские классики воспевали не столько материнство, сколько женственность, во всем объемном ее значении – от физической привлекательности до нравственного совершенства. Не случайно едва ли не апофеозом развития женской темы в русской литературе XIX века стали тургеневские девушки. Есть хотя бы одно описание матери, которое по силе воздействия было бы равным тургеневским героиням? Даже у Толстого, который постоянно апеллировал к материнству как основному назначению женщины, это главное призвание женщины оказывается вытесненным на обочину авторского внимания. Из центральных образов толстовских матерей самый «прописанный» – Долли, но он не стратегический, «не обладает должной энергетикой. В трагической истории Анны Карениной материнство присутствует скорее как императив, в фокусе внимания отношения с двумя мужчинами. И вся прелесть Анны – автор буквально заражает читателя своим откровенным любованием ее блестящих глаз, черных завивающихся волос, полных рук – прелесть совсем не материнская».
На мой взгляд, здесь есть серьезная проблема. Для определения специфики «русского» отцовства и материнства нужны обстоятельные сравнительные исследования, причем сравнивать нужно не столько ходячие стереотипы и художественные образы, сколько конкретные родительские практики, с учетом того, кто (мужчины или женщины, родители или дети) и в каком контексте их описывает. Сегодня я таких исследований не знаю.
3. Социальные проблемы современного отцовства
Эка, сколько здесь паханов Каждый тянет в свой болот. Д. А. ПриговОт какого отцовства отказывается Запад?
Изменения в характере отцовства – один из аспектов эволюции мужского семейного статуса. Выше, в главе третьей, я уже говорил об изменениях гендерной структуры семьи. Как это сказывается на ее социально-педагогических функциях, и какую роль в их осуществлении играет отец? Начнем с западных стран, где эти тенденции проявились раньше, чем в России.
Возникшие или обострившиеся в ХХ в. социальные проблемы, от которых зависят исторические судьбы отцовства, обусловлены целым рядом глобальных процессов: снижением рождаемости, ослаблением института брака, уменьшением потребности в семье и в отцовстве, ростом числа холостяков, неуверенностью мужчин в собственном отцовстве, повышением требований к качеству отцовства, изменением критериев «хорошего» и «плохого» отцовства, усилением критического отношения к отцовским практикам в семье и на макросоциальном уровне (например, в СМИ).
В зеркале социальной статистики ярче всего отражается рост нестабильности брака и связанной с ним безотцовщины. По данным статистического департамента Еврокомиссии (Евростат), в 2004 г. в Евросоюзе число заключенных браков составило 4,8 на 1 000 человек населения, а число разводов – 2,1. Каждый третий ребенок в ЕС рождается вне брака (Демоскоп Weekly. № 247–248. 22 мая – 4 июня 2006).
Сходные тенденции наблюдаются в США и в Канаде. В Канаде доля детей, рожденных в браке, уменьшилась между 1983–1984 и 1997–1998 гг., с 85 до 69 %; все больше канадцев предпочитают законному браку незарегистрованный союз: доля детей, рожденных в таких парах, выросла с 9 до 22 %.
Наличие общих тенденций не исключает существенных различий между странами (Andersson, 2002; Kiernan, 2004). В США очень велика доля детей, рожденных одинокими матерями, а также вероятность для детей пережить развод своих родителей и жить в приемных семьях. В Европе большинство детей рождается в браке или как-то иначе оформленном союзе и проводит все свое детство с обоими родителями, но в разных странах стабильность брака сильно варьирует, а там, где брак уступил место сожительству, вероятность распада союза повышается.
По сравнению с прошлым, у современных мужчин и женщин заметно ослабла мотивация как к вступлению в брак, так и к деторождению. Вследствие эмансипации сексуальности от репродукции, символическим показателем «мужской силы» давно уже стало не количество произведенных на свет детей, а сама по себе сексуальная активность. В ситуациях, когда деторождение было выгодно мужчинам (например, при распределении земли в общине по душевому принципу) или хотя бы не сопряжено с личной ответственностью, эти моменты не различались, но в повседневной жизни, как в браке, так и вне его, мужчина привык заботиться о том, как удовлетворить свои сексуальные потребности, не становясь отцом. Появление в конце ХХ в. женской гормональной контрацепции позволило мужчинам переложить эти заботы на плечи самих женщин, но одновременно дало женщинам дополнительную власть. Сегодня сексуально образованная женщина может принять важнейшее репродуктивное решение без согласия и даже без ведома своего партнера, что порождает целый ряд сложных моральных и юридических вопросов, связанных с установлением отцовства.
Еще один источник мужской неуверенности – генетическое определение отцовства, благодаря которому некоторые мужчины узнают, что воспитываемые ими дети на самом деле зачаты не ими. В среднем, доля таких детей, по подсчетам Джона Мура, составляет 3,7 %, то есть почти каждый 25-й ребенок появляется на свет не от того мужчины, который считается его отцом (см.: Geary, 2006). Получается, что детей не обязательно иметь, трудно содержать, легко потерять и в придачу они могут оказаться чужими.
Ослабление родительской мотивации неравномерно в разных странах. В среднем по Европе, не хотят иметь детей меньше 10 % опрошенных, но в Западной Европе (Германии, Нидерландах и Бельгии) их доля существенно выше.
Возлагать ответственность за снижение потребности в детях исключительно и даже преимущественно на мужчин нет оснований. По данным двух американских национальных опросов (National Survey of Families and Households, 1987–1988, 10 648 респондентов, и General Social Survey, 1994, 1 395 респондентов) по сравнению с 1970 г. бездетность стала для американцев более приемлемой. Почти пятая часть опрошенных не согласились с традиционными нормами, ставящими родительство выше бездетности, и две пятых ответили на этот вопрос нейтрально. С суждением, что бездетные взрослые могут иметь более насыщенную и яркую жизнь, согласились или заняли по отношению к нему нейтральную позицию 86 %. При этом женщины, особенно с высшим образованием, принимают, хотя не обязательно одобряют, идею бездетности чаще, чем мужчины, которые настроены более пронаталистски (Koropeckyi-Cox, Pendell, 2007а, 2007б). Эту тенденцию, связанную с ростом женского образования и вовлечением женщин в трудовую деятельность, демонстрируют и другие исследования. Впрочем, гендерные различия в этом вопросе тесно связаны с целым комплексом социокультурных факторов.
Характерная тенденция постиндустриального общества – увеличение числа и признание социального статуса холостяков.
Холостяки. Исторический экскурс
B традиционном обществе вступление в брак было обязательным компонентом мужской идентичности. Во многих древних обществах холостяков осуждали и даже наказывали. В Спарте им запрещалось присутствовать на гимнастических соревнованиях девушек, а зимой их заставляли голыми маршировать вокруг рыночной площади, распевая унизительную для них песню. Младшие по возрасту, но женатые мужчины не обязаны были их уважать. В Афинах таких законов не было, но старых холостяков презирали. В древнем Риме холостяки платили более высокие налоги, чем женатые, такая практика иногда встречалась и в Средние века. В некоторых немецких городках до сих пор сохраняется обычай, обязывающий мужчину, не женившегося до 30 лет, подметать ступеньки ратуши, пока его не поцелует какая-нибудь девушка.
Пренебрежительное отношение к холостяцкому статусу отражено в истории языка. В некоторых языках само слово «холостяк» подразумевает нечто незаконченное, незавершенное. Например, английское bachelor происходит от старофранцузского bacheler – молодой рыцарь, находящийся в стадии обучения, и восходит к латинскому baccalarius – зависимый крестьянин. В английский язык оно пришло около 1300 г. и первоначально означало низшую стадию рыцарства; это были бедные вассалы, которые не могли иметь собственную дружину и стяг, либо молодые люди, еще не достигшие статуса взрослого рыцаря. С XIV в. это слово применяется и к младшим членам ремесленной гильдии или церковной иерархии, клирикам низшего ранга, например молодым монахам, и обозначает также младшую, предварительную ступень университетского образования (baccalarius или baccalaureus). В Парижском университете в XIII в. впервые появилась младшая ученая степень бакалавр. Значение «неженатый мужчина» впервые зафиксировано в 1385 г. ().
Этимология русского слова «холостой» остается спорной. Славянский корень холл восходит к индоевропейскому ksol – скрести, драть, далее – чистить, мыть, ухаживать, холить. «Холостой» буквально – чёсанный, мытый, коротко стриженный. Диалектное «холостить» означает «коротко стричь». Это значение обусловлено обрядом стрижки волос у подростков.
В русской деревне крестьянского парня, сколько бы ему ни было лет, до брака никто всерьез не воспринимал: «холостой, что бешеный», «холостой – полчеловека». Он – не «мужик», а «малый», находящийся в подчинении у старших. Он не имеет права голоса ни в семье («не думает семейную думу»), ни на крестьянском сходе. Полноправным «мужиком» он становится только после женитьбы (Миронов, 2000. Т. 1. С. 161). Возрастные нормы и представления о совершеннолетии варьировали в разных губерниях, но были весьма устойчивыми. Хотя брачный возраст постепенно повышался, вступление в брак было практически всеобщим. По данным переписи населения 1897 г., в сельском населении Европейской России к 40–49 годам лишь около 3 % в мужчин и 4 % женщин никогда не состояли в браке (Тольц, 1977).
Сегодня брак, как и деторождение, – дело свободного выбора. В 1977 г. холостыми были 63,7 % американцев от 20 до 24 лет, а в 1994-м – 81 %; среди 25—29-летних мужчин доля холостых за эти годы выросла с 26 до 50 % (Chudacoff, 1999. P. 268). Отчасти это объясняется повышением среднего возраста вступления в брак, а отчасти увеличением числа незарегистрированных партнерств. Многие американцы предпочитают холостяцкую жизнь. В 2005 г. в возрастной категории от 18 лет и старше холостыми и незамужними были около 90 миллионов человек, что составляло 41 % общего числа совершеннолетних в стране. 60 % одиноких граждан США никогда не состояли в браке, 25 % разведены и 15 % вдовствуют. С 1980 г. каждую третью неделю сентября в США отмечается «неделя одиночек». Из-за того что многие американцы не хотят называть себя одинокими, в 2006 г. традиционное название было изменено. Теперь это – «неделя неженатых и незамужних людей», с таким определением могут согласиться и родители-одиночки, и вдовствующие люди, и те, кто официально не регистрирует брак. (Демоскоп WEEKLY. № 257–258. 18 сентября – 1 октября 2006).
Нетрадиционные браки и формы семьи означают и более широкое распространение нетрадиционных моделей отцовства: разведенные отцы; отцы, живущие отдельно от своих семей; приемные отцы, воспитывающие неродных детей (отчимы); отцы-одиночки, воспитывающие детей без матери; отцы-геи; несовершеннолетние отцы и т. д. Раньше от этих категорий пренебрежительно отмахивались как от «неполноценных», «ненастоящих» или считали их маргинальными. Сейчас их признают (как можно не признавать действительность?!), внимательно изучают, стараются понять их специфические проблемы и помочь им максимально успешно воспитывать своих детей. Эволюция нормативного канона отцовства, с одной стороны, отражает, а с другой – стимулирует перемены в повседневной жизни.
Особенно важно изменение оценочных критериев отцовства. Этот исторический процесс начался очень давно. В доиндустриальном обществе «хороший отец» был, прежде всего, воплощением власти и инструментальной эффективности. Хотя в патриархальной крестьянской семье отец непосредственно не ухаживал за детьми, сыновья проводили много времени, работая под его руководством. В городской среде под давлением таких факторов, как пространственная разобщенность труда и быта и вовлечение женщин в профессиональную работу, традиционные ценности отцовства меняются. Как работает отец, дети уже не видят, а по количеству и значимости своих внутрисемейных обязанностей он явно уступает матери. Это меняет не только внутрисемейное разделение труда, но психологический климат.
Домашний быт не предусматривает для отца пьедестала. По мере того как «невидимый родитель» становится видимым и более доступным, он все чаще подвергается критике со стороны жены и детей, а его авторитет, основанный на внесемейных факторах, заметно снижается. Ослабление и даже полная утрата мужской власти в семье отражаются в стереотипном образе отцовской некомпетентности, который отнюдь не способствует поддержанию отцовского авторитета. К тому же отцов зачастую оценивают по традиционно женским критериям, по достижениям в той сфере деятельности, которой мужчины раньше не занимались и к которой их не готовили.
Американские исследователи проанализировали 218 карикатур из журнала «Saturday Evening Post» за 1922–1968 гг. с изображением взрослых с детьми. Мужчины представлены некомпетентными на 78,6 % и компетентными – на 21,4 % карикатур; у женщин соотношение обратное – 33,8 и 66,2 % (Mackey, 1985). Недооценку роли отца показало и исследование 23 наиболее популярных американских книг для детей, изданных после 2000 г. (Fleming, Tobin, 2005). Из общего объема текста этих книг отцы фигурируют лишь в 4,2 % абзацев, а в иллюстрациях количество женских образов втрое превышает количество мужских. При этом отцовские роли чаще всего описываются как вспомогательные по отношению к материнским и нередко выглядят необязательными. В 30,7 % случаев отцовская роль подается в негативном свете.
Ослабление института отцовства констатируют не только на Западе, но и на Востоке, например в Японии.
Японские отцы. Интерлюдия
Традиционная японская семья, основанная на принципах конфуцианства, была последовательно патриархальной и авторитарной. Интересы «дома» ставились неизмеримо выше интересов отдельных членов семьи, а власть отца как главы «дома» была исключительно велика. Он мог «исключить» из списка членов семьи любого нарушителя семейных правил, расторгнуть брак сына (до 30 лет) или дочери (до 25 лет). В традиционных описаниях и обыденном сознании отец обычно изображается «строгим» и «грозным», а мать нежной и «любящей».
В послевоенные годы положение японских отцов существенно изменилось (см. обзор в кн.: Кон, 2003в). Ведущие японские этнографы, социологи и психологи (Тие Накане, Такео Дои, Сигеру Мацумото, Кацуо Аои, Хироси Вагацума и др.) уже в 1970-х годах единодушно отмечают падение отцовского влияния и рост материнского.
Но, как и в Европе, японские эмпирические данные выглядят не столь однозначно. Прежде всего, налицо заметное ослабление поляризации мужских и женских, отцовских и материнских ролей и образов. Почти половина из опрошенных в 1973 г. 1 500 взрослых японцев убеждены, что в последние десятилетия отцовская власть и авторитет существенно ослабли. По данным проведенного в 1969/70 г. массового опроса молодежи (160 тыс. опрошенных), родители и другие члены семьи как источник информации отодвинулись на шестое место, существенно уступая в этом отношении средствам массовой информации, друзьям, учителям и старшим по работе. Ослабла и мужская гегемония в семье, особенно в городской.
Это сказывается и на воспитании детей. В 1969/70 г. ответы взрослых городских и сельских жителей (13 631 отцов и 11 590 матерей) на вопрос: «Кто является главным авторитетом в семье – отец или мать?» разделились примерно поровну. Другие исследования показывают, что роль матери в деле дисциплинирования детей, особенно младших, значительно больше, чем роль отца; матери отдают предпочтение от 65 до 73 %, а отцу – лишь от 14 до 18 % опрошенных взрослых.
Традиционный образ «грозного отца», которого старая японская поговорка уподобляла землетрясению, грому и молнии, явно не соответствует современным условиям. Японские ученые отмечают, что изменения касаются скорее культурных образов и установок, нежели психологических черт японских мужчин. Как пишет Тие Накане, традиционный отцовский авторитет поддерживался не столько личными качествами отца, сколько его социальным положением главы семьи, фактическое же распределение семейных ролей всегда было более или менее индивидуальным и изменчивым. Сегодняшняя культура чаще признает и закрепляет этот факт, видоизменяя традиционные социальные стереотипы, нежели создает нечто новое. Сравнительная холодность и наличие социальной дистанции во взаимоотношениях ребенка с отцом, рассматриваемые как свидетельство снижения отцовского авторитета, выглядят скорее пережитками нравов традиционной патриархальной семьи, в которой к отцу не смели приблизиться и сам он был обязан держаться «на высоте».
Восприятие японскими детьми социальных ролей и поведения их отцов и матерей сегодня мало отличается от аналогичных представлений австралийских, английских, североамериканских и шведских подростков. Тем не менее детям отцы по-прежнему кажутся более строгими, нежели матери (типичное расхождение нормативных ролевых ожиданий и реального поведения). Из 542 городских подростков, отвечавших в 1973 г. на вопрос: «Говорит ли ваш отец, какой образ жизни вы должны вести сейчас и в будущем?» – только четверть (25, 4 %) ответили «да», почти три четверти (74,6 %) респондентов сказали, что не говорят с отцами о подобных вещах и не следуют отцовским советам. Свыше 12 тыс. супружеских пар в середине 60-х годов отвечали на вопросы: «Если ребенок не слушается, кто, по-вашему, должен делать ему замечания?» и «Кто в вашем доме фактически делает это в подобной ситуации?». Оказалось, что от отца таких действий ожидают значительно чаще (53,8 %), чем это фактически происходит (30,8 %), с матерью же дело обстоит наоборот (46,3 % против 36,3 %). При опросе группы японских отцов в 1981 г. на вопрос: «Кто отвечает в семье за дисциплину?» 60,5 % назвали мать, 22,2 % – обоих родителей и только 5,6 % – отца (Shwalb, Imaizumi, Nakazawa, 1985). Хотя матери чаще отцов наказывают своих детей, все равно дети гораздо интенсивнее общаются (разговаривают) с ними, нежели с отцами. По данным опроса молодежи от 15 до 23 лет (октябрь 1980 г.), с матерью свои дела обсуждают 85,9 % опрошенных, а с отцом – только 57,7 %; 34,7 % опрошенных вообще не советуются и не делятся своими проблемами с отцами, хотя отцы у них есть.
Японские подростки, как и их европейские ровесники, хотят иметь не авторитарных, а авторитетных отцов. Однако их реальные взаимоотношения с отцами часто выглядят более напряженными, чем с матерями. При этом многое зависит от характера обсуждаемых тем. При возникновении личных проблем японские старшеклассники чаще всего обращаются к друзьям (65 %), затем к матери (26 %) и только 7 % обращаются к отцу. Новейшие антропологические исследования подтвердили эти тенденции (Shwalb et al., 2004).
Новые отцовские практики. США
Но действительно ли все так плохо? Власть и влияние не одно то же. Если от глобальных оценочных суждений перейти к конкретным эмпирическим данным, придется признать, что отцовский вклад в воспитание детей в ХХ в. не столько уменьшился, сколько качественно видоизменился. Хотя, как и в предшествующие эпохи, отцы проводят со своими детьми значительно меньше времени, чем матери, и лишь незначительная часть этого времени расходуется непосредственно на уход за детьми и общение с ними, современные отцы в этом отношении не только не уступают прежним поколениям, но и существенно превосходят их, особенно в семьях, основанных на принципе гендерного равенства.
Чтобы более строго измерить динамику отцовского поведения, американские социологи (Pleck, 1997; Doherty, Kouneski, Erickson, 1998) выделили четыре автономных фактора:
1) мотивация,
2) умения и уверенность в себе,
3) поддержка, прежде всего со стороны матери,
4) институциональные практики (как общество поощряет отцовство, например в форме предоставления оплачиваемого отпуска по уходу за детьми и т. п).
Кроме того, выделены три параметра отцовского взаимодействия с ребенком:
1) вовлеченность отца в непосредственный уход, общение или игру с ребенком,
2) доступность отца для ребенка,
3) ответственность отца за воспитание и принятие соответствующих решений.
Оказалось, что по всем этим параметрам современные отцы не уступают «традиционным». Степень отцовской вовлеченности американцев за последнюю треть ХХ в. выросла на треть, а доступности – наполовину. Американские отцы проводят с детьми в среднем около 1,9 часа в рабочие и 6,5 часов в выходные дни. Это значительно больше, чем 25 лет назад. В 1990-х годах отцовская вовлеченность составила свыше 40 %, а доступность – две трети материнской. Этот рост отмечается, по крайней мере, с 1920-х годов. Среднее количество времени, которое американские отцы, по данным разных исследователей, проводят с детьми, выросло с 1960-х годов на 25–37 %. А так как детей стало меньше, то время на одного ребенка выросло еще больше. Вопреки стереотипу, для более молодых и более образованных американских мужчин семья психологически важнее работы, она занимает центральное место в их жизни и во многом определяет их психическое благополучие.
Интересную и сложную картину рисует многолетнее исследование известного социолога из Мэрилендского университета Сюзанны Бьянки и ее сотрудников «Меняющиеся ритмы американской семейной жизни» (Bianchi et al., 2006), основанное на изучении нескольких тысяч личных дневников мужчин и женщин. Вместо того чтобы полагаться на анекдоты и образы СМИ, профессиональные интервьюеры просили родителей по стандартной форме записывать все, что они делали в день накануне интервью. Авторы не просто измеряют сравнительный родительский вклад мужчин и женщин, но и прослеживают его динамику. Выяснилось, что, несмотря на массовое вовлечение женщин в производительный труд, американские матери проводят с детьми, по крайней мере, столько же времени, что и 40 лет назад, а мужские затраты времени на уход за детьми и домашнюю работу за эти годы резко выросли. Хотя женщины по-прежнему тратят на домашнюю работу вдвое больше времени, чем мужчины, но, если учесть разницу в продолжительности рабочего дня тех и других (мужчины, как правило, работают дольше женщин), получается, что мужской и женский вклад в домашнюю жизнь стал более или менее равным – около 65 часов в неделю.
Что от этого реально получают дети? В 1965 г. 60 % американских детей жили в семьях, где кормильцем был отец, а мать сидела дома. Сейчас в таких семьях живут лишь 30 % детей. Казалось бы, на детей остается меньше времени. Однако исследователи, к своему удивлению, выявили, что и женатые, и одинокие родители расходуют на уход, обучение и игры со своими детьми больше времени, чем 40 лет назад. У замужних матерей время на заботу о детях выросло с 10,6 часа в 1965 г. до 12,9 часа в 2000-м, а у женатых отцов оно больше чем удвоилось – с 2,6 часа до 6,5 в неделю. Женатые отцы в 1965 г. тратили на домашнюю работу 4,4 часа в неделю, а в 2000-м – 9,7 часа. Это снизило соответствующие затраты матерей с 34,5 часа до 19,4 в неделю.
Как можно при увеличившейся продолжительности рабочего дня тратить больше времени на детей? Многие супружеские пары откладывают рождение детей до того времени, когда они смогут себе это позволить, а другие предпочитают обходиться без детей. Поскольку семьи стали меньше, а родители богаче, они могут вложить в каждого ребенка больше времени и денег. Кроме того, изменились социокультурные установки и ценности: люди хотят не просто родить ребенка, но и обеспечить ему социальное благополучие. К бедным семьям это, увы, не относится…
Количество потраченного времени не единственный критерий оценки отцовского вклада. Не менее важно то, какой субъективный смысл имеет для мужчины отцовство. Ответственный и заботливый отец – одна из главных ипостасей «нового мужчины». Но и здесь возникают проблемы. Содержание отцовских ролей и необходимых для их выполнения навыков определены культурой менее четко, чем материнские роли, здесь многое зависит от индивидуального соглашения. К тому же «прирост» отцовской заботы на макросоциальном уровне практически сводится на нет тем, что все большая доля мужчин не живет со своими семьями. В США после развода девять из десяти детей остаются с матерью, после чего их общение с отцами ограничивается, а то и вовсе прекращается. В 1995 г. около трети американцев после развода практически перестали общаться с детьми, отчасти потому, что мужчины теряют к ним интерес, а отчасти потому, что бывшие жены препятствуют таким контактам. В результате на макросоциальном уровне социальная безотцовщина не только не уменьшается, а даже растет.
Лучший качественный анализ этих проблем – монография Николаса Таунсенда «Пакетное соглашение: брак, работа и отцовство в жизни мужчин» (Townsend, 2002). Эта книга представляет собой этнографическое исследование группы принадлежащих к рабочим и среднему классу мужчин, окончивших в начале 1970-х одну и ту же среднюю школу в Северной Калифорнии. Серия подробных интервью позволила автору выяснить, как эти люди конструируют себя в качестве мужчин и отцов. Их пакетное соглашение включает четыре главных компонента: отцовство, работу, брак и собственный дом. Чувство отцовства, наряду с материальными компонентами (пропитание, защита и материальное обеспечение), предполагает эмоциональную близость с детьми, но эта потребность часто вступает в противоречие с другими элементами пакетного соглашения.
Таунсенд подтверждает выводы массовых опросов, согласно которым большинство американских отцов хотели бы проводить больше времени со своими детьми, но это мало кому удается. Работа ради материального обеспечения семьи – главная сфера мужской ответственности, поэтому появление детей обязывает мужчину больше зарабатывать. Отцовство повышает статус мужчины в глазах его коллег и работодателей, но трагическая ирония состоит в том, что хотя мужчины стремятся быть к своим детям ближе, чем к ним самим были их отцы, желание как можно лучше материально обеспечить семью способствует их физическому и психологическому отдалению от детей. Участие в повседневной жизни своих детей мужчины все еще считают скорее дополнительным, факультативным, чем конституирующим принципом отцовства. Хотя они нередко говорят о «родительстве» как о чем-то лишенном гендерных границ, их реальные самоотчеты показывают, что отношения между отцом и детьми часто поддерживаются при посредстве матери. Эмоциональная близость с детьми остается преимущественно символической и опосредствуется женами. Для этих мужчин «жена и семья» – единое понятие, «иметь семью» – значит быть женатым. При разводе или уходе из семьи они теряют контакт с детьми и часто не пытаются его восстановить.
Для любящих и ответственных отцов развод – катастрофа. Новый стиль отцовства душевно обогащает мужчину, но одновременно делает его более уязвимым. Любящий своего ребенка мужчина приобретает новую идентичность и сферу ответственности, что психологически компенсирует эмоциональное отчуждение от других видов деятельности. При разводе все это обращается против него. Серия интервью с разведенными канадскими и британскими отцами показала, что более мягкие отцы значительно тяжелее переживают расставание с детьми при разводе. Чувство потери ребенка усугубляется сознанием собственного провала в качестве отца. «Мужчины, которые были хорошими отцами, теперь по определению становятся плохими отцами, неспособными защитить своих детей от боли отделения, которую они чувствуют сами. Они также не могут защитить самих себя от потери самых драгоценных аспектов собственного „Я“…..» (Kruk, 1993. P. 269).
Новые социальные условия заставляют социологов совершенствовать типологию отцовства. Если раньше типы отцовских практик описывались как нечто жесткое, стабильное, то теперь стало ясно, что на самом деле они изменчивы, текучи, многомерны и подвижны как на культурном, так и на личностном уровне. Социологи говорят о четырех сосуществующих типах отцовства, двух «хороших» и двух «плохих» (Marks, Palkovitz, 2004). Первый «хороший» тип отцовства – это «генеративное», «творческое», «заботливое», «положительно вовлеченное» или «ответственное» отцовство. Чаще всего такой стиль практикуют хорошо образованные мужчины среднего и высшего среднего класса, женатые на столь же образованных женщинах. Второй положительный тип отцовства – «хороший добытчик», кормилец. Третий тип, «плохой», – «неплательщик алиментов», который заводит детей, но уклоняется от их воспитания и содержания. И наконец, четвертый, тоже отрицательный, – «незаинтересованный тип», маскулинность, свободная от отцовства. Эти мужчины, встречающиеся как среди холостых, так и среди женатых, не хотят иметь детей, а если становятся отцами против воли, уклоняются от связанных с этим финансовых обязательств (Marsiglio, 1998). Именно последняя, быстро растущая категория мужчин вызывает наибольшую озабоченность семьеведов, которые находят единственное утешение в том, что дифференциация отцовских типов может способствовать улучшению качества отцовства: мужчины, которые хотят быть отцами, чаще становятся ответственными отцами, а те, которые этого не хотят, детей не зачинают. Это значит, что снижение социального престижа отцовства одновременно делает его в долгосрочной перспективе более ответственным и положительным. Однако подобные рассуждения вполне могут быть хорошей миной при плохой игре.
Отцовские практики в Европе
С точки зрения стабильности семьи и физической безотцовщины, европейская ситуация выглядит несколько лучше американской. Мы убедились выше, что немецкие «новые отцы» берут на себя больше домашних обязанностей, придают больше значения отцовским ролям, чаще гуляют и играют с детьми и т. д. Но гендерное равенство само по себе не стирает тонких различий между отцовскими и материнскими ролями и практиками. В Швеции, где супружеские роли юридически полностью уравнялись уже в 1974 г., очень немногие отцы, несмотря на стопроцентную компенсацию, пользуются правом отпуска по уходу за ребенком, а женщины тратят на хозяйство и уход за ребенком в пять раз больше времени, чем мужчины. Оценка отцовских практик по традиционно женским критериям оказывается однобокой. По ироническому замечанию Уильяма Мак-Кея, «мужчины – не очень хорошие матери» (MacKey, 1996. P. 233).
Противоречие между либеральной идеологией и социально-экономическими реалиями тревожит известного норвежского специалиста по детству Ан-Маргит Енсен. По ее словам, «конфликт между детьми и экономикой – один из главных механизмов стареющих обществ», в которых «дети все чаще занимают беспокойное место между семейными раздорами и родительской работой», причем «в повседневной жизни детство феминизируется, в то время как в публичном дискурсе прославляется отцовство» (Jensen, 2005).
Норвегия – одна из самых благополучных европейских стран. Тем не менее у нее большие проблемы с отцовством. Увеличение числа внебрачных рождений сопровождается уменьшением значения детей для мужчин, а идеология «нового отцовства» мешает осознать масштаб проблемы. Безусловно, в современных семьях, даже если это семьи с одним родителем, дети живут лучше, чем раньше. Но шансы ребенка жить в семье с двумя родителями, а этот вариант люди единодушно считают оптимальным, уменьшаются. С трансформацией индустриального общества патриархат стал базироваться не на семейных, а на рыночных отношениях. Церковные и социальные нормы, поддерживавшие институт брака, ослабели. Отцы все чаще уклоняются от регистрации рождений, публичное подтверждение отцовства утратило свое значение и не влияет на социальный статус мужчины. В результате все больше детей оставляют на попечение матерей, что служит знаком маргинализации детства.
Тот факт, что при социологических опросах мужчины чаще женщин выступают против бездетности, не означает, что они следуют этим принципам. Среди 40-летних норвежских мужчин бездетных 22 %, а среди женщин – 13 % (R0nsen, Skrede, 2006). В Англии доля бездетных мужчин во всех возрастных группах выше, чем среди женщин. По данным опросов шведской молодежи, мужчины реже женщин видят смысл жизни в детях и чаще отдают предпочтение работе и досугу. Молодые мужчины чаще связывают свою будущую жизнь с высоким заработком, тогда как женщины предпочитают работать неполное рабочее время и проводить больше времени в семье. При этом молодые женщины и мужчины, делающие выбор в пользу семьи, менее привержены принципу гендерного равенства. В Норвегии 40 % сорокалетних мужчин практически не живут вместе с детьми, своими или приемными. Двадцать лет назад эта цифра составляла лишь 25 %. Говоря словами Енсен, меньше мужчин становятся отцами, и меньше отцов (и меньше мужчин) живут вместе с детьми. О каком же отцовском влиянии можно говорить?
Бездетность не только вопрос личного выбора. Историческая демография, в том числе сравнение долгосрочной социальной статистики по нескольким странам (Австралия, Финляндия, Германия, Нидерланды, Великобритания и США), показывает, что долгосрочная динамика бездетности имеет сложные социально-демографические закономерности, затрагивающие как женщин, так и мужчин (Rowland, 2007; Dykstra, Hagestad, 2007). Для высокообразованных мужчин, родившихся в начале ХХ в., вероятность жениться и стать отцами была значительно выше, чем для мужчин, родившихся в 1950-х и 1960-х годах. Может быть, дело в том, что эти мужчины не хотят принимать на себя равную долю родительских обязанностей и поэтому менее привлекательны для женщин? Сейчас, когда все больше женщин стремятся участвовать в рынке рабочей силы наравне с мужчинами, вполне возможно, что в выборе брачного партнера они придают больше значения его потенциальным отцовским способностям, обрекая мужчин-трудоголиков на одиночество и бездетность. Или мужчины откладывают создание семьи потому, что хотят сначала обеспечить себе прочное положение на рынке рабочей силы? В описании современного отцовства присутствуют два противоположных образа: «новый отец», который активно вовлечен в воспитание детей, и «отсутствующий отец», не имеющий контакта со своими детьми вследствие развода или потому что его дети рождены вне брака.
И это не только мужской выбор. Вывести индивидуальные мотивы родительства непосредственно из социально-экономических факторов невозможно. Не следует переоценивать и эффективность отдельно взятых законодательных мер. Например, оплачиваемые отцовские отпуска сами по себе не уменьшают дистанции между отцами и детьми. Дело не столько в законах, сколько в реальных условиях труда. Женский рынок труда сосредоточен преимущественно в общественных, дружественных по отношению к семье и ребенку, низкооплачиваемых, но стабильных секторах, тогда как мужской рынок труда расположен в частных, безразличных к ребенку, хорошо оплачиваемых, но ненадежных секторах. Поэтому женщины приспосабливают свою работу к детям, а мужчины даже при желании этого сделать не могут. Дело тут не в психологии, а в экономике. Чтобы не рисковать карьерой, отцы выбирают минимальный родительский отпуск, а мужчины, работающие на вершине частного сектора или имеющие самую длинную рабочую неделю, вообще не используют свою квоту. Гораздо чаще ее используют отцы, работающие в публичном секторе и имеющие высшее образование. Для некоторых мужчин отцовская квота не столько привилегия, сколько бремя, ассоциирующееся со званием «нового отца». Обычные отцы не только не сокращают рабочее время, но работают на треть больше нормального, а матери, наоборот, на треть меньше.
Неравноценны в этом смысле и разные формы брака. Сегодня никто в Европе не посмеет назвать детей, рожденных в незарегистрированном (фактическом, «консенсуальном») союзе, «незаконнорожденными» или «безотцовщиной». Тем не менее эти союзы менее устойчивы, чем традиционный брак, и это повышает шансы такого ребенка вырасти без отца. Велико и влияние развода, после которого дети почти всегда теряют отца. Говоря словами Енсен, почти все дети живут вместе со своей матерью, но живет ли ребенок вместе с отцом – зависит от того, живет ли его отец вместе с его матерью. Несмотря на растущее социальное признание прав одиноких отцов, доля детей, живущих с одним отцом, стабильно составляет в европейских странах лишь 3 %. В Норвегии большинство детей, даже если их родители не живут вместе, поддерживают контакт с отцом, но во многих других европейских странах дело обстоит иначе. Дети, как правило, хотят таких контактов, но их отцы не хотят или не могут ответить тем же.
Короче говоря, современные отцы морально и психологически не хуже своих предшественников, но изменившиеся социальные условия сталкивают их с множеством новых проблем, к решению которых они не подготовлены. Это создает трудности и для семьи, и для общества, причем ни одна из этих проблем не является исключительно «мужской». Чувствует ли себя мужчина только донором спермы, «зарплатоносителем» или полноценным и полноправным отцом – зависит не только от макросоциальных условий, но и от множества индивидуальных обстоятельств его жизни.
Мой экскурс в социологию американского и европейского отцовства откровенно фрагментарен, при всем желании я не смог бы разобраться в этих сюжетах основательно. Единственное, что мне хотелось бы донести до читателя, это то, что проблемы с отцовством существуют всюду. Новое гендерное разделение труда в семье и в обществе ставит перед людьми проблемы, которых раньше не было и которые невозможно решать по старым образцам, на основе авторитарно-патриархатной модели семьи. Запад отказывается не от отцовства как такового, а лишь от авторитарного отцовства, которое несовместимо с современными технологиями и общими принципами социальной организации.
Положение отцов в современной России
То же самое мы видим в России. Как и в плане общих проблем маскулинности, в сфере отцовства у нас те же тенденции развития, что и в западных странах. Некоторые проблемы у нас еще не созрели, зато другие стоят острее, чем там, и все это гораздо меньше исследовано и хуже осмыслено.
Долгое время изучением отцовства у нас практически вообще не занимались. В последние годы отечественные социологи и специалисты в области гендерных исследований (Татьяна Гурко, Марина Малышева, Жанна Чернова, Елена Вовк, Наталья Зоркая, Оксана Преснякова, Ирина Рыбалко, Оксана Кучмаева, Александр Курамшев и др.) и, в меньшей степени, психологи (Евгений Ильин, Юлия Борисенко, Елена Куфтяк, Нина Коркина и др.) начали заниматься этой темой, но по своему размаху и влиянию на общественное сознание их работы сильно уступают западным. Первое репрезентативное для всей страны выборочное социолого-демографическое обследование «Родители и дети, мужчины и женщины в семье и обществе» (RusGGS) было проведено летом 2004 г. Оно представляло собой формализованное интервью 11 261 мужчин и женщин в возрасте 18–79 лет в 32 регионах России в рамках большого международного проекта «Generations and Gender Ргодгатгг^^Поколения и гендер»). Результаты его сейчас обрабатываются.
Что же мы знаем о российском отцовстве?
Общественное сознание дореволюционной России колебалось между традиционным идеалом авторитарной власти и слабостью реального отцовства. Конкретный отец выглядел бледной копией батюшки-царя. Советская власть это противоречие усугубила. Сначала она подорвала патриархальную семью, основанную на частной собственности, а затем молчаливо приняла модель семьи, в которой мужчине отводится преимущественно роль добытчика и кормильца, оставив все социально-педагогические функции на долю матери (см.: Здравомыслова, Темкина, 2007б; Чернова, 2007). Как откровенно заявила секретарь ВЦСПС Н. В. Попова, «хотя отец и несет по закону ответственность за воспитание детей, мать никто заменить не может, особенно в воспитании детей-дошкольников, поэтому нет нужды предъявлять к отцу излишние требования» (цит. по: Хасбулатова, 2005. С. 228).
Отождествление родительства с материнством в какой-то степени сохраняется в российском политическом сознании и поныне. В российском законодательстве в качестве конституционного принципа зафиксирована «государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и детства, инвалидов и пожилых граждан» (п. 2, ст. 7). Подчеркивается, что «заботиться о детях, их воспитании – равное право и обязанность обоих родителей» (п. 2, ст. 38). Эта норма содержится и в Семейном кодексе РФ (ч. 1, п. 1, ст. 1). В соответствии с Конституцией, новый Трудовой кодекс Российской Федерации закрепляет за отцом право на отпуск по уходу за ребенком: «Отпуска по уходу за ребенком могут быть использованы полностью или по частям также отцом ребенка, бабушкой, дедом или другим родственником или опекуном, фактически осуществляющим уход за ребенком» (ч. 4, гл. 41, ст. 256). Однако фактически об отцах вспоминают редко. Характерно, что в новой демографической программе задача повышения рождаемости целиком адресована женщинам, даже пособие по рождению второго ребенка называется «материнским капиталом», а не родительским или семейным. В Концепции федеральной целевой программы «Дети России» на 2007–2010 гг. отцовство вообще не упоминается. Между тем проблем с ним немало.
Прежде всего, хотят ли россияне быть отцами? Как и на Западе, российская молодежь все больше ориентируется не столько на продолжение рода, сколько на личные достижения. С суждениями, что «долг каждой женщины – стать матерью» и «долг каждого мужчины – растить детей», гораздо чаще соглашаются представители старших, нежели младших возрастов, причем женщины ценят родительство выше, чем мужчины (Гурко, 2000). Проведенное в январе 2006 г. по общероссийской репрезентативной выборке (опрошены 2 400 человек в 85 поселениях в 25 субъектах РФ) исследование «Семья. Демография. Социальное здоровье населения» (Варламова и др., 2006) показало, что хотя верхние ступени в иерархии наиболее важных жизненных ценностей у россиян занимают здоровье, семья, наличие детей и душевного комфорта, для самых молодых, 18—24-летних, респондентов «дети» значат меньше, чем для старших возрастных групп. В целом отношение к родительству в России положительнее, чем в США или Скандинавии (доля положительных ответов среди 24—38-летних составляет 79 %). Тем не менее молодые женщины и мужчины хотят иметь меньше детей, чем поколение их родителей. С мнениями, что «жизнь женщины полноценна, если у нее есть дети, каждая женщина должна стать матерью» и что «супруги обязательно должны иметь детей», люди старших возрастов соглашаются чаще, чем молодые. Как и в США, среднее желаемое число детей у мужчин несколько выше, чем у женщин (соответственно 2,32 и 2,26). Вместе с тем, перечисляя возможные факторы, мешающие достигнуть желаемого количества детей, мужчины чаще женщин говорят, что дети могут быть помехой для полноценной личной жизни, профессионального и интеллектуального развития (4,7 и 2,4 %) и карьеры (3,8 и 2,3 %).
На вопрос Левада-Центра: «Что важнее всего в молодости?» (национальный опрос в мае 2007 г.) 44 % взрослых ответили «создать семью и родить детей». Однако у молодых людей приоритеты несколько другие. 56 % 18—24-летних считают самым важным делом карьеру и работу, и только четвертая часть (24 %) – семью и детей. Достаточно велики и гендерные различия. Среди опрошенных мужчин (без разбивки по возрасту) карьеру и работу выбрали 43 %, а семью и детей – 38 %; у женщин соотношение обратное – 36 и 48 % (Голов, 2006). У более молодых респондентов, особенно мужчин и москвичей, большей популярностью также пользуется ответ «пожить в свое удовольствие».
Некогда сомнительный статус холостяка стал не только приемлемым, но даже завидным. Ему посвящены специальные сайты и телепрограммы. Посетители петербургского клуба холостяков подчеркивают, что они не геи, не асексуалы или принципиальные одиночки, придерживающиеся мнения «все бабы дуры», а наоборот, любвеобильные существа, желающие поделиться своими мыслями, знаниями и чувствами с как можно большим числом людей. Организаторы первого российского сайта для холостяков www. holost. ru называют свое детище не иначе как «свободолюбивый и свободновлюбчивый портал», ориентированный на мужчин, «которые умеют получать удовлетворение и от своего одиночества, и от предоставляющихся по этой причине безграничных возможностей, и экспериментов со всеми известными стимулирующими разум, характер и самодовольство веществами, а самое главное, на тех, кто не гнушается беспринципной безнаказанности за все содеянное с самим собой и своими временными спутниками, в чьих глазах зачастую читается лишь зависть и желание быть таким же». Для этих мужчин холостячество не временный социально-возрастной статус, а равноправная мужская идентичность, с собственным стилем жизни и системой ценностей, в которой дети, увы, не прописаны.
Впрочем, существует и противоположная тенденция: у многих взрослых и социально успешных мужчин появляется потребность в детях. «Стало модно любить детей. Это произошло в последние годы. В кругу моих друзей, приятелей, в кругу людей, с которыми я общаюсь… это модно», – говорит известный политический журналист Андрей Колесников, создавший колонку «Отец» в газете «Коммерсант». Вокруг созданной Ашотом Насибовым «Школы молодого отца» на «Эхе Москвы» группируются журналисты, музыканты и политики, которые в возрасте около 40 лет или немного позже неожиданно обнаружили, что хотят стать отцами, причем не такими, какими они сами были раньше.
Цель отцовства для этих людей не имеет ничего общего с государственной демографической программой, это прежде всего – поиск, а точнее – придание нового смысла собственной жизни.
Ты приводишь детей в школу или в детский сад, смотришь на людей, которые приводят своих малолетних сыновей, дочерей, смотришь на них, потом возвращаешься домой, смотришь на себя и понимаешь, что тебе чего-то недостает, что надо бежать, чтобы на тебя не смотрели, как на белую ворону, и чтобы тебя случайно не назвали дедушкой. Ты должен соответствовать, ты должен одеваться, ты должен вести себя, ты должен держать себя в физической форме хорошей, для того чтобы соответствовать своим детям. Ты не можешь быть дедушкой собственным детям.
(Георгий Васильев, музыкант, режиссер и бизнесмен)Это счастье, что этот человечек будет со мной расти… Я смотрю на них с невероятным удивлением и с каким-то особым чувством.
(Матвей Ганапольский, журналист)Это очень сложно объяснимое ощущение. Может быть, оно лучше всего объясняется в одной из песен Леонарда Коэна, что вот она твоя смерть в сердце твоего сына…Я вдруг понял, что все мои юношеские страхи по части смерти, неудач, сумы, тюрьмы, они вдруг стали преодолены. Не потому, что я стал, условно говоря, бояться смерти, а потому что я перестал бояться… потому что я стал еще больше бояться сдохнуть не вовремя.
(Валерий Панюшкин, журналист. Цит. по: Смирнов, 2006. С. 62–69)У юношей и молодых мужчин таких переживаний, конечно, не бывает, дети у них появляются сами собой и часто не ко времени. Тем не менее их приходится растить. Как?
Выше было показано, что в представлениях россиян о справедливом распределении семейных функций традиционалистские установки борются с эгалитарными, сопровождаясь жесткими взаимными обвинениями мужчин и женщин, начавшимися еще в 1970-х годах. Столь же противоречивы представления о соотношении материнских и отцовских обязанностей. Среди опрошенных в 1996 г. москвичей 81 % сказали, что заботы о детях следует делить поровну (в США так думают 90 %). На вопрос: «Способно ли большинство мужчин так же, как и женщины, заботиться о детях?» утвердительно ответили 65,6 % замужних женщин и 67,7 % женатых мужчин, отрицательно – четверть женщин и почти треть мужчин. Но хотя более молодые и образованные мужья в принципе готовы взять на себя больше домашних дел, такие сдвиги происходят очень медленно, а судя по реальным затратам времени, гендерное неравенство в постсоветской семье даже увеличилось (Малышева, 2001. С. 256).
По данным московского обследования 1996 г., участие отца в воспитании детей, за вычетом дисциплинирования, которым занимается каждый четвертый отец, является не только факультативным, но нередко и символическим. По затратам времени отцовский вклад составляет от 8,5 % (помощь в приготовлении уроков) до 1,9 % (уход за больным ребенком) материнского вклада. Даже отвечая на вопрос, кто определяет, «что детям можно делать», решающую роль отцам отвели только 8,7 % жен и 8,2 % мужей (Малышева, 2001. С. 269).
Российским СМИ традиционное разделение отцовских и материнских ролей представляется вполне естественным. Например, «в роликах, рекламирующих сотовых операторов, папа, как правило, перманентно находится в далекой командировке, поэтому мама кладет ребенку телефон с далекой папиной сказкой на подушку. Когда же режиссер ролика показывает вернувшегося папу в кругу семьи, то он либо бездеятельно сидит с идиотской улыбкой, либо обязательно натворит дел: то простудится, то заляпает рубашку кетчупом, то разольет детский сок. Хорошо, что неумехе на помощь вовремя приходит мать – профессионал домашнего хозяйства» (Кудрявцева, 2007). С этим более или менее согласно и массовое сознание.
Судя по данным массовых опросов общественного мнения, отцовство в России традиционно ассоциируется прежде всего с материальным обеспечением. Среди ответов на вопрос Левада-Центра в 2004 г.: «Какими качествами, на ваш взгляд, должен обладать хороший отец?» первые три места заняли «умение заработать» (75 %), «заботливость» (67 %) и «ум» (51 %). В оценке «хорошего мужа» на первом месте тоже стоит «умение заработать» (67 %), за которым идут «ум» и «верность».
Соотношение властных и экспрессивных функций в российской семье также скорее традиционно. Отвечая на вопрос ФОМ (апрель 2004 г.): «Кто из членов вашей семьи, с которыми вы жили в детстве, был главным, принимал основные решения?» – большинство россиян (в среднем 42 %, в старшей возрастной группе 56 %) отдали предпочтение отцу. Зато в ответах на вопрос: «Кто проводил с вами больше всего времени, занимался вашим воспитанием?» пальму первенства (57 %) получила мать. Вариант «оба родителя» выбрали лишь 22 %, «других родственников» назвали 14 %, а отца – лишь 7 % опрошенных (Преснякова, 2004). На вопрос Левада-Центра (сентябрь 2007 г.): «Как вы думаете, кто из ваших родителей в большей мере повлиял на ваше воспитание?» отца назвали 18 %, мать – 38 %, обоих в равной степени – 34 %.
Насколько российские отцы удовлетворены таким распределением ролей, сказать трудно – нет сколько-нибудь репрезентативных данных. Приведу лишь несколько иллюстраций из работы И. Рыбалко (Рыбалко, 2006).
Кормилец
«…..В моем понимании отец – это вот… чтобы вот… как бы вроде бы не были дети голодными. Понимаешь, это вот… такая финансовая сторона обеспечения. Я так понимаю…..»
«…..Это большая ответственность, Во-первых, очень большая, по максимуму это обеспечение семьи. Это естественно должен на себя мужчина брать…»
«…..Прежде всего, отцовство – это комплекс обязанностей, которые возлагает на себя мужчина, который принял решение с супругой, так сказать, завести ребенка. Вот… В отношении собственно ребенка, не супруги, а ребенка – это пожизненные обязательства материальной поддержки без, в общем-то, ограничения по времени».
Дисциплинатор
«Меня используют в качестве, так сказать, орудия возмездия и некоторого фактора карающего меча правосудия. Карающего меча, когда нужно накричать, когда он уже, так сказать, всех довел, когда нужно выключить игру, когда нужно нахлопать по заднице и т. д. и т. п…».
Некоторые отцы подчеркивают, что просто выполняют принятую в обществе функцию:
«…..Я никогда не пытался карать их, шуметь мог, кричать, вроде как делать грозный вид. Если они там делали что-то не так, сначала я должен был вот. хотя бы вид сделать, что я грозный, я ругаюсь. Это функция отца. Все их шалости не должны проходить бесследно. Тем не менее я всегда примерял это все на себя, что он делает, и всегда пытался войти в их шкуру. Я всегда понимал, что они не делают ничего из ряда вон выходящего, я такой же. Поэтому я делал вид, что я наказываю, а так я их всегда понимал».
Наставник
Основную свою обязанность отцы видят не в каждодневном уходе и воспитании ребенка, а в возможности обеспечить его будущее, «поставить его на ноги».
«То, что я сказки читал, это ерунда, то, что „полозил“ по полу, играл, это тоже ерунда. Я мало брал их, например, за руку и пер в другой конец города, чтобы они там. чем-то становились. В общем, наверное, важнее не родить их, важнее даже не то, что воспитать, воспитать – это когда ты с ними рядом. Но, как бы вот… поставить, как бы на ноги, сделать из них… Вот это как раз и есть роль отца. Мать она просто воспитывает, она вокруг него как „квочка“ сидит, высиживает эти яйца. А отец должен был бы их как раз куда-то воткнуть…..»
Как воспринимают отцовские практики дети? Судя по имеющимся фрагментарным данным, представления российских детей о том, какими должны быть отцы и матери, весьма стереотипны. В глазах детей отец – сильный, смелый, уверенный, решительный, выносливый, активный и ответственный человек, тогда как матери приписывают заботливость, ласковость, нежность, ответственность, мягкость и активность (Арканцева, Дубовская, 1999). Эмоционально и психологически дети всех возрастов чувствуют себя ближе к матери, чем к отцу (Каган, 1987). В 1970 г., отвечая на вопросы: «Насколько хорошо понимают вас перечисленные люди?», «Делитесь ли вы с перечисленными людьми своими сокровенными мыслями, переживаниями, планами?» и «Насколько легко вы чувствует себя с перечисленными лицами?» – российские школьники и студенты от 14 до 20 лет, как и их зарубежные сверстники, поставили мать значительно выше отца (Кон, 2005).
Похоже на то, что сейчас ситуация примерно такая же (Гурко, 2003). Общий уровень удовлетворенности подростков общением с матерью значительно выше, чем общением с отцом (31 % против 9). Матерей чаще всего упрекают в том, что они «излишне контролирующие», «не дают самостоятельности», «слишком беспокоятся», «лезут во все», тогда как отцам приписывают грубость, несправедливость, авторитарность, недостаток доброты, пьянство, но особенно – невнимание и частое отсутствие дома. Интересно, что если отец не живет в семье, дети нередко его идеализируют: «люблю его в глубине души», «люблю своего отца, но любовь эта заочная, так как не общаюсь с ним», «люблю, но никогда его не видела». Недовольство отцами нередко бывает следствием завышенных или ложных ожиданий.
Российские СМИ всячески подкрепляют традиционный стереотип властного отца. В популярном телесериале «Кадетство» все юноши разные, зато их отцы один авторитарнее другого, разговаривать с сыновьями они умеют только на повышенных тонах. Училищные командиры выглядят более мягкими и понимающими…
Не говоря уж о том, что традиционные определения отцовской роли и связанные с ними социальные ожидания сплошь и рядом не соответствуют реальным условиям жизни и индивидуальным особенностям обоих родителей, во многих семьях отцов попросту нет. Высокий процент материнских семей отчасти имеет объективные причины: физические потери мужского населения вследствие двух мировых войн, усугубляемые избыточной мужской сверхсмертностью, не могут не сказываться на составе и структуре семьи. Большое количество материнских семей в послевоенной России не результат свободного выбора, а объективная необходимость. Важную роль в росте безотцовщины играют также сексуальная революция, снижение возраста сексуального дебюта, отделение сексуальности от репродукции и широкое распространение добрачных и внебрачных связей при неумении предохраняться (см.: Кон, 2005а).
Хотя по количеству детей, зачатых и/или рожденных вне брака, Россия не только не опережает западные страны, но существенно отстает от некоторых из них, она сильно опоздала с морально-психологической легитимацией новых типов партнерских отношений. Советская власть морально и юридически признавала только законный брак. Между тем и воззрения, и поведение людей в последние десятилетия сильно изменились. Это констатируют не только сексологи, но и демографы (Демографическая модернизация России, 2006; Захаров, 2006).
Как пишет Сергей Захаров, путь к массовому распространению неформальных отношений как альтернативы официальному браку в первом партнерском союзе проложили поколения, родившиеся во второй половине 1960-х годов. Разумеется, это не было чем-то внезапным. Уже в поколениях россиян, родившихся перед войной и формировавших свои семьи в 1950-х годах, не менее 20 % мужчин и женщин к 30-летнему возрасту начинали свой первый партнерский союз с юридически не оформленных отношений, причем тенденция к более раннему началу партнерских отношений сопровождалась хотя и медленным, но устойчивым ростом числа юридически не оформленных союзов среди молодежи.
Среди представителей поколений, родившихся после 1960 г., распространенность неформальных отношений приняла взрывной характер. Сегодня не менее 25 % женщин к 20 годам и не менее 45 % к 25 годам брак со своим первым партнером не регистрировали. Данные для мужчин подтверждают такие цифры: 40–45 % первых союзов – неформальные. В начале совместной жизни такие отношения для большинства имеют временный характер пробного брака. Спустя какое-то время у многих пар отношения становятся респектабельным, юридически оформленным браком. В то же время данные RusGGS показывают, что регистрация брака все чаще не просто откладывается на время для проверки прочности отношений, но и не совершается вовсе. Это значит, что по всем параметрам брак как формальный союз теряет в России свою популярность, он не только откладывается на более поздний возраст, но и вытесняется устойчивыми сожительствами.
«Будущее покажет, изберет ли Россия для себя радикальный скандинавский путь трансформации семейно-брачных отношений, при котором неформальные союзы в демографическом и юридически-правовом отношении сосуществуют на равных, или ей предстоит более мягкий путь Франции и целого ряда других западноевропейских стран, в которых неформальные отношения между совместно проживающими молодыми партнерами являются обязательной прелюдией к браку в зрелом возрасте. Возможен и вариант Америки, где, как в котле, варятся самые различные модели брачно-партнерских и семейных отношений в зависимости от принадлежности к той или иной социальной страте» (Захаров, 2006. С. 300).
Пока официально господствующее в стране (хотя основная масса населения его не разделяет) консервативное сознание отказывается признавать эти факты, все больше детей чувствуют себя «безотцовщиной», со всеми вытекающими отсюда отрицательными последствиями.
Злую шутку консервативное сознание играет с мужчинами и при возникновении семейно-ролевых конфликтов. Если мужчина оценивается прежде всего по своим внесемейным достижениям, то любые социальные неудачи, вроде потери работы, снижают его семейный статус, а вместе с ним и самоуважение. Социолог Глен Элдер, изучавший психологические последствия американской «Великой депрессии» 1929–1932 гг., установил, что хотя потерявшие работу мужчины проводили больше времени с детьми, качество этих отношений заметно ухудшилось: безработные отцы становились более раздражительными, принимали произвольные решения и т. п. Причем ухудшение внутрисемейных отношений зависит не столько от масштаба финансовых затруднений, сколько от того, как сам мужчина их воспринимает: сознание своей неудачи в роли кормильца деморализует мужчину и осложняет его отношения с детьми. За прошедшие 70 лет в западных странах мужская психология несколько изменилась, а роль кормильца перестала быть единственной. Оставшийся без работы молодой американец может пойти на перераспределение домашних обязанностей и сидеть с детьми, временно предоставив зарабатывание денег жене.
В России рыночная экономика также революционизирует общественное разделение труда, заставляя людей менять занятия и переучиваться. Консервативному сознанию трудно к этому приспособиться, особенно если перемены, как это было в 1990-х годах, имеют кризисный характер. Вместе с привычной работой и статусом многие мужчины теряют самоуважение и веру в себя, а это, в свою очередь, отрицательно сказывается на их семейной жизни. Как было показано выше, «несостоявшаяся маскулинность» сильно проявляется и в отцовских практиках.
Отрицательно влияет на семейную жизнь и «дикий» капитализм. Работодателю не нужен сотрудник, обремененный слишком большими обязательствами за стенами офиса. Социологи отмечают, что многодетному отцу, как и женщине, устроиться на приличную работу значительно сложнее, чем бездетному или имеющему одного ребенка. Ни правовой, ни даже моральной защиты многодетные отцы не имеют.
Тяжелым испытанием для отцов становится развод (Прокофьева, Валетас, 2000). Разводимость в России выше, чем в Европе, и только треть опрошенных социологами разведенных отцов сказали, что видят своих детей достаточно часто и могут в какой-то степени заниматься их воспитанием. Жены говорят об отсутствии каких бы то ни было отношений между разведенным отцом и ребенком вдвое чаще (примерно так же выглядит эта статистика во Франции). Это объясняется не только и даже не столько нежеланием отцов, сколько настроением разведенных жен: лишь 17 % из них сказали, что хотели бы более частых контактов отца с детьми, а 41 % предпочли, чтобы таких контактов вовсе не было. Некоторые разведенные отцы вынуждены отстаивать свои права на ребенка в суде, причем, как правило, безуспешно, потому что консервативно настроенные судьи обычно решают эти споры в пользу матерей (Николаева, 2006).
Так же настроено и общественное мнение. При национальном опросе ВЦИОМ «Кризис брака: кто виноват и что делать?» в феврале 2007 г (Кризис брака, 2007) большинство россиян признали разводы неизбежным злом, лишь 12 % опрошенных считают, что надо сохранять брак любой ценой. На вопрос: «Кто больше виноват в распаде семьи – муж или жена?» большинство опрошенных (62 %) отвечают, что, как правило, оба супруга в равной мере. Однако в ответах на вопрос: «Кому лучше оставлять детей после развода – матери или отцу?» чаша весов определенно склоняется на сторону матери. Хотя, как и в 1990 г., когда проводился аналогичный опрос на эту тему, относительное большинство (43 %) опрошенных полагает, что решение зависит от конкретных людей, число тех, кто считает, что в одиночку ни мать, ни отец не могут хорошо воспитать ребенка, за 17 лет сократилось с 33 до 14 %, тогда как доля россиян, принимающих сторону матери, возросла с 17 до 38 %. В пользу отцов высказываются лишь 2 % опрошенных. Соотношение тех, кто думает, что матери воспитывают детей лучше, чем отцы, и наоборот, составляет среди женщин 46 и 1 %, а среди мужчин – 29 и 3 %. Серьезные исследователи (Е. Здравомыслова и А. Темкина, М. Арутюнян, Т. Гурко, Е. Ярская-Смирнова, Ж. Чернова) видят в такой предвзятости не только ущерб для ребенка, но и дискриминацию мужчин и нарушение прав отцовства.
В России почти все нетрадиционное встречается в штыки. Некоторые альтернативные формы отцовства, давно уже существующие на Западе, например отцы-геи, в стране юридически отсутствуют и никем не изучаются (скудная научная литература есть лишь о лесбийских семьях). Совсем недавно социологи начали изучать институт приемных отцов (Гурко, 2006), раньше писали только о приемных матерях. Маргинальными выглядят и отцы-одиночки, хотя в последнее время о них говорят и пишут все больше.
Одинокие отцы. Материал к размышлению
Положение отцов-одиночек, ставших таковыми вследствие вдовства или развода, сложное. Точное число их неизвестно. В 2001 г. в Департаменте по делам детей, женщин и семьи Министерства труда и социального развития РФ сообщили, что из 39 миллионов российских семей около трети – неполные, из которых 1 % – семьи, где детей (общим числом около 100 тысяч) воспитывает и содержит только отец; больше всего отцов-одиночек проживало в Алтайском крае. С тех пор эти цифры не уточнялись. То, что одиноких отцов у нас значительно меньше, чем в западных странах, объясняется прежде всего тем, что в случае развода консервативно настроенные судьи обычно оставляют ребенка на попечение матери. У оскорбленных отцов это вызывает протест.
Как и всё в России, борьба за права отцов сильно политизирована. В стране существуют две разные, не контактирующие друг с другом ассоциации отцов-одиночек.
Первая, «Отцы и Дети», созданная в Москве 18 ноября 1990 г. юристом Г. В. Тюриным, ведет активную пропагандистскую работу и имеет собственный вебсайт резко выраженной антифеминистской направленности /~otcydeti/feminizm.htm под лозунгом «ФЕМИНИЗМ – ФАШИЗМ – САТАНИЗМ» и с эпиграфом из Шекспира «О, женщины! Ничтожество вам имя». Там можно прочитать утверждения типа: «99 % бывших жен воспитывают из детей проституток, педерастов и наркоманов. Может быть, для этого судьи им детей и оставляют?!»
Вторая ассоциация одиноких отцов «Мапулечки Москвы», созданная в том же 1990 г. писателем Николаем Белоусовым, который после развода с женой остался с двумя детьми и успешно вырастил их, политикой не занимается. Несмотря на отсутствие какой-либо официальной помощи, Белоусов часто выступает в СМИ и охотно дает бесплатные консультации заинтересованным людям по своему домашнему телефону (его вебсайт из-за отсутствия денег заблокирован, как он надеется – временно).
Профессиональных социологических или психологических исследований этой темы мне найти не удалось, но журналисты пишут об одиноких отцах довольно много, особенно в связи с Днем отца, который в некоторых регионах России отмечают 1 ноября. Судя по этим публикациям, у одиноких отцов есть свои специфические проблемы, и местные власти пытаются им помогать морально и материально. Вот фрагмент из одной статьи:
Татьяна Соловьева
Тюменский менталитет мешает одиноким отцам
Когда мы слышим «отец-одиночка», сразу вспоминается герой телефильма «Служебный роман», который всегда говорил: «У меня дети. У меня их двое: мальчик. и тоже мальчик». Родительская ноша – вообще дело нелегкое, а когда ее несут поодиночке, сложнее вдвойне. Какой он самом деле, тюменский отец-одиночка?
«Прошлое вспоминаю с ужасом».
35-летний Андрей – профессиональный спортсмен, больше десяти лет один воспитывает 15-летнего сына Максима и 12-летнюю дочь Аленушку. Их мама в поисках работы однажды закончила курсы стюардесс и улетела из семьи в прямом смысле этого слова. Дочка тогда только научилась ходить.
Андрей умеет варить кашу, зашивать колготки, заплетать косу и стричь волосы. Он ходит на родительские собрания, печет блины и знает названия редких японских мультфильмов. Для него не секрет, где дешевле молоко и рыба. Быть отцом-одиночкой – нормальное и давно привычное состояние для Андрея: «Стирать и гладить я научился быстро, – улыбается он, – правда, пару штанишек сыну сжег. Готовить учился дольше. Вообще бытовые проблемы меня давно не пугают. Хотя сейчас прошлое вспоминаю с ужасом – если бы все сначала повторить, то, наверное, прямо из зала суда, где себе детей отсудил, сбежал бы, – признается Андрей. – Как-то дети коклюшем заболели – ерундовина такая, никак не лечится, а только надо 2 месяца дома сидеть. Мне тогда спичек не на что было купить, всем подъездом мне помогали, мама из деревни постоянно приезжала. Я тогда пойду в ванну, поплачу даже, а потом думаю: да ничего, прорвемся. Так и случилось. И оказалось, что неправда это, что „папа может все, что угодно, только мамой не может быть“».
Мужчинам просить стыдно…
Как рассказала социальный педагог Елена Смольникова, отцами-одиночками становятся или потому что мать самоустранилась от воспитания потомства и лишена родительских прав, или мужчина овдовел. Сколько их таких вот усатых мам в Тюмени и области – никто у нас не считал. Есть только самые общие и самые усредненные данные по результатам переписи населения 1994 года – среди всех семей с одним родителем и детьми до 18 лет 94 % составляют семьи одиноких, вдовых и разведенных матерей, и лишь оставшиеся 6 % – отцов. Посчитаны лишь те малообеспеченные отцы, которые получают материальную поддержку от государства. Естественно, цифра эта необъективна хотя бы потому, как считает психолог Ирина Созонова, что проблема таких отцов в том, что они стыдятся демонстрировать свое семейное положение.
«Мы часто по долгу службы делаем поквартирные обходы, и часто бывает, что отец месяцами „запирается“ и не признается, что остался один с детьми – у него жена то якобы в больнице лежит, то в гости к родственникам уехала, то еще где-то. Бывает, только через несколько месяцев удается докопаться до правды!» – рассказывает Ирина Созонова.
Если одинокая мать не стесняется ходить по разного рода социальным центрам и «выбивать» для себя льготы, новогодние подарки или те же 100 рублей на проезд ребенка, то мужчина считает эту беготню с «протянутой» рукой собственной слабостью. «Действительно, – подтверждает мой герой-одиночка Андрей, – не только стыдно что-то просить, но просто не хватает времени на хождение по инстанциям за разными справками на получение пособий или адресной помощи».
А потому не хватает тюменским отцам-одиночкам элементарного – профессиональных советов юристов, психологов, социальных педагогов. В городе нет ни одного специального клуба или какой-нибудь общественной организации. Тогда как, судя по информации в Интернете, подобные объединения для одиноких пап создаются во многих городах: в Архангельске, Новосибирске, Калуге.[13]
Вот другая заметка.
В Благовещенске решили помочь отцам-одиночкам – на базе центра помощи семьи и детям открыта первая в области школа отцов, в которую вошли 26 мужчин разного возраста.
Парадоксальная ситуация: женщина, родившая и воспитывающая ребенка вне брака, является матерью-одиночкой, а вот термина «отец-одиночка» даже юридически не существует, хотя в реальной жизни примеров, когда мужчина один растит детей, множество. А раз статус таких отцов не определен, то и помощи от государства нет. Хотя проблем у подобных мужчин гораздо больше, чем у женщин.
– Сколько в Благовещенске отцов-одиночек – мы не знаем, потому что их никто не учитывает, – признается Наталья Петрова, руководитель социального центра помощи семьи и детям. – 26 мужчин, что мы сегодня объединили, обратились к нам за какой-то помощью: юридической, психологической, материальной. Они теперь находятся под социальным патронированием.
По данным Амурского детского фонда, в области примерно 600 мужчин, воспитывающих детей без своей второй половины. А по последней переписи населения в 2002 году, семей, состоящих из отцов с несовершеннолетними детьми, было выявлено 1885. Но точной цифры все же нет – так как никаких социальных пособий одинокие отцы не получают. В отличие от одиноких матерей, которых только в Благовещенске 2 583 человека
(«Российская газета – Приамурье». № 4416 от 18 июля 2007 г.).В общем, проблем много, а понимания мало…
Беда российского общественного сознания – подмена трезвого социологического подхода к отцовству примитивной морализацией, когда весь мир делится на «плохое» и «хорошее», и надежда на то, что все проблемы могут быть решены с помощью денег и административного ресурса. Как справедливо замечает Ирина Рыбалко, когда политики говорят, что в России нужно возрождать отцовство, они имеют в виду авторитарный стиль отца, который безнадежно уходит в прошлое. В том же духе выступает РПЦ, призывающая вернуть в семью «старинный уклад».
В последние годы тема отцовства занимает все более заметное место в русской литературе, особенно в произведениях автобиографического характера, и в кинематографии.
Наиболее значительные фильмы, получившие международное признание («Возвращение» Андрея Звягинцева, получившее 27 наград по всему миру, включая Гран-при 60-го Международного Венецианского кинофестиваля, и фильм Александра Сокурова «Отец и сын», отмеченный призом Международной ассоциации кинокритики ФИПРЕССИ 56-го Международного Каннского кинофестиваля), – это притчи, которые не столько описывают взаимоотношения реальных отцов и сыновей, сколько выражают напряженную тоску по отцовской любви и близости. Отец в фильме Звягинцева – своеобразный символ доминантной маскулинности, которой недостает его сыновьям и появление которой провоцирует кризис в их развитии. Что на самом деле нужно мальчикам – сильная рука, пример для подражания или эмоциональная близость, зритель должен решать самостоятельно. Напротив, в повести Людмилы Улицкой «Казус Кукоцкого» и сделанном на ее основе (на мой взгляд, очень удачном) телефильме создан привлекательный реалистичный образ мудрого и внимательного приемного отца (правда, не сына, а дочери, которой жесткость не требуется). Интересно, что, как и в некоторых произведениях классической литературы, этот мягкий отец – человек строгих нравственных принципов, способный в своей социальной и профессиональной жизни противостоять авторитарной власти, перед которой домашний тиран и стадный мужчина, как правило, пасуют.
4. Психология отцовства
Какая сладость в мысли: я отец!
И в той же мысли сколько муки тайной…
М. Ю. ЛермонтовОбщественные науки, прежде всего социология и демография, помогают нам понять условия задачи, с которой сталкиваются современные отцы. Без учета макросоциальных условий любые социально-педагогические реформы не более чем приятная маниловщина. Люди, воспитанные в патриархальном духе и убежденные в том, что формирование личности осуществляется в основном и даже исключительно в первые два, три или пять лет жизни, обычно не сомневаются во всемогуществе родителей, приписывая все трудности и недостатки воспитания их некомпетентности или небрежности. «Дайте мне других матерей, и я дам вам другой мир», – писал святой Августин, и под этим суждением охотно подписались бы и Фрейд, и многие классики педагогики. Реже, но нечто похожее говорят и об отцах.
На самом деле все гораздо сложнее. Родительские практики и отношение к детям органически связаны с общими ориентациями культуры и собственным прошлым опытом родителей. Ни то ни другое нельзя изменить по мановению волшебной палочки. Кроме того, при всей их значимости, родители никогда не были и не будут единственными и всемогущими вершителями судеб своих детей. Даже оценить реальную степень родительского вклада без учета множества других, на первый взгляд посторонних, факторов невозможно.
Откуда вы это знаете? Методологический экскурс
Когда в начале 1980-х годов я заинтересовался теоретическими проблемами отцовства, было уже ясно, что для оценки потенциального и реального родительского влияния нужно учитывать множество автономных факторов, включая возраст ребенка, его пол, наличие других агентов социализации как внутри семьи, так и вне ее, специфические особенности межпоколенной трансмиссии культуры в данном обществе в данный исторический период, амбивалентность родительских чувств и их социально-психологических последствий, многочисленные компенсаторные механизмы самой социализации, уравновешивающие или сводящие на нет наши воспитательные усилия, и т. д.
Психологические и социологические исследования 1960—1970-х годов, которые убедительно, как тогда представлялось, показали значение отца как воспитателя, на самом деле описывали эффект не столько отцовства, сколько безотцовщины. Сравнивая детей, выросших с отцами и без оных, исследователи обнаружили, что этот «невидимый», «некомпетентный» и часто невнимательный родитель на самом деле очень важен, во всяком случае, его отсутствие весьма отрицательно сказывается на детях. Дети, выросшие без отцов, часто имели пониженный уровень притязаний. У них, особенно у мальчиков, выше уровень тревожности и чаще встречаются невротические симптомы. Мальчики из неполных семей труднее налаживают контакты со сверстниками. Отсутствие отца отрицательно сказывается на учебной успеваемости и самоуважении детей, опять же особенно мальчиков. Таким мальчикам труднее дается усвоение мужских ролей и соответствующего стиля поведения, поэтому они чаще других гипертрофируют свою маскулинность, проявляя агрессивность, грубость, драчливость и т. д. Наличие статистической связи между отсутствием или слабостью отцовского начала и гипермаскулинным или агрессивным поведением (насилие, убийства и т. п.) демонстрировали и кросскультурные исследования.
Но как ни серьезны подобные данные, они всего лишь косвенные свидетельства. У неполных семей помимо отсутствия отца имеются и другие проблемы: материальные трудности, суженный круг внутрисемейного общения, от которого немало зависят воспитательные возможности. Женщина-мать, лишенная мужской поддержки, часто психологически травмирована, что отражается и на ее отношении к детям. Имитируя отцовскую строгость и требуя от детей дисциплины, некоторые одинокие матери больше заботятся о формальном послушании, успеваемости, вежливости и т. п., нежели об эмоциональном благополучии ребенка. Другие, напротив, прямо признают свое бессилие. Третьи чрезмерно опекают детей, особенно единственных, пытаясь оградить их от всех действительных и воображаемых опасностей. Хотя такое невротическое чувство кажется бескорыстным и даже жертвенным, оно крайне эгоистично и отрицательно сказывается на ребенке. Чрезмерно опекаемый, заласканный ребенок сплошь и рядом вырастает пассивным, физически и морально слабым или же начинает бунтовать. Сильная зависимость от матери часто сочетается с чувством скрытой враждебности к ней. Иногда дети идеализируют отсутствующего отца и т. д. и т. п.
Пока эмпирических исследований было мало и они были технически несовершенны, легко было создавать глобальные теории, которые из одних и тех же фактов делали прямо противоположные выводы. С точки зрения классического психоанализа, ослабление отцовской власти в семье – величайшая социальная катастрофа, потому что вместе с отцовством оказались подорванными все внешние и внутренние структуры власти, дисциплина, самообладание и стремление к совершенству, «общество без отцов» означает демаскулинизацию мужчин, социальную анархию, пассивную вседозволенность и т. п. С феминистской точки зрения, напротив, это означает утверждение социального равенства полов, ослабление агрессивных импульсов и шаг в сторону общей гуманизации межличностных отношений. Глобальные философские теории, плодотворные для первоначальной, заостренной постановки вопросов и благодаря этому притягательные для широкой публики, как правило, из-за своей односторонности слишком многое оставляют вне поля зрения. Если рассуждать социологически, думать надо не о том, что мы потеряли и кто в этом виноват, а о том, что мы имеем и что с этим делать дальше.
В последние 10–15 лет мировая психология развития сделала огромный шаг вперед. Группа самых авторитетных представителей разных направлений психологии развития (Эндрю Коллинз, Элинор Маккоби, Лоренс Стайнберг, Мэвис Хизерингтон и Марк Борнстайн) в обзорной статье современных исследований родительства пишет, что современному уровню изучения родительства не отвечают уже не только литература начала 1980-х, но даже теории и парадигмы десятилетней давности. Прежние исследователи социализации переоценивали выводы корреляционных исследований, излишне полагались на детерминистские взгляды о родительском влиянии, не замечая потенциальных сложных эффектов наследственности (Collins et al., 2001).
Современная наука знает, как избежать этих ошибок, но ее выводы слишком сложны для элементарных учебников и популяризаций, по которым люди учатся и которые зачастую пропагандируют заведомо устаревшие и упрощенные взгляды. Это полностью касается и психологии отцовства.
Прогресс социологии и психологии отцовства на Западе обусловлен не только тем, что общество осознало актуальность связанных с отцовством проблем, а ученые, перейдя от бесплодного плача по «миру, который мы потеряли», к изучению реального мира, в котором мы живем, сумели по-новому его концептуализировать, но и потому, что в их распоряжении оказались бесценные базы данных, позволяющие судить о долгосрочных тенденциях развития на национальном и даже международном уровне. Например, у американских исследователей отцовства имеются такие важные источники, как серия Национальных лонгитюдных опросов – National Longitudinal Surveys (NLS), включая National Longitudinal Survey of Youth 1979 (NLSY79) – национально-репрезентативная выборка из 12 686 молодых мужчин и женщин, которым в момент первого опроса в 1979 г. было от 14 до 22 лет; National Longitudinal Survey of Youth 1997 (NLSY97) – около 9 000 юношей и девушек, которым в момент первого опроса 31 декабря 1996 г. было от 12 до 16 лет; National Survey of Families and Households (NSFH) – 13 017 респондентов; Fragile Families and Child Wellbeing Study – 5 000 детей из «хрупких семей», рожденных в больших городах США между 1998 и 2000 гг.; Early Childhood Longitudinal Study (ECLS); National Longitudinal Study of Adolescent Health (Add Health); Panel Study of Income Dynamics (PSID) – лонгитюдное исследование, начатое в 1968 г. и охватывающее свыше 7 000 семей и 65 000 индивидов, и его дополнение, специально посвященное развитию ребенка, – Child Development Supplement (CDS). По мере их обработки все эти данные публикуются в Интернете. Плюс огромное количество государственных и негосударственных докладов и отчетов. Не удивительно, что ученые стали недоверчиво относиться к любым обобщениям, основанным на плохих выборках и самодельных методиках, теоретические предпосылки коих никто всерьез не проверял.
Приведу один-единственный пример. Ни один человек в здравом уме и твердой памяти не сомневается в том, что семья с двумя родителями более благоприятна для развития ребенка, чем семья с одним родителем. Но почти половина американских детей часть своего детства вынуждены жить отдельно от отцов (Andersson, 2002). Как это сказывается на их учебной успеваемости и общем благополучии? Доклад Национальной отцовской инициативы «Факты об отцах» (Horn, Sylvester, 2002), ссылаясь на семь научных исследований, утверждает, что отсутствие отца плохо сказывается на успеваемости детей. Вполне возможно, что так оно и есть, но ни одно из семи цитируемых исследований не опиралось на национально-репрезентативную выборку детей школьного возраста. Чтобы восполнить этот пробел, социолог Мэтью Де-Белл проанализировал данные национального телефонного опроса Parent and Family Involvement in Education Survey of the National Household Education Surveys Program of 2003 (NHES), в ходе которого в 2003 г. были опрошены родители или опекуны 12 426 детей, начиная с детского сада и кончая последним, 12-м, классом школы (DeBell, 2008). После надлежащий статистической обработки результаты этого опроса репрезентативны для 52,6 миллиона американских детей школьного возраста. Де-Белл пытался ответить на три вопроса: 1. Сколько детей школьного возраста живут без своих биологических отцов? 2. С какими социальными и демографическими свойствами это коррелирует? 3. Как жизнь без биологического отца связана с такими индикаторами детского благополучия, как состояние здоровья (общая оценка здоровья ребенка его родителями и страдал ли он расстройством внимания), учебная успеваемость (школьные отметки и наличие переэкзаменовок), положение в школе (были ли серьезные дисциплинарные проблемы вплоть до исключения и нравится ли ребенку школа) и участие родителей в жизни школы (посещение школьных мероприятий, помощь школе и т. п.). Выяснилось, что около 36 % школьников (это 19 миллионов детей!) не живут со своими отцами, причем этот показатель варьирует у разных этносоциальных групп: среди белых школьников не живут с отцами 26 %, среди испаноязычных 39 %, а среди черных 69 %. Безотцовщина также коррелирует с бедностью: в домохозяйствах с годовым доходом до 25 000 долларов не имеют отцов в доме 63 %, а с доходом выше 75 000 долларов – 18 % детей. Так же влияет образовательный уровень: среди детей, живущих в домохозяйствах, где родитель (родители) не окончили средней школы, не имеют в доме отца 62 %, а в наиболее образованных семьях – 18 %. Это доказывает, что безотцовщина – прежде всего социально-экономическое явление. Отсюда и результаты. При сравнении только двух показателей отсутствие у ребенка отца коррелирует и с более слабым здоровьем, и с худшей учебной успеваемостью, и с трудностями в школе, и с меньшей вовлеченностью родителей в школьную жизнь. Но при выравненных социально-экономических факторах отсутствие отца оказывается сравнительно второстепенным моментом.
Разумеется, из этого не следует, что отцы н е важны для своих детей. Однако многие дети успешно развиваются и без отцовского участия, а негативное влияние безотцовщины чаще всего проявляется совместно с такими факторами, как родительская бедность и необразованность. Между прочим, здесь есть и идеологический момент. Говорить об «общечеловеческих» детско-родительских проблемах, уходящих корнями в наше животное наследие, или о «бездуховном современном обществе», которое могут спасти лишь религиозные пастыри, гораздо безопаснее, чем о социально-классовом неравенстве. Но научное знание начинается лишь тогда, когда мы можем вычленить психологические проблемы из социальных.
Российским ученым в этом отношении гораздо труднее, чем западным.
У них нет ни лонгитюдов, ни национальных баз данных. Едва ли не самое крупное отечественное исследование трансформации института отцовства в контексте модернизации брака и семьи (Михеева, 2003) проводилось в два этапа. Сначала было проведено анкетное обследование мужчин и женщин в возрасте 25–50 лет; всего были заполнены 603 анкеты. В процессе проверки анкет были выявлены 87 женщин и 64 мужчины, интересных для второго этапа обследования. С 18 женщинами и 24 мужчинами были проведены углубленные интервью по разработанной схеме. Чтобы изучить реальные отцовские практики, нужно было а) отобрать семейных мужчин, имеющих детей не старше школьного возраста, и б) выделить из них тех, которые активно осуществляли родительские функции (таковых оказалось 11 человек). Для психологического исследования этого, возможно, достаточно, но для широких обобщений о трансформации института отцовства – вряд ли. И от исследователя это не зависит.
У нас очень мало стандартизованных психологических методик, а использование не совсем грамотно адаптированных зарубежных тестов обесценивает даже хорошие исследовательские данные, делая их ни с чем не сопоставимыми (какой физический журнал примет статью, где длина будет измеряться «локтями»?).
Это не вина российских ученых, а их беда. Я говорю об этом только для того, чтобы читатель не упрекал меня за фрагментарность и не спрашивал: а где же отечественные данные? Как говорится, чем богаты, тем и рады.
Что отец дает детям?
Хотя научная литература об отцовстве огромна, ключевой международной фигурой в этой области знания, безусловно, является психолог Майкл Лэм (в настоящее время профессор Кембриджского университета). Кроме многочисленных собственных исследований, он опубликовал четыре издания антологии «Роль отца в развитии ребенка» (The Role of the Father in Child Development, 1976, 1981, 1997, 2004), содержащей большие статьи (каждый раз существенно обновленные или написанные заново) с обзорами основных исследований по этой тематике. Сравнение вышедших в разные годы сборников и вступительных статей Лэма и его соавторов (Lamb, 1997; Lamb, Tamis-Lemonda, 2004; Day, Lamb, 2004) показывает эволюцию и современное состояние этой области знания.
Первые два издания вышли в период, когда существенное влияние отцов на формирование своих детей, особенно девочек, вызывало у специалистов большие сомнения. Авторы обзоров доказали, что отцы играют определенную роль в жизни ребенка и влияют, хорошо или плохо, на его развитие. К 90-м годам эти мысли уже не вызывали сомнений, формы и степени отцовского влияния стали обсуждаться более конкретно. В последнем, четвертом, издании на первый план вышли вопросы теории и методологии; им также посвящен специальный сборник «Концептуализация и измерение отцовской вовлеченности» (Concеptualizing…, 2004).
В отличие от эволюционной психологии, пытающейся объяснить различия отцовских и материнских практик изначальными и, предположительно, неизменными законами полового отбора, социальная психология и психология развития заинтересованы в конкретных отцовских практиках и в том, как их можно улучшить. Оказалось, что здесь многое меняется.
Хотя по степени своей родительской вовлеченности (ее индикаторы – заинтересованность, доступность и ответственность) отцы существенно уступают матерям, проводя меньше времени с детьми (в полных семьях, где матери не работают, отцы тратят на непосредственное общение с детьми вчетверо меньше времени, чем матери), уровень отцовской заботы и внимания неуклонно повышается. Однако это происходит значительно медленнее, чем многие думают, и зависит от макросоциальных условий и структуры семьи.
Происходят закономерные сдвиги в содержании самой отцовской роли. Описания степени доступности отцов не отвечают на вопрос, что именно и почему отцы делают. Критерии «хорошего» и «плохого» отцовства исторически менялись и продолжают меняться. В противоположность старым представлениям о единой «отцовской роли», современные исследователи считают, что отцы выполняют много разных ролей, которые не обязательно противоречат друг другу. Для того чтобы оценить успешность отца, нужно учитывать все многообразие его родительских практик, с учетом экологии и возраста ребенка. Например, в 1980-х годах было установлено, что хотя матери играют с маленькими детьми больше, чем отцы, материнские игры кажутся продолжением опеки, тогда как отцовские игры более активны и дают ребенку больше самостоятельности, что может плодотворно влиять на развитие ребенка. Но эти различия не следует преувеличивать: на самом деле и отцы, и матери, играя с детьми, поощряют их исследовательскую деятельность и развитие, то есть они воздействуют на ребенка в одном направлении (Day, Lamb, 2004). Современное понимание отцовских ролей признает наличие существенных вариаций в действиях одного и того же отца и между отцами. Большинство индивидуальных отцов принимают на себя многочисленные семейные роли (кормильца, товарища по играм, опекуна и т. д.), но для разных отцов эти роли неодинаково важны.
Много исследований посвящено тому, какое влияние отцы оказывают на своих детей и как оно осуществляется. Ранние корреляционные исследования часто сводились к установлению корреляций между психологическими свойствами отца и свойствами сына, прежде всего степени их маскулинности (предполагалось, что отец служит для сына ролевой моделью). К удивлению исследователей, такой связи часто не обнаруживалось. Но если отец не делает мальчика мужчиной, в чем проявляется его влияние? Это побудило поставить вопрос: почему мальчики должны стремиться быть похожими на своих отцов? Вероятно, потому, что собственные отцы им нравились и взаимоотношения с ними были теплыми и положительными. Последующие исследования показали, что качество отношений между отцом и сыном, отцовское тепло действительно важнее, чем степень отцовской маскулинности. Иными словами, свойства отца как родителя важнее, чем свойства отца как мужчины. Однако с этим не все согласны, некоторые психологи (Biller, 1993; Biller, Trotter, 1994) продолжают настаивать на решающем значении различия материнских и отцовских ролей, выводя из их размывания трудности современного брака.
Может быть, роль отца можно понять через его отсутствие? Дети, растущие без отцов, особенно мальчики, часто испытывают трудности с формированием полоролевых установок и гендерной идентичности, а также имеют проблемы со школьной успеваемостью и психосоциальной адаптацией (агрессивность). Но снова возникает вопрос: дело в отсутствии отца или в каких-то других, связанных с этим моментах? Характерны ли эти проблемы для всех мальчиков, растущих без отца, или только для некоторых, каких именно и почему? Сначала все объясняли отсутствием мужской ролевой модели, без которой не может сложиться маскулинность. Но многие мальчики, растущие без отцов, обходятся без этих трудностей. Уже в 1980-х стали появляться более сложные исследования того, как развод и безотцовщина влияют на детей.
Американский психолог Мэвис Хизерингтон с сотрудниками, изучив около 1 400 разведенных семей и больше 2 500 детей (Hetherington, Kelly, 2002), установила, что негативный эффект зависит от целого ряда обстоятельств. Во-первых, отсутствие второго родителя увеличивает бытовую и психологическую нагрузку на оставшегося (не с кем оставить ребенка), что может сделать его менее эффективным. Психологически дети легче переносят развод, если у них сохраняются хорошие отношения с обоими родителями. Во-вторых, финансовые потери: доход одиноких матерей обычно меньше, чем у семьи с двумя родителями. В-третьих, эмоциональный стресс, чувство социальной изоляции, потери части общих друзей. В-четвертых, дети часто переживают психологическую травму: ребенок думает, что бросили не только и не столько его мать, сколько его самого, это подрывает его самоуважение. Наконец, разводу обычно предшествуют и сопутствуют мучительные конфликтные ситуации, враждебность и т. п. Короче, издержки безотцовщины могут объясняться не отсутствием отца как ролевой модели, а многими другими обстоятельствами.
Неоднозначны и психологические последствия развода. Одни исследования, в том числе метаанализ 67 работ, опубликованных в 1990-х годах (Amato, 2001), и книга Джудит Уоллерстайн, изучавшей свыше 130 «детей развода» на протяжении 30 лет (Wallerstein et al., 2001), утверждают, что его отрицательные последствия неискоренимы и дети разведенных родителей, как правило, имеют больше проблем с успеваемостью, психологическим благополучием, образом «Я» и общением, причем часть этих трудностей сохраняется и в период взрослости. Другие авторы полагают, что долгосрочный вред развода преувеличен. По данным Хизерингтон, свыше 75 % изученных ею «детей развода» в конечном счете выросли не менее благополучными, чем дети из полных семей. Лично мне это мнение кажется более убедительным.
С социально-педагогической точки зрения, наиболее перспективными выглядят исследования собственно отцовских практик, прежде всего – положительной отцовской вовлеченности. Дети активно вовлеченных отцов отличаются повышенной когнитивной компетентностью, повышенной эмпатией, менее стереотипными взглядами и более интернальным локусом контроля (Pleck, 1997). По словам американского государственного сайта «Важность отцов для развития здоровых детей» (The Importance of Fathers…, 2007), ссылающегося на специальные исследования, дети, имеющие вовлеченных, заботливых отцов, лучше учатся, имеют более высокий IQ, лучшие лингвистические и когнитивные способности. Дети таких отцов лучше подготовлены к школьному обучению, более терпеливы и легче переносят связанные со школьным обучением стрессы и фрустрации. Активное отцовство благотворно сказывается и на учебной деятельности подростков. Например, в 2001 г. Министерство образования США установило, что у детей высоко вовлеченных биологических отцов вероятность получать преимущественно высшие оценки повышается на 43 %, а вероятность переэкзаменовки снижается на 33 %. У детей заботливых отцов больше шансов на эмоциональное благополучие, они увереннее осваиваются в окружающем мире, а когда подрастают – имеют лучшие отношения со сверстниками. Наличие отца и его активное участие в воспитании способствуют повышению у ребенка уверенности в себе, что в дальнейшем облегчает им общение со сверстниками.
Для ребенка важно иметь семью не просто с двумя родителями, а с хорошими родителями. Тщательное исследование 1 116 пар пятилетних близнецов и их родителей выявило, что чем меньше времени отцы живут вместе со своими детьми, тем больше поведенческих проблем имеют их дети. Но лишь в том случае, когда отцы не замечены в явном антисоциальном поведении. Напротив, чем дольше живут с детьми антисоциальные отцы, тем вероятнее, что у детей будут поведенческие проблемы. Дети, живущие с такими отцами, получают «двойную дозу» генетического и средового риска. Развод в таком случае – благо (Jaffee et al., 2003).
К сожалению, конкретные отцовские практики и их эффект изучены слабо. Особенно любопытны в этом плане отцовские игры, которым посвящено много специальных психолого-педагогических исследований. Ключевые фигуры в этой области знания – канадский психолог, профессор Монреальского университета Даниэль Пакетт (Paquette, 2004) и американский детский психиатр, профессор Йельского университета Кайл Пруетт (Pruett, 2001). По мнению Пакетта, отцовско-детская игра, особенно силовая возня, более непредсказуема, интенсивна и физически сильнее стимулирует ребенка, чем игра с матерью. В ней больше активного взаимодействия, что благоприятствует развитию когнитивных способностей и эмпатии и способствует появлению у детей сильной привязанности к отцу, даже если он проводит с ними значительно меньше времени, чем мать.
Мужчины любят удивлять детей, временно «дестабилизировать» их, поощряют к принятию риска, учат быть смелыми в незнакомых ситуациях и умению постоять за себя. Напротив, матери чаще успокаивают детей. Отцы активнее взаимодействуют с детьми в качестве компаньонов по играм, отцовские игры более действенны, тогда как материнские – вербальны и дидактичны. Поэтому малыши часто предпочитают играть с отцами и вообще – мужчинами, хотя посторонних мужчин побаиваются. Это делает отца важной фигурой детского развития (Grossman et al., 2002).
Если материнская игра с ребенком большей частью опосредствуется игрушками, то отец охотно превращает в игрушку и в объект исследования свое собственное тело и тело ребенка. Он не ухаживает за ребенком, а возбуждает, стимулирует его, поощряет искать новое и не бояться связанных с этим фрустраций. Характерный пример – обучение ребенка езде на велосипеде. После первых неудачных попыток папы гораздо чаще мам поощряют ребенка продолжать опыт, для них главное – добиться от ребенка мастерства и умения обходиться без посторонней помощи. Это важно не только для мальчиков, но и для девочек. Недаром среди первых американских девушек, поступивших в Массачусетсский технологический институт, оказалось непропорционально много таких, кто в детстве имел тесные отношения с отцами.
Свои критические замечания в адрес ребенка отцы чаще склонны формулировать в более безличной и рациональной форме, подчеркивая механические или социальные последствия плохого (неправильного) поведения. Например, «если ты не хочешь делиться своими игрушками, не надейся найти друзей» или «если ты не хочешь делать свою долю работы, не проси меня о помощи», а с более старшим ребенком – «если ты будешь так поступать со своими учителями, ты никогда не найдешь работы». Подобная рациональность и отчужденность позволяют отцам выглядеть менее «манипулятивными», чем матери, которые чаще апеллируют к эмоциональным аргументам, типа «если ты меня не слушаешься, значит, ты меня не любишь» или «я тебя разлюблю». «Любить» и «слушаться» не одно и то же.
Чрезвычайно интересная тема – эмоциональная сторона отцовства, или отцовская любовь. Тема эта, конечно, не новая. Обсуждая проблемы родительства, психологи и антропологи всегда учитывали такой фактор, как эмоциональное тепло. Американский антрополог Роналд Ронер еще в 1960-х годах сформулировал концепцию, согласно которой психосоциальное развитие и функционирование ребенка во многом зависят от степени его принятия или отвержения родителями. Родители могут выражать свои чувства к ребенку четырьмя способами: 1) быть теплыми и внимательными, 2) враждебными и агрессивными, 3) безразличными и небрежными, 4) проявлять недифференцированное отвержение (например, ребенок чувствует, что родители не заботятся о нем и не любят его, хотя никаких явных, поведенческих доказательств родительского равнодушия или враждебности у него нет). Строго разграничить эти понятия трудно, но за 40 лет работы Ронер сумел собрать большой материал о существующих в этой сфере кросскультурных и иных вариациях (Rohner, 1975; Rohner, Veneziano, 2001). При этом сразу же возникла и проблема особенностей материнской и отцовской любви.
Традиционный канон отцовства выдвигал на первый план такие ценности, как властность и суровость. В описаниях и нормативных образах родительства отцовская власть часто выступает как антитеза и дополнение материнской любви. Однако, как было показано выше, реальные родительские практики в эту антитезу не вписываются. С ослаблением отцовской власти и дискредитацией поддерживавших ее телесных наказаний она стала и вовсе сомнительной. Эмпирические исследования показали, что отцовская любовь и тепло – гораздо более эффективные средства воспитания детей, чем строгость и телесные наказания (Rohner, Veneziano, 2001). Сравнение поведения отцов в разных странах и этнических группах показывает, что сама по себе физическая доступность отца значительно менее важна для ребенка, чем его тепло и сочувствие. В некоторых случаях наличие или отсутствие отцовского тепла предсказывает психологическое благополучие подростка даже точнее, чем наличие материнской любви (Veneziano, 2003).
От чего это зависит, и как отцовская любовь соотносится с материнской? Исследование репрезентативной выборки американских школьников 7—12-х классов, живущих в семьях с обоими родителями (база данных Add Health), выявило, что отношения с отцом оказывают существенное влияние на психологическое благополучие подростка независимо от его отношений с матерью. Вместе с тем отношения подростков с отцами более изменчивы во времени, чем отношения с матерями, а изменения в степени удовлетворенности подростка своими отношениями с отцом существенно влияют на его (ее) общее психологическое благополучие. Это доказывает, что отцовское влияние можно изучать и отдельно от материнского (Videon, 2005).
Тем не менее отцовская педагогика не является имманентным свойством маскулинности, а ее эффект зависит от множества условий. Двое вовлеченных в воспитание ребенка взрослых лучше, чем один, уже потому, что более разнообразные стимулы помогают формированию индивидуальности. Если родители принимают по отношению к ребенку менее стереотипные роли, это помогает ребенку усвоить менее стереотипное понимание мужских и женских ролей. Наконец, срабатывает семейный контекст: наличие второго родителя помогает обоим родителям делать то, что больше импонирует им самим, без оглядки на княгиню Марью Алексевну. Отец может удовлетворять свою потребность в близости с детьми, а мать – делать профессиональную карьеру, не боясь чего-то недодать ребенку. Родители дополняют друг друга не столько потому, что они персонифицируют разные гендерные роли, сколько потому, что у них разные индивидуальности.
Активная отцовская вовлеченность помогает более полной самореализации всех членов семьи. Психологические исследования показывают, что высокая отцовская вовлеченность существует лишь там, где она желанна и приемлема для других членов семьи. Отец не просто заполняет нишу маскулинности – «мужчина в доме», а проявляет себя как личность. Вынужденное участие в семейной жизни, воспринимаемое как жертва (хотелось бы поработать, но приходится сидеть с ребенком), может быть эффективно при решении бытовых проблем, но психологически оно не вознаграждается. Ребенок не пылесос и не стиральная машина. Точно такие же проблемы будут у женщины, которая жалеет, что жертвует ради детей своей профессиональной карьерой.
Отцовские практики и отцовскую заботу нельзя сводить к непосредственному уходу за детьми или общению с ними. Часто здесь присутствует очень важный непрямой эффект. Материальное содержание семьи – не только деньги, но и обеспечение эмоционального благополучия. Эмоциональное состояние матери так или иначе влияет и на ребенка. Важен общий климат в семье. В конфликтной семье дети всегда страдают. Это не всегда можно выразить статистически, но счастливая семья та, в которой хорошо всем, а не только отцу, матери или ребенку.
Одно из самых важных открытий современной психологии родительства (Lamb, 2004) сводится к тому, что материнское и отцовское влияние на детей не столько альтернативны, сколько кооперативны и дополняют друг друга.
Во-первых, вопреки предположениям многих психологов, различия между отцами и матерями менее важны, чем сходства, а механизмы их воздействия на детей одни и те же. Исследователи социализации последовательно убеждаются, что тепло, заботливость и близость одинаково благотворны для ребенка, независимо от того, практикует ли их отец или мать.
Во-вторых, индивидуальные свойства отцов, будь то маскулинность, интеллект или эмоциональное тепло, влияют на формирование ребенка значительно меньше, нежели свойства их взаимоотношений с детьми. Дети, у которых сложились надежные, поддерживающие, взаимные и эмоциональные отношения с родителями, имеют значительно больше шансов стать психически благополучными, чем те, у кого отношения с родителями, будь то мать или отец, холодные. Количество времени, проводимого отцами с детьми, менее важно, чем то, что они в это время делают и как эти отцовско-детские отношения воспринимаются другими значимыми людьми в их среде.
В-третьих, общий семейный контекст часто столь же важен, как и индивидуальные отношения внутри семьи. Вне этого контекста обсуждать отцовское влияние на детей невозможно. Супружеская гармония – постоянный спутник хорошей психологической адаптации ребенка, а конфликты и ссоры – корреляты психологического неблагополучия.
В-четвертых, отцы играют в семье множественные роли, и отцовский успех в каждой из них влияет на психологическое благополучие их детей.
В-пятых, природа отцовских влияний может существенно зависеть от индивидуальных и культурных ценностей. Классический пример – гендерные стереотипы. Если культура утверждает полярные каноны маскулинности и фемининности, требуется один тип воспитания, а если она считает мужские и женские роли гибкими и подвижными – другой. Как не существует одинаковых отцов, так не существует единой отцовской роли, к которой все отцы обязаны стремиться. Разные мужчины выполняют отцовские функции по-разному. Папы всякие нужны, папы всякие важны.
Степень и качество отцовского участия в воспитании детей зависят не только от социально-экономических условий, но и от психологических факторов, таких как мотивация, умения и уверенность в себе, а также от индивидуальных особенностей ребенка, включая его пол и темперамент, от наличия общественной поддержки (включая отношения с матерью ребенка и другими членами семьи), культурных влияний (включая идеологию отцовства и маскулинности), институциональных практик и социальной политики (например, государственной поддержки детей и родителей). Эти моменты автономны, но взаимосвязаны.
Практически все исследователи согласны с тем, что отцовская мотивация и определение сущности и задач отцовства больше зависят от субкультурных и культурных факторов, чем от индивидуальных качеств.
Многие мужчины формулируют свои отцовские цели в зависимости от собственных детских воспоминаний, стараясь подражать своим отцам или, напротив, исправлять их недостатки. Отцы часто признают, что просто получают удовольствие от общения с детьми, даже с непослушными и угловатыми подростками. Еще в 1970-х годах 40 % опрошенных американцев сказали, что хотели бы проводить со своими детьми больше времени, чем у них реально получается, но нормативные представления, согласно которым мужчина должен быть прежде всего кормильцем, предоставив эмоциональную заботу о детях женщинам, сковывают эти желания. В последние десятилетия эти барьеры снижаются.
В некоторых странах (первой это сделала в начале 1970-х годов Швеция) приняты специальные государственные программы, нацеленные на то, чтобы преодолеть мужские страхи и представления, будто активное отцовство несовместимо с маскулинностью. Тем не менее проблема остается острой. Число мужчин, берущих на себя главную ответственность за воспитание детей, во всем мире растет довольно медленно, особенно если сравнить это с темпами вовлечения женщин в общественный труд. Не оправдались и ожидания, что степень и тип отцовской вовлеченности в заботу о детях будут коррелировать у мужчин с маскулинностью или андрогинностью (см.: Pleck, 1997).
Кроме сильной мотивации, успешное отцовство предполагает наличие умения и уверенности в себе. Многие мотивированные отцы жалуются на свою неловкость и отсутствие навыков. Этот дефицит наверстывается отчасти практически, а отчасти специальными курсами подготовки молодых отцов. Помимо практических навыков, молодым отцам необходима тренировка эмпатии и сензитивности, способности адекватно воспринимать и различать исходящие от ребенка сигналы и правильно реагировать на них (матери делают это интуитивно).
Наконец, мужчина нуждается в социальной поддержке со стороны жены и других членов семьи. Индивидуальная интерпретация отцовской роли зависит не столько от общих биологических предпосылок, сколько от сознательной идентификации мужчины с ребенком и его матерью и от характера его последующих взаимоотношений с ними (Castelain-Meunier, 2002). Исследование 205 франко-канадских отцов детей-дошкольников (Bouchard et al., 2007) показало, что отцовская мотивация сильно зависит от того, чувствует ли мужчина, что его жена (партнерша) доверяет его родительским способностям и его мотивам, а это, в свою очередь, зависит от степени его вовлеченности в отцовские практики и получаемой от них удовлетворенности. Иными словами, молодого отца надо не ругать за неумелость и нежелание, а поощрять его успехи.
Между тем женские представления об отцовских возможностях меняются медленно. Воспитанные в традиционном духе матери ограничивают отцу доступ к маленькому ребенку, ссылаясь на его, отца, неумелость и на то, что это вообще «не мужское дело». Нередко за этим стоит ревнивое желание женщины сохранить за собой положение фактической главы семьи или, по крайней мере, ее главного менеджера, даже ценой принятия на себя лишней нагрузки. Абсолютизация и слишком жесткая дифференциация отцовских и материнских ролей объективно увековечивают традиционный гендерный порядок со всеми его социальными и психологическими издержками. Это не только сужает диапазон реальных отцовских практик, но и мешает формированию у отца привязанности к ребенку. Лонгитюдные исследования свидетельствуют, что такого рода конфликты плохо сказываются и на детях.
Все это тесно связано с институциональными практиками, например политикой предоставления отцам отпусков по уходу за детьми, регулированием рабочего времени и т. п.
В рамках новой парадигмы отцовства иначе ставится и вопрос о соотношении отцовского влияния и влияния сверстников. Традиционно родительское влияние и влияние отношений со сверстниками рассматриваются психологами как альтернативные и часто, особенно в подростковом возрасте, даже антагонистические, и для этого есть серьезные основания. Но есть другая сторона дела. Изучая, какую роль играют отцы в формировании отношений ребенка со сверстниками, американские психологи (Parke et al., 2004) нашли, что внутрисемейные отношения (отец – мать, отец – ребенок, мать – ребенок), внесемейные отношения (например, отношения отца с сослуживцами) и детские отношения с ровесниками – взаимозависимые, влияющие друг на друга системы. Отцы воздействуют на отношения детей со сверстниками тремя путями: а) посредством качества собственных отношений с ребенком, б) путем прямого совета и наблюдения и в) путем облегчения или ограничения общения ребенка со сверстниками. Отцовские практики и общение ребенка со сверстниками опосредствуются коммуникативными навыками ребенка и его представлениями о природе социальных отношений. А в формировании отцовских установок на сей счет важную роль играет прошлый и настоящий опыт общения отца со своими друзьями и товарищами.
Отцовские чувства и практики сильно зависят от собственного детского опыта мужчины. К сожалению, исследований семейной традиции как передачи отцовского опыта из поколения в поколение очень мало, хотя такая преемственность реально существует. Уникальное Гарвардское лонгитюдное исследование, продолжавшееся с конца 1930-х до конца 1980-х годов, объектом которого были четыре поколения мальчиков из одних и тех же семей (Snarey,1993), показало, что:
а) индивидуальный стиль отцовства сильно зависит от собственного опыта мужчины, от того, каким был его собственный отец,
б) этот опыт передается из поколения в поколение, от отца к сыну, внуку и дальше,
в) ответственное отцовство чрезвычайно благотворно как для сыновей, так и для отцов.
В передаче отцовского опыта задействован как механизм подражания (отец или дед как ролевые модели), так и критическая переработка отрицательного опыта (сын хочет быть лучше своего отца и избежать его ошибок). Это создает определенную амбивалентность. Изучение отцовских практик 152 американских супружеских пар показало, что те мужчины, которые в детстве были очень близки со своими родителями или, напротив, очень далеки от них, более положительно относились к отцовской вовлеченности, то есть в обоих случаях отцовство им было интересно (Beaton et al., 2003). Но снова возникают макросоциальные факторы: если все больше мальчиков вырастает без участия отцов, откуда у них возьмется положительный или отрицательный опыт, с которым они будут соотносить собственные отцовские ожидания и практики?
Современная социология и психология отцовства уделяют много внимания социально-экономическим, расовым, этническим и иным вариациям и группам, включая нетрадиционные и маргинальные формы отцовства: отцы, живущие отдельно от своих детей, приемные отцы, отцы-одиночки, отцы-геи. Это делает научные обобщения менее глобальными, зато более конкретными и реалистическими, позволяя выходить с определенными социально-политическими инициативами и программами.
Новые исследования отцовства не отменяют и не обесценивают старые, традиционные подходы. Мы видели выше, что на психику ребенка часто влияет не столько реальный, физически присутствующий отец, сколько воображаемый. Сейчас, когда многие дети реально живут без отцов, виртуальное отцовство стало еще важнее. Матери-одиночки часто сознательно дают своим детям героизированный образ отсутствующего отца, на которого те могут равняться, или дети сами придумывают такой образ. Иногда живым мифом становится и реальный отец, с которым ребенок по той или иной причине не может регулярно общаться.
Вот что ответил на вопрос корреспондента радио «Свобода», как повлиял на него отец – поэт Владимир Лифшиц, известный русский писатель, много лет назад эмигрировавший в США, Лев Лосев:
Я прямо ответить на этот вопрос не могу, потому что за исключением самого раннего детства, младенчества, у меня не было постоянного непосредственного общения с отцом. Моих родителей развела война. В конце 44-го года отец демобилизовался по ранению, вернулся, но со мной и с матерью прожил всего месяца четыре, потом я приходил к нему по воскресеньям, пока в 50-м году он не переехал в Москву. Он спасался от возможного ареста в Ленинграде, потому что он тогда был одним из ленинградских безродных космополитов. Так что видеться я с ним стал всего четыре-пять раз в год, когда ездил в Москву на каникулы и когда он приезжал в Ленинград. Наверное, благодаря той дистанции отец приобрел для меня почти мифические черты в моем детском сознании. Я мучался оттого, что никогда не смогу быть таким, каким бы он хотел меня видеть, то есть таким, как он, – что не вырасту таким же высоким, таким же мужественным, не научусь так же хорошо играть в пинг-понг или на бильярде. Не говоря уж о шахматах, в которых никогда ничего не понимал. Кстати, все так и получилось – я и ростом невысок, и играть ни на чем не умею. Но, главное, что я к этому недосягаемому идеалу отца тянулся. И если я не законченный негодяй сегодня, то благодаря, думаю, этому влиянию. Только когда мне уже было лет за 30, у нас с ним установились отношения, полные откровенности и взаимопонимания, но я уже тогда доживал последние годы в России, а он – на свете.
(Лосев, 2007)Таких признаний о влиянии физически отсутствующего, но духовно присутствующего отца всегда было много. К сожалению, психология этой идентификации, как и вообще виртуальное отцовство, изучена недостаточно.
Что отцовство дает мужчине?
Чтобы понять психологию отцовства, его нужно представить не только в контексте семейных отношений, но ив системе мужской идентичности. Вопрос «зачем ребенку нужен отец?» превращается в вопрос «зачем отцовство нужно мужчине?». Сколько-нибудь подробно разработанных и эмпирически доказанных психологических теорий, систематически описывающих трансформацию отцовских переживаний на разных фазах мужского жизненного пути, я не знаю, но отдельные аспекты и стороны этого процесса изучаются активно, а именно:
1) переживания, связанные с ожиданием ребенка,
2) непосредственное участие отца в родах,
3) субъективная значимость общения и взаимопонимания с ребенком,
4) ретроспективная оценка своих отцовских качеств, успехов и поражений и
5) широкий круг вопросов, который я условно называю символическим отцовством.
По всем этим вопросам современные мужчины существенно отличаются от прошлых, хотя здесь есть важные внеисторические и кросскультурные константы.
Ожидание и рождение ребенка
Что значит для мужчины ожидание ребенка, и как он реагирует на его появление на свет? В Новое время роды были для мужчины волнующим, но малопонятным событием, от которого его обычно держали в стороне. Субъективное отношение отца зависело, с одной стороны, от его чувств к матери ребенка (роды были опасным и мучительным процессом, к которому любящий мужчина не мог относиться равнодушно), а с другой – от того, был ли этот ребенок желанным. Если эти чувства совпадали, то есть если мужчина любил женщину и желал от нее ребенка, его переживания были сильными. Это хорошо показал Л. Н. Толстой:
«Событие рождения сына (он был уверен, что будет сын), которое ему обещали, но в которое он все-таки не мог верить, – так оно казалось необыкновенно, – представлялось ему, с одной стороны, столь огромным и потому невозможным счастьем, с другой стороны – столь таинственным событием, что это воображаемое знание того, что будет, и вследствие того приготовление как к чему-то обыкновенному, людьми же производимому, казалось ему возмутительно и унизительно».
(Л. Н. Толстой. «Война и мир». 1958. Т. 9. С. 183)Однако бывало и иначе.
От кувады до присутствия при родах. Интерлюдия
Разные культуры неодинаково символизируют и оформляют первые отцовские переживания. У многих, причем очень разных, народов мира существовал древний обычай кувады (от франц. couvade – высиживание яиц) – обрядовой имитации отцом акта деторождения во время родов жены или сразу после них. Отец ребенка симулирует родовые схватки, ложится в постель роженицы, принимает поздравления с благополучным исходом родов, нянчит ребенка и т. п. Кувада включает также множество приемов охранительной магии, направленных на обеспечение здоровья роженицы и младенца.
В наиболее чистой форме кувады супруг ведет себя как роженица и лежит в постели, а его жена после родов как можно скорее начинает хлопотать по хозяйству. Благодаря этому злые духи, которые якобы приходят, чтобы овладеть матерью или ребенком, встречают вместо них сильного мужчину и ретируются. Такая форма кувады зафиксирована у индейцев Калифорнии и Южной Америки, в Южной Индии, на Никобарских островах, в Малабаре, на островах Индонезии. Согласно Диодору Сицилийскому, она бытовала у древнего населения Корсики и Испании. Ее описывали Страбон и Марко Поло.
Самые изощренные приемы кувады описаны у гвианских индейцев. У них мать выполняла свои повседневные обязанности почти до самых родов, а в нужный момент вместе с другими женщинами уходила рожать в лес. Отдохнув несколько часов, она возвращалась домой и продолжала свою работу. Тем временем ее супруг ложился в хижине в ее гамак и отказывался от всякой пищи, кроме жидкой каши, ему нельзя было ни курить, ни мыться, и еще несколько недель после родов другие женщины племени нянчили его. В Южной Индии после родов супруг надевал на себя некоторые вещи из гардероба своей жены и ложился в постель в темной комнате, рядом с ним укладывали ребенка и вновь испеченному отцу обычно давали лекарства, какие дают роженицам для восстановления сил.
В более мягкой форме сходные обряды практиковались и у славян, включая русских (Баранов, 2004). Хотя обычно в крестьянском быту считалось, что «не место мужикам быть, где бабы свои дела делают», к родам это не относилось: присутствие мужа считалось желательным, а иногда и обязательным. Муж не только помогал жене, но и принимал на себя часть ее мук, стонал и кричал вместе с роженицей, не мог ни спать, ни есть, катался от боли по полу, изображая родовые муки. Один крестьянин Смоленской губернии настолько сильно стонал, бледнел и чернел как чугун, что его мать не знала, кого «рятовать» – сына или рожающую невестку. Нередко перед самыми родами мужу полагалось жаловаться на боли внизу живота и ломоту в спине: считалось, что мужнины «муки» снимают часть психологического напряжения жены. Иногда мужа обряжали в одежду и головной убор жены, что как бы сливало мужское естество с женским, требовали, чтобы он изо всех сил дул в пустую бутылку – имитировал потуги. Полагалось также мужу поить роженицу водой изо рта в рот, он садился в изголовье и держал голову жены у себя на коленях, крепко и долго целовал ее во время продолжительных схваток, обнимая сзади за плечи.
В дворянском сословии мужья доверяли всё «дохторам», предпочитая не слышать стонов жен и появляться, «когда все уже позади». Однако у крестьян такой обычай сохранялся долго.
Происходило это по-разному. В одних случаях мужчина просто изображал родовые муки, в других – по-настоящему страдал, в третьих – ему «помогали» испытать боль. Например, измученная схватками жена просит мужа передать ей валек, но, вместо того чтобы подложить его себе под спину, бьет им мужа, а на вопрос удивленного супруга, не рехнулась ли она часом, отвечает: «А тебе больно? От мени больно, хай и тоби так же будэ». Или повитуха обвязывает шелковой ниткой половые органы забравшегося на печь или на крышу мужика, а другой конец дает роженице; при каждой схватке та дергает за нитку и по этому импровизированному телеграфу ее боль передается супругу. Описан случай, когда роженица засунула в задницу уснувшего мужа колючего ерша, так что пришедшей бабке пришлось избавлять от боли их обоих (Кабакова, 2001. С. 66–69; Маховская, 2004).
Общепринятого объяснения кувады, которую европейская медицина назвала «сочувственной беременностью» (sympathetic pregnancy), не существует. В антропологической литературе 1970—1980-х годов преобладали теории психоаналитического происхождения: идентификация с зародышем; желание мужчины утвердить свои отцовские права на ребенка; зависть к женщине, которая может сделать нечто недоступное мужчине; способ разрешения мужского полоролевого конфликта, тем более что кувада больше распространена у народов с более гибкими установками гендерных ролей и относительно высоким социальным статусом женщин (Munroe, Munroe, Whiting, 1981). Поскольку у некоторых народов кувада практиковалась лишь при рождении первого ребенка, иногда ее рассматривают и как мужской обряд перехода, rite de passage, оформляющий превращение мужчины в отца (Баранов, 2004).
Однако сходные переживания испытывают и некоторые современные мужчины, без какой бы то ни было обрядовой символики. Обследование 282 будущих отцов в возрасте от 19 до 55 лет, чьи жены находились во время беременности под наблюдением госпиталя Лондонского университета, показало, что это вполне реальная проблема (Brennan et al., 2007). По некоторым данным, девять из десяти мужчин в той или иной степени испытывают хотя бы один из симптомов, связанных с признаками беременности, каждый пятый испытывал по этому поводу озабоченность. Один будущий отец сказал, что весь период беременности жены его мучил страшный, неутолимый голод: «Даже рано утром я вынужден был вставать и что-то себе готовить. Это было, по меньшей мере, странно». Другой отец заявил, что во время родов жены он испытывал боль в животе, которая была сильнее, чем у нее. Эти данные не уникальны. «Беременные» мужчины реально страдают от головокружений, тошноты, бессонницы, у них увеличиваются грудные железы, в отдельных, крайних, случаях наблюдался даже рост живота, как у женщины на седьмом месяце беременности, и прибавка в весе на 25–30 фунтов.
Эти факты заинтересовали не только психиатров, но и эндокринологов. Хотя отцы, казалось бы, не имеют ничего общего с беременностью, «синдром сопереживания», как его иногда называют, сопровождается определенными гормональными изменениями. Исследования, проведенные в канадском Queen's University, продемонстрировали, что по мере приближения срока рождения ребенка в организме будущих отцов происходят гормональные перестройки. Уровень выработки тестостерона мужским организмом выравнивается в последние три недели, предшествующие появлению на свет ребенка, и заметно увеличивается после его рождения. Уровень эстрогена у будущих отцов значительно выше, а уровень кортизола (гормон надпочечников, воздействующий на обмен веществ и играющий ключевую роль в защитных реакциях организма) – ниже, чем у контрольной группы. Может быть, кувада – крайний случай этого феномена, связанного с индивидуальными особенностями мужского организма и психики? Мужчины переживают рождение будущего ребенка по-разному, это может сказываться на их гормональном балансе, что, в свою очередь, вызывает психосоматические сдвиги (Brennan et al., 2007).
Подобные процессы не чужды и некоторым животным (Storey et al., 2000). Например, самцы мармозеток и игрунков – приматов, у которых функции, связанные с выращиванием детей, распределены между матерью и отцом, в ожидании потомства прибавляют до 20 % своего нормального веса, причем это не невротический, а биологически адаптивный процесс: лишний вес обеспечивает будущему отцу дополнительную энергию для выполнения новых обязанностей. Современному мужчине лишний вес явно не нужен, но мы не властны над своим филогенетическим наследием.
Параллельно соматическим изменениям происходят гормональные сдвиги. Недавние исследования показали, что мужчины и женщины имеют сходные стадиальные различия гормональной секреции, включая повышенную концентрацию пролактина и кортизола непосредственно перед родами и более низкое содержание половых стероидов (тестостерона или эстрадиола) в послеродовой период. Мужчины с симптомами кувады и мужчины, которые эмоциональнее других реагировали в эксперименте на плач младенца, имели более высокие уровни пролактина и большее постэкспериментальное снижение тестостерона (на 33 %), причем концентрация гормонов у партнеров коррелировала. У животных, не знающих отцовства, такой зависимости не обнаружено. Это позволяет предположить, что гормоны могут влиять на формирование у мужчин заботы о младенцах (Storey et al., 2000).
Когда исследователи просили родительские пары подержать в руках куклу, завернутую в одеяло, в которое перед этим в течение суток был завернут их младенец, отцы с высоким уровнем пролактина и низким уровнем тестостерона держали куклу дольше остальных. Они также сильнее реагировали на плач младенца и готовы были помочь ему (Delahunty et al., 2007). Это значит, что отцовские практики не столь «нейтральны» к биологии, как считалось раньше. Напомню, что отцы имеют существенно более низкие уровни тестостерона, чем неженатые или женатые, но бездетные мужчины (Gray et al., 2002; Gray et al., 2007). Так что здесь, как и во многих других ситуациях, социокультурные факторы переплетаются с биологическими.
В этом ключе нужно рассматривать и возникшую в 1970-х годах на Западе практику присутствия отцов при родах. Предполагалось, что она будет способствовать не только идентификации мужчины с женой, но и возникновению у него отцовской привязанности к новорожденному. Эта практика становится все более распространенной и в России под названием «семейные роды» (еще лет десять-пятнадцать назад это было немыслимо), которые официально разрешены приказом Минздрава РФ № 345 от 26. 11. 97 г. В одном из роддомов Санкт-Петербурга существует отделение «Семейные роды» и проводится даже групповая подготовка будущих пап: «Если будущий папа хочет помочь своей жене облегчить роды, мы расскажем, покажем и научим, как максимально эффективно можно это сделать». Новые отцовские практики хорошо описаны в диссертации Е. Ангеловой (Ангелова, 2005).
Для молодого отца присутствие при родах – очень сильное эмоциональное переживание.
Было трудно. Я ее держал каждую схватку, потому что нужно было принимать определенную позу, в которой было легче… Она вешалась мне на шею спереди, значит, стоя это все происходило, выгибалась так, и в мою задачу входило стоять ровно, несмотря на то что жена дергалась, держать ее за руки и успокаивать… Вот так примерно. «Всё, отдыхаем, отдыхаем. Женушка, ты умница. Классно все, молодец. Отдыхаем. Расслабься…..» Потом, когда пришло время тужиться, она говорила: «Не могу тужиться». А я говорю: «Можешь». Я в зеркало себя видел – я был весь красный. Я сам тужился так, что, не знаю, я был весь мокрый… Когда уже потуги закончились, и когда вышла головка, и надо было выдохнуть, мы выдохнули оба.
(Цит. по: Ангелова, 2005)А вот рассказ другого молодого человека:
Наконец, остались последние два рывка. Я увидел, как, под жуткое рычание-кряхтение Соньки, закончившееся таким криком, что Соня сорвала себе связки, из нее показалась сначала половина, а потом и вся головка ребятенка. Акушерка помогла ему вывернуться наружу… Первый крик!
И Я СТАЛ ПАПОЙ!!!!!!!!!
Порыв, эмоциональная волна захлестнула меня всего на пару секунд, когда я увидел своего сынишку в руках у акушерки. Сразу после этого кинулся фотографировать. Ближайшие полчаса я снимал, как моего сына обтирают, чистят его от слизи, моют. Изначально мне показалось, что младенец фиолетоватый. Я даже спросил, останется ли он таким. На что педиатр укоризненно сказала: «Что вы! Он же розовенький!» Забегая вперед, скажу: и правда розовенький.
…Последним впечатлением стал взгляд моего сыночка. Он не открывал глаза при мне почти все время, только иногда подглядывал, словно в щелку, пока ему наконец не пришли надевать памперс. Тут он проснулся, открыл опухшие веки и стал лупать глазами. МОИМИ глазами!
(А. Пушкарев)Что это дает с точки зрения формирования отцовской любви? Хотя «совместные роды» не творят тех чудес, которые им приписывали в 1980-х годах, часто они способствуют установлению психологической близости отца с женой и ребенком. Большинство из 53 присутствовавших при родах британских отцов оценили такой опыт положительно, но некоторым из них собственная роль в этом деле осталась неясна (Johnson, 2002). У некоторых мужчин вид крови и страдания жены вызывают не столько сочувствие, сколько отвращение, страх и брезгливость, которые могут отрицательно сказаться на последующей сексуальной жизни супругов. Иногда отцовская эмоциональная реакция протекает по типу кувады и становится настолько болезненной, что мужчине самому требуется психологическая и медицинская помощь. Психологи обсуждают в связи с этим проблему различия между простым присутствием отца при родах и его активным участием в них, когда идентификация с женой и ребенком гораздо глубже, а эстетические соображения отсутствуют, вытесняясь более острыми жизненными переживаниями. Е. Ангелова называет первое «ситуационным присутствием отца на родах» («Просто на месте событий был»), а второе – «гендерным проектом» («Надо участвовать во всем, что касается тебя»). Впрочем, не исключено, что дело не столько в наличии или отсутствии у молодых отцов соответствующей морально-психологической подготовки к родам, сколько в индивидуальных психофизиологических различиях.
Но вот ребенок появился на свет. Какое удовольствие получает отец от общения с ним? Однозначного ответа на этот вопрос нет. В уходе за младенцем мать явно имеет преимущества перед отцом (кормление грудью, повышенная эмоциональная чувствительность женщин и т. п.).
Когда эти половые различия рассматриваются в контексте ухода за неговорящим хрупким младенцем, женщины определенно имеют преимущество в том, что они легче читают выражение лица ребенка, более плавно двигаются, легче и нежнее прикасаются к нему и успокаивают его высоким, мягким, ритмическим голосом. Напротив, мужчине созвучнее взаимодействие со старшим ребенком, с которым легче и уместнее силовая возня, физическая координация и обучение манипулированию вещами. Заметим, однако, что эти общие тенденции, многие из которых усиливаются дифференцированной по полу практикой социализации, не должны восприниматься так, будто они биологически неизменны или инвариантны среди индивидов или культур. Одни культуры, как наша, могут усиливать, подкреплять эти предрасположения, тогда как другие – бороться с ними или даже переворачивать их.
(Rossi, 1984. С. 13)Как и другие аспекты гендерной дифференциации, родительское поведение чрезвычайно пластично даже у высших животных (Redican, 1976). Самцы макаки резуса в естественных местах обитания равнодушны к своим детенышам, но в лабораторных условиях, при отсутствии самок, они вполне «по-матерински» реагируют на плач младенцев и нежно заботятся о них. Та же картина наблюдалась в естественной среде у павианов: если мать по каким-то причинам не выполняет своих обязанностей, ее функции берет на себя взрослый самец.
Родительские реакции человека еще более пластичны.
По традиции отцы не осуществляют непосредственного ухода за новорожденными; активный контакт отца с ребенком обычно начинается, когда ребенку исполняется 1,5–2 года, а то и позже. Мужчина с рождением ребенка приобретает много неприятностей (дополнительные материальные заботы, бытовые обязанности вроде стирки пеленок, меньше внимания со стороны жены, нарушение сна и т. п.) и практически никаких удовольствий. Между тем экспериментально доказано, что психологически подготовленные отцы охотно любуются новорожденными, испытывают физическое удовольствие от прикосновения к ним (правда, это чаще происходит в отсутствие матери, так как мужчины боятся проявить неуклюжесть и стесняются собственной нежности) и практически не уступают женщинам в искусстве ухода за ребенком.
Включение отца в процесс физического общения с младенцем, от которого раньше мужчин всячески ограждали, может дать мужчине немалое удовольствие.
Носить младенца на руках, окружать его собой, помещать в укромную выемку между подбородком и грудью – ни с чем не сравнимое блаженство. Вдруг новая способность пробуждается в плоском мужском теле – втягиваться и углубляться, образуя полузамкнутое пространство, и тем самым отчасти испытать ощущение материнства.
(Эпштейн, 2003. С. 59)Конечно, такие переживания характернее для зрелого и тонко чувствующего мужчины, чем для впервые ставшего отцом 20-летнего юнца:
Скажу откровенно, э-э, Рома, то есть… это, для меня это было существо. Человеком он стал для меня, когда у него появились какие-то поступки свои. То есть вот когда он, там, засмеялся, заулыбался. Так он лежал, ну, как бы… особо сильных чувств я не испытывал. Ну, прошу прощения, для женщины это может звучать как это, э-э, ужасно – ну, лежит кусок мяса, который, ну то есть просто живая кукла.
(цит по: Ангелова, 2005)Рождение ребенка, особенно первого, сильно влияет на жизнь и самосознание мужчины. Прежде всего, у него появляется чувство взрослости и новая мужская идентичность, с которой отныне будут связаны все прочие компоненты его образа «Я». Серия глубинных интервью с 40 молодыми американцами выявила пять главных тем, связанных с этим событием (Palkovitz et al., 2001):
1. Остепенился, перестал быть ребенком, приобрел солидность – 45 %.
2. Уменьшилась эгоцентричность, стал больше давать, чем брать – 35 %.
3. Появилось новое чувство ответственности – 32 %.
4. Появилась генеративность (по Эриксону), забота о передаче чего-то потомству – 29 %.
5. Психологическая встряска – 29 %.
В то же время с отцовским статусом связаны многочисленные новые заботы и тревоги. Кроме тонких эмоциональных переживаний, которых молодые мужчины не в состоянии описать словами, возникает множество соображений практического свойства. Например, обследованные парни из Новгородской области воспринимают перспективу появления первенца как помеху в достижении материального благополучия (так ответили 25,4 % опрошенных) и в общении с друзьями (22 %); в то же время это событие ассоциируется с целым рядом положительных переживаний: укреплением брака (47,5 %), возможностью интересного полноценного досуга (28,8 %), реализацией себя как личности (30,5 %), уважением со стороны окружающих (28,8 %) (Архангельский, 2005). От того, какое из этих ожиданий окажется более весомым, будут зависеть их отцовские практики.
Солидные лонгитюдные исследования, например четырехлетнее исследование Национальным институтом психического здоровья США 300 пар, в которых оба партнера работают (Barnett, Rivers, 1998), демонстрируют, что под влиянием отцовства молодые мужчины существенно меняются. Первыми это замечают женщины. Самая распространенная характеристика: «он стал более ответственным». За нею следуют: «более терпеливым», «более ласковым», «более эмоциональным», «мягче», «нежнее», «более стабильным». Это, по-видимому, связано с гормональными изменениями, о которых говорилось выше.
Изменения сказываются и на мужском здоровье. Как и всё на свете, их влияние неоднозначно и зависит не столько от самого факта отцовства, сколько от конкретных отцовских практик и того, какое значение мужчина им придает. С одной стороны, ответственные, вовлеченные отцы чаще других испытывают усталость от работы, тревогу, головную боль, боли в позвоночнике и бессонницу. С другой стороны, они реже погибают от несчастных случаев и вообще преждевременной смертью, меньше пользуются наркотиками и реже попадают в больницу. Кроме того, они реже вступают в конфликт с законом, а производительность их труда увеличивается. Иными словами, ответственное отцовство повышает субъективное благополучие мужчины.
Изучение базы данных National Survey of Families and Households (выборка из 5 226 мужчин от 19 до 65 лет, с обширным материалом личных, семейных и социально-экономических историй) подтверждает и конкретизирует эти выводы. Сравнение бездетных мужчин, отцов, живущих вместе со своими детьми или отдельно от них, и приемных отцов показывает, что эти статусы статистически связаны с психическим здоровьем, социальными связями, межпоколенческими семейными отношениями и трудовым поведением мужчин, причем по всем этим параметрам отцы значимо отличаются от неотцов. Дело не в самом факте отцовства, а в характере отцовских практик. Сравнив количество времени, проводимого отцами с их детьми, с тем, как это время используется, исследователи нашли, что эти факторы положительно коррелируют с общим благополучием мужчин, причем такой эффект особенно значителен для мужчин, живущих вместе со своими детьми (Eggebeen, Knoester, 2001).
Другое лонгитюдное исследование на основе той же базы данных (выборка из 3 088 мужчин) выявило, что не только первые, но и последующие дети оказывают значительное воздействие на жизнь своих отцов (Knoester, Eggebeen, 2006). Отцовство побуждает мужчин активизировать свое взаимодействие с родственниками и членами семьи, тратить больше времени на сферу обслуживания и дольше работать за счет сокращения своего свободного общения. Это – очевидный минус. Но одновременно отцовство активизирует другие формы жизнедеятельности. Например, мужчины, живущие вместе со своими биологическими или приемными детьми, значительно чаще становятся членами различных клубов и организаций, связанных со школой. То есть дети служат своеобразным механизмом, который побуждает мужчин изменять круг своего общения и деятельности. Советские социологи Л. Гордон и Э. Клопов констатировали этот факт, разумеется без такой солидной статистики и применительно к родителям вообще, еще в начале 1970-х годов.
Напротив, бездетность, точнее, жизнь отдельно от детей – фактор скорее отрицательный. Традиционно родительство считается более важным фактором женской, нежели мужской жизни, поэтому исследователи мужского жизненного пути часто не принимали факт наличия или отсутствия детей во внимание. Новейшие исследования доказывают, что это мнение ошибочно. Родительский статус занимает в мужской жизни не меньшее, а подчас даже большее место, чем в жизни женщины. Американские данные говорят о том, что никогда не состоявшие в браке и ранее женатые, но бездетные мужчины имеют худшие показатели по состоянию здоровья и наличию потенциальной поддержки со стороны среды своего общения. Хотя в богатых западных странах с хорошей системой социального обеспечения старики практически не нуждаются в материальной помощи со стороны детей, международные данные (Survey of Health, Ageing, and Retirement – SHARE) по десяти странам, включая два скандинавских государства, показывают, что для болезненных старых людей дети остаются важнейшим потенциальным источником помощи. Опросное исследование жизненного пути пожилых людей в Амстердаме (661 человек) и Берлине (516 человек) показало, что мужчины, никогда не имевшие детей, имеют более узкий круг общения и меньшую удовлетворенность жизнью. Бездетные, то есть не имеющие живых детей, мужчины в Австралии, Финляндии, Германии, Японии, Нидерландах, Великобритании и США примерно равного возраста, социально-экономического статуса и уровня образования чаще других оказываются вовлеченными в нездоровое поведение (вроде курения и пьянства) и реже занимаются физическими упражнениями и иной полезной для здоровья деятельностью. Причем различия в родительском и/или брачном статусе, с точки зрения их влияния на здоровье, у мужчин больше, чем у женщин. Мужчины, свободные от брачных и родительских уз, лишены приносимых этими институтами защищающих здоровье факторов. Наличие детей также облегчает мужчинам вдовство (Dykstra, Wagner, 2007).
О положительном влиянии отцовства на мужчин говорят и отечественные данные. Сравнение 50 мужчин, имеющих детей, и 49 бездетных мужчин, выравненных по возрасту (29–32 года) и социальному положению, в городах Кемерово и Топки в 2002–2003 гг. показало, что мужчины-отцы более удовлетворены жизнью, более склонны к соблюдению социальных норм и правил поведения, менее склонны к риску, менее подозрительны, более терпимы, ответственны и практичны. Кроме того, обнаружена значимая связь между наличием детей и общей осмысленностью жизни, положительной оценкой ее результативности. Второй этап исследования, объектами которого были 45 отцов и контрольная группа из 50 бездетных мужчин, подтвердил, что «отцовство является фактором оптимизации личности отца» (Борисенко, 2007. С. 135).
Еще раз подчеркну: статистические корреляции ничего не говорят нам о причинно-следственных связях. Если бездетный мужчина имеет вредные привычки и более слабое здоровье, чем многодетный отец, это может быть следствием как того, что наличие детей удержало второго мужчину от опасных занятий, так и того, что первому мужчине слабое здоровье и вредные привычки помешали обзавестись потомством. Старая шутка, что холостяк живет как человек, а умирает как собака, а женатый – наоборот, родилась не без предпосылок. Социальная статистика – не урок семейных и каких-либо иных добродетелей. Однако установленные ею зависимости поучительны и заслуживают внимания.
Самый тонкий и сложный аспект этой темы – чего отцы ожидают от детей, и насколько оправдываются их ожидания.
В патриархальном обществе, где психологическая близость между отцом и детьми не предполагалась, многое казалось (хотя, конечно, не было) относительно простым. Если дети послушны и добросовестно выполняют отцовские наставления – папе не на что жаловаться. Но по мере увеличения различий между поколениями и одновременно – психологизации детско-родительских отношений на первый план выступают тонкие коммуникативные проблемы, к решению, а подчас даже к обсуждению которых стороны не готовы. Отцовство – не только социальный институт и индивидуальное чувство, но и коммуникативный феномен.
Сыновняя тоска по несостоявшейся близости с отцом и отцовская тоска по несостоявшейся близости с сыном, составляющие лейтмотив многих современных фильмов и литературных произведений, на самом деле не новы. Мужская потребность в общении с детьми уже в глубокой древности породила особый жанр литературы – отцовские наставления вроде притчей Соломоновых. Сочинения такого рода весьма многообразны. В одном случае это просто форма политического трактата, в другом – религиозно-нравственное поучение, адресатом которого мог быть не столько реальный, сколько воображаемый наследник. Такие наставления сочиняли не только цари. Декабрист А. Н. Муравьев (1792–1863) начал писать свое наставление сыну Михаилу, когда мальчику исполнилось два года. Религиозно-нравственное сочинение предполагалось дополнить подробным описанием жизни родителей со времени их знакомства, а также собственной жизни мальчика, но тот через год умер, и отцовское сочинение осталось незаконченным…
Иногда адресат мог быть одновременно реальным и воображаемым. Свои знаменитые «Письма к сыну» граф Честерфилд начал писать, когда его незаконнорожденному сыну Филипу было всего девять лет, они не предназначались для печати и были опубликованы лишь после смерти автора. Это очень интересный человеческий документ. Сначала идут сплошные поучения, но по мере взросления мальчика в них появляется настоящее чувство, отец искренне стремится превратить сына в своего друга: «Дай мне увидеть в тебе мою возродившуюся юность; дай мне сделаться твоим наставником» (Честерфилд, 1971. С. 231). Увы! Фактически он разговаривает с воображаемым собеседником. Даже о том, что сын был женат и имел двоих детей, граф узнал лишь после смерти Филипа. Физическое и социальное расстояние затрудняют интимную близость и даже делают ее невозможной. Вспомните цитированную выше рассказанную Монтенем трогательную историю запоздалых отцовских сожалений маршала де Монлюка.
Дефицит любви и эмоциональной близости друг с другом остро переживают и отцы, и дети, но раньше о таких чувствах говорить стеснялись, это казалось «немужским». Многие психологи объясняют эти трудности общей мужской «неэкспрессивностью», неспособностью выразить свои переживания в словах. Но не менее важен тот факт, что отношения между отцом и детьми складываются и, тем более, воспринимаются как властно-иерархические, а подобные отношения никогда не бывают особенно доверительными. Даже если мы уважаем своих начальников, откровенность с ними опасна. То же самое чувствуют и дети. Между ребенком и отцом сохраняется определенная дистанция, которую обе стороны не могут и не смеют преодолеть.
Особенно остро эта проблема стоит у мальчиков-подростков. Хотя отцы и дети предъявляют друг другу сходные требования, они часто понимают их неодинаково. Это сохраняется даже у взрослых. В одном американском исследовании 115 отцов и их взрослых сыновей спрашивали, насколько они эмоционально близки друг с другом. В целом, отцовские и сыновние оценки теплоты или холодности их взаимоотношений совпали, но отцы считали свое отношение к детям более теплым, чем казалось их сыновьям (Floyd, Morman, 2005). Отчасти это связано с тем, что сыновняя потребность в отцовской любви, как и все высшие потребности, практически ненасыщаема. Но за расхождением оценок стоят также нормативные ожидания.
Хотя дети хорошо знают своих родителей и умело пользуются их слабостями, социальный стереотип порой бывает сильнее личного опыта. В 1970-х годах, отрабатывая самооценочную методику для исследования юношеской дружбы, я просил детей своих друзей предсказать, как их оценят по определенному набору качеств папа и мама, а затем сравнивал их ожидания с реальными родительскими оценками. В семье Т. мама была строга и реалистична, папа же был настолько влюблен в сына, что видел в нем одни достоинства. Пятнадцатилетний Алик это отлично знал, но тем не менее ожидал от отца более критических оценок, чем от матери. Стереотип строгого и требовательного отца пересилил собственный жизненный опыт подростка. Так что подчас дети сами толкают отцов на путь авторитарности…
Отцы часто задаются вопросом, как говорить с детьми и «что нужно сказать сыну, если говорить нечего», связывая свои коммуникативные трудности с отсутствием собственного опыта.
У меня нет отца с 16 лет, и поэтому я не знаю, как себя должен вести настоящий отец со взрослым сыном: что он должен говорить, и вообще…
Мы часто ссоримся, а потом долго не разговариваем, каждый сам по себе. Он такой весь ершистый, отвечает односложно, резко. А был такой маленький-маленький, а потом вырос. Теперь вот сидит и дуется на меня.
А когда начинает говорить, то я тут же понимаю, что это не те слова, что та грубость, что слетает с его губ, не имеет никакого к нему отношения. Просто он не знает нужных слов. Надо же ему что-то говорить, вот он и говорит что попало. А так он меня любит, конечно. Они, нынешние, вообще лучше нас. Мы были злее.
А потом к нему приходят друзья. При друзьях он говорит со мной грубовато: «Когда приду, тогда и приду! Иду куда надо!» Я понимаю, что это все бутафория, что ему надо выделиться среди друзей, показать чего-то там. Я все понимаю, но мне обидно. Это похоже на предательство: пришел кто-то, а ты тут устраивал, согревал углы, а он пришел – и опять ветер по комнатам. Хотя, наверное, это не совсем предательство – никто же не рассчитывает на то, что он всю жизнь будет за нас цепляться, когда-то надо и самому совершать ошибки. Просто почему-то понимаешь, что комната может опустеть.
(Покровский, 2005)Многие типичные отцовско-детские конфликты, которые кажутся порождением современной социально-экономической ситуации (культ денег, ослабление семейных ценностей и т. п.), на самом деле вполне традиционны.
Сорокалетний инженер, вынужденный ради заработка работать строителем, обратил внимание на то, что его слова и мнения вызывают у пятнадцатилетнего сына снисходительную улыбку и вежливое: «Да, папа, в принципе и теоретически ты прав, но наше время вносит существенные коррективы в твои рассуждения» (цит. по: Подольский, Идобаева, Хейманс, 2004. С. 197–201). Причина обиды самая банальная: сыну потребовался мобильник. Отец пытался объяснить, что «не это главное в человеке». Не помогло, а подаренный мобильник бурного восторга не вызвал: «и модель телефона не особенно престижная, и цена соответственно невысокая».
Чувствуя, что у них c сыном разные жизненные ценности, отец упрекнул мальчика, что, когда он в отъезде, сын ему не пишет. На что мальчик «искренне так» ответил: «Папа, а о чем писать? Вы там зациклены на кирпичах, растворе, устаете. Живете на биологическом уровне: спать, работать, работать, спать. Какие высокие материи могут приходить в голову, чтобы их обсуждать? И вообще, в этой жизни добивается успеха не тот, кто пашет, а тот, кто удачно вписывается в систему, попадает в струю. А чтобы попасть в нее, надо учиться у удачливых людей, стремиться в их круг любой ценой. Сейчас главное в жизни – деньги. Будут деньги, будет все: и почет, и уважение, и положение в обществе… Я хочу прожить жизнь красиво, а потому буду придерживаться тех принципов, которые быстро ведут к успеху и процветанию».
На первый взгляд, конфликт сугубо современный, постсоветский. Но коллизии такого рода возникали и раньше. В доперестроечном фильме Владимира Меньшова «Розыгрыш» сын прямо заявил отцу, что жалеет его как неудачника, а отцу, которого блестяще играет Олег Табаков, это даже в голову не приходило.
Заболев, отец испытал новое разочарование. «Все больше непонимания во взаимоотношениях с сыном. За два месяца, что я находился в больнице, он приходил меня проведать всего два раза, да и то я почувствовал, что в этом больше заслуги жены: пришел, принес фруктов и пакет кефира и быстренько удалился». Со своей девушкой и сверстниками парню веселее, чем с отцом.
На первый взгляд, это типичный порок коммерциализированного, равнодушного поколения. Однако, немного подумав, мужчина вспомнил, что в юности сам был таким же. Когда его собственный отец слег с инфарктом в больницу, он его ни разу не проведал, а для самооправдания придумывал обиды на недостаточную внимательность со стороны отца:
«Это я понимаю теперь, когда и в моем сердце появилась щемящая боль от обиды за неблагодарность сына. Для чего я столько лет рвал жилы, строя хоромы для „новых русских“? Для того, чтобы одеть, обуть и обеспечить сыну жизнь не хуже, чем у других. А может быть, не нужно было так обращать внимание на материальную сторону жизни, а больше заниматься духовными проблемами? Это я сейчас мучаюсь вопросом, как надо было жить, а в молодые годы у меня сомнений не было, а была уверенность, что все делаю правильно».
Тема неосуществленной коммуникации и дружбы с отцом, которого мужчина не успел узнать, часто звучит и в сыновних воспоминаниях, особенно после смерти отца.
Отец лежал и задумчиво, загадочно смотрел перед собою.
Тёму потянуло к отцу, ему хотелось подойти, обнять, высказать, как он его любит, но привычка брала свое, – он не мог победить чувства неловкости, стеснения и ограничился тем, что осторожно присел у постели отца.
Отец остановил на нем глаза и молча, ласково смотрел на сына. Он видел и понимал, что происходило в его душе.
– Ну, что, Тёма, – проговорил он мягким, снисходительным тоном.
Сын поднял голову, его глаза сверкнули желанием ответить отцу как-нибудь ласково, горячо, но слова не шли на язык.
«Холодный я», – подумал тоскливо Тёма. Отец и это понял и, вздохнув, как-то загадочно тепло проговорил:
– Живи, Тема.
(Гарин-Михайловский. Детство Тёмы. 1977. С. 106)Я смотрю в его серо-голубые умирающие глаза. Мы смотрим друг на друга, запоминаем взгляд, лицо, которые унесем с собой в вечность, и я думаю: как бы мне хотелось, чтобы я знал его лучше, как бы хотелось, чтобы мы жили вместе, чтобы отец не был для меня такой совершенной и полной проклятой тайной…
(Уоллес, 2004. С. 183)Я их не судил, я просто не думал о них, с той самой поры, как начал думать. В переживаниях моих они занимали последнее место – после мальчиков и девочек, с которыми я учился, после книг, которые я читал. В конце концов, родители жили для меня, и, думая лишь о себе, я как бы послушно исполнял их волю. Я не замечал их так же, как собственного тела, когда оно не болит…
Я неплохо относился к родителям, но автоматически: как ешь, пьешь, передвигаешь ноги, живешь свою низшую телесную жизнь. И это самое ужасное: родители живут тобою как целью, а ты ими – как средством.
(Эпштейн, 2003. С. 160)Мы вообще мало разговаривали о том, что называют общими или вечными вопросами. Это было просто не принято в семье вчерашних крестьян и батраков. Могло быть и так, что, начни мы разговаривать, выяснилось бы, что мы чужие люди, и это разрушило бы нашу молчаливую родственную близость. И не так уж обязательна тогда эта надбавка к бытию? Не знаю. Но, так или иначе, я все больше с годами сожалею о тех, не случившихся разговорах.
[…]
Он, вероятно, как все почти отцы, ждал момента, когда я повзрослею, и со мной можно будет говорить на равных.
У него не было навыка отцовства… Я был, в сущности, первый ребенок, который рос на его глазах. Он растерялся. Когда у меня появились свои дети, выяснилось, что в наследство мне остался не опыт, который я бы мог перенять, а только эта растерянность отца.
Неблагодарность детей не имеет возрастного предела. Чувство вины, признательности и любви приходит с запланированным опозданием, после того, как самого предмета любви уже не стало.
(Крыщук, 2005)Вероятно, эта «немота» отчасти обусловлена общими мужскими коммуникативными трудностями, усугубляемыми ролевым расстоянием. Не случайно многие мужчины успешнее общаются с чужими детьми, чем со своими собственными.
Любители старины, не удосужившиеся ознакомиться с предметом своей любви, обычно представляют мужчину исключительно Воином. Но нормативный мужчина (в смысле – не простой крестьянин или ремесленник, а Мужчина с Большой Буквы) – также Пророк, Наставник, Учитель, и всё это разные ипостаси Отцовства в широком понимании этого слова.
Символическое отцовство, когда мужчина воспитывает «чужих» детей, существует везде и всюду, недаром слова «отец» и «учитель» близки по смыслу. Священнослужителей называют «отцами», а светским воспитанием мальчиков в прошлом занимались исключительно или преимущественно мужчины. Социальная потребность общества в мужчине-воспитателе материализуется в психологической потребности взрослого мужчины быть наставником, духовным гуру, вождем или мастером, передающим свой жизненный опыт следующим поколениям. А присущей зрелой маскулинности потребности, которую многие психологи, вслед за Эриком Эриксоном, называют «генеративностью», соответствует встречная потребность детей и подростков в мужчине-наставнике.
В традиционных обществах такие отношения так или иначе институционализировались, имели свою законную и даже сакральную нишу. В современные формально-бюрократические образовательные институты они не вписываются. Весь цивилизованный мир обеспокоен «феминизацией» образования и тем, как вернуть в школу мужчину-учителя. Но эти попытки блокируются:
а) низкой оплатой педагогического труда, с которой мужчина не может согласиться (для женщин эта роль традиционна и потому хотя бы неунизительна);
б) гендерными стереотипами и идеологической подозрительностью: «Чего ради этот человек занимается немужской работой? Не научит ли он наших детей плохому?»;
в) родительской ревностью: «Почему чужой мужчина значит для моего ребенка больше, чем я?»;
г) сексофобией и гомофобией, из-за которых интерес мужчины к детям автоматически вызывает подозрения в педофилии или гомосексуальности.
На самом деле диапазон возможных эмоциональных отношений между мужчинами и детьми очень широк. Для многих мужчин общение и работа с детьми психологически компенсаторны; среди великих педагогов прошлого было непропорционально много холостяков и людей с несложившейся семейной жизнью. Но «любовь к детям» не синоним педо– или эфебофилии; она может удовлетворять самые разные личностные потребности, даже если выразить их не в «высоких», вроде желания распространять истинную веру или научную истину, а в эгоистических терминах.
Один мужчина, сознательно или бессознательно, ищет и находит у детей недостающее ему эмоциональное тепло.
Другой удовлетворяет свои властные амбиции: стать вождем и кумиром подростков проще, чем приобрести власть над своими ровесниками.
Третий получает удовольствие от самого процесса обучения и воспитания.
Четвертый сам остается вечным подростком, которому в детском обществе уютнее, чем среди взрослых.
У пятого гипертрофированы отцовские чувства, собственных детей ему мало, или с ними что-то не получается.
Как бы то ни было, похоже на то, что многие мужчины чужих детей воспитывают (в смысле оказывают на них сильное влияние) успешнее, чем собственных. То ли потому, что наставничество увлекательнее, чем будничное отцовство, то ли потому, что трудно быть пророком в своем отечестве.
Здесь есть и гендерный аспект. Не смею ничего утверждать категорически, но из психологической, антропологической и художественной литературы у меня создалось впечатление, что символическое отцовство мужчины охотнее и успешнее практикуют с мальчиками, чем с девочками. Мужчина видит в мальчике собственное подобие и возможного продолжателя своего дела, а мальчики, в свою очередь, тянутся к мужчинам, видя в них прообраз собственного будущего и пример для подражания. Да и сам процесс общения между ними обычно опредмечен общими интересами и совместной деятельностью, что соответствует классическому канону маскулинности.
Напротив, реальные отцовские практики (с собственными детьми) успешнее с дочерьми, чем с сыновьями, и отношения отцов с дочерьми являются более нежными. В древнерусском тексте XIII в. говорится: «Матери боле любят сыны, яко же могут помагати им, а отци – дщерь, зане потребуют помощи от отец» (Пушкарева, 1997. С. 67). Во взаимоотношениях отца и сына, как во всех мужских отношениях, слишком многое остается невысказанным, а желанная эмоциональная близость блокируется властными отношениями и завышенными требованиями с обеих сторон. Напротив, дочь напоминает мужчине любимую жену, он не предъявляет к ней завышенных требований, чтобы она реализовала его собственные несбывшиеся ожидания, и не воспринимает ее как соперницу.
Гендерные различия накладывают отпечаток на родительские дисциплинарные практики. Имея дело с ребенком собственного пола, родители чувствуют себя более уверенно, помня, что они сами были когда-то такими же. Чувствуя это, дети понимают, что такого родителя труднее обмануть. Поэтому матери успешнее дисциплинируют девочек, а отцы – мальчиков. Отсюда и разная степень снисходительности: матери больше позволяют сыновьям, а отцы – дочерям. Мальчику легче ослушаться маму, а девочке – папу. Большая снисходительность благоприятствует развитию взаимной эмоциональной привязанности. Хотя на деле многое зависит от социального контекста и индивидуальных свойств детей и родителей.
Стили отцовства
По мере изменения общих социальных ценностей и структуры семьи меняется и стиль отцовства, включая способы воспитания детей. Этот процесс имеет два аспекта: ^соотношение инструментальных и экспрессивных функций и 2) гендерно-специфические стратегии дисциплинирования детей.
В первом аспекте особых подвижек не заметно. В середине ХХ в. Парсонс и Бейлз описали отцовскую роль в терминах инструментальных функций, таких как жизнеобеспечение, защита и дисциплинирование детей, в отличие от преимущественно экспрессивной материнской роли. За прошедшие 50 лет эта поляризация, как и поляризация мужского и женского начала вообще, заметно ослабела: от отцов все чаще ждут тепла и ласки, тогда как матери все чаще выполняют инструментальные функции. Тем не менее фундаментальные стилевые различия между ними сохраняются. Обследование этнически разнородной выборки из 1 989 американских студентов из полных семей и разведенных семей с одним родителем, которых просили ретроспективно оценить характер своих детских отношений с родителями, показало, что, хотя форма семьи и этнокультурные различия влияют на оценку, в целом во всех этнических группах и в обеих формах семьи отцы чаще оцениваются по инструментальным, чем по экспрессивным показателям. Из восьми предложенных отцовских функций семь оказались инструментальными (Finley, Schwartz, 2006). Данные по другим странам, которые я приводил выше, указывают в том же направлении. Вероятно, так будет и в дальнейшем, поскольку именно дифференциация интересов составляет психологическое ядро маскулинности и фемининности.
Значительно больше сдвигов в родительских стратегиях. В конце прошлого века в социально-педагогической литературе широкое распространение получила типология Дианы Баумринд, выделившей три главных стиля родительства (Baumrind, 1991):
1. Авторитарный стиль предполагает высокую требовательность, строгую дисциплину, насильственное принуждение ребенка к выполнению родительских предписаний и слабое внимание к собственным потребностям ребенка, который мыслится преимущественно как объект педагогического воздействия.
2. Авторитетный стиль больше апеллирует к собственному сознанию ребенка, давая простор развитию его индивидуальных способностей, при сохранении родительского контроля, формы которого меняются по мере взросления ребенка.
3. Пермиссивный, или снисходительный стиль предоставляет ребенку максимум свободы и самостоятельности, причем отсутствие контроля нередко оборачивается невниманием к ребенку (в духе экзистенциализма: свобода равняется заброшенности).
Если перевести это в философские термины, то авторитарный стиль – субъектно-объектное отношение, в котором ребенок преимущественно выполняет волю родителей, авторитетный стиль – субъектно-субъектное, партнерское, хотя и ассиметричное взаимодействие ребенка и родителей, а пермиссивный стиль делает субъектом ребенка, на поступки которого родители только реагируют.
Громадное количество психолого-педагогических исследований показало, что наиболее успешным, как с точки зрения формирования личности ребенка, так и с точки зрения поддержания хороших отношений ребенка с родителями, является авторитетное родительство (так думали и прогрессивные русские и советские педагоги и психологи). В последние годы возник вопрос, насколько правомерен этот вывод применительно не к индивидуалистическим, а к коллективистским культурам, отдающим предпочтение авторитарному воспитанию. Хотя вопрос этот, безусловно, требует специального изучения, эмпирические данные свидетельствуют о том, что авторитетный стиль воспитания имеет преимущества перед авторитарным не только на Западе, но ив коллективистских обществах (Sorkhabi, 2005), Например, в Китае семейная дисциплина гораздо строже, чем в США, тем не менее принуждение и телесные наказания и здесь способствуют росту детской агрессивности, причем не только у подростков, но у пятилетних детей (Nelson et al., 2006).
Это имеет непосредственное отношение к отцовству. Даже если не принимать во внимание психологические особенности мужчин, отец традиционно был, а кое-где и по сей день остается прежде всего властной фигурой и носителем авторитарного стиля воспитания. Мужчины чаще женщин выступают в защиту телесных наказаний и чаще фактически практикуют их. Между тем у детей это вызывает протест и агрессию, которая может быть направлена на кого угодно. Об этом свидетельствуют как мировые, так и отечественные исследования (см., например: Куфтяк, 2004). Пресловутая «неэффективность» отцовства связана прежде всего с авторитарностью и притязаниями на обладание властью, которой фактически уже нет. Нравится нам это или нет, правила игры в семье, как и в обществе, изменились, и отцы, не желающие этого видеть, создают дополнительные трудности самим себе, своим женам и детям.
Готовы ли отцы учиться?
Трудности и противоречия российского отцовства не являются чем-то исключительным, их нельзя решить путем «возвращения» к реальному или воображаемому прошлому. Даже если домостроевская модель была хороша для своего времени, сегодня она так же невозможна, как абсолютная монархия и крепостное право. «Кризис отцовства» – часть долгосрочного глобального процесса перестройки привычного гендерного порядка, структуры семьи и макросоциальных отношений власти.
Ответственному отцовству, как и всему остальному, нужно учиться. Вместо оплакивания «утраченной мужественности» и призывов «вернуть отца в семью» (сегодня в пору призывать к этому не только мужчин, но и женщин) нужно искать конкретные способы преодоления и минимизации порождаемых общественным развитием трудностей.
Одно из звеньев гендерной педагогики – подготовка мальчиков к усвоению отцовских ролей. В условиях преобладания малодетных семей и массовой безотцовщины, когда положительного личного опыта у многих мальчиков нет, это совершенно необходимо, но никаких стандартных рецептов на сей счет нет и быть не может. Попытки строить гендерное воспитание альтернативно, путем противопоставления отцовских свойств и функций материнским, принесут больше вреда, чем пользы. «Крутых мужиков» более или менее успешно, даже вопреки желанию учителей и родителей, формирует сама мальчишеская среда, а вот тонких и понимающих мужчин – нет.
Возможно, нужны какие-то игровые формы, способствующие эмоциональному развитию мальчиков, формированию у них эмпатии и т. п. Малодетность семьи может быть восполнена внесемейными разновозрастными детскими контактами. Плодотворной может быть работа мальчиков-подростков с младшими детьми. Положительный опыт такого рода в стране был, надо заново обдумать и оценить его.
В помощи нуждаются и взрослые мужчины. Я помню, как в 1970-х годах Московский райком партии Ленинграда однажды в воскресенье организовал семинар для обмена отцовским опытом. Партийные работники боялись, что дело сорвется, мужчины не придут. Но отцы пришли и долго не хотели расходиться. Оказалось, что многие отцы чувствуют свою некомпетентность и жаждут помощи, но для этого тоже нужен профессионализм.
Сегодня обмен отцовским опытом практикуют общественные организации и отдельные СМИ, вроде «Школы молодого отца» на радиостанции «Эхо Москвы» (Смирнов, 2006). Занимаются этим и некоторые семейные консультации. Интересные методики работы с отцами предлагает Ю. В. Борисенко (Борисенко, 2007. С. 184–196). Эту работу, безусловно, нужно расширять.
Индивидуальный стиль отцовства, как и маскулинности, не является делом свободного выбора, он коренится в глубинных свойствах личности. Профессиональная психологическая помощь не в том, чтобы навязывать всем одну и ту же модель поведения, а в том, чтобы помочь мужчине, который стал или готовится стать отцом, трезво оценить свои сильные и слабые стороны. Особенно необходимы консультации для социально неблагополучных отцов, образующих, как было показано выше, многочисленную группу риска. Общество должно тщательно изучать и поддерживать мужские инициативы, способствующие формированию ответственного отцовства, издавать больше книг и пособий для отцов. Необходимо использовать для пропаганды ответственного отцовства телевидение и интерактивный Интернет.
Хорошо, что наше государство начало материально стимулировать женщин к деторождению, но человеческое общество не животноводческая ферма, где самец выступает лишь в роли производителя. Укрепление института отцовства – не менее важное условие выживания нации, чем наличие денег. Добиться этого только с помощью абстрактных призывов и административно-силовых методов невозможно.
Подведем итоги.
1. Кризис отцовства, как и кризис маскулинности, – проявление глубоких закономерных изменений гендерного порядка. По законам эволюционной биологии родительский вклад мужчин всегда был значительно меньше женского. Традиционный нормативный канон отцовства, отцовство как социальный институт подразумевали прежде всего вертикаль власти в социуме и в семье. Социальное расстояние между отцом и детьми поддерживалось с помощью специальных ритуалов, правил избегания, передачи детей на воспитание в чужие семьи и т. д. Однако это не исключало многообразия реальных отцовских практик, обусловленных индивидуальными особенностями пары и ее социальной среды.
2. Социально-педагогические функции отцов (персонификация власти, кормилец, дисциплинатор, пример для подражания и непосредственный наставник сыновей в общественно-трудовой деятельности) менялись вместе с историческими условиями жизни и структурой семьи. В Новое время под влиянием ускорения темпов социального обновления и автономизации внесемейных институтов социализации властные функции отца постепенно ослабевают, а отцовско-детские отношения индивидуализируются и психологизируются. У отца становится меньше прав и больше обязанностей. Изменяются и образы отцов в художественной литературе.
3. Ослабление авторитарного отцовства – всемирно-исторический процесс, который происходит не только в Западной Европе, но, с некоторым хронологическим отставанием, и в России. Контраст между официальным нормативным авторитарным каноном отцовства и реальными отцовскими практиками наиболее образованных сословий порождает представление об имманентной слабости и несостояльности «русских отцов». Это противоречие ярко отражено и в русской классической литературе XIX в., в которой очень мало «нравоучительных» примеров эффективного и счастливого отцовства.
4. Постиндустриальное общество продолжило это линию развития. Демократизация общества, вовлечение женщин во внесемейный труд, признание прав ребенка и т. п. сделали авторитарное отцовство морально и психологически неприемлемым. Отец перестал быть единственным кормильцем семьи, но от него ждут, чтобы он проводил с детьми больше времени, был заботлив, нежен и т. д. Многие «новые мужчины» принимают это требование, но оно плохо совместимо с социально-экономическими реалиями. Хотя в среднем американские и европейские мужчины проводят со своими детьми больше времени и уделяют им больше внимания, чем в прошлом, эти внутрисемейные достижения на макросоциальном уровне перечеркиваются ростом числа разводов и количества детей, живущих отдельно от отцов (материнские семьи, незарегистрированные временные союзы и т. п.). В обществе растет количество холостяков, у людей заметно снизилась потребность в детях и т. д.
5. Все эти проблемы существуют и в России. Советская власть не только не устранила унаследованного от дореволюционного прошлого противоречия между идеализацией авторитарной власти и слабостью реального отцовства, но и усугубила его. Это противоречие существует и сегодня. Судя по данным массовых опросов, отцовство в России по-прежнему ассоциируется с материальным обеспечением, а гендерное равенство понимается формально. Консервативное сознание, ориентированное на возвращение к Домострою, и агрессивная маскулинная идеология только усугубляют социально-психологические трудности мужчин и женщин. Недаром в самых успешных российских фильмах последних лет («Возвращение» Андрея Звягинцева и «Отец и сын» Александра Сокурова) так пронзительно и трагично звучит мотив безотцовщины.
6. Проблематизация социальных функций мужчины в семье дает мощный толчок к изучению психологии отцовства. Современная семейная психология оставила далеко позади как старую недооценку отцовского влияния, так и наивные корреляционные исследования 1970—1980-х годов. Вопреки стереотипу, влияние матери и влияние отца на ребенка не альтернативны, а дополнительны. Однако методологически более сложные исследования зачастую приносят больше вопросов, чем ответов. Изучение конкретных отцовских практик и стилей отцовства заставляет нас разграничивать вопросы типа «что отец дает детям?» и «что отцовство дает мужчине?». Это позволяет разрабатывать социальную педагогику ответственного отцовства, которому многие молодые мужчины готовы добровольно учиться. Наряду с этим возникают и новые общетеоретические проблемы вроде символического отцовства: почему многие мужчины охотнее и успешнее воспитывают чужих детей, нежели своих собственных, и чем можно восполнить практическое исчезновение мужчины-воспитателя, без которого не существовало ни одно человеческое общество?
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Кого град молотит по голове, тому кажется, что все полушарие охвачено грозою и бурей.
МонтеньВ этой книге я хотел, опираясь на современные научные данные, 1) рассмотреть глобальные тенденции изменения нормативного канона маскулинности и гендерного порядка, в котором господствующая роль принадлежит мужчинам; 2) выяснить, как изменяются в связи с этим важнейшие свойственные (или приписываемые) мужчинам психологические черты, и 3) проследить, как эти процессы проявляются в современной России.
Мои основные выводы сводятся к следующему.
В мире происходит беспрецедентная, но подготовленная всем предшествующим развитием человечества глобальная ломка традиционной системы разделения общественного труда и прочих социальных функций и отношений власти между мужчинами и женщинами.
Во всех языках, мифологиях и культурах понятия «мужское» и «женское» выступают одновременно как взаимоисключающие противоположности («мужское» или «женское») и как взаимопроникающие начала, носители которых обладают разными степенями «мужеженственности». Тем не менее мужскому началу приписывают, как правило, более положительный и высокий статус. Эта логика присутствует и в научных описаниях маскулинности и фемининности. Сначала они казались взаимоисключающими, затем предстали в виде континуума, потом выяснилось, что маскулинные и фемининные свойства многомерны и могут у разных индивидов сочетаться по-разному, в зависимости как от природных, так и от социальных факторов.
В биологически ориентированной науке все различия между полами первоначально считались универсальными и выводились из обусловленного естественным отбором полового диморфизма. Однако многие особенности поведения и психики мужчин и женщин и общественное разделение труда между ними исторически изменчивы, их можно понять только в определенной системе общественных отношений. Чтобы точнее описать соответствующие процессы и явления, биологическое понятие «пола» было дополнено социологическими понятиями «гендер» и «гендерный порядок», которые подразумевают социальные, исторически сложившиеся отношения между мужчинами и женщинами.
Гендерные исследования, которые стали неотъемлемой частью и аспектом социологии, антропологии, истории и других наук о человеке и обществе, занимаются прежде всего общественным разделением труда, властными отношениями, характером общения между мужчинами и женщинами, гендерным символизмом и особенностями социализации мальчиков и девочек. Хотя в трактовке этих явлений многое остается спорным, накопленный багаж знаний свидетельствует о плодотворности междисциплинарных поисков.
Для понимания биосоциальной природы маскулинности особенно важен феномен гендерной сегрегации и гомосоциальности. Самцовые коалиции и группы как средства поддержания иерархии и разрешения внутригрупповых и межгрупповых конфликтов существуют уже у некоторых животных, включая приматов. У человека они превращаются в закрытые мужские дома и тайные союзы, имеющие собственные ритуалы и культы. В ходе исторического развития гендерная сегрегация ослабевает или видоизменяется, но по мере исчезновения или трансформации одних институтов мужчины тут же создают другие, аналогичные. Это способствует поддержанию гендерной стратификации и психологии мужской исключительности.
Хотя нормативный канон маскулинности, как правило, изображает «настоящего мужчину» неким несокрушимым монолитом, этот образ имманентно противоречив. Мужчина противопоставляется женщине, с одной стороны, как воплощение сексуальной силы (фаллоцентризм), а с другой – как воплощение разума (логоцентризм). Однако эти начала противоречат друг другу и нередко персонифицируются в разных культах и типах личности. Свойства «идеального мужчины» так или иначе соотносятся с исторически конкретными социальными идентичностями (воин, жрец, землепашец и т. п.). Поэтому наряду с общими, транскультурными чертами маскулинности каждое общество имеет альтернативные модели маскулинности, содержание и соотношение которых может меняться.
В основе традиционного образа «настоящего мужчины» лежит идея гегемонной маскулинности, или маскулинная идеология, утверждающая радикальное отличие мужчин от женщин и право «настоящих» мужчин властвовать над женщинами и над подчиненными «ненастоящими» мужчинами. У этой идеологии глубокие биоэволюционные корни (доминирующий самец имеет репродуктивные преимущества перед более слабыми и зависимыми). Она господствует в любых спонтанных мальчишеских сообществах, в которых формируется мужская идентичность. Тем не менее она часто оказывается социально и психологически вредной, дисфункциональной.
«Кризис маскулинноси», о котором много говорят и пишут начиная с последней трети XX века, – прежде всего, кризис привычного гендерного порядка и традиционной маскулинной идеологии, которая перестала соответствовать изменившимся социально-экономическим условиям и создает социально-психологические трудности как для женщин, так и для самих мужчин. По всем главным макросоциальным осям (общественное разделение труда, политическая власть и гендерная сегрегация) позиционные, социально-ролевые различия между мужчинами и женщинами резко уменьшились в пользу женщин.
В доиндустриальном и индустриальном обществе «война полов» шла на индивидуальном уровне, но социальные рамки этого соперничества были жестко фиксированы. Мужчины и женщины должны были «покорять» и «завоевывать» друг друга, используя для этого веками отработанные гендерно-специфические приемы и методы, но сравнительно редко конкурировали друг с другом на макросоциальном уровне. Соперником мужчины был другой мужчина, а соперницей женщины – другая женщина. Сегодня в широком спектре общественных отношений и деятельностей мужчины и женщины открыто конкурируют друг с другом.
В сфере трудовой деятельности и производственных отношений происходит постепенное, но ускоряющееся разрушение традиционной системы гендерного разделения труда, ослабление дихотомизации и поляризации мужских и женских социально-производственных ролей, занятий и сфер деятельности.
Женщины постепенно сравниваются с мужчинами, а то и превосходят их по уровню образования, от которого во многом зависят будущая профессиональная карьера и социальные возможности.
Мужчины утрачивают монополию на политическую власть. Всеобщее избирательное право, принцип гражданского равноправия, увеличение номинального и реального представительства женщин во властных структурах – общие тенденции нашего времени.
В том же направлении, но с еще большим хронологическим отставанием и количеством этнокультурных вариаций эволюционируют брачно-семейные отношения. В современном браке гораздо больше равенства, понятие отцовской власти все чаще заменяется понятием родительского авторитета, а справедливое распределение домашних обязанностей становится одним из важнейших условий семейного благополучия. Психологизация и интимизация супружеских и родительских отношений, с акцентом на взаимопонимание, несовместимы с жесткой дихотомизацией мужского и женского.
Существенно изменился производный от социальной структуры общества характер гендерной социализации детей. Более раннее и всеобщее школьное обучение, без которого невозможно подготовить детей к предстоящей им сложной общественно-трудовой деятельности, повышает степень влияния общества сверстников по сравнению с влиянием родителей, а совместное обучение по общим программам подрывает гендерную сегрегацию, создает психологические предпосылки для более равных и кооперативных отношений между взрослыми мужчинами и женщинами и делает проблематичными привычные представления о гендерных различиях способностей и интересов.
Изменения в содержании и структуре гендерных ролей преломляются в социокультурных стереотипах маскулинности и фемининности, представлениях мужчин и женщин друг о друге и о самих себе. Хотя массовому сознанию нормативные мужские и женские свойства часто по-прежнему кажутся альтернативными и взаимодополнительными, принцип «или-или» уже не является безраздельно господствующим. Многие социально-значимые черты и свойства личности считаются гендерно-нейтральными или допускающими существенные социально-групповые и индивидуальные вариации.
Масштабы, темпы и глубина изменения гендерного порядка и соответствующих ему образов маскулинности очень неравномерны а) в разных странах, б) в разных социально-экономических слоях, в) в разных социально-возрастных группах и г) среди разных типов мужчин. Тем не менее ломка традиционного гендерного порядка закономерна и необратима. Ее причиной является не феминизм, а новые технологии, которые делают природные половые различия менее значимыми, чем раньше.
Ослабление поляризации гендерных ролей не устраняет гендерных и половых различий в социальной сфере, особенно в такой чувствительной области, как соотношение производственных и семейных функций. Отчасти эти различия коренятся в биологии (женский родительский вклад больше мужского и требует больших усилий и временных затрат; если женщины от этих функций откажутся, человечество вымрет), отчасти – в унаследованных от прошлого социально-нормативных ограничениях и в привычных стереотипах массового сознания, как мужского, так и женского. Тем не менее ведущими процессами стали индивидуализация и плюрализация, позволяющие людям выбирать стиль жизни и род занятий безотносительно к их половой/гендерной принадлежности, в соответствии с привычными социально-нормативными предписаниями или вопреки им, и общество вынуждено относиться к этому индивидуальному выбору уважительно.
Ломка традиционного гендерного порядка порождает многочисленные социально-психологические проблемы и трудности, причем мужчины и женщины испытывают давление в противоположных направлениях. Вовлеченные в общественное производство и политику женщины вынуждены развивать в себе необходимые для конкурентной борьбы «мужские» качества (настойчивость, энергию, силу воли), а мужчины, утратив свое некогда бесспорное господство, – вырабатывать традиционные «женские» качества (способность к компромиссу, эмпатию, умение ставить себя на место другого). Ничего особенного или сверхъестественного в этом нет, то же самое происходит в сфере межнациональных и межгосударственных отношений, где принцип господства и подчинения постепенно уступает место отношениям осознанной взаимозависимости. Тем не менее на почве нормативной неопределенности часто возникают конфликты, которые могут быть практически решены лишь на макроуровне межличностных отношений.
Поскольку движущей силой этих перемен являются женщины, сдвиги в их социальном положении, характере жизнедеятельности, уровне притязаний и самосознании опережают соответствующие изменения в поведении и психике мужчин. Некоторые мужчины воспринимают происходящие перемены с тревогой или агрессивно. Как сами мужчины, так и их реакции неодинаковы и варьируют от воинствующего традиционализма и моральной паники до свободного принятия новых социокультурных и психологических реалий, в зависимости от социально-групповых и индивидуально-личностных особенностей.
Результаты многочисленных массовых опросов и иных социологических исследований в странах Западной Европы и Америки показывают, что ни единого мужского стиля жизни, ни единого канона маскулинности там сегодня не существует. Несмотря на противоречивость своих ценностей и взглядов, западноевропейские мужчины во все большей степени ориентируются на принцип гендерного равенства. И хотя для многих этот выбор вынужденный, а некоторые конкретные проблемы остаются спорными и решения не имеют, какой-либо ущербности своего гендерного статуса мужчины не ощущают. Тем более что по многим существенным параметрам мужской статус все еще остается привилегированным.
В России количество исследований и надежных эмпирических данных значительно меньше. Тем не менее сравнение результатов а) массовых опросов общественного мнения, б) качественных гендерных исследований и в) представленных в российских СМИ образов маскулинности показывает, что направление трансформации маскулинности и связанные нею проблемы в России принципиально те же, что и в странах Запада. Однако российское гендерное сознание, как мужское, так и женское, значительно более консервативно; принцип гендерного равенства чаще принимается на словах, чем на деле, нередко он вызывает откровенный скепсис; расхождение мужских и женских социальных ожиданий и предъявляемых друг другу требований здесь больше, чем на Западе; системное недопонимание социального характера гендерных проблем сочетается с сильной переоценкой возможностей государственной власти в их решении. В ходе социальных трансформаций последних двух десятилетий в российском каноне маскулинности сформировались две противопожные тенденции: с одной стороны, признание своей мужской несостоятельности («несостоявшаяся маскулинность», выученная беспомощность и т. д.), а с другой – усиление агрессивной маскулинной идеологии, чему способствуют поддерживаемое в обществе состояние морально паники и идеализация исторического прошлого. Это создает российским мужчинам дополнительные социально-психологические трудности, поскольку в долгосрочной исторической перспективе ни у России, ни у «мужского сословия» свободы выбора нет.
Изменения гендерного порядка и канона маскулинности тесно взаимодействуют с психологическими свойствами мужчин. Сравнительное изучение мужских и женских способностей и интересов, агрессивности и соревновательности, сексуальности, образа тела, самоуважения и здоровья давно уже привлекают внимание ученых, но серьезные психологи очень осторожны с обобщениями. По мере прогресса научных исследований выявляется все больше половых и гендерных различий, но эти различия а) часто статистически невелики, б) их влияние на социальное поведение мужчин и женщин неясно или проблематично, в) их формирование и проявления зависят не только от нашего эволюционного наследия, но и от социокультурных условий и характера деятельности индивида, г) индивидуальные различия между мужчинами и женщинами, как правило, больше, чем групповые раличия между полами. Современное сближение характера деятельности мужчин и женщин делает поляризацию их психических черт и способностей, по принципу «или-или», значительно более проблематичной, чем когда-либо раньше. Поэтому число суждений, которые считаются научно достоверными, сегодня значительно меньше, чем было 35 лет назад, не говоря уж о XIX веке.
В сфере когнитивных процессов мужчины значительно опережают женщин по ряду пространственных способностей, тогда как женщины имеют преимущества в вербальной сфере. Но по большинству когнитивных способностей гендерные различия статистически невелики, так что в принципе мужчины и женщины могут одинаково успешно заниматься любой деятельностью. Кроме того, способности и одаренность тесно связаны с мотивацией, которая всегда зависит от социальных условий и воспитания. Наиболее выраженные и исторически стабильные, несмотря на все социальные сдвиги, различия между мужчинами и женщинами наблюдаются в выборе занятий и направленности интересов. Современные мужчины, как и прежде, имеют более «вещные», технические интересы и хобби, тогда как женщин больше занимают человеческие отношения. Это сказывается и в сфере профессионального разделения труда. Однако по мере ослабления гендерной сегрегации в труде и общественной жизни мужчинам и женщинам приходится существенно обогащать свой когнитивный и коммуникативный репертуар, заимствуя или формируя черты и свойства, которые еще недавно считались исключительной привилигией (или недостатком) противоположного пола.
В сфере эмоций половые различия кажутся более выраженными, чем в умственных способностях, но эмоциональные реакции тесно связаны с языком и гендерными особенностями эмоциональной культуры (как и какие именно чувства мужчинам положено или не положено проявлять).
Повышенная агрессивность и соревновательность мужчин – одна из самых заметных и устойчивых транскультурных и кроссвидовых констант маскулинности, обусловленная также и гормонально. Но и здесь приходится говорить не столько о количественных, сколько о качественных различиях. Проявление агрессии – не просто эмоциональная разрядка, а определенная поведенческая стратегия. Сравнительное изучение агрессивного поведения человека и приматов выявило наличие сложного взаимодействия целой совокупности межгрупповых, внутригрупповых и индивидуальных факторов. Это верно и в отношении таких традиционно маскулинных черт, как соревновательность и любовь к новизне и риску. Сближение характера деятельности и мотивации мужчин и женщин не отменяет природных различий между ними, но сильно ослабляет социальные тормоза и формы контроля, позволяя индивидам проявлять качества, которые раньше считались гендерно несоответствующими (например, открытая агрессия у женщин). Некоторые психические свойства перестают ассоциироваться исключительно с полом и воспринимаются скорее как личностные черты.
Это имеет и общетеоретический смысл. Нормативный канон маскулинности как элемент культуры не имеет ничего общего с индивидуальными свойствами, тем не менее он подразумевает определенный психофизиологический тип. Преимущественная ориентация на ценности гегемонной маскулинности ставит в неравное положение индивидов, обладающих или не обладающих соответствующими задатками. Напротив, нормативный плюрализм благоприятствует самореализации мужчин, имеющих склонность к разным формам жизнедеятельности, разным способам решения конфликтов и т. п. Нормативная переориентация непосредственно связана с пересмотром общих критериев социальной успешности, сравнительной ценности физической силы и интеллекта и т. д., что выходит далеко за пределы гендерной проблематики.
Самые большие биологически обусловленные гендерные различия существуют в сфере сексуальности. Несмотря на все сдвиги, принесенные сексуальной и гендерной революцией XX века, мужская сексуальность остается значительно более экстенсивной, безличной и инструментальной, нежели женская. «Сексуальная сила» и то, с чем она ассоциируется, остаются главными мужскими фетишами. Однако и здесь происходят изменения. Многие эмансипированные женщины успешно осваивают «мужские» сексуальные стратегии и стили поведения, тогда как мужчинам, которые уже не могут просто «завоевывать» или покупать женщин, приходится учиться тонким коммуникативным навыкам и эмпатии. Среднестатистические показатели для клиники и консультативной службы практически бесполезны. Подобно другим наукам о человеке, современная сексуальная медицина все больше ориентируется не столько на «пол», сколько на индивидуальность своих клиентов и пациентов.
Аналогичные перемены происходят в психологии телесности. Тот факт, что мужское тело стало более открытым и чаще выставляется напоказ, дает мужчинам дополнительную свободу и повышает уровень их рефлексивности. Но объективация мужского тела одновременно сталкивает мужчин с целым комплексом проблем и трудностей, которые раньше считались исключительно или преимущественно женскими, начиная с элементарной заботы о своей внешности и кончая такими психическими заболеваниями, как дисморфобия, нервная анорексия и т. п. И здесь мужчинам нужна профессиональная психологическая помощь.
Все личностные психологические проблемы замыкаются на самоуважении. Однако о самоуважении взрослых мужчин и женщин крайне мало достоверных научных данных. По большинству критериев как частные самооценки, так и общее, глобальное самоуважение у мужчин выше, чем у женщин, что дает мужчинам определенные социальные преимущества. Но полезная уверенность в себе часто оборачивается у мужчин и мальчиков необоснованной самоуверенностью, завышенной самооценкой, а то и просто средством психологической самозащиты. Чем сложнее и рискованнее мир, в котором мы живем, тем больше издержки такой ориентации. Ставя перед собой заведомо не осуществимые задачи (гегемонная маскулинность обязывает мужчину быть первым везде и во всем), мужчина сплошь и рядом терпит поражение, в результате чего ощущает свою маскулинность несостоявшейся и ищет выход в пьянстве, агрессии или самоубийстве. Кто может и должен ему помочь?
Трудности и противоречия мужской психологии наглядно фокусируются в проблемах мужского здоровья. Представление о мужчинах как о «сильном поле» находится в противоречии с низкой продолжительностью мужской жизни. Хотя мужская сверхсмертность – феномен биологический, это также и социальная проблема. Мужчина не только зачинает детей, но и производит материальные и духовные блага, причем эта его деятельность продолжается значительно дольше, чем его репродуктивная активность, а его вклад в нее, вероятно, выше женского (хотя его трудно измерить). Общество обязано заботиться о поддержании мужского здоровья не только из гуманитарных соображений, но и ради собственного самосохранения. Между тем один из социальных факторов мужского (не)здоровья – именно гегемонная маскулинность, или традиционная маскулинная идеология: не обращаться к врачу, не признавать своих слабостей, избегать самораскрытия и т. д. В России, которая стала едва ли не чемпионом мира по избыточной мужской смертности, все эти проблемы и трудности возведены в степень. Кто должен об этом думать?
Мужчина живет не сам по себе и не только для себя. Одна из главных мужских идентичностей и ипостасей – отцовство. Недаром любой разговор о кризисе маскулинности завершается диспутом о кризисе отцовства.
По законам эволюционной биологии мужской родительский вклад значительно меньше женского. Традиционный нормативный закон отцовства подразумевал не столько физический уход и заботу о детях (эти занятия всюду считаются женскими), сколько вертикаль власти в социуме и в семье.
Социальное расстояние между отцом и детьми нередко поддерживалось с помощью специальных ритуалов, правил избегания, передачи детей на воспитание в чужие семьи и т. д. Однако жесткие социальные нормы не исключали многообразия реальных отцовских практик, обусловленных индивидуальными особенностями конкретного мужчины и его микросреды.
Содержание и соотношение социально-педагогических функций отца (персонификация власти, кормилец, дисциплинатор, пример для подражания и непосредственный наставник сыновей в общественно-трудовой деятельности) изменялись вместе с историческими условиями и структурой семьи. Это очень длительный и противоречивый процесс. В Новое время под влиянием ускорения темпов социального обновления и автономизации внесемейных институтов социализации властные функции отца ослабевают, а отцовско-детские отношения индивидуализируются и психологизируются. У отца становится меньше прав и больше обязанностей. Изменяются и образы отцов в художественной литературе.
Ослабление авторитарного отцовства происходит не только в Западной Европе, но, с некоторым хронологическим отставанием, и в России. Контраст между суровым официальным нормативным каноном отцовства и реальными отцовскими практиками наиболее образованных сословий в России XIX в. был настолько кричащим, что породил представление об имманентной слабости и несостоятельности «русских отцов». Это противоречие отражено и в русской классической литературе, содержащей мало «нравоучительных» примеров эффективного и счастливого отцовства.
Постиндустриальное общество продолжило эту линию развития. Демократизация общества, вовлечение женщин во внесемейный труд, признание прав ребенка, осуждение телесных наказаний и т. п. сделали авторитарное отцовство морально и психологически неприемлемым. На первый план вышли новые требования. Во второй половине ХХ в. отец перестал быть единственным кормильцем семьи, зато от него ждут, чтобы он проводил с детьми больше времени, был заботлив, нежен и т. д. Многие «новые мужчины» принимают эти требования, но они плохо совместимы с социально-экономическими реалиями. Хотя в среднем американские и европейские отцы проводят с детьми больше времени и уделяют им больше внимания, чем в недавнем прошлом, на макросоциальном уровне эти внутрисемейные достижения перечеркиваются ростом количества разводов и числа детей, живущих отдельно от отцов (материнские семьи, незарегистрированные сожительства и союзы и т. п.). Растет количество холостяков, у многих мужчин и женщин заметно снизилась потребность в детях, нестабильность брака увеличивает социальную безотцовщину, а желание отцов материально обеспечить семью сокращает время, проводимое ими с детьми. Многие из этих проблем не имеют простых решений и вызывают серьезную озабоченность.
Все эти проблемы актуальны и для России. Советская власть не только не устранила унаследованного от дореволюционного прошлого противоречия между идеализацией авторитарной власти и слабостью реального отцовства, но и усугубила его. Этот ценностный конфликт существует и сегодня. Согласно данным массовых опросов, отцовство в России по-прежнему ассоциируется прежде всего с материальным обеспечением, а гендерное равенство понимается формально. Взаимные жалобы и обвинения разочарованных мужчин и женщин порождают в обществе раздражение. Ориентированное на возвращение к Домострою консервативное сознание и агрессивная маскулинная идеология лишь усугубляют эти социально-психологические трудности. В самых успешных российских фильмах последних лет – «Возвращение» Андрея Звягинцева и «Отец и сын» Александра Сокурова – особенно пронзительно звучит мотив безотцовщины. В то же время среди более образованных российских мужчин наблюдается рост интереса к отцовству, широко обсуждаются новые отцовские практики, включая участие в родах и т. п.
Проблематизация социальных функций мужчины в семье дает мощный толчок изучению психологии отцовства. Современная семейная психология оставила далеко позади как старую недооценку отцовского влияния, так и наивные корреляционные исследования 1970—1980-х годов. Хотя методологически более сложные исследования зачастую приносят больше вопросов, чем ответов, доказано, что, вопреки стереотипу, влияние отца и влияние матери на ребенка не альтернативны, а дополнительны. Появилось много серьезных исследований конкретных отцовских практик и стилей отцовства. Разграничение вопросов типа «что отец дает детям?» и «что отцовство дает мужчине?» помогает разрабатывать социальную педагогику ответственного отцовства, причем многие молодые мужчины готовы добровольно ему учиться. Наряду с этим возникают и новые общетеоретические проблемы вроде символического отцовства: почему многие мужчины охотнее и успешнее воспитывают чужих детей, нежели своих собственных, и чем можно восполнить практическое исчезновение мужчины-воспитателя, без которого не существовало ни одно человеческое общество?
Короче говоря, я не склонен смотреть на глобальные перспективы мужчин пессимистически. Я думаю, что ни половые, ни гендерные различия никогда не исчезнут, мужчины и женщины никогда не будут одинаково широко представлены во всех сферах деятельности. В этом нет социальной необходимости. Женщины, у которых есть к тому склонности и задатки, будут все более успешно заниматься «мужской» деятельностью, расплачиваясь за это в сфере семейно-бытовых отношений, а «традиционные» женщины будут жить более или менее по-старому, расплачиваясь за свое семейное и материнское счастье неполной самореализацией в трудовой и социальной сфере. Я не вижу ни моральных, ни социальных оснований противопоставлять эти модели, лишь бы только индивидуальный выбор был свободным.
Это в полной мере касается и мужчин. Мальчики, имеющие задатки гегемонной маскулинности, будут, как и раньше, процветать в школьные годы, а затем, возможно, уступят пальму первенства более мягким и интеллигентным сверстникам. Вертер всегда останется Вертером, Дон Жуан – Дон Жуаном, а Казанова – Казановой. Единственное, что могут сделать педагоги и психологи, – это сгладить острые углы и помочь преодолеть трудности индивидуального развития, особенно в переходном возрасте.
Такими же разными останутся стили супружества и отцовства.
Никакой угрозы мужчинам со стороны женщин, включая радикальных феминисток, я не вижу. Думаю, что современный мужчина, как и его предки, обладает достаточными адаптивными способностями, чтобы справиться с социальными вызовами эпохи. Однако для этого ему необходимо а) считаться с новыми социальными реалиями и б) не равняться на один-единственный, причем заведомо упрощенный и идеализированный, образец гегемонной маскулинности. Особенно если его личные задатки и качества этому типу не соответствуют.
Мужчины, которые играют в футбол, совершают воинские подвиги, создают новые научные теории, сочиняют стихи или романы, наживают огромные состояния, основывают новые религии, сажают леса, ставят сексуальные рекорды, всю жизнь любят одну и ту же женщину, просто добросовестно работают, учат и воспитывают своих или чужих детей, вовсе не обязательно обладают одними и теми же психологическими чертами. Скорее наоборот, все они очень разные. Так зачем нам подгонять их под один и тот же стандарт, даже если он красиво описан в уважаемых книгах? Тем более что и там этот тип не единственный.
В этой книге обсуждаются исключительно проблемы взрослых мужчинах. Однако маскулинность (в психологическом смысле этого слова) – продукт не только социального, но и индивидуального развития. Чтобы завершить «мужской проект», мне необходимо дополнить его основательным рассмотрением того, как мальчик становится мужчиной или, на более научном языке, каковы особенности развития и социализации мальчиков. Этому посвящена книга «Мальчик – отец мужчины», которую я надеюсь в ближайшее время закончить.
ЛИТЕРАТУРА
Агапкина Т. А., Топорков А. Л. Ритуальное обнажение в народной культуре славян // Мифология и повседневность: гендерный подход в антропологических дисциплинах: Матер. науч. конф. 21 февраля 2001 года. СПб.: Алетейя, 2001. С. 11–25.
Агрессия и мирное сосуществование: универсальные механизмы контроля социальной напряженности у человека / Под ред. М. Л. Бутовской. М.: Научный мир, 2006.
Азартные люди и азартные игры // База данных ФОМ – 04.08.2005 bd.fom.ru.
Ангелова Е. М. Участие отца в репродуктивном процессе: новые практики и институциональное обеспечение. Магистерская диссертация. Европейский университет в Санкт-Петербурге. Факультет политических наук и социологии. СПб., 2005.
Андреев Е. М. Смертность мужчин в России // Вопросы статистики. 2001. № 7.
Антонов А. И., Сорокин С. А. Судьбы семьи в России XXI века: Размышления о семейной политике, о возможности противодействия упадку семьи и депопуляции. М.: Грааль, 2000.
Арканцева Т. А., Дубовская Е. М. Полоролевые представления современных подростков как действенный фактор их самооценки // Мир психологии. 1999. № 3. С. 147–154.
Архангельский В. Н. Роль детей по отношению к различным аспектам жизнедеятельности как фактор репродуктивного поведения // Политика народонаселения: настоящее и будущее. Четвертые Валентеевские чтения. Сб. докл. Кн. 2. М.: МАКС Пресс, 2005. С. 25–35.
Ашвин С., Тартаковская И., Исупова О., Ярошенко С., Омельченко Е. Несколько реплик «под занавес», или по следам мужского стриптиза // Другое поле. Социологические практики / Под ред. Е. Л. Омельченко, С. А. Перфильева. Средневолжский научный центр, 2000. С. 287–303.
Баранов Д. А. Мужские «роды» (этнографический факт и его интерпретации) // Мужской сборник. Вып. 2. М.: Лабиринт, 2004. С. 137–143.
Белов В. Империя тела: идеологические модели сексуальности // Русский журнал. 2000. 17 ноября.
Бем С. Л. Линзы гендера. Трансформация взглядов на неравенство полов. М.: РОССПЭН, 2004.
Бердяев Н. А. Судьба России. М.: Сов. Писатель, 1990.
Берковиц Л. Агрессия. Причины, последствия и контроль. М.: Олма-пресс, 2002.
Болотов А. Т. Жизнь и приключения Андрея Болотова, описанные самим им для своих потомков. 1738–1793. Т. 1–2. СПб., 1871.
Боренстейн Э. Маскулинность и национализм в современных русских «мужских журналах» // Эрос и порнография в русской культуре / Под ред. М. Левитта и А. Топоркова. М.: ЛАДОМИР, 1999. С. 605–621.
Боренстейн Э. Ах, «Андрюша», нам ли быть в печали: Национализм современных русских «мужских» журналов // О мужественности: Сб. статей / Сост. С. Ушакин. М.: Новое литературное обозрение, 2002. С. 360–377.
Борисенко Ю. В. Психология отцовства // Журнал практического психолога. 2007. № 1 (Сер. «Монографии по психологии семьи»; вып. 3).
Брандт Г. А. «Материнство» в русской классической литературе XIX века: к феминистской постановке вопроса // Адам и Ева: Альманах гендерной истории / Под ред. Л. П. Репиной. № 11. М.: ИВИ РАН, 2006. С. 192–195.
Бурмыкина О. Н. Гендерные различия в практиках здоровья: подходы к объяснению и эмпирический анализ // Журнал исследований социальной политики. 2006. Т. IX. № 2. С. 101–119.
Бутовская М. Л. Язык тела: природа и культура. М.: Научный мир, 2004.
Бутовская М. Л., Смирнов О. В. Выбор постоянного полового партнера в среде современного московского студенчества: эволюционный анализ // Этнографическое обозрение. № 1. С. 141–163.
Быт великорусских крестьян-землепашцев: Описание материалов этнографического бюро князя В. Н. Тенишева (на примере Владимирской губернии) / Авторы-сост. Б. М. Фирсов, И. Г. Киселева. СПб.: Изд-во Европейского Дома, 1993.
Бэрон Р., Ричардсон Д. Агрессия. СПб.: Питер, 1997.
Вайль П., Генис А. 60-е: мир советского человека. М.: Новое литературное обозрение, 1996.
Валенцова М. М. Мужской/женский в кругу бинарных противопоставлений: связи, ситуативность, оценка // Мужской сборник. Вып. 2. М.: Лабиринт, 2004. С. 89–93.
Варламова С. Н., Носкова А. В., Седова Н. Н. Семья и дети в жизненных установках россиян // Социологические исследования. 2006. № 11. С. 61–73.
Васильева Е. Проблема лишнего веса // База данных ФОМ bd.fom.ru – 24.01.2008.
Вишневский А. Г. Избранные демографические труды. В 2 т. М.: Наука, 2005.
Вовк Е. Незарегистрированные интимные союзы: разновидности брака или альтернативы ему? Ч. 1 // Социальная реальность. 2005а. № 1.
Вовк Е. Смыслы и значения незарегистрированных отношений: разновидности брака или альтернативы ему? Ч. 2 // Социальная реальность. 2005б. № 2.
Вовк Е. «Женские» профессии на фоне «мужских» // Социальная реальность. 2006. № 6.
Вовк Е. «Муж-добытчик» и «жена-домохозяйка»: традиционные семейные роли в нормах и практиках // Социальная реальность. 2007. № 5(17). С. 24–30.
Вовк Е. Чувства и эмоции в нашей жизни // База данных ФОМ bd.fom.ru – 07.06.2007.
Вовк Е., Миськова Е. Культура тела: физическая форма, спорт, красота // База данных ФОМ bd.fom.ru – 17.05.2007.
Гарин-Михайловский Н. Г. Детство Тёмы. Гимназисты. М.: Худож. лит., 1977.
Гачев Г. Русский Эрос: «Роман» Мысли с Жизнью. М.: Интерпринт, 1994.
Гегель. Философская пропедевтика // Гегель. Работы разных лет. Т. 2. М.: Мысль, 1971.
Гендер и язык / Науч. ред. и сост. А. В. Кириллина. М.: Языки славянской культуры, 2005. Гендерное равноправие…? / 06.03. 2007.
Геодакян В. А. Роль полов в передаче и преобразовании генетической информации // Проблемы передачи информации. 1965. № 1. С. 105–112.
Геодакян В. А. Теория дифференциации полов в проблемах развития человека // Человек в системе наук. М., 1989. С. 171–189.
Геродот. История. В 9 кн. / Пер. Г. А. Стратановского. М.: АСТ, Ладомир, 2001.
Герцен А. И. Соч. в 9 т. М.: Гос. изд-во худож. лит., 1956.
Гилмор Д. Д. Становление мужественности: Культурные концепты маскулинности. М.: Росспэн, 2005.
Голов А. Что важнее всего в молодости? // / 05.07.2006.
Голов А. Мужчины и их качества: что присуще и что ценится? /. 22. 02. 2008.
Груздева Е. В., Чертихина Э. С. Положение женщины в обществе: конфликт ролей // Общество в разных измерениях: Социологи отвечают на вопросы. М.: Московский рабочий, 1990.
Грушин Б. А. Четыре жизни России в зеркале опросов общественного мнения: Очерки массового сознания россиян времен Хрущева, Брежнева, Горбачева и Ельцина в 4-х кн. Жизнь 1-я. Эпоха Хрущева. М.: Прогресс—Традиция, 2001.
Гурко Т. А. Вариативность представлений в сфере родительства // Социологические исследования. 2000. № 11.
Гурко Т. А. Родительство: социологические аспекты. М.: Институт социологии РАН, 2003.
Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка. М, 1999.
Данилевский И. Н. Древняя Русь глазами современников и потомков (IX–XII вв.): Курс лекций. М.: Аспект Пресс, 1998.
Данилевский И. Н. Русские земли глазами современников и потомков (XII–XIV вв.): Курс лекций. М.: Аспект Пресс, 2000.
Демографическая модернизация России. 1900–2000 / Под ред. А. Г. Вишневского. М.: Новое издательство, 2006.
Демографический ежегодник России. М.: Росстат, 2006.
Докторов Б. З. Первопроходцы мира мнений: от Гэллапа до Грушина. М.: Институт Фонда «Общественное мнение», 2005.
Долгов В. В. Детство в контексте древнерусской культуры XI– ХП вв.: отношение к ребенку, способы воспитания и стадии взросления // Этнографическое обозрение, 2006. № 5. С. 72–85.
Дольник В. Р. Этологические экскурсии по запретным садам гуманитариев // Природа. 1993. № 1.
Дольник Д. В. Непослушное дитя биосферы: Беседа о поведении человека в компании птиц, зверей и детей. 4-я ред. СПб.: Паритет ЧеРо-на-Неве, 2007.
Домострой / Сост. В. В. Колесова. М.: Сов. Россия, 1990.
Дондурей Д. Фабрика страхов // Отечественные записки. 2003. № 4. С. 147–154.
Дружинин В. Н. Психология семьи // Психология. 2005. Т. 2. № 3.
Ерофеев В. Мужчины. М.: Подкова, 1999.
Ефименко А. Исследования народной жизни. М.: издание В. И. Касперова, 1894.
Захаров С. В. Возрастная модель брака // Отечественные записки. 2006. № 4(31). С. 271–300.
Захаров С. В. Новейшие тенденции формирования семьи в России. Статья первая: Расширяющиеся границы брака. //Демоскоп—Weekly. Электронная версия бюллетеня «Население и общество». № 237–238. 2006а. 6—19 марта 2006. 01.php).
Зверева Г. И. «Чужое, свое, другое…»: феминистские и гендерные концепты в интеллектуальной культуре постсоветской России // Адам & Ева: Альманах гендерной истории. Вып. 2 / Под ред. Л. П. Репиной. М.: ИВИ РАН, 2002.
Здравомыслова Е., Темкина А. Патриархат и «женская власть» // Российский гендерный порядок: социологический подход. Коллективная монография / Отв. ред. Е. Здравомыслова, А. Темкина. СПб.: Европейский университет, 2007а. С. 68–95.
Здравомыслова Е., Темкина А. Советский этакратический гендерный порядок // Российский гендерный порядок: социологический подход. Коллективная монография / Отв. ред. Е. Здравомыслова, А. Темкина. СПб.: Европейский университет, 2007б. С. 96—137.
Зоркая Н., Леонова А. Семья и воспитание детей: частные изменения или системный сдвиг? // Отечественные записки. 2004. № 3. С. 60–75.
Иванов Вяч. Вс. Чет и нечет: Асимметрия мозга и знаковых систем. М., 1978.
Ильин Е. Н. Дифференциальная психофизиология мужчины и женщины. СПб.: Питер, 2002.
Инок Григорий (Круг). Об изображении Бога Отца в православной церкви. -slovo.ru/rus/art/44/944/946/954/.
Кабакова Г. И. Антропология женского тела в славянской традиции. М.: Ладомир, 2001.
Каган В. Е. Семейные и полоролевые установки у подростков // Вопр. психологии. 1987. № 2. С. 54–61.
Кантор В. Ewig-Weibliche в русской культуре // Эрос и логос: Феномен сексуальности в современной культуре / Сост. В. П. Шестаков. М.: Российский институт культурологии, 2003. С. 98—140.
Киммел М. Гендерное общество. М.: РОССПЭН, 2006.
Киммел М. Маскулинность как гомофобия: страх, стыд и молчание в конструировании гендерной идентичности // Гендерные исследования. 2006а. № 14. С. 34–52.
Клибанов А. И. Духовная культура средневековой Руси. М.: Аспект Пресс, 1996.
Козлов С. А. Русская провинция Павла Болотова: «Настольный календарь 1787 года». СПб.: Историческая иллюстрация, 2006.
Кон И. С. Мужественные женщины? Женственные мужчины? // Литературная газета. 1970. 1 января. № 1. С. 12.
Кон И. С. Категория «Я» в психологии // Психологический журнал. 1981. Т. 2. № 3.
Кон И. С. Мужские исследования: меняющиеся мужчины в изменяющемся мире // Введение в гендерные исследования. Ч. 1: Учеб. пособие / Под ред. И. Жеребкиной. Харьков: ХЦГИ; СПб.: Алетейя, 2001. С. 562–605.
Кон И. С. Лики и маски однополой любви: Лунный свет на заре. Изд. 2-е. М.: Олимп и АСТ, 2003а.
Кон И. С. Мужское тело в истории культуры. М.: Слово, 2003б.
Кон И. С. Ребенок и общество: Учеб. пособие. М.: Академия, 2003в.
Кон И. С. Сексология. М.: Академия, 2004а.
Кон И. С. Пол и гендер: Заметки о терминах // Андрология и генитальная хирургия. 2004б. № 1–2. С. 31–34.
Кон И. С. Дружба. Изд. 4-е. СПб.: Питер, 2005а.
Кон И. С. Сексуальная культура в России: Клубничка на березке. 2-е изд. М.: Айрис, 2005б.
Кон И. С. К проблеме национального характера // Междисциплинарные исследования: Социология. Психология. Сексология. Антропология. Ростов-н/Д.: Феникс, 2006, С. 239–258.
Кон И. С. Дедовщина в свете исследований закрытых мужских сообществ // Мужской сборник. Вып. 3. Мужчина в экстремальной ситуации. СПб.: Индрик, 2007а. С. 84–90.
Кон И. С. Гомофобия как лакмусовая бумажка российской демократии // Вестник общественного мнения. 2007б. № 4(90). С. 59–69.
Коннелл Р. Современные подходы // Хрестоматия феминистских текстов: Переводы / Под ред. Е. Здравомысловой, А. Темкиной. СПб.: Дмитрий Буланин, 2000. С. 251–280.
Коннелл Р. Маскулинности и глобализация // Введение в гендерные исследования. Ч. 2. Хрестоматия. СПб.: Алетейя, 2001. С. 251–279.
Конструирование маскулинности на Западе и в России: Межвуз. сб. научно-методических материалов / Под общ. ред. И. А. Школьникова, О. В. Шныровой. Иваново: Ивановский центр гендерных исследований, 2006.
Коркина Н. А. Отцовство в современной семье // Семейная психология и семейная терапия. 2003. № 4. С. 48–54.
Корхова И. В. Гендерные аспекты здоровья. // Народонаселение. 2000. № 2. С. 70–79.
Костомаров Н. И. Очерк домашней жизни и нравов великорусского народа в XVI и XVII столетиях // Исторические монографии и исследования. Т. 19. СПб., 1887.
Котовская М. Г., Шалыгина Н. В. Анализ феномена мачизма // Общественные науки и современность. 2005. № 2. С. 166–176.
Кошелева О. Е. «Свое детство» в Древней Руси и в России эпохи Просвещения (XVI–XVIII вв.). М.: УРАО, 2000.
Кризис брака: кто виноват и что делать? //Пресс-выпуск ВЦИОМ. № 642. 2007. 2 марта.
Крупнов Ю. Прекратите нас беречь! // Литературная газета. 2007. № 1.
Крыщук Н. Дневник отца // Звезда. 2005. № 9. Ксенофонт. Домострой // Ксенофонт Афинский. Сократические сочинения. СПб.: Комплект, 1993.
Кудрявцева Е. Кто в доме мужчина? // Огонек. 2007. № 7.
Культура тела: физическая форма, спорт, красота // База данных ФОМ bd.fom.ru – 17. 05. 2007.
Курамшев А. В. Трансформация института отцовства // Медиевистика и социальная работа / Под ред. Е. А. Молева. Нижн. Новгород: ННГУ, 2004. С. 238–248.
Куфтяк Е. В. Отцовство: вчера, сегодня, завтра // Гендерные ценности и самоактуализации личности и малых групп в XXI веке: Материалы междунар. симпозиума. Кострома, 28–29 октября 2004 г. В 2 т. Т. 1. / Отв. ред. А. Л. Журавлев, Н. П. Фетискин. М.; Кострома: КРУ им. Н. А. Некрасова, 2004. С. 150–152.
Лев Лосев: к 70-летию со дня рождения // Радио Свобода. 2007.
Лермонтов М. Ю. Собр. соч. в 4 т. М.: Гос. изд-во худож. лит., 1958.
Малышева М. Современный патриархат: Социально-экономическое эссе. М., 2001.
Маслова В. А. Лингвокультурология. М.: Академия, 2001.
Маховская И. С. Мужчины и «мужское» в традиционной белорусской родильной обрядности // Мужской сборник. Вып. 2. М.: Лабиринт, 2004, С. 144–150.
Месснер М. Маскулинность и профессиональный спорт // Антология гендерной теории / Сост. Е. Гапова, А. Усманова. Минск: Пропилеи, 2000. С. 218–235.
Мещеркина Е. Институциональный сексизм и стереотипы маскулинности // Гендерные аспекты социальной трансформации / Под ред. М. М. Малышевой. М.: ИСЭПН. 1996. С. 196–206.
Мещеркина Е. Бытие мужского сознания: опыт реконструкции маскулинной идентичности среднего и рабочего класса // О муже(]М)ственности / Сост. С. А. Ушакин. Новое литобозрение, 2002а. С. 268–287.
Мещеркина Е. Ю. Социологическая концептуализация маскулинности // Социологические исследования. 2002б. № 11. С. 15–25.
Мещеркина Е. Структура женской биографии в отличие от мужской // Устная история и биография: женский взгляд / Ред. Е. Ю. Мещеркина. М.: Невский простор. 2004. С. 221–254.
Мид М. Культура и мир детства: Избр. произведения. М.: Наука, 1988.
Мид М. Мужское и женское: Исследование полового вопроса в меняющемся мире. М.: РОССПЭН, 2004. Миронов Б. Н. Социальная история России периода империи (XVIII – начало ХХ в.). В 2 т. 2-е изд. СПб.: Дмитрий Буланин, 2000.
Михеева А. Р. Трансформация института отцовства в контексте модернизации брака и семьи // Россия, которую мы обретаем: Исследования Новосибирской экономико-социологической школы / Отв. ред. Т. И. Заславская, З. И. Калугина. Новосибирск: Наука, 2003. С. 638–658.
Монтень М. Опыты. Кн. 1–2. M.: Изд-во АН СССР, 1954.
Монтескье Ш. О духе законов // Монтескье Ш. Избр. произведения. М.: Политиздат, 1955.
Морозов И. А. Поединок как зрелище (к вопросу о генезисе борьбы и драки) // Сохранение и возрождение фольклорных традиций. Вып. 9. Традиционные формы досуга: история и современность. М., 1998. С. 45–68.
Морозов И. А., Слепцова И. С. Мужские забавы и развлечения на Русском Севере // Мужской сборник. Вып. 1. Мужчина в традиционной культуре. М.: Лабиринт, 2001. С. 209–219.
Мужья и жены: распределение семейных обязанностей. ФОМ. Опрос населения 01.03.2007, .
Нравятся ли европейцам современные демографические тенденции? // Демоскоп Weekly. 2006. 14 июня.
Неравенство и смертность в России. Московский Центр Карнеги: Коллективная монография / Под ред. В. Школьникова, Е. Андреева, Т. Малевой. М.: Сигналъ, 2000.
Николаева Я. Г. Реализация прав и обязанностей отцов после развода // Актуальные проблемы семей в России / Под ред. Т. А. Гурко. М.: Реглант, 2006.
О муже(]М)ственности: Сб. статей / Сост. С. Ушакин. М.: Новое литературное обозрение, 2002.
Огарев Н. П. Моя исповедь // Литературное наследство: Герцен и Огарев. Т. 61 (1). М.: Наука, 1953.
Основные демографические показатели по всем странам мира в 2005 году // Демоскоп Weekly. 2005. № 215–216. 26 сент. – 6 окт.
Остроух И. Г. Трансформация института отцовства в постиндустриальном обществе на примере ФРГ // Гендерные проблемы в общественных науках. М.: ИЭА РАН, 2001. С. 188–196.
Першиц А. И., Монгайт А. Л., Алексеев В. П. История первобытного общества. М.: Наука, 1982.
Подольский А., Идобаева О., Хейманс П. Диагностика подростковой депрессивности: Теория и практика. СПб.: Питер, 2004.
Покровский А. Мужской разговор: Что нужно сказать сыну, если говорить нечего // Новая газета. 2005. № 40. 6 июня.
Попова И. С., Мехнецов А. А. Деревенская драка: взгляд этномузыколога // Мужской сборник. Вып. 3. Мужчина в экстремальной ситуации. СПб.: Индрикс, 2007. С. 146–157.
Посошков И. Т. Завещание отеческое. СПб.: Изд-во Е. Прилежаева, 1893.
Поэты «Искры». Ленинград: Советский писатель, 1955. Т. 1. Права женщин и борьба с дискриминацией: результаты международных исследований //WWW/LEVADA. RU/07.03.2008.
Преснякова Л. Трансформация отношений внутри семьи и изменение ценностных ориентиров воспитания // Отечественные записки. 2004. № 3, С. 39–56.
Прокофьева Л., Валетас М. Ф. Отцы и дети после развода // Население и общество. 2000. № 50. Ноябрь.
Протопопов А. И. Трактат о любви, как ее понимает жуткий зануда. 4-я ред. .
Пушкарева Н. Л. Частная жизнь русской женщины: невеста, жена, любовница (Х – начало XIX в). М.: Ладомир, 1997.
Пушкарева H. Этнография современной российской науки: гендерный аспект // Профессии. doc.: Социальные трансформации профессионализма / Под ред. Е. Ярской-Смирновой, П. Романова. М.: СХЮ «Вариант», ЦСПГИ, 2007. С. 111–132.
Пушкарева Н. Гендерная теория и историческое знание. СПб.: Алетейя, 2007.
Радищев А. Н. Избранные философские и общественно-политические произведения. М.: Политиздат, 1952.
Реан А. А. Изучение агрессивности личности // А. А. Реан. Психология изучения личности. СПб, 1999.
Римашевская Н., Ванной Д., Малышева М., Куббинс Л., Мещеркина Е., Писклакова М. Окно в русскую частную жизнь: Супружеские пары в 1996 году. М., 1999.
Романов П. По-братски: мужественность в постсоветском кино // О муже(]М)ственности: Сб. статей / Сост. С. Ушакин. М.: Новое литературное обозрение, 2002. С. 609–629.
Руссо Ж. Ж. Эмиль, или О воспитании // Педагогические соч. в 2 т. Т. 1. М.: Просвещение, 1981.
Рыбалко И. В. Трансформация отцовства в современной России: Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата социологических наук. Саратов, 2006.
Рябов О. В. Матушка-Русь: опыт гендерного анализа поисков национальной идентичности России в отечественной и западной историософии. М.: Ладомир. 2001.
Савкина И. Факторы раздражения: О восприятии и обсуждении феминистской критики и гендерных исследований в русском контексте // НЛО. 2007. № 86. Седов Л. А. О женщинах // WWW/LEVADA. RU/06. 03. 2006.
Седов Л. А. Семейно-брачные отношения // / 07.03.2008.
Серафимов М. А папы кто? // Огонек. 2007. № 7. Серова Л. Аполлон с большим «стволом» // СПИД-Инфо. 2000. № 8. С. 6–7.
Силина Е. А. Образ отца в восприятии воспитанников детского дома // Тезисы Второй всероссийской научной конференции «Психологические проблемы современной российской семьи» (25–27 октября 2005 г.). В 3 ч. Ч. 3 / Под общ. ред. В. К. Шабельникова, А. Г. Лидерса. М., 2005.
Словарь русских народных говоров / Под ред. Ф. П. Филина. Вып. 18. Л.: Наука, 1982.
Смирнов Д. А. Современный российский мужчина в семье и о семье: Стиль «молодого отца» в массовом сознании и поведении россиян // Конструирование маскулинности на Западе и в России: Межвуз. сб. научно-методических материалов. Иваново, 2006. С. 58–79.
Талейран Ш.-М. Мемуары. М.: ИМО, 1959.
Таннен Д. Ты просто меня не понимаешь: Женщины и мужчины в диалоге // Гендер и язык / Ред. и сост. А. В. Кирилина. М.: Языки славянской культуры, 2005. С. 235–510.
Тартаковская И. Н. Мужчины на рынке труда // Социологический журнал. 2002. № 3. С. 112–125.
Тартаковская И. Н. «Ну, вот, мораль поменялась…..»: Медийный тендерный дискурс глазами читателей // Социологические исследования. 2003. № 2. С. 87–96.
Тартаковская И. Н. Социальные сети и поведение на рынке труда // Социологический журнал. 2004. № 1–2. С. 129–144.
Тартаковская И. Гендерная теория практик: Подход Р. Коннелла // Российский гендерный порядок: социологический подход. 2007. С. 34–55.
Татищев В. Н. Избр. произведения / Под ред. С. Н. Валка. Л.: Наука, 1979.
Темкина А. Сценарии сексуальности и гендерные различия // В поисках сексуальности: Сб. статей. СПб.: Дмитрий Буланин, 2002. С. 247–286.
Тольц М. С. Брачность населения России в конце XIX – начале XX в. // Брачность, рождаемость, смертность в России и в СССР: Сб. статей / Под ред. А. Г. Вишневского. М.: Статистика, 1977. С. 138–153.
Уоллес Д. Крупная рыба. СПб.: Азбука, 2004.
Урланис Б. Берегите мужчин! // Литературная газета. 1968. 26 июля.
Утехин И. В. Яйца, табак, перегар и щетина: О некоторых средствах конструирования маскулинности // Мифология и повседневность: Гендерный подход в антропологических дисциплинах. Материалы науч. конференции 19–21 февраля 2001 г. СПб: Алетейя, 2001. С. 272–278.
Ушакин С. «Человек рода он»: знаки отсутствия // О мужественности: Сб. статей / Сост. С. Ушакин. М.: Новое литературное обозрение, 2002. С. 7—42.
Уэст К., Зиммерман Д. Создание гендера // Хрестоматия феминистских текстов: Переводы / Под ред. Е. Здравомысловой, А. Темкиной. СПб.: Дмитрий Буланин, 2000. С. 193–219.
Фасмер М. Этимологический словарь русского языка / Пер. с нем. под ред. и с доп. О. Н. Трубачева. В 4 т. М.: Прогресс, 1964–1973.
Халтурина Д. А., Коротаев А. В. Русский крест: Факторы, механизмы и пути преодоления демографического кризиса в России. М.: УРСС, 2006.
Хасбулатова О. Российская гендерная политика в ХХ столетии. Иваново: Ивановский гос. университет, 2005.
Хегай М. Н. Гендерное неравенство в политике // Гендер и культура: Гендерное неравенство в политике. Women's NGO «Traditions and Modernity», 2001.
Хекхаузен Х. Мотивация и деятельность. 2-е изд. М.: Питер, 2003.
Хетагуров К. Особа // К. Хетагуров. Собр. соч. в 5 т. Т. 4. М.: Изд-во АН СССР, 1960.
Ходоров Н. Психодинамика семьи // Хрестоматия феминистских текстов: Переводы / Под ред. Е. Здравомысловой, А. Темкиной. СПб.: Дмитрий Буланин, 2000. С. 140–165.
Холодная В. Г. Отцовское наказание в воспитании мальчика-подростка у восточных славян в конце XIX – начале ХХ вв. // Мужской сборник. Вып. 2. М.: Лабиринт, 2004. С. 170–177.
Чернова Ж. Романтик нашего времени: с песней по жизни // О муже(^ственности. М.: Новое литературное обозрение. 2002а. С. 452–478.
Чернова Ж. Нормативная мужская сексуальность: (ре)презентация в медиадискурсе // В поисках сексуальности: Сб. статей. СПб.: Дмитрий Буланин, 2002б. С. 527–548.
Чернова Ж. В. «Корпоративный стандарт» современной мужественности // Социологические исследования. 2003. № 2. С. 97—103.
Чернова Ж. Модель «советского» отцовства: Дискурсивные предписания // Российский гендерный порядок: социологический подход. 2007. С. 138–168.
Честерфилд. Письма к сыну: Максимы. Характеры. Ленинград: Наука, 1971.
Шабурова О. Мужик не суетится, или пиво с характером // О муже(^ственности. М.: Новое литературное обозрение, 2002. С. 532–554.
Шилова Л. С. Трансформация мужской и женской моделей самосохранения в условиях реформ // Мужчина и женщина в современном мире: Меняющиеся роли и образы. М.: ИЭИА РАН, 1999. Т. 1. С. 83–98.
Шмерлина И. Мода и манера одеваться // База данных ФОМ bd.fom.ru – 21. 09. 2006.
Штейнгель В. И. Сочинения и письма. Т. 1. Записки и письма. Иркутск: Иркутский гос. ун-т, 1985.
Шурыгин В. Брат мой (О новом фильме Алексея Балабанова) // Завтра. 2000. № 24(341). 13 июня. Date.
Щепанская Т. Б. Сила (коммуникативные и репродуктивные аспекты мужской магии) // Мужской сборник. Вып. 1. Мужчина в традиционной культуре. М.: Лабиринт, 2001. С. 71–94.
Эпштейн М. Отцовство. СПб.: Алетейя, 2003.
Этимологический словарь славянских языков: Праславянский лексический фонд / Под ред. О. Н. Трубачева. Вып. 20. М.: Наука, 1994.
Юрчак А. Миф о настоящем мужчине и настоящей женщине в российской телевизионной рекламе // Семья, гендер, культура: Материалы международных конференций 1994 и 1995 гг. / Отв. ред. В. А. Тишков. М.: Институт энтологии и антропологии РАН, 1997.
Adair R. Courtship, illegitimacy and marriage in early modern England. Manchester: Manchester university press, 1996.
Addis M. E., Cohane G. H. Social scientific paradigms of masculinity and their implications for research and practice in men's mental health // Journal of Clinical Psychology. 2005. Vol. 61. P. 1—15.
Ago R. La liberte de choix des jeunes nobles au XVII siecle // Histoire des jeunes en Occident. Sous la dir. de G. Levi et J.-C. Schmitt. P.: Seuil, 1994. T. 1. P. 331–377.
Alexander M. G., Fisher T. D. Truth and consequences: using the bogus pipeline to examine sex differences in self-reported sexuality // The Journal of Sex Research. 2003. Vol. 40. № 1. P. 27–35.
Alexandre-Bidon D., Lett D. Les Enfants au Moyen Age, Ve-XVe siecles. Paris: Hachette, 1997.
Amato P. R., Sobolewski J. M. The effects of divorce and marital discord on adult children's psychologcal well-being // American Sociological Review. 2001. Vol. 66. P. 900–921.
Andersson G. Children's experience of family disruption and family formation: evidence from 16 FFS countries // Demographic Research. 2002. Vol. 7. № 7. P. 343–364.
Araujo A. B., Mohr B. A., McKinlay K. B. Changes in sexual function in middle-aged and older men: Longitudinal data from the Massachusetts Male Aging Study // Journal of the American Geriatrics Society. 2004. Vol. 52. № 9. P. 1502–1509.
Archer J. Sex differences in aggression in real—world setting: A meta-analytic review // Review of General Psychology. 2004. Vol. 8. P. 291–322.
Archer J. Testosterone and human aggression: an evaluation of the challenge hypothesis // Neuroscience and Biobehavioral Reviews. 2006. Vol. 30. P. 319–345.
Archer J., Graham-Kevan N., Davies M. Testosterone and aggression: a reanalysis of Book, Starzyk and Quinsey's (2001) study // Aggression and Violent Behavior. 2005. Vol. 10. P. 241–261.
Ashwin S. Introduction // Gender, State and Society in Soviet and Post-Soviet Russia / S. Ashwin (Ed.). N. Y.: Routledge, 2000. P. 1—29.
Baer J., Kaufman J. Creativity research in English-speaking countries // The International Handbook of Creativity / Ed. by J. C. Kaufman, R. J. Sternberg. Cambridge University Press, 2006.
Bancroft J. H. J. Sex and Aging // New England Journal of Medicine. 2007. Vol. 357. P. 820–822.
Bankart C. P., Bankart В. М. Japanese children's perceptions of their parents // Sex Roles. 1985. Vol. 13. P. 679–690.
Barnett R. C., Rivers C. She Works / He works: How two-income families are happy, healthy, and thriving. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1998.
Baron-Cohen S. The Essential Difference: Men, Women, and the Extreme Male Brain. N. Y.: Penguin, 2003.
Barry H. 3-d, Bacon M. C., Child I. L. Cross-cultural survey of some differences in socialization // Journal of Abnormal and Social Psychology. 1957. Vol. 55. P. 327–332.
Barry H., Josephson L., Lauer E., Marshall С. Agents and techniques for child training: Cross-cultural codes 6 // Ethnology. 1977. Vol.
16. P. 191–230.
Baskerville S. Is there really a fatherhood crisis? // The Independent Review. 2004. Spring.
Baumeister R. F., Catanese K. R., Vohs K. D. Is there a gender difference in strength of sex drive? Theoretical views, conceptual distinctions, and a review of relevant evidence // Personality and Social Psychology Review. 2001. Vol. 5. P. 242–273.
Baumrind D. Effective parenting during the early adolescent transitions // Family Transitions / P. A. Cowan, M. Hetherington, eds. Hillsdale, N. J.: Erlbaum, 1991. P. 111–163.
Beaton J. M., Doherty W. J., Rueter M. A. Family of origin processes and attitudes of expectant fathers // Fathering. 2003. Vol. 1. № 2. P. 149–168.
Belkin L. The Feminine Critique // The New York Times / Fashion & Style. 2007. November 1.
Bellis M. A., Baker R. R. Do females promote sperm competition? Data for humans // Animal Behaviour. 1990. Vol. 40. P. 997–999.
Berg P. van den, Neumark-Sztainer D., Hannan P. J., Haines J. Is dieting advice from magazines helpful or harmful? Five-year associations with weight-control behaviors and psychological outcomes in adolescents // Pediatrics. 2007. Vol. 119. No. 1. January. P. e30—e37.
Berg S. J., Wynne-Edwards K. E. Changes in testosterone, cortisol, and estradiol levels in men becoming fathers // Mayo Clinic Proceedings. 2001. № 6. P. 582–592.
Bergeron D., Tylka T. L. Support for the uniqueness of body dissatisfaction from drive for muscularity among men // Body Image. 2007. Vol. 4. № 1. P. 87–95.
Bernhardt P. C., Dabbs Jr. J. M., Fielden J. A., Lutter C. D. Testosterone changes during vicarious experiences of winning and losing among fans at sporting events // Physiology & Behavior. 1998. Vol. 65. P. 59–62.
Beutel M. E., Stobel-Richter Y., Brahler E. Sexual desire and sexual activity of men and women across their lifespans: results from a representative German community survey // BJU International (Online Early Articles). doi:10. 1464-410X. 2007. 07204. x.
Bianchi S. M., Robinson J. P., Milkie M. A. Changing rhythms of American family life. N. Y.: Russell Sage Foundation, 2006.
Biller H. B. Fathers and families: Paternal factors in child development. Westport: Auburn, 1993.
Biller H. B., Trotter R. J. The father factor. N. Y.: Simon &Schuster, 1994.
Billington J. H. The icon and the axe: An interpretative history of Russian culture. N. Y.: Vintage Books, 1970.
Blankenhorn D. Fatherless America: Confronting our most urgent social problem. N. Y.: Basic Books, 1995.
Bly R. Iron John. Reading, Mass.: Addison-Wesley, 1990.
Boesch C., Crockford C., Herbinger I., Wittig R., Moebius Y., Normand E. Intergroup conflicts among chimpanzees in Ta'i National Park: lethal violence and the female perspective // Am. J. Primatol. 2008. Vol. 70. P. 1—14.
Book A. S., Starzyk K. B., Quinsey V. L. The relationship between testosterone and aggression: a meta-analysis // Aggress. Viol. Behav. 2001. Vol. 6. P. 579–599.
Booth A., Shelley G., Mazur A., Tharp G., Kittok R. Testosterone, and winning and losing in human competition // Hormones and Behavior. 1989. Vol. 23. P. 556–571.
Bouchard G., Lee C. M., AsgaryV., Pelletier L. Fathers' motivation for involvement with their children: A self-determination theory perspective // Fathering. 2007. Vol. 5. № 1. P. 25–41.
Bourdieu P. La domination masculine. Paris: Seuil, 1998.
Boyarin D. Unheroic conduct: The rise of heterosexuality and the invention of the Jewish man. Berkeley, LA: University of California press, 1997.
Bowles H. R., Babcock L., McGinn K. L. Constraints and triggers: Situational mechanics of gender in negotiation // Journal of Personality and Social Psychology. 2005. Vol. 89. № 6. P. 951–965.
Boyle S. H., Jackson W. G., Suarez E. C. Hostility, anger, and depression predict increases in C3 over a 10-year period // Brain, Behavior, and Immunity. 2007. Vol. 21. № 6. P. 816–823.
Brannon R. The male sex role: Our culture's blueprint of manhood and what it's done for us lately // The forty-nine percent majority: The male sex role / D. S. David, R. Brannon (Eds.). Reading, MA: Addison-Wesley, 1976.
Brennan A., Ayers S., Ahmed H., Marshall-Lucette S. A critical review of the Couvade syndrome: the pregnant male // Journal of Reproductive and Infant Psychology. 2007. Vol. 25. Issue 3. P. 173–189.
Broude G. J. Growing Up: A Cross-Cultural Encyclopedia. Santa Barbara: ABC–CLIO, 1995. Brown N. R., Sinclair R. C. Estimating number of lifetime sexual partners: Men and women do it differently // Journal of Sex Research. 1999. Vol. 36. № 3. P. 292–297.
Buchan J., Alberts S. C., Silk J. B., Altmann J. True paternal care in a multi-male primate society // Nature. 2003. Vol. 425. P. 179–181.
Buss D. M. Sexual strategies theory: historical origins and current status // The Journal of Sex Research. 1998. Vol. 35. № 1. P. 19–31.
Buss D. M., Kenrick D. T. Evolutionary social psychology // Handbook of social psychology / D. T. Gilbert, S. T. Fiske, L. Gardner (Eds.). Vol. 2 (4th ed.). N. Y.: McGraw-Hill, 1998. P. 982—1026).
Cabantous A. La fin des patriarches // Histoire des peres et de la paternite. Paris, 2000. P. 333–359.
Canli T., Desmond J. E., Zhao Z., Gabrieli J. D. E. Sex differences in the neural basis of emotional memories // Proceedings of the National Academy of Sciences PNAS. 2002. August 6. 2002. Vol. 99. № 16. P. 10789—10794.
Castelain-Meunier C. The place of fatherhood and the parental role: Tensions, ambivalence and contradictions // Current Sociology. 2002. Vol. 50. №. 2. P. 185–201.
Chudacoff H. P. The age of the bachelor: Creating an American subculture. Princeton University Press, 1999.
Clark R. D., Hatfield E. Gender differences in receptivity to sexual offers // Journal of Psychology and Human Sexuality. 1989. Vol. 2. P. 39–55.
Cohen D., Nisbett R. E., Bowdle B. F., Schwarz N. Insult, aggression, and the Southern culture of honor: An experimental ethnology // Journal of Personality and Social Psychology. 1996. Vol. 70. P. 945–960.
Collins W. A., Maccoby E. E., Steinberg L. E., Hetherington M., Bornstein M. H. Contemporary research on parenting: The case for nature and nurture // American Psychologist. 2001. Vol. 55. № 2. P. 218–232.
Colman D. Gay or straight? Hard to tell // New York Times. 2005. June 19. Section 9. P. 1. Conceptualizing and measuring father Involvement / M. E. Lamb, R. D. Day, eds. Erlbaum, 2004.
Conflicted identities and multiple masculinities: men in the Medieval West / Murray J. ed. N. Y.: Garland, 1999.
Connell R. W. Gender and power. Sydney, Australia: Allen and Unwin, 1987.
Connell R. W. Masculinities. Cambridge, UK: Polity Press, 1995. Connell R. W. Masculinities and globalization // Men and Masculinities. 1998. Vol. 1. № 1. P. 3—23.
Connell R. W., Messerschmidt J. W. Hegemonic masculinity: Rethinking the concept // Gender & Society. 2005. Vol. 19. №. 6, December. P. 829–859.
Coopersmith S. The Antecedents of self-esteem. San Francisco: W. H. Freeman, 1967.
Costa P. T., McCrae R. R. NEO Personality Inventory manual. Odessa, FL: Psychological Assessment Resources, 1985.
Dabbs Jr. J. M., Morris R. Testosterone, social class, and antisocial behavior in a sample of 4,462 men // Psychological Science. 1990. Vol. 1. P. 209–211.
Daly M., Wilson M. Evolutionary psychology of male violence // Male Violence J. Archer, ed. Routledge, 1994. P. 253–288.
Daly M., Wilson M. Risk-taking, intrasexual competition, and homicide // Nebraska Symposium on Motivation, 2001. Vol. 47. P. 1—36.
Dating Study: women are choosier than men // .
Day R. D., Lamb M. E. Conceptualizing and measuring father involvement: pathways, problems, and progress // Conceptualizing and measuring father Involvement / Lamb M. E., Day R. D. eds. Erlbaum, 2004. P. 1—16.
Deaux K., LaFrance M. Gender // The handbook of social psychology. 4th ed. / D. T. Gilbert, S. T. Fiske, G. Lindzey (Eds.). Boston: McGraw-Hill, 1998. Vol. 1. P. 788–827.
DeBell M. Children living without their fathers: Population estimates and indicators of educational well-being // Social Indicators Research. 2008, vol. 87, № 4, pp. 427–443.
Delahunty K. M., McKay D. W., Noseworthy D. E., Storey A. E. Prolactin responses to infant cues in men and women: effects of parental experience and recent infant contact // Hormones and Behavior. 2007. Feb. Vol. 51. № 2. P. 213–220.
Department of Health and Human Services (DHHS). Health, United States, with socioeconomic status and health chartbook 1998. Hyattsville, MD: National Center for Health Statistics, 1998.
Diener E., Suh E. M., Lucas R. E., Smith H. L. Subjective well-being: Three decades of progress // Psychological Bulletin. 1999. Vol. 125. P. 276–302.
Dodge B., Reece M., Cole S. I., Sandfort T. G. M. Sexual compulsivity among heterosexual college students // Journal of Sex Research. 2004. Vol. 41. № 4. P. 343–350.
Doherty W. J., Kouneski E. W., Erickson M. F. Responsible fathering: An overview and conceptual framework // Journal of Marriage and the Family. 1998. Vol. 60. P. 277–292.
Dotson E. W. Behold the Man: The Hype and Selling of Male Beauty in Media and Culture. N. Y.: Harrington Park Press, 1999.
Doty W. G. Baring the flesh: aspects of contemporary male iconography // Men's bodies, men's gods: Male Identities in a (Post)Christian Culture / Ed. by Bjorn Krondorfer. N. Y., 1996. P. 269–308.
The double-bind dilemma for women in leadership: damned if you do, doomed if you don't // . 2007.
Dowd M. Should Hillary pretend to be a flight attendant? // New York Times. 2007. November 14.
Dressler R. Steel corps: Imaging the knight in death // Conflicted identities and multiple masculinities: men in the medieval West / Murray J., ed. N. Y.: Garland, 1999. P. 135–167.
Duеrr H. P. Der Mythos von Zivilizationsprozess. B-de 1–4. Frankfurt: Suhrkamp, 1988–1999.
Duggan S. J., McCreary D. R. Body image, eating disorders, and the drive for muscularity in gay and heterosexual men: the influence of media images // Journal of Homosexuality. 2004. Vol. 17. № 3–4. P. 45–58.
Du Plessix Gray F. Soviet women walking the tightrope. N. Y.: Doubleday, 1989.
Dykstra P. A., Hagestad G. O. Childlessness and parenthood in two centuries: Different roads different maps? // Journal of Family Issues. 2007. Vol. 28. № 11. P. 1518–1532.
Dykstra P. A., Wagner M. Pathways to childlessness and late-life outcomes // Journal of Family Issues. 2007. Vol. 28. №. 11. P. 1487–1517.
Eagly A. H., Diekman A. B. Malleability of sex differences in response to changing social roles // Psychology of human strengths: Fundamental questions and future directions for a positive psychology / L. G. Aspinwall, U. M. Staudinger (Eds.). Washington, DC: American Psychological Association, 2003. P. 103–115.
Eagly A. H., Johannesen-Schmidt M. C. Leadership styles of women and men // Journal of Social Issues. 2001. Vol. 57. № 4. P. 781–797.
Eagly A. H., Johannesen-Schmidt M. C., van Engen M. Transformational, transactional, and laissez-faire leadership styles: A meta-analysis comparing women and men // Psychological Bulletin. 2003. Vol. 95. P. 569–591.
Eagly A. H., Wood W. The origins of sex differences in human behavior: Evolved dispositions versus social roles // American Psychologist. 1999. Vol. 54. P. 408–423.
Edwards T. M., Moore B. C., Guillette L. J. Jr. Reproductive dysgenesis in wildlife: a comparative view // International Journal of Andrology. 2006. Vol. 29. № 1. P. 109–121.
Eggebeen D. J.; Knoester C. Does fatherhood matter for men? // Journal of Marriage and Family. 2001. Vol. 63. № 2. P. 381–393.
Ember С. R. A Cross-cultural perspective on sex differences // Handbook of cross-cultural human development / Ed. by R. H. Munroe, R. L. Munroe, В. В. Whiting. N. Y. – London, 1981. P. 531–580.
Ember C. R. Gender differences and roles // Encyclopedia of cultural anthropology. N. Y.: Holt, 1996. Vol. 2. P. 519–524.
Ember C. R., Ember M. War, socialization, and interpersonal violence: A crosscultural study // Journal of Conflict Resolution. 1994. Vol. 38. P. 620–646.
Encyclopedia of Men and Masculinities / Ed. by M. Flood, J. K. Gardiner, B. Pease, K. Pringle. N. Y.: Routledge, 2007.
Encyclopedia of Sex and Gender: Men and Women in the World's Cultures / C. R. Ember, M. Ember, eds. Vol. 1–2. N. Y.: Springer, 2004.
Enquete sur la sexualite en France. Pratiques, genre et sante, coordonnee par Nathalie Beltzer, preface de Maurice Godelier. Paris: Editions La Decouverte, 2008.
Eplov L., Giraldi A., Davidsen M., Garde K., Kamper-Jorgensen F. Sexual desire in a nationally representative Danish population // The Journal of Sexual Medicine. 2007. Vol. 4. P. 47–56.
Estrada M., Varshney A., Ehrlich B. E. Elevated testosterone induces apoptosis in neuronal cells // J. Biol. Chem. 2006. Sep 1; 281(35): 25492-501.
European Commission. Report on equality between women and men 2008. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 2008.
Feingold A. Gender differences in personality: A meta-analysis // Psychological Bulletin. 1994. Vol. 116. P. 429–456.
Feingold A., Mazzella R. Gender differences in body image are increasing // Psychological Science. 1998. Vol. 9. P. 190–195.
Finley G. E., Schwartz S. J. Parsons and Bales revisited: Young adult children's characterization of the fathering role // Psychology of Men & Masculinity. 2006. Vol. 7. № 1. P. 42–55.
Fischtein D. S., Herold E. S., Desmarais. How much does gender explain in sexual attitudes and behaviors? A survey of Canadian adults // Archives of Sexual Behavior. 2007. Vol. 36. № 3. P. 451–461.
Fischer A. H., Rodriguez Mosquera P. M., van Vianen A. E., Manstead A. S. Gender and culture differences in emotion // Emotion. 2004. Vol. 4. № 1. P. 87–94.
Fisman R., Iyengar S., Kamenica E., Simonson I. Gender differences in mate selection: Evidence from a Speed Dating experiment // The Quarterly Journal of Economics. 2006. May. P. 673–697.
Flandrin J.-L. Families: Parente, maison, sexualite dans l'ancienne societe. P.: Hachette, 1976.
Fleming L. M., Tobin D. J. Popular child-rearing books: Where's daddy? // Psychology of Men & Masculinity. 2005. Vol. 6. № 1. P. 18–24.
Flinn M. V., Baerwald C., Decker S. D., England B. G. Evolutionary functions of neuro-endocrine response to social environment // Behavioral & Brain Sciences. 1998. Vol. 21. № 3. P. 372–374.
Flood M. The men's bibliography: a comprehensive bibliography of writing on men, masculinities and sexualities, compiled by Michael Flood. 16th ed. 2007. Home URL: .
Floyd K., Morman M. T. Fathers' and sons' reports of fathers' affectionate communication: Implications of a naive theory of affection // Journal of Social and Personal Relationships. 2005. Vol. 22. №. 1. P. 99—109.
Frederick D. A., Fessler D. M. T., Haselton M. J. Do representations of male muscularity differ in men's and women's magazines? // Body Image. 2005. Vol. 2. Issue 1. P. 81–86.
Fredrickson B. L., Roberts T.-A. Objectification theory: Toward understanding women's lived experience and mental health risks // Psychology of Women Quarterly. 1997. Vol. 21. P. 173–206.
Freud S. Interpretation of dreams // Standard edition of the complete psychological works. Vol. 4. London: Hogarth Press, 1955. P. 1—610.
Friedl E. Women and men: An anthropologist's view. N. Y.: Holt, 1975.
Frost J. A. et al. Language processing is strongly left lateralized in both sexes: Evidence from functional MRI // Brain. 1999. Vol. 122. №. 2. P. 199–208.
Fugl-Meyer A. R., Fugl-Meyer K. S. Sexual disabilities, problems and satisfaction in 18–74 year old Swedes // Scand. J. Sexol. 1999. Vol. 2. P. 79—105.
Furstenberg F. F., Cherlin A. J. Divided Families. What Happens to Children when Parents Part? Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1991.
Garfield C. F., Clark-Kauffman E., Davis M. M. Fatherhood as a component of men's health // JAMA. 2006. Vol. 296, P. 2365–2368.
Geary D. C. Evolution of paternal investment // The evolutionary psychology handbook / T. Hoboken, D. M. Buss (Ed.). NJ: John Wiley & Sons, 2005. P. 483–505.
Geary D. C. Coevolution of paternal investment and cuckoldry in humans // Female infidelity and paternal uncertainty / T. K. Shackelford, S. Platek (Eds.). N. Y.: Cambridge University Press, 2006. P. 14–34.
Geer J. H., Robertson G. G. Implicit attitudes in sexuality: gender differences // Archives of Sexual Behavior. 2005. Vol. 34. № 6. P. 671–680.
Generative fathering: Beyond deficit perspectives / A. J. Hawkins, D. C. Dollahite (eds.). Thousand Oaks, CA: Sage, 1997.
Giami A. La vie sexuelle des amateurs de pornographie // Revue Europeenne de Sexologie medicale, 1997. Vol. VI. № 22. P. 40–47.
Gille M. Werte, Geschlechtsrollenorientierungen und Lebensentwurfe // M. Gille, S. Sardei-Biermann, W. Gaiser, J. de Rijke. Jugendliche und junge Erwachsene in Deutschland. Lebensverhaltnisse, Werte und gesellschaftliche Beteiligung 12– bis 29-Jahriger. Jugendsurvey 3. Wiesbaden: VS Verlag fur Sozialwissenschaften, 2006. S. 131–211.
Gilligan C. In a different voice: Psychological theory and women's development. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1982.
Gillis J. R. Marginalization of fatherhood in Western countries // Childhood. 2000. Vol. 7. № 2. P. 225–238.
Gilman S. The Jew's body. N. Y. – L.: Routledge, 1991.
Goldberg W. A., Clarke-Stewart K. A., Rice J. A., Dellis E. Emotional energy as an explanatory construct for fathers' engagement with their infants // Parenting: Science and Practice. 2002. Vol. 2. P. 379–408.
Goldman J. D. G., Goldman R. J. Children's perceptions of parents and their roles: A cross-national study in Australia, England, North America and Sweden // Sex Roles. 1983. Vol. 9. P. 791–812.
Goldstein J. War and gender. Cambridge: Cambridge University Press, 2001.
Gorman B. K., Read J. G. Why men die younger than women // Geriatrics & Aging. 2007. Vol. 10. № 3. P. 179–181.
Goshen-Gottstein A. God the Father in Rabbinic Judaism and Christianity: Transformed background or common ground? // Journal of Ecumenical Studies. 2001. Vol. 38. № 4.
Gray J. Men are from Mars, women are from Venus: A practical guide for improving communication and getting what you want in your relationships. N. Y.: HarperCollins, 1992.
Gray P. B., Kahlenberg S. M., Barrett E. S., Lipson S. F., Ellison P. T. Marriage and fatherhood are associated with lower testosterone in males // Evolution and Human Behavior. 2002. Vol. 23. P. 193–201.
Gray P. B., Campbell B. C., Marlowe F. W., Lipson S. F., Ellison P. T. Social variable predict between-subject but not day-to-day variation in the testosterone of US men // Psychoneuroendocrinology. 2004. Vol. 29. P. 1153–1162.
Gray P. B., Ellison T., Campbell B. C. Testosterone and marriage among Ariaal men of Northern Kenya // Current Anthropology. 2007. Vol. 48. № 5. P. 750–755.
Greenberg L. S., Safran J. D. Emotion in psychotherapy: Affect, cognition, and the process of change. N. Y.: Guilford, 1987.
Greenpeace report 2006 // .
Gregor T. Anxious pleasures: The sexual lives of an Amazonian people. Chicago: Chicago University Press, 1985.
Gregor T. Male dominance and sexual cohersion // Cultural psychology: Essays on comparative human development / J. W. Stigler, R. A. Shweder, G. Herdt, eds. Cambridge University Press, 1990. P. 477–495.
Greve C. de. Le voyage en Russie: Anthologie des voyageurs francais aux XVIIIe et XIXe siecles. Paris: Robert Laffont, 1990.
Grossman K., Grossman K. E., Fremmer-Bombik E., Kindler H., Scheuerer-Englisch H., Zimmermann P. The uniqueness of the child-father attachment relationship: Fathers' sensitive and challenging play as a pivotal variable in a 16-year longitudinal study // Social Development. 2002. Vol. 11. P. 307–331.
Grove J. S. The compatibility of hunting and mothering among the Agta hunter-gatherers of the Philippines // Sex Roles. 1985. Vol. 12. P. 1199–1209.
Hald G. M. Gender differences in pornography consumption among young heterosexual Danish adults // Archives of Sexual Behavior. 2006. Vol. 35. № 5. P. 577–585.
Halliwell E., Dittmar H., Orsborn A. The effects of exposure to muscular male models among men: Exploring the moderating role of gym use and exercise motivation // Body Image. 2007. Vol. 4. Essue 3. P. 278–287.
Halpern C. T., Kaestle C. E., Hallfors D. D. Perceived physical maturity, age of romantic partner, and adolescent risk behavior // Prevention Science. 2007. Vol. 8. № 1. 2007.
Hamilton L., Berg A. K., Traen D., Lundin I. K. Self-reported frequency of feeling sexual desire among a representative sample of 18–49 year old men and women in Oslo, elucidated by epidemio-logical data // Scand. J. Sexol. 2001. Vol. 4. P. 25–41.
Hartenstein W., Bergmann-Gries J. Burkhardt W., Rudat R. Geschlechtsrollen im Wandel. Partnerschaft und Aufgabenteilung in der Familie // Schriftenreihe des Bundesministers fur Jugend, Familie, Frauen und Gesundheit. 1988. Bd. 235.
Hausvater, Priester, Kastraten. Zur Konstruktion von Mannlichkeit in Spatmittelalter und Fruher Neuzeit / M. Dinges, Hg. Goettingen: Vandenhoek and Ruprecht, 1998.
Hetherington E. M., Kelly J. For better or worse: Divorce reconsidered. N. Y.: Norton, 2002.
Histoire des peres et de la paternite / Sous la direction de J. Delumeau et de D. Roche. 2-me ed. Paris: Larousse, 2000.
Hofstede G. Culture's consequences: International differences in work-related values. Beverly Hills, CA: Sage, 1980.
Hofstede G. and associates. Masculinity and femininity: Taboo dimension of national cultures. Sage Publications, 1998.
Hofstede G., McCrae R. R. Personality and culture revisited: linking traits and dimensions of culture // Cross-Cultural Research. 2004. Vol. 38. P. 52–88.
Hollstein W. Die Manner – Vorwarts oder zuruck? Stuttgart: Deutsche Verlags-Anstalt, 1990. Hollstein W. Mannerdammerung. Von Tatern, Opfern, Schurken und Helden. Gottingen: Vandenhoeck und Ruprecht, 1999.
Holter O. G. Men's work and family reconciliation in Europe // Men and Masculinities. Vol. 9. № 4. P. 425–456.
Horn W. F., Sylvester T. Father facts. 4th Edition. Gaithersburg, MD: National Fatherhood Initiative, 2002.
Houbre G. La discipline de l'amour. L'education sentimentale des filles et des garcons a l' age du romantisme. P.: Plon, 1997.
Hubbs J. Mother Russia: The Feminine myth in Russian culture. Bloomington: Indiana University Press, 1988.
Hunt K., Lewars H., Emslie C., Batty G. D. Decreased risk of death from coronary heart disease amongst men with higher 'femininity' scores: a general population cohort study // International Journal of Epidemiology. 2007. Vol. 36. P. 612–620.
Hyde J. S. How large are gender differences in aggression? A developmental meta-analysis // Developmental Psychology. 1984. Vol. 20. P. 722–736.
Hyde J. S., Linn M. C. Gender differences in verbal ability: A meta-analysis // Psychological Bulletin. 1988. Vol. 104. P. 53–69.
Hyde J. S. The gender similarities hypothesis // American Psychologist. 2005. Vol. 60. № 6. September. P. 580–592.
lannelli C., Smyth E. Mapping gender and social background differences in education and youth transitions across Europe // Journal of Youth Studies. 2008. Vol. 11. Issue 2. P. 213–232.
Importance of fathers in the healthy development of children // .
lnglehart R. Modernization and Postmodernization: Cultural, economic, and political change in 43 Societies. Princeton, 1997.
lnglehart R. Gender, ageing and subjective well-being // International Journal of Comparative Sociology. 2002. Vol. 43. № 3–5. P. 391–408.
International guide to literature on masculinity: Bibliography / Compiler / Ed. Diederik F. Janssen. London: Men's Studies Press, 2008.
Jacklin C. N. The Psychology of Gender. 4 vols. N. Y.: An Elgar Reference Collection, 1992. Jackson-Paris R. and B. Straight from the heart: A love story. N. Y., 1994.
Jaeckel M. Das Beziehungsklima zwischen Frauen und Mannern. Ergebnisse einer international Untersuchung von Geschlechterbeziehungen in Ost und West // DJI [Deutsches Jugendinstitut] Bulletin. 1994. Heft 30. Sommer. S. 10–14.
Jaffee S. R., Moffitt T. E., Caspi A., Alan T. Life with (or without) father: The benefits of living with two biological parents depend on the father's antisocial behavior // Child Development. 2003. Vol. 74. № 1. P. 109–126.
Jakupcak M., Salters K., Gratz K. L., Roemer L. Masculinity and emotionality: an investigation of men's primary and secondary emotional responding // Sex Roles. 2003. Vol. 49. P. 111–120.
Jensen A.-M. Fatherhood and childhood – between demography and ideology // Our demographic future – a challenge: On the need for demographic analyses. The 15th Nordic Demographic Symposium. Aalborg, Denmark, 28–30 April 2005.
Johnson M. P. An exploration of men's experience and role at childbirth // Journal of Men's Studies. 2002. Vol. 10. P. 165–182.
Jorgensen N., Asklund C., Carlsen N., Skakkebazk E. Coordinated European investigations of semen quality: results from studies of Scandinavian young men is a matter of concern // International Journal of Andrology. 2006. Vol. 29. 1. P. 54–61.
Karras R. M. From boys to men: Formations of masculinity in late medieval Europe. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2003.
Kemper T. D. Social structure and testosterone: Explorations in the socio-biosocial chain. Rutgers University Press, 1990.
Kiblitskaya M. 'Once we were kings': Male experience of loss of status at work in post-communist Russia // Gender, State and Society in Soviet and Post-Soviet Russia / S. Ashwin (Ed.). N. Y.: Routledge, 2000. P. 90—104.
Kiernan K. Unmarried cohabitation and parenthood: Here to stay? European perspectives // Future of the Family / D. P. Moynihan, T. Smeeding, L. Rainwater (Eds.). N. Y.: Russell Sage Foundation, 2004. P. 66–95.
Kirkcaldy B. D., Siefen R. G., Merbach M., Rutow N., Bruhler E., Wittig U. A Comparison of general and illness-related locus of control in Russians, ethnic German migrants and Germans // Psychology, Health and Medicine. 2007. Vol. 12. № 3. P. 364–379.
Kimmel M. Manhood in America: A Cultural History. N. Y.: Free press, 1996.
Kitayama S., Karasawa M., Curhan K. B., Ryff C., Markus H. R. Independence, Interdependence, and Well-Being: Divergent Patterns in the United States and Japan // %2C+interdependence+and+well—being&btnG=Google+Search. 2005.
Kling K. C., Hyde J. S., Showers C. J., Buswell B. N. Gender differences in self-esteem: A meta-analysis // Psychological Bulletin. 1999. Vol. 125. P. 470–500.
Klomsten A. T., Skaalvik E. M., Espnes G. A. Physical self-concept and sports: do gender differences still exist? // Sex Roles. 2004. Vol. 50. № 1–2. P. 119–127.
Knight G. P., Guthrie l. K., Page M. C., Fabes R. A. Emotional arousal and gender differences in aggression: A meta-analysis // Aggressive Behavior. 2002. Vol. 28. P. 366–393.
Knoester C., Eggebeen D. J. The effects of the transition to parenthood and subsequent children on men's well-being and social participation // Journal of Family Issues. 2006. Vol. 27. № 11. P. 1532–1560.
Kohler l., Preston S. H., Lackey L. B. Comparative mortality levels among selected species of captive animals // Demographic Research. 2006. Vol. 15. Issue 14. P. 413–434.
Kolata G. The Myth, the Math, the Sex // The New York Times. 2007. August 12.
Kon l. S. The concept of alienation in modern sociology // Social Research. 1967. Vol. 34. № 3. P. 507–528.
Konrad A. M., Ritchie J. E., Lieb P., Corrigall E. Sex differences and similarities in job attribute preferences: A meta-analysis // Psychological Bulletin. 2000. Vol. 126. P. 593–641.
Koropeckyj-Cox T., Pendell G. The gender gap in attitudes about childlessness in the United States // Journal of Marriage and Family. 2007a. Vol. 69. № 4. P. 899–915.
Koropeckyi-Cox T., Pendell G. Attitudes about childlessness in the United States: Correlates of positive, neutral, and negative responses // Journal of Family Issues. 2007b. Vol. 28. P. 1054–1082.
Kruger D. J., Nesse R. M. Sexual selection and the male: female mortality ratio // Evolutionary Psychology. 2004. Vol. 2. P. 66–85.
Kruk E. Divorce and Disengagement: Patterns of fatherhood within and beyond marriage. Halifax: Fernwood, 1993.
Kukhterin S. Fathers and patriarchs in communist and post-communist Russia // Gender, state and society in Soviet and post-Soviet Russia / S. Ashwin (ed.). London, New York: Routledge, 2000. P. 71–90.
Kurzban R., Weeden J. HurryDate: Mate preferences in action // Evolution and Human Behavior. 2005. Vol. 26, P. 227–244.
La France en Faits et Chiffres. .
Lamb M. E. Fathers and child development: an introductory interview and guide // The Role of the Father in Child Development / M. E. Lamb (ed.). 3d ed. NY: Wiley, 1997.
Lamb M. E., Tamis-Lemonda C. S. The role of the father. An introduction // Role of the father in child developmen / M. E. Lamb (ed.). 4th ed. NY: Wiley, 2004.
Langergraber K. E., Siedel H., Mitani J. C., Wrangham R. W., Reynolds V. et al. Genetic signature of sex-biased migration in patrilocal chimpanzees and humans // PLoS ONE. 2007. Vol. 2. № 10: e973. doi:10. 1371/journal. pone. 0000973.
Larson R., Pleck J. H. Hidden feelings: Emotionality in boys and men // Gender and motivation: Nebraska symposium on motivation 1998 / D. Bernstein (Ed.). Vol. 45. Lincoln, NE: University of Nebraska Press, 1999. P. 25–74.
Laumann E. O., Paik A., Glasser D. B. et al. Cross-national study of subjective sexual well-being among older women and men: findings from the Global Study of sexual attitudes and behaviors // Archives of Sexual Behavior. 2006. Vol. 35. № 2. P. 145–161.
Leit R. A., Gray J. J., Pope H. G. The media's representation of the ideal male body: A cause of muscle dysmorphia? // International Journal of Eating Disorders. 2002. Vol. 31. P. 334–338.
Lett D. «L'expression du visage paternel». La ressemblance entre le pere et le fils a la fin du Moyen Age: un mode d'appropriation symbolique // Cahiers de recherches medievales. 1997. № 4. Texte integral, .
Lett D. «Tendres souverains». Historiographie et histoire des peres au moyen Age // Histoire des peres et de la paternite / J. Delumeau et D. Roche (Dir.). Paris: Larousse, 2000. P. 17–40.
Lett D. Famille et parente au Moyen Age (Ve—XVe siecles). Paris: Hachette, 2000a.
Levant R. The new psychology of men // Professional Psychology. 1996. Vol. 27. P. 259–265.
Levant R. F., Fischer J. The Male Role Norms Inventory // Sexuality-related measures: A compendium. 2nd. ed. / C. M. Davis, W. H. Yarber, R. Bauserman, G. Schreer, S. L. Davis (Eds.) Newbury Park, CA: Sage Publications, 1998. P. 469–472.
Levant R. F., Richmond K. A review of research on masculinity ideologies using the Male Role Norms Inventory // Journal of Men's Studies. 2007. Vol. 15. № 2. P. 130–146.
Levant R. F., Cuthbert A., Richmond K., Sellers A., Matveev A., Mitina O., Sokolovsky M., Heesacker M. Masculinity ideology among Russian and U. S. young men and women and its relationship to unhealthy life style habits among young Russian men // Psychology of Men & Masculinity. 2003. Vol. 4. № 1. P. 26–36.
Lever J., Frederick D. A., Peplau L. A. The swimsuit issue: Correlates of body image in a sample of 52,677 heterosexual adults // Body Image. 2006a. Vol. 3. Issue 4. P. 413–419.
Lever J., Frederick D. A., Peplau L. A. Does size matter? Men's and women's views on penis size across the lifespan // Psychology of Men and Masculinity. 2006b. Vol 7. № 3. P. 129–143.
Lindau S. T., Schumm L. P., Laumann E. O. et al. Study of sexuality and health among older adults in the United States // New England Journal of Medicine. 2007. Vol. 357. P. 762–774.
Lindsey E. W., Mize J., Pettit G. S. Differential play patterns of mothers and fathers of sons and daughters: Implications for children's gender role development // Sex Roles. 1997. Vol. 37. P. 643–661.
Lippa R. A. Gender-related individual differences and the structure of vocational interests: The importance of the People-Things dimension / /Journal of Personality and Social Psychology. 1998. Vol. 74. P. 996—1009.
Lippa R. A. Gender-related traits in gay men, lesbian women, and heterosexual men and women: The virtual identity of homosexual-heterosexual diagnosticity and gender diagnosticity // Journal of Personality. 2000. Vol. 68. P. 899–926.
Lippa R. A. On deconstructing and reconstructing Masculinity-Femininity // Journal of Research in Personality. 2001. Vol. 35. Issue 2. P. 168–207.
Lippa R. A. Gender, Nature, and Nurture. 2nd ed. Erlbaum, 2005a.
Lippa R. A. How do lay people weight information about instrumentality, expressiveness, and gender-typed hobbies when judging masculinity-femininity in themselves, best friends, and strangers? // Sex Roles. 2005b. Vol. 53. P. 43–55.
Lippa R. A. Preferred traits of mates in a cross-national study of heterosexual and homosexual men and women: An examination of biological and cultural influences // Archives of Sexual Behavior. 2007. Vol. 36. P. 193–208.
Liu P. Y., Beilin J., Meier C. et al. Age-related changes in serum testosterone and sex hormone binding globulin in Australian men: Longitudinal analyses of two geographically separate regional cohorts // The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism. 2007. Vol. 92. № 9. P. 3599–3603.
Maccoby E. E. The Two Sexes: Growing Up Apart, Coming Together. Cambridge: Harvard University Press, 1998.
Maccoby E. E., Jacklin C. N. Psychology of sex differences. Stanford: Stanford University Press, 1974.
Maccoby E. E., Jacklin C. N. Gender segregation in childhood // Advances in child behavior and development / H. Reese, ed. N. Y.: Academic Press, 1987.
MacKey W. C. Cross-cultural perspective on perceptions of paternalistic deficiencies in the United States: The myth of the derelict daddy // Sex Roles. 1985. Vol. 12. № 5–6.
MacKey W. C. American father: Biocultural and developmental aspects. NY, 1996.
MacKinnon K. Uneasy Pleasures: The male as erotic object. London: Cygnus Art, 1997.
Masculinity in Medieval Europe / Hadley D. M. Ed. London: Longman, 1999.
Major B., Barr L., Zubek J., Babey S. H. Gender and self-esteem: A meta-analysis // Sexism and stereotypes in modern society: The gender science of Janet Taylor Spence / W. Swann, J. Langlois (Eds.). Washington, DC: American Psychological Association, 1999. P. 223–253.
Mannerbande – Mannerbunde. Zur Rolle des Mannes im Kulturvergleich. 2 B-de / G. Voelger, K. V. Welck, Hg. Koln: Rautenstrauch – Jost – Museum, 1990.
Mansfield A. K., Addis M. E., Courtenay W. Measurement of men's help seeking: development and evaluation of the barriers to help seeking scale // Psychology of Men and Masculinity. 2005. Vol. 6. P. 95—108.
Mansdotter A., Lindholm L., Lundberg M. et al. Parental share in public and domestic spheres: a population study on gender equality, death, and sickness // Journal of Epidemiology and Community Health. 2006. Vol. 60. P. 616–620.
Marks L., Palkovitz R. American fatherhood types: The «good,» the «bad,» and the «uninterested» // Fathering. 2004. Vol. 2. № 2, P. 113–129.
Markus H. R., Kitayama S. Models of agency: Sociocultural diversity in the construction of action // Cross-cultural differences in perspectives on the self: Nebraska symposium on motivation / V. Murphy-Berman, J. J. Berman (Eds.). Vol. 49. Lincoln, University of Nebraska Press, 2004. P. 1—57.
Marsiglio W., Day R. D., Braver S., Evans J. V., Lamb M. E., Peters E. Social fatherhood and paternal involvement: Conceptual, data, and policymaking issues (1998). -hood.hhs.gov/CFSForum/c4.htm.
Martin C. E. Factors affecting sexual functioning in 60—79-year-old married males // Archives of Sexual Behavior. 1981. Vol. 10. P. 399–420.
Maylor E. A., Reimers S., Choi J., Collaer M. L., Peters M., Silverman l. Gender and sexual orientation differences in cognition across adulthood: Age is kinder to women than to men regardless of sexual orientation // Archives of Sexual Behavior. 2007. Vol. 36. P. 235–249.
Mazur A., Booth A. Testosterone and dominance in men // Behav. Brain Sci. 1998. Vol. 21. P. 353–397.
McNamara J. A. The Herrenfrage: The reconstruction of the gender system, 1050–1150 // Medieval Masculinities: Regarding men in the middle ages. 1994. P. 3—29.
Medieval Masculinities. Regarding men in the middle ages / C. A. Lees, ed. Minneapolis: Univ of Minnesota press, 1994.
Mehl M. R., Vazire S., Ramlrez-Esparza N., Slatcher R. B., Pennebaker J. W. Are women really more talkative than men? // Science. 2007. 6 July. Vol. 317. №. 5834. P. 82.
Menard M. Le miroire brise // Histoire des peres et de la paternite. Paris, 2000. P. 359–380.
Men's lives. 4th ed. / M. Kimmel, M. A. Messner, eds. Boston: Allyn and Beacon, 1998.
Messner M. Politics of Masculinities. Men in Movements. L.: Sage, 1997.
Meston C. M., Buss D. Why humans have sex? // Archives of Sexual Behavior. 2007. Vol. 36. P. 477–507.
Metz-Goeckel S., Miller U. Der Mann. Weinheim – Basel, 1986.
Michel Foucault: Power / Knowledge. / C. Gordon, ed. Brighton: Harvester, 1980.
Miedzian M. Boys will be boys. NY: Doubleday and Company, 1991.
Mitani J. C., Amsler S. Social and spatial aspects of male subgrouping in a community of wild chimpanzees// Behaviour. 2003. Vol. 140. P. 869–884.
Mitani J. C. Reciprocal exchange in chimpanzees and other primates. // Cooperation in Primates: Mechanisms and Evolution. Edited by P. Kappeler and C. van Schaik. Heidelberg: Springer-Verlag, 2006a. P. 101–113.
Mitani J. C. Demographic influences on the behavior of chimpanzees // Primates. 2006. Vol. 47. P. 6—13.
Money J. Linguistic resources and psychodynamic theory // British Journal of Medical Sexology. 1955. Vol. 20. P. 264–266.
Muller M. N., Wrangham R. W. Dominance, aggression and testosterone in wild chimpanzees: a test of the 'challenge' hypothesis // Animal Behaviour. 2004. Vol. 67. P. 113–123.
Mulliez J. La volonte d'un homme // Histoire des peres et de la paternite. Paris, 2000. P. 289–328.
Munafo M., Yalcin B., Willis-Owen S. A., Flint J. Assotiation of the dopamine D4 Receptor (DRD4) gene and approach-related personality traits: Meta-analysis and new data // Biological Psychiatry, 2008, vol. 63, № 2. P. 197–206.
Munroe R. L., Munroe R. H., Whiting J. W. M. Male sex-role resolutions // Handbook of cross-cultural human development / Ed. by R. H. Munroe, R. L. Munroe, В. В. Whiting. New York– London: Garland, 1981. P. 611–632.
Murdoch G. P., Provost С. Factors in the division of labor by sex // Ethnology. 1973. Vol. XII. № 2. P. 203–225.
National Center for Fathering (NCF). 1996. Gallup Poll on Fathering, «Fathers in America». .
Needham R. Right and left. Chicago: Chicago University Press, 1973.
Nelson D. A., Hart C. H., Yang C., Olsen J. A., Jin S. Aversive parenting in China: associations with child physical and relational aggression // Child Development. 2006. Vol. 77. № 3. P. 554–572.
Nisbett R. E., Cohen D. Culture of Honor: The Psychology of Violence in the South. Boulder, CO: Westview Press, 1996.
National Organization for Men Against Sexism / Statement of principles / Men's Lives / M. Kimmel, M. A. Messner, eds. 4th ed. Boston: Allyn and Beacon, 1998, p. 591.
Olivardia R., Pope H. G., Borowiecki J. J., Cohane G. H. Biceps and body image: The relationship between muscularity and self-esteem, depression, and eating disorder symptoms // Psychology of Men and Masculinity. 2004. Vol. 5. P. 112–120.
Oliver M. B., Hyde J. S. Gender differences in sexuality: A meta-analysis // Psychological Bulletin. 1993. Vol. 114. P. 29–51.
Osgood С. Е. From Yang and Yin to And or But in cross-cultural Perspective // International Journal of Psychology. 1979. Vol. 14. № 4. P. 1—35.
O'Brien M., Shemilt I. Working Fathers: Earning and Caring. London: Equal Opportunities Commission, 2003.
ONeil J. M. Exploring the new psychology of men with Russian psychologists // The Society for the Psychological Study of Men and Masculinity Bulletin. 2000. Vol. 5. № 3. P. 12–15.
Oyserman D., Coon H. M., Kemmelmeier M. Rethinking individualism and collectivism: Evaluation of theoretical and assumptions and meta-analyses // Psychological bulletin. 2002. Vol. 128. P. 3—72.
Palkovitz R., Copes M. A., Woolfolk T. N. «It's like… You discover a new sense of being». Involved fathering as an evoker of adult development // Men and Masculinities. 2001. Vol. 4. № 1. P. 49–69.
Paquette D. Theorizing the father – child relationship: Mechanisms and developmental outcomes // Human Development. 2004. Vol. 47. P. 193–219.
Parke R. D., Buriel R. Socialization in the family: Ethnic and ecological perspectives // Handbook of Child Psychology. Vo1. 1. Social, Emotional and Personality Development / W. Damon, N. Eisenberg, eds. 5th ed. NY, 1998.
Parke R. D. Fatherhood. Cambridge, MA: Harvard University, 1996.
Parke R., Dennis J., Flyr M. et al. Fathering and Children's Peer Relationships // The Role of the Father in Child Development / M. E. Lamb (ed.). 4 ed. NY: Wiley, 2004.
Parsons Т., Bales R. F. in collaboration with Olds J., Zelditch M., Jr., Slater P. Family, Socialization and Interaction Process. N. Y.: Basic books, 1955.
Peters M., Manning J. T., Reimers S. The effects of sex, sexual orientation and digit ratio (2D:4D) on mental rotation performance // Archives of Sexual Behavior. 2007. Vol. 36. № 2. P. 251–260.
Phillips K. A., Castle D. J. Body dysmorphic disorder in men // British Medical Journal. 2001. Vol. 323. P. 1015–1016.
Phillips K. A., Menard W., Fay C. Gender similarities and differences in 200 individuals with body dysmorphic disorder // Comprehensive Psychiatry. 2006. Vol. 47. № 2. P. 77–78.
Pinquart M., Sorensen S. Gender differences in self-concept and psychological well-being in old age: A meta-analysis // Journals of Gerontology: Psychological Sciences. 2001. Vol. 56. № 4. P. 195–213.
Pleck J. H. The gender role strain paradigm: An update // A new psychology of men / R. F. Levant, W. S. Pollack (Eds.). New York: Basic Books, 1995. P. 581–592. Pleck J. H. Paternal involvement: Levels, sources, and consequences // Role of the father in child development. 3rd ed. / M. E. Lamb (Ed.). New York: John Wiley & Sons, Inc., 1997. P. 66—103.
Plummer D. Sportophobia: Why do some men avoid sport? // Journal of Sport and Social Issues. 2006. Vol. 30. №. 2. P. 122–137.
Pope H. G., Olivardia R., Gruber A., Borowiecki J. Evolving ideals of male body image as seen through action figures // International Journal of Eating Disorders. 1999. Vol. 26. P. 65–72.
Pope H. G., Phillips K. A., Olivardia R. The Adonis complex: the secret crisis of male body obsession. New York: Free Press, 2000.
Popenoe D. Life without father. New York: Free Press, 1996.
Pross H. Die Manner. Eine representative Untersuchung tiber die Selbstbilder von Manner und ihre Bilder von der Frau. Reinbeck: Rowohlt, 1984.
Pruett K. D. Fathers do not mother // Fatherneed: Why father care is as essential as mother care for your child. New York: Broadway Books, 2001.
Rancour-Laferriere D. The Slave Soul of Russia: Moral Masochism and the Cult of Suffering. New York: New York University Press, 1995.
Raverty A. Are we monks, or are we men? The monastic masculine gender model according to the Rule of Benedict // Journal of Men's Studies. 2006. Vol. 14. № 3. P. 269–291.
Redican W. K. Adult Male – Infant Interactions in Non-Human Primates // The Role of the Father in Child Development. 1976. P. 345–385.
Reid A. Gender and sources of subjective well-being // Sex Roles. 2004. Vol. 51. № 11/12. P. 617–629.
Richters J., de Visser R. O., Rissel C. E., Grulich A. E., Smith A. M. Demographic and psychosocial features of participants in bondage and discipline, «sadomasochism» or dominance and submission (BDSM): Data from a National Survey // J Sex Med **;**:** – **. doi:10. 1743–6109. 2008. 00795. x.
Richters J., Grulich A. E., de Visser R. O., Smith A. M., Rissel C. E. Sex in Australia: sexual difficulties in a representative sample of adults // Aust N Z J Public Health. 2003. Vol. 27. № 2. P. 164—70.
Rigby J. E., Dorling D. Mortality in relation to sex in the affluent world // Journal of Epidemiology and Community Health. 2007. Vol. 61. P. 159–164.
Robins R. W., Trzesniewski R. H., Tracy J. L., Gosling S. D., Potter J. Global self-esteem across the life span // Psychology and Aging. 2002. Vol. 17. № 3. P. 423–434.
Roggman L. A., Boyce L. K., Cook G. A., Christiansen K., Jones D. A. Playing with daddy: social toy play, Early Head Start, and developmental outcomes // Fathering. 2004. Vol. 2. P. 83—108.
Rohlinger D. A. Eroticizing men: Cultural influences on advertising and male objectification // Sex Roles. 2002. Vol. 46. № 3/4. P. 61–74.
Rohner R. P. They Love Me, They Love Me Not: A Worldwide Study of the Effects of Parental Acceptance and Rejection. HRAF Press, 1975.
Rohner R. P., Veneziano R. A. The importance of father love: History and contemporary evidence // Review of General Psychology. 2001. Vol. 5. № 4. P. 382–405.
Rosch E. Human categorization // Studies in cross-cultural psychology / Ed. by N. Warren. Vol. I. New York—London, 1977.
Rønsen M., Skrede K. Nordic fertility patterns: Compatible with gender equality? // Politicising parenthood in Scandinavia: Gender relations in welfare states / A. L. Ellingsaeter, A. Leira (Eds.). Bristol, UK: Policy Press, 2006. P. 53–76.
Rosenberg M. Self-concept from middle childhood through adolescence // Psychological perspectives on the self Hillsdale / J. Suls, A. G. Greenwald (Eds.). NJ: Erlbaum, 1986. P. 107–136.
Rossi A. S. Gender and Parenthood // American Sociological Review. 1984. Vol. 49. № 1. P. 1—19.
Rotundo E. A. American Manhood: Transformations in maculinity from the Revolution to the Modern Era. NY: Basic books, 1993.
Rowland D. Historical trends in childlessness // Journal of Family Issues. 2007. Vol. 28. P. 1311–1337.
Ruble D. N., Martin C. L., Berenbaum S. A. Gender development// Handbook of Child Psychology. 6th ed. Vol. 3. NY: Wiley, 2006. P. 858–932.
Sahlstein E., Allen M. Sex differences in self-esteem: A meta-analytic assessment // Interpersonal communication research: Advances through meta-analysis / M. Allen, R. W. Preiss, B. M. Gayle, N. A. Burrell (Eds.). Mahwah, NJ: Erlbaum, 2002. P. 59–72.
Sapolsky R M., Share L. J. A Pacific culture among wild baboons: Its emergence and transmission // PLoS Biol 2(4): e106 doi:10. 1371/journal. pbio. 0020106. 2004.
Schehr L. R. Parts of an andrology: On representations of men's bodies. Stanford: Stanford University press, 1998.
Schlegel A. Toward a theory of sexual stratification // Sexual stratification: A cross-cultural view / A. Schlegel (ed.). N. Y.: Columbia University Press, 1977. P. 1—40.
Schmitt D. P. Universal sex differences in the desire for sexual variety: tests from 53 nations, 6 continents and 13 islands // Journal of Personality and Social Psychology. 2003. Vol. 85. № 1. P. 85– 104.
Setchell J. M. Wickings E. J., Knapp L. A. Life history in male mandrills (Mandrillus sphinx): Physical development, dominance rank, and group association // American Journal of Physical Anthropology. 2006. Vol. 131. Issue 4. P. 498–510.
Sexual behavior and selected health measures: men and women 15–44 years of age, United States, 2002. Advance Data 362.
Shapiro J. Russian mortality crisis and its causes // Economic reform at risk / Ed. A. Lsund. London, 1995. P. 149–178.
Shkolnikov V., Deev A. D., Kravdal 0., Valkonen T. Educational differentials in male mortality in Russia and northern Europe: A comparison of an epidemiological cohort from Moscow and St. Petersburg with the male populations of Helsinki and Oslo // -research.org/volumes/vol10/1/2004.
Shwalb D. W., Imaizumi N., Nakazawa J. Modern Japanese father: roles and problems in a changing society // Father's role. Cross-cultural perspectives / M. E. Lamb (ed.). Hillsdale NJ: Lawrence Eribaum Ass., 1985. P. 247–269.
Shwalb D. W., Nakawaza J., Yamamoto T., Hyun J.-H. Fathering in Japanese, Chinese, and Korean cultures: Review of the research literature // The Role of the Father in Child Development. 4 ed. / M. E. Lamb (ed.). N. Y.: Wiley, 2004.
Sigle-Rushton W., McLanahan S. Father absence and child well-being: A critical review // The future of the family / D. Moynihan, L. Rainwater, T. Smeeding (Eds.). N. Y.: Russell Sage Foundation, 2004. P. 116–155.
Silverman I. W. Gender differences in delay of gratification: A metaanalysis // Sex Roles. 2003. Vol. 49. P. 451–463.
Silverman I., Choi J., Peters M. The hunter-gatherer theory of sex differences in spacial abilities: data form 40 countries // Archives of Sexual Behavior. 2007. Vol. 36. № 2. P. 261–267.
Silverstein L. B., Auerbach C. F. Deconstructing the essential father // American Psychologist. 1999. Vol. 6. P. 397–407.
Smiler A. P. Thirty years after the discovery of gender: Psychological concepts and measures of masculinity // Sex Roles. 2004. Vol. 50. № 1–2. P. 15–26.
Snarey J. How fathers care for the next generation. A four-decade study. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1993.
Sorkhabi N. Applicability of Baumrind's parent typology to collective cultures: Analysis of cultural explanations of parent socialization effects // International Journal of Behavioral Development. 2005. Vol. 29. №. 6. P. 552–563.
Stanford's symbiotic project on affective neuroscience: /.
Stone L. Family, sex and marriage in England, 1500–1800. Abridged ed. N.Y: Harper, 1979.
Storey A. E., Walsh C. J., Quinton R. L., Wynne-Edwards K. E. Hormonal correlates of paternal responsiveness in new and expectant fathers // Evolution and Human Behavior. 2000. Vol. 21. P. 79–95.
Storey A. E., Delahunty K. M., McKay D. W., Walsh C. J., Wilhelm S. l. Social and hormonal bases of individual differences in the parental behaviour of birds and mammals // Canadian Journal of Experimental Psychology. 2006. Vol. 60. P. 237–245.
Strelan P., Hargreaves D. Reasons for exercise and body esteem: men's responses to self-objectification // Sex Roles. 2005. Vol. 53. № 7–8. P. 495–503.
Sussman R. W., Garber P. A., Cheverud J. M. Importance of cooperation and affiliation in the evolution of primate sociality // Am J Phys Anthropol. 2005. Vol. 128. P. 84–97.
Swan S. H. Semen quality in fertile US men in relation to geographical area and pesticide exposure // International Journal of Andrology. 2006. Vol. 29. № 1. P. 62–68.
Symons D. The Evolution of Human Sexuality. N. Y.: Oxford University press, 1979.
Tamres L. K., Janicki D., Helgeson V. S. Sex differences in coping behavior: A meta-analytic review and an examination of relative coping // Personality and Social Psychology Review. 2002. Vol. 6. P. 2—30.
Therborn G. Between sex and power: Family in the World, 1900–2000. L. —N. Y.: Routledge, 2004.
Thompson E. H., Pleck J. H. Masculinity ideology: A review of research instrumentation on men and masculinities // A new psychology of men / R. F. Levant, W. S. Pollack (Eds.). N. Y.: Basic Books, 1995.
Tiger L. Men in Groups. N. Y.: Random House, 1969.
Tiggemann M., Martins Y., Kirkbride A. Oh to be lean and muscular: Body image ideals in gay and heterosexual men // Psychology of Men and Masculinity. 2007. Vol. 8. P. 15–24.
Timmers M., Fischer A. H., Manstead A. S. R. Ability versus vulnerability: Beliefs about men's and women's emotional behaviour // Cognition and Emotion. 2003. Vol. 17. № 1. P. 41–63.
Townsend N. W. The Package Deal: Marriage, Work and Fatherhood in Men's Lives. Philadelphia: Temple University press, 2002.
Travison T. G. Araujo A. B., ODonnell A. B., Kupelian V., McKinlay J. B. A population-level decline in serum testosterone levels in American men // The Journal of Clinical Endocrinology& Metabolism. 2007. Vol. 92. № 1. P. 196–202.
Trivers R. L. Parental investment and sexual selection // Sexual selection and the descent of man 1871–1971 / B. Campbell (ed.). Chicago: Aldine Publishing, 1972. P. 136–179.
Trzesniewski K. H., Donnellan M. B., et al. Stability of self-esteem across the life span // J. Pers. Soc. Psychol. 2003. Vol. 84. № 1. P. 205–220.
Twenge J. M., Campbell W. K. Self-esteem and socioeconomic status: A meta-analytic review // Personality and Social Psychology Review. 2002. Vol. 6. №. 1. P. 59–71.
Vernier B. Ressemblances familiales et systemes de parente. Des villageois grecs aux etudiants lyonnais // Ethnologie francaise. 1994. T. 24. Janv—mars.
Veyne P. L'Empire romain // L'Histoire de la vie privlL Paris: Seuil, 1985. T. 1. P. 19—224.
Videon T. M. Parent-child relations and children's psychological well-being: do dads matter? // Journal of Family Issues. 2005. Vol. 26. №. 1. P. 55–78.
Virgin C. E., Jr, Sapolsky R. M. Styles of male social behavior and their endocrine correlates among low-ranking baboons // Am. J. Primatol. 1997. Vol. 42. № 1. P. 25–39.
Voracek M., Hofhansl A., Fisher M. L. «Would you go to bed with me?»: Clark and Hatfield's evidence of womens' low receptivity to male strangers' sexual offers, revisited // Psychological Reports. 2005. Vol. 97. P. 11–20. Wagatsuma H. Some aspects of the contemporary Japanese family: Once confucian, now fatherless? // Daedalus. 1977. Vol. 106. № 2. P. 181–210.
Wallerstein J. S., Lewis J. M., Blakeslee S. The Unexpected legacy of divorce: A 25 year landmark study. San Francisco: Hyperion, 2001.
Weisner T. S., Gallimore R. My brother's keeper: Child and sibling care-taking // Current Anthropology. 1977. Vol. 18. № 2. P. 169–190.
Whiting B. B., Edwards C. P. Children in different worlds. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1988.
Whiting B. B., Whiting J. W. M. Children of six cultures. A Psycho-cultural analysis. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1975.
Wiederman M. W. The truth must be in here somewhere: Examining the gender discrepancy in self-reported lifetime number of sex partners // Journal of Sex Research. 1997. Vol. 34. № 4. P. 375–386.
Wigfield А., Eccles J. S., Schiefele U., Roeser R. W., Davis-Kean P. Development of achievement motivation // Handbook of child psychology. 6th ed. Vol. 3. NY: Wiley, 2006. P. 858–932.
Wingfield J. C., Hegner R. E., Dufty A. M., Jr., Ball G. F. The challenge hypothesis': theoretical implications for patterns of testosterone secretion, mating systems, and breeding strategies // American Nature. 1990. Vol. 136. P. 829–846.
Wohlrab S., Stahl J., Kappeler P. M. Modifying the body: Motivations for getting tattooed and pierced // Body Image. 2007. Vol. 4. Issue 1. P. 87–95.
Wood W., Eagly A. H. A cross-cultural analysis of the behavior of women and men: Implications for the origins of sex differences // Psychological Bulletin. 2002. Vol. 128. №. 5. P. 699–727.
Wrangham R., Peterson D. Demonic males. Apes and the origins of human violence. Boston: Houghton Mifflin, 1996.
Wrangham R. W., Wilson M. L., Muller M. N. Comparative rates of violence in chimpanzees and humans // Primates. 2006. Vo. 47. № 1. P. 14–26.
Wynne-Edwards K. E. Hormonal changes in mammalian fathers // Hormonal Behavior. 2001. Vol. 40. P. 139–145.
Zilbergeld B. New male sexuality. NY: Bantam books, 1992.
Zuckerman M. Sensation Seeking and Risky Behavior. Washington: American Psychological Association, 2007.
Zuckerman M., Kuhlman D. M. Personality and risk-taking: Common biosocial factors // Journal of Personality Psychology. 2000. Vol. 68. P. 999—1029.
Zulehner P. M., Volz R. Manner im Aufbruck. Wie Deutschlands Manner sich selbst und wie Frauen sie sehen. Ein Forschungsberucht. Ostfildern, 1998.
Примечания
1
Коннел – трансгендерная женщина, которая много лет жила как мужчина под именем Роберт (сокращенно – Боб). Когда я познакомился с ним в Гарварде в 1991 г., ничего женственного в нем не было. Позже, овдовев, Коннелл сменила свой гендерный статус и имя, так что теперь о ней нужно писать в женском роде.
(обратно)2
Ассоциация маскулинности с мужественностью и воинственностью – явление культурно универсальное. Знак _, обозначающий в биологии мужской пол, одновременно является символом планеты Марс и древнеримского бога войны, а в алхимии – железа. Этот знак интерпретируют как сочетание копья и щита. Но это не обязательно закреплено в языке. Например, английское слово man (от протогерманского mannaz – человек, лицо) и его производные могут обозначать любых и даже всех представителей человеческого рода, независимо от их возраста или гендера, Это значение в английском языке – древнейшее. Ограничительное значение «взрослый мужчина» появилось в английском языке лишь около 1000 г., а слово, раньше обозначавшее мужской пол, wer, отмерло около 1300 г., хотя сохранились его пережитки, например werewolf.
(обратно)3
Это очень важный момент. Статья в рецензируемом научном журнале обладает совершенно иным статусом, нежели студенческая работа или газетная публикация. В книге Е. Н. Ильина (Ильин, 2002) меня сначала очень обрадовало наличие отечественных источников, но когда я внимательно посмотрел сноски, оказалось, что многие упомянутые в них работы явно не отвечают научным критериям и только повторяют привычные стереотипы.
(обратно)4
Кстати, об азартных играх. В августе 2005 г. Фонд «Общественное мнение» провел национальный опрос «Азартные люди и азартные игры». Азартными людьми признали себя 26 % мужчин и 12 % женщин, в карты на деньги играли 35 % мужчин и 5 % женщин, никогда не играли в азартные игры 47 % мужчин и 78 % женщин. Чаще всего образ азартного человека ассоциируется у респондентов исключительно с игрой – как в узком, так и в широком смысле этого слова, а доли симпатизирующих азартным людям и не симпатизирующих примерно равны 35 и 41 % (Азартные люди, 2005).
(обратно)5
Здесь и далее произведения О. Бальзака цит. по: Бальзак Оноре. Собр. соч. в 24 т. М.: Правда, 1960.
(обратно)6
Укоренившийся в нашей психологии термин «Я-концепция» (см.: Бернс, 1986) кажется мне не особенно удачным. Его английский прообраз «Self-concept» означает всего лишь «понятие о себе» или «понятие самости». Слово «концепция» в русском языке подразумевает более высокий уровень последовательности и системности, чем это свойственно описываемому явлению. Существенную трудность для русскоязычной литературы представляет и соотношение таких понятий, как «самость», «Я» и «идентичность» (см.: Кон, 1981). Здесь я этих вопросов касаться не буду.
(обратно)7
Здесь и далее произведения М. Ю. Лермонтова цит. по: Лермонтов М. Ю. Собр. соч. в 4 т. М.: ГИХЛ, 1958.
(обратно)8
Здесь и далее произведения А. С. Пушкина цит. по: Пушкин А. С. Собр. соч. в 10 т. М.: ГИХЛ, 1960.
(обратно)9
Здесь и далее произведения Л. Н. Толстого цит. по: Толстой Л. Н. Собр. соч. в 10 т. М.: ГИХЛ. 1958. Т. 8. С. 402.
(обратно)10
Здесь и далее произведения Н. В. Гоголя цит. по: Гоголь Н. В. Собр. худож. произведений. В 5 т. М.: Изд-во АН СССР, 1959.
(обратно)11
Цит. по: Тургенев И. С. Собр. соч. в 10 т. М.: ГИХЛ, 1961.
(обратно)12
Произведения Ф. М. Достоевского цит. по: Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. В 30 т. Л.: Наука, 1981.
(обратно)13
Источник: Дайджест Тюменских СМИ. , 2007.
(обратно)
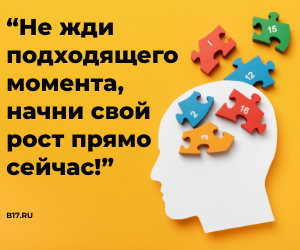

Комментарии к книге «Мужчина в меняющемся мире», Игорь Семенович Кон
Всего 0 комментариев