Давид Ван Рейбрук Против выборов
David Van Reybrouck
Tegen verkiezingen
© 2013 David Van Reybrouck. Originally published by De Bezige Bij, Amsterdam
© Бассина И., перевод, 2018
© Торицына Е., перевод, 2018
© ООО «Ад Маргинем Пресс», 2018
© Фонд развития и поддержки искусства «АЙРИС» / IRIS Foundation, 2018
* * *
«Английский народ считает себя свободным: он жестоко ошибается. Он свободен только во время выборов членов Парламента: как только они избраны – он раб, он ничто».
Жан-Жак Руссо. Об общественном договоре (1762)1. Симптомы
Воодушевление и недоверие: парадокс демократии
С демократией происходит нечто странное: кажется, что все к ней стремятся, но никто в нее уже не верит. Данные международной статистики говорят, что в мире растет число людей, считающих себя сторонниками демократии. Крупный всемирный исследовательский проект WVS[1] несколько лет назад опросил более 73 тысяч человек из 57 стран, представлявших около 85 % мирового населения. Положительный ответ на вопрос, является ли демократия хорошим методом управления страной, дали целых 91,6 % опрошенных{1}. Еще никогда в истории число людей, положительно настроенных к концепции демократии, не было таким высоким.
Такое воодушевление по поводу демократии тем более удивительно, что еще 70 лет назад позиции демократии были невероятно слабы. Параллельно с существовавшими в то время фашистским, коммунистическим и колониальными режимами к концу Второй мировой войны в мире насчитывалось всего 12 полноценных демократий{2}. Затем их количество стало медленно увеличиваться, и в 1972 году было 44 свободные страны{3}. В 1993-м их уже было 72. Сейчас из общего количества стран (195) выборных демократий 117. Из них 90 считаются свободными и на практике. Никогда еще не было столько стран с демократическим устройством, никогда еще у демократии не было столько последователей{4}.
И все же прежнего воодушевления больше нет. Уже упомянутый WVS обнаружил также, что за последние десять лет во всем мире отмечается рост симпатий к сильным лидерам, «которые могут не считаться с выборами или парламентом», а доверие к таким институтам, как парламент, правительства и политические партии, находится на необычайно низком уровне{5}. Складывается впечатление, что людям нравится лишь сама идея демократии, а не ее практическая реализация, во всяком случае не в ее современном виде.
Частично это снижение популярности связано с молодыми демократиями. Спустя 20 лет после падения Берлинской стены особенно сильное разочарование имеет место в странах бывшего Восточного блока. Арабская весна, судя по всему, тоже далеко не везде заканчивается демократическим летом. Даже в тех странах, где прошли выборы (Тунис, Египет), для многих открывается теневая сторона нового строя. Для тех, кто впервые знакомится с демократией, горькая истина заключается в том, что на практике она не настолько прекрасна, как радужные мечты о ней, особенно если демократизация страны проходит на фоне насилия, коррупции и экономического спада.
Но это не единственная причина. Даже убежденных демократов охватывает чувство неуверенности, и нигде этот парадокс не ошеломляет так, как в Европе. Несмотря на то что в Европе концепция демократии имеет исторические корни и до сих пор поддерживается большинством населения, доверие к имеющимся демократическим институтам тает на глазах. Осенью 2012 года «Евробарометр», официальный исследовательский центр Европейского союза, констатировал, что всего 33 % европейцев сохраняют доверие к ЕС. (В 2004 году этот показатель составлял 50 %!)
Уровень доверия к парламенту и правительству своей страны оказался еще ниже: 28 и 27 % соответственно{6}. За многие годы это самые низкие цифры. В настоящее время от двух третей до трех четвертей населения не доверяют важнейшим институтам своей политической экосистемы. И хотя здоровый скепсис является неотъемлемой частью гражданского самосознания, возникает закономерный вопрос: каковы допустимые границы этого недоверия и когда конструктивная критика перейдет в самое настоящее отвращение.
Судя по последним данным, это недоверие охватывает всю Европу. Оно не ограничивается только формальными политическими институциями, а распространяется также на сферу общественных услуг, таких как почта, здравоохранение и железные дороги. Доверие к политике – лишь одна из граней общего мировоззрения. Но если обратиться к демократическим институтам, то наибольшее недоверие вызывают политические партии (в среднем 3,9 из 10 баллов по оценке жителей ЕС), за ними следует парламент (4 из 10), правительство (4,2 из 10) и пресса (4,3 из 10){7}.
Впрочем, это недоверие взаимно. Нидерландский политик Петер Канне предоставил в 2011 году интересные цифры касательно того, как политики в Гааге относятся к голландскому обществу. Из правительственной элиты Нидерландов 87 % считают себя свободолюбивыми, открытыми миру людьми с новаторскими идеями. При этом 89 % считают свой народ традиционным, консервативным и националистическим{8}. То есть среди политиков распространено мнение, что они придерживаются ценностей более высокого порядка, чем простые жители. В других странах Европы ситуация вряд ли отличается.
Вернемся к простому гражданину. Его возросшее недоверие часто объясняют апатией. Будто бы растущий индивидуализм и консьюмеризм настолько притупили его гражданскую ответственность, что вера в демократию сменилась на безразличие. Теперь он в лучшем случае равнодушен и переключает канал, как только речь заходит о политике. Говорят, что «гражданин самоустраняется». Это мнение не вполне соответствует истине. Да, очень многие люди практически не интересуются политикой, но таких людей во все времена было существенное количество. Сейчас речь не идет о том, что пропадает интерес к политике. Наоборот, согласно исследованиям, он выше обычного: сейчас люди больше говорят о политике с друзьями, родственниками и коллегами{9}.
То есть волны апатии не наблюдается. Можно ли на этом успокоиться? Это большой вопрос. Ситуация, когда интерес к политике растет, а доверие к политике падает, всегда чревата последствиями. Ведь между тем, что гражданин почитает необходимым, и тем, что на его глазах делает политик, между тем, что кажется ему важным, и тем, что государство совершенно игнорирует, пролегает пропасть. И в результате – горькое разочарование. Как может отразиться на стабильности страны то, что все больше граждан внимательно следят за whereabouts[2] власть имущих, испытывая к ним все меньше доверия? Сколько насмешек вынесет система, не потеряв прочности? И уместно ли еще говорить о каких-то там насмешках, когда о своих убеждениях любой теперь может заявить во всеуслышание?
Мир, в котором мы живем, прямо противоположен миру шестидесятых. Тогда простая фермерша могла быть совершенно равнодушна к политике и одновременно с этим полностью доверять политикам{10}. Социологические опросы подтверждают, что фермерша спокойно принимала все, что происходило в политике, и такая вера в политику была широко распространена в Западной Европе. Девиз того времени звучал так: апатия и доверие. Сегодня он звучит иначе: воодушевление и недоверие. Неспокойные нынче времена.
Кризис легитимности: сокращение группы поддержки
Демократия, аристократия, олигархия, диктатура, деспотизм, тоталитаризм, абсолютизм, анархия – любое политическое устройство должно найти равновесие между двумя фундаментальными критериями: эффективностью и легитимностью. Эффективность измеряется тем, насколько быстро правительство находит удачные решения возникающих проблем. Легитимность измеряется тем, насколько сами жители включены в принятие этих решений. Насколько незыблем авторитет правительства? Для эффективности главное – решимость, для легитимности – народное одобрение. При этом оба критерия обратно пропорциональны друг другу: диктатура – несомненно, самая эффективная форма правления (один человек решает, и всё тут), вот только устойчивой легитимностью она сопровождается редко. Обратный пример, когда страна бесконечно обсуждает любое нововведение со всеми жителями, показывает высочайший уровень поддержки, но точно не способность к решительным действиям.
Демократия – «лучшая из худших» форм правления именно потому, что пытается пойти навстречу обоим критериям. Любая демократия стремится к здоровому балансу между легитимностью и эффективностью. Критика в адрес демократии может касаться либо одного, либо другого. И система остается на плаву, балансируя, как шкипер во время качки, перенося вес с одной ноги на другую в зависимости от крена. Но сегодня западные демократии переживают кризис и легитимности, и эффективности. Это нечто новое. Это уже не просто качка, а настоящий шторм. Чтобы понять это, давайте посмотрим на цифры, редко попадающие на передовицы газет. Если сосредоточиться на мелкой ряби, рассматривая сквозь лупу результаты многочисленных опросов или выборов, можно упустить из виду крупные океанские течения и климатические закономерности.
В дальнейшем я буду рассматривать правительства разных стран. Само собой разумеется, что помимо них существуют локальные, региональные и наднациональные структуры. Но именно на национальном уровне будет удобнее всего рассмотреть состояние представительной демократии.
Кризис легитимности проявляется в трех непременных симптомах. Во-первых, все меньше людей ходит на выборы. В шестидесятых годах в Европе явка была более 85 %. В девяностых годах – меньше 79 %. В первом десятилетии XXI века эта цифра опустилась ниже 77 %, что стало самым низким показателем со времен Второй мировой войны{11}.
Если говорить об абсолютных величинах, то не желают ходить на выборы миллионы европейцев. Скоро таковых будет четверть от всего населения, имеющего право голоса. В США эта тенденция проявляется еще ярче: на президентских выборах voter turnout[3] составляет меньше 60 %, на midterm[4] выборах – всего около 40 %. Электоральный абсентеизм становится на Западе главным политическим течением, но об этом никто не говорит. В Бельгии, конечно же, неявка на выборы гораздо ниже в связи с обязанностью ходить на выборы (за последние 10 лет неявка составила в среднем около 10 %), но и эта цифра растет: с 4,91 % в 1971 году до 10,78 % в 2010-м{12}. Явка на муниципальные выборы 2012 года в Бельгии, информация о которых постоянно муссировалась в прессе, вообще стала самой низкой за последние 40 лет, а в таких городах, как Антверпен и Остенде, абсентеизм вырос до 15 %{13}. Особенно удручает именно та цифра, которая касается Антверпена: на протяжении нескольких месяцев борьба за кресло бургомистра оставалась главной темой в бельгийской прессе. В Нидерландах на парламентские выборы в сентябре 2012 года не явилось 26 % избирателей{14}. В 1977 году неявившихся было всего 12 %{15}. У демократии серьезные проблемы с легитимностью, если граждане больше не желают участвовать в ее важнейшей процедуре – голосовании. Можно ли тогда говорить о том, что парламент представляет народ? Может, стоит на четыре года оставить четверть кресел пустыми?
Во-вторых, наряду с неявкой существует текучка избирателей. Европейские избиратели не только стали меньше голосовать – они стали голосовать более непредсказуемо. Тот, кто все-таки ходит на выборы, может быть, и признает легитимность процедуры, но все реже хранит верность одной и той же партии. Те организации, что имеют право представлять избирателей, имеют счастье чувствовать их поддержку лишь в течение очень недолгого времени. Политологи называют это электоральной волатильностью и говорят о том, что она невероятно возросла начиная с девяностых годов и достигает в некоторых случаях 10, 20 и даже 30 %. Рулит «парящий в небе» избиратель. Сдвиги политических пластов становятся все более привычным делом. «Те выборы, что до настоящего момента проходили в XXI веке, подтверждают эту тенденцию, – утверждается в одном современном политическом обзоре. – Австрия, Бельгия, Нидерланды и Швеция установили новые рекорды, когда популярность крайне правых внезапно выросла (в Нидерландах в 2002 году) или внезапно упала (в Австрии в 2002 году), из-за чего результаты выборов оказались самыми непредсказуемыми за всю историю Западной Европы»{16}.
В-третьих, все меньше людей состоят в политических партиях{17}. В странах ЕС всего 4,65 % избирателей являются членами какой-либо партии. Мы сейчас говорим о средних показателях. В Бельгии у 5,5 % избирателей есть партийный билет (в 1980 году их было 9 %), в Нидерландах – всего у 2,5 % (против 4,3 % в 1980 году), но постепенное снижение присутствует везде. В недавнем научном исследовании этот феномен был охарактеризован как quite staggering[5]. Проведя систематический анализ, исследователи пришли к следующему заключению: «В крайних случаях (Австрия, Норвегия) снижение количества членов партии составляет больше 10 %, в остальных – около пяти. Все страны, за исключением Португалии, Греции и Испании [где демократизация произошла только в семидесятых годах], отмечают также резкое долгосрочное снижение в абсолютных цифрах: снижение на миллион человек и более в Великобритании, Франции и Италии, полмиллиона в Германии и почти столько же в Австрии. Политические партии Великобритании, Норвегии и Франции потеряли более половины членов с 1980 года, в Швеции, Ирландии, Швейцарии и Финляндии – почти половину. Эти цифры впечатляют, они как бы намекают на то, что сама суть и смысл партийного членства изменились до неузнаваемости»{18}.
Что говорит о легитимности демократического устройства тот факт, что все меньше людей стремится присоединиться к важнейшим игрокам внутри этого устройства? Насколько плохо, что политические партии вошли в число институтов, пользующихся в Европе наименьшим доверием? И почему лидеры этих партий так редко по этому поводу переживают?
Кризис эффективности: решимость пробуксовывает
Переживает кризис не только легитимность демократии, – испытывает серьезные проблемы и эффективность. Становится все сложнее управлять «твердой рукой». Порой проходит полтора десятка лет, прежде чем в парламенте дело доходит до голосования за принятие закона. Все больше сил уходит на то, чтобы сформировать правительства, многие из них нестабильны, а когда их мандат подходит к концу, избиратели все строже наказывают их. А выборы, в которых и так участвует все меньше людей, часто делают правительства менее эффективными. Давайте подробно разберем три симптома.
Во-первых, переговоры по созданию коалиций длятся все дольше, особенно в странах, где для этого требуются сложные политические комбинации. И это касается не только Бельгии, которая начиная с июня 2010 года побила все рекорды и полтора года просидела без правительства, но также Испании, Италии и Греции, где после последних выборов формирование кабинетов шло с большим трудом. Даже в Нидерландах процесс приобретает все более неприятные черты. В послевоенное время из девяти коалиций, переговоры о создании которых длились более 80 дней, пять относятся к периоду после 1994 года{19}. Причины разные. Несомненно, одна из них заключается в том, что тексты соглашений становятся все объемнее и включают в себя все больше деталей. Эта эволюция тем более примечательна, что времена нынче непредсказуемые, и требуется как никогда гибко реагировать на внезапно возникающие насущные проблемы. Однако, судя по всему, недоверие между участниками коалиции настолько сильно и настолько велик страх перед возможным будущим наказанием со стороны избирателей, что политический курс теперь приходится прописывать до мельчайших деталей, а от согласованного текста потом нельзя отступать ни на йоту. Каждая партия стремится добиться наилучшей сделки, все должно быть заранее высечено в граните, важно обезопасить свою программу, сохранив ее в максимально первозданном виде. В результате мы имеем длительные переговоры.
Во-вторых, теперь партии, входящие в состав правительства, подвергаются все большему давлению. Сравнительное изучение представительных правительств – довольно новая область, но все же результаты впечатляют. Особенно результаты исследования того, как европейский избиратель «вознаграждает» партию, за которую голосовал. Какая участь ждет правительственную партию на следующих выборах? В пятидесятые и шестидесятые годы партии, присоединявшиеся к правящей коалиции, в следующих выборных циклах теряли от 1 до 1,5 % голосов, в семидесятых – 2 %, в восьмидесятых – 3,5 %, а в девяностых – 6 %. С началом нового века речь идет уже о восьми и более процентах. На последних выборах в Финляндии, Нидерландах и Ирландии правящие партии потеряли соответственно 11, 15 и 27 % своих избирателей{20}. Кто теперь в Европе захочет править твердой рукой, если цена за участие в правительстве столь неумолимо высока? Намного рациональнее в данный момент остаться в сторонке, во всяком случае если это не влияет на финансирование партии, как это происходит там, где ей платит государство.
В-третьих, государственное управление все время замедляется. Большие инфраструктурные проекты, такие как новая ветка метро в Амстердаме, соединяющая север и юг города, новый вокзал в Штутгарте, завершение кольцевой дороги в Антверпене или строительство запланированного международного аэропорта недалеко от Нанта, либо не доводятся до конца, либо завершаются с большим трудом. Национальные европейские правительства во многом потеряли свой авторитет и власть из-за того, что они привязаны к десяткам местных и наднациональных игроков. И если раньше для правительства такие проекты были источником престижа и свидетельством профессионализма, то теперь они в лучшем случае – ночной кошмар. Гордые времена проекта «Дельта», заградительной дамбы Афслёйтдейк, сети TGV (14) и тоннеля под Ла-Маншем прошли. Если национальным правительствам не по силам даже построить туннель или мост, что они вообще могут сделать без посторонней помощи? Мало что, ведь они связаны по рукам и ногам национальным долгом, европейским законодательством, американскими рейтинговыми бюро, транснациональными корпорациями и международными соглашениями. В начале XXI века то понятие суверенитета, которое было фундаментом национального государства, стало очень относительным. Из-за этого национальные правительства уже не в состоянии адекватно разобраться с серьезными проблемами нашего времени: изменением климата, банковским кризисом, офшорным мошенничеством, миграцией, перенаселенностью.
Бессилие – вот кодовое слово нашего времени: бессилие гражданина перед лицом правительства, бессилие правительства перед лицом Европы и бессилие Европы перед лицом остального мира. Насмотревшись на бардак у своих ног, каждый бросает взгляд вверх, но в этом взгляде нет ни надежды, ни доверия, а есть отчаяние и гнев. Власть сегодня – это лестница, на которой каждый присутствующий клянет остальных.
Политика всегда была искусством достижения возможных целей, а сейчас она стала искусством микроскопических целей. Потому что неспособность заниматься структурными проблемами сопровождается чрезвычайным вниманием к проблемам тривиальным, подогреваемым съехавшими с катушек СМИ, которые, вполне в русле рыночной логики, стали относиться к раздуванию ничтожных конфликтов с куда бóльшим интересом, чем к своей задаче помогать разбираться в реальных проблемах, тем более что тиражи падают. Другими словами, как никогда ранее мы имеем дело с властью обезумевшей моды. Парламент Нидерландов озадачился этой проблемой в 2009 году. Отчет парламентской координационной группы свидетельствует о недюжинной проницательности: «Ради того, чтобы выжить на следующих выборах, политики все время заняты зарабатыванием очков. А СМИ, приобретающие все более коммерческий характер, более чем охотно предлагают им свои возможности, из-за чего эти три составляющих [политика, СМИ и бизнес] крепко завязаны друг на друга, создавая некий „Бермудский треугольник“, в котором мистическим образом все тонет, и при этом все удивляются, отчего же это происходит. ‹…› Представляется, что вследствие взаимодействия политики и СМИ в политике все большее значение играют случайные факторы. СМИ живут новостями. Сами журналисты в частных беседах говорят от том, что происшествия пользуются у СМИ бóльшим спросом, чем хорошие дебаты, которые тоже случаются»{21}.
Хороший термин – «случайные факторы». Цифры не дадут соврать. За последние годы число устных и письменных вопросов, внесенных предложений и дебатов по горячим темам в нидерландском парламенте резко взмыло вверх – и вместе с ним количество просмотров политических ток-шоу на нидерландском телевидении: ведь для народного избранника нет ничего важнее, чем набрать побольше очков, пока работают камеры. «Депутаты рады каждый день заявлять о том, что они „удручены“, „шокированы“ или „крайне неприятно удивлены“», – отмечает в своем отчете один из информантов. «В XIX веке в Нижней палате было, вероятно, слишком много престарелых юристов; в нынешнем их слишком мало»{22}.
Если погоня за популярностью одерживает верх над исполнением обязанностей, если предвыборная лихорадка становится хроническим заболеванием, если компромиссы называются не иначе как предательством, если партийная политика систематически вызывает презрение, если участие в правительстве оборачивается для партии резким уменьшением числа избирателей, то стоит ли ждать, что в политику пойдет идеалистически настроенная молодежь? Парламент может зачахнуть без притока свежих сил. Все сложнее становится находить новых людей, у которых бы горели глаза: вот и вторичный симптом кризиса эффективности. Политикам уготована та же судьба, что и учителям: раньше это были уважаемые люди, теперь их труд презирают. Очень емко выражает суть происходящего название одной нидерландской брошюры о привлечении новых талантливых политиков: «Найти и удержать»{23}.
Удерживать их непросто, ведь талантливые политики выгорают быстрее, чем раньше. Председатель Евросовета Херман Ромпей недавно сказал следующее: «Работая в условиях нынешней демократии, люди „изнашиваются“ ужасающе быстро. Мы не должны допустить того, чтобы демократия „износилась“ сама собой»{24}.
И в этом вся суть кризиса эффективности: демократия теряет зубы, но, удивительное дело, производит все больше шума. Вместо того чтобы, осознавая свои слабость и ограниченный радиус действия, стыдливо сидеть в уголке и говорить вполголоса, политик может, да что там – должен кричать со всех крыш о своих достоинствах, – выборы и СМИ не оставляют ему другого варианта, – и желательно при этом сжимать кулаки и стоять на своем, вздернув подбородок: ведь это красиво и создает впечатление активных действий. Так ему кажется. Вместо того чтобы смиренно признать, что устройство власти эволюционирует, и искать новые формы управления, которые имели бы смысл, политик продолжает играть в выборно-медийные игры, часто против собственной воли и против воли гражданина, которому всё это начинает надоедать: такая высосанная из пальца, наигранная истерика не способствует возврату доверия. Кризис эффективности только усиливает кризис легитимности.
Результаты соответствующие. Симптомы, которыми страдает западная демократия, столь же многочисленны, сколь расплывчаты, но если собрать их все в одном месте: неявка на выборы, размытость избирательных предпочтений, сокращение численности партий, административное бессилие, политический паралич, боязнь оттолкнуть электорат, недобор рекрутов, компульсивный поиск одобрения, хроническая предвыборная лихорадка, изнуряющий медийный стресс, подозрительность, безразличие и прочие недомогания, – то перед нами возникают очертания синдрома демократической усталости, – болезни еще не описанной, но тем не менее явно присущей многочисленным западным демократиям. Давайте посмотрим на уже существующие диагнозы.
2. Диагнозы
Разносторонние исследования синдрома демократической усталости позволяют выделить четыре отдельных диагноза: виноваты политики, виновата демократия, виновата представительная демократия и – частный случай последнего – виновата выборно-представительная демократия. В предложенном порядке я и собираюсь их рассмотреть.
Виноваты политики: диагноз от популистов
Все политики – карьеристы, они только хотят набить карманы, они паразиты, нахлебники, они понятия не имеют, как живут простые люди, лучше бы они все катились ко всем чертям, – эти штампы давно известны. Популисты жонглируют ими каждый день. Согласно их диагнозу, кризис демократии – это в первую очередь кризис политического персонала. Нынешние правители, рассуждают популисты, образуют демократическую элиту, особую касту, полностью отдалившуюся от нужд и тревог простого народа. Неудивительно, что демократия переживает тяжелые времена!
В Европе мы почти дословно слышали это из уст таких политиков со стажем, как Сильвио Берлускони, Герт Вилдерс и Марин Ле Пен, но также и от новеньких, вроде Беппе Грилло в Италии и Норберта Хофера в Австрии, и от партий «Йоббик» (Венгрия), «Истинные финны» (Финляндия) и «Золотая Заря» (Греция). В англоязычном мире мы наблюдали зрелищное продвижение таких фигур, как Найджел Фарадж и, естественно, Дональд Трамп. Они считают, что от синдрома демократической усталости существует относительно простое средство, а именно: более адекватное представительство населения, точнее говоря, более народное представительство населения, желательно за счет большего количества голосов за их же популистскую партию. Лидер такой партии позиционирует себя как прямой представитель народа, некий рупор его истинных чувств, олицетворение common sense[6]. Он утверждает, что уж он-то, в отличие от своих коллег, близок к простому народу. Он выражает словами то, что они думают, и делает то, что нужно. Популистский политик заодно с народом, – вот их риторика.
Нам прекрасно известно, что все это очень спорно. Не существует единого «народа» (каждое общество состоит из разнородных элементов), не существует Volksempfinden[7], и нет ничего более идеологизированного, чем common sense. Common sense – идеология, отказывающаяся видеть собственную идеологию, что-то вроде зоопарка, искренне считающего себя частью нетронутой природы. В представлении, что можно органически слиться с народом, пропитаться его ценностями и чутко реагировать на его изменяющиеся потребности, больше от мистики, чем от политики. Не бывает единения с народом, зато существует такой маркетинговый ход.
Популисты – политические дельцы, пытающиеся прибрать к рукам как можно бóльшую часть рынка, при необходимости приукрасив себя романтическим китчем. Непонятно, как они, придя к власти, собираются поступать с инакомыслящими, ведь демократия – это власть большинства с уважением к меньшинству, иначе она выродится в небезызвестную «диктатуру большинства», и мы окажемся в еще более плачевном положении.
Поэтому популизм как решение проблемы больной демократии не обещает ничего хорошего. Но если лекарство не помогает, это еще не значит, что в постановке диагноза нет толка{25}. У современного народного представительства действительно наблюдаются проблемы с легитимностью, в этом популисты правы. Не на пустом месте появился термин «дипломная демократия»{26}: в наших парламентах огромный перевес людей с высшим образованием. Плюс сложности с новыми кадрами. Если раньше народных представителей выбирали, потому что они были «важными членами общества», как писал социолог Я. ван Дорн, то теперь даже среди популистов все чаще можно видеть «профессионалов от политики, часто это молодежь, у которой больше амбиций, чем опыта. Им только предстоит стать важными членами общества – за счет того, что их выбрали»{27}. Такие же опасения вызывает тенденция относиться к должности члена парламента как к интересной карьере, как к полноценному роду деятельности, а не как к временной службе на пользу общества в течение нескольких лет. Случается даже, что это «ремесло» передается от отца к сыну. Во Фландрии так образовалось несколько «демократических династий»: к работе уже подключилось второе поколение семей де Кро, де Хюхт, де Клерк, ван ден Боссе и Тобак. Громкое имя прокладывает дорогу в парламент, «хотя иные из них с другой фамилией не прошли бы даже на выборах в местный муниципалитет», как рассказал мне один бывший политик off the record[8].
Соблюдая объективность, было бы нечестно просто отмахнуться от популизма как от чего-то, что противоположно политике по своей сути. В своем лучшем проявлении это попытка справиться с кризисом демократии, повысив легитимность представительства. Популисты предлагают простой, но мощный способ борьбы с синдромом демократической усталости: полное переливание крови, и побыстрее. Парламент нуждается в свежей крови! А остальное приложится само собой. Противники задают вопрос, будет ли это способствовать эффективности. Лучше ли будет управление, если поменять команду? По их мнению, проблема не в исполнителях, а в самой демократии.
Виновата демократия: диагноз от технократии
Медлительность и осторожность демократического пути принятия решений подрывают веру в саму демократию. В ситуации колоссальных и требующих немедленного решения вопросов, таких как, скажем, кризис в еврозоне, идет поиск более эффективных систем. Почти сразу на ум приходит технократия. При технократическом строе блюсти общественные интересы доверяют экспертам, которые, опираясь на свои технические знания, должны безопасно провести корабль страны по бурным водам современности. Технократы займут место политиков и будут управлять страной, не заботясь о выборах, предлагая решения, рассчитанные на долгосрочную перспективу, проводя непопулярные реформы. Управление страной станет в их руках вопросом civic engineering[9], «менеджмента по устранению проблем».
Существует мнение, что за технократию ратует обеспокоенная элита, заботящаяся о том, чтобы бизнес процветал. Так что же, простой народ выбирает популизм, а элиты – технократию? Отнюдь нет. По результатам проведенных в США исследований беззаботно передать власть в руки невыборных экспертов или предпринимателей готовы в том числе и простые люди: «Народ предпочитает наделять властью тех, кто ее не жаждет», – пишут авторы авторитетной книги «Невидимая демократия» («Stealth Democracy»). Большинство граждан хотят, чтобы демократия походила на бомбардировщик Stealth[10] и была невидимой и эффективной. «Успешные бизнесмены и независимые эксперты, даже не обязательно обладающие эмпатией, представляются людьми компетентными и способными и при этом не стремящимися к власти. Многим этого достаточно; во всяком случае, это лучше, чем то представительство, которое предлагается им сейчас»{28}.
Нынешний политический дискурс во многом продолжает «постполитическое» мышление девяностых годов. Во время Third Way[11], Neue Mitte[12] и Cohabitation[13] существовала вера, что идеологические различия остались в прошлом. После десятилетий борьбы левые и правые вдруг стали ходить под ручку. Решение есть, как тогда говорили, его нужно только воплотить в жизнь; дело осталось за «верным управлением». Идеологическая борьба уступила место принципу TINA: There Is No Alternative[14]. Уже тогда была заложена основа для технократизации политического пространства.
В качестве ярчайших примеров подобного поворота к технократии в недавнее время можно назвать Грецию и Италию, где команду правительства возглавляли невыборные главы правительства. С 11 ноября 2011 года по 17 мая 2012 года у власти был Лукас Пападимос, с 16 ноября 2011 года по 21 декабря 2012 года – Марио Монти. В самый пик кризиса специализация этих людей в сфере экономики и финансов (один из них – банкир, другой – профессор экономики) была их главным козырем.
Но технократия осуществляется и во многих других, далеко не таких заметных, областях. За последние годы национальные парламенты уступили огромную часть своей власти таким межнациональным организациям, как Европейский центральный банк, Европейская комиссия, Мировой банк и Международный валютный фонд. Не будучи выборными органами, они во многом содействуют последовательной технократизации принятия решений. Банкиры, экономисты и финансовые аналитики тоже крутят рычаги власти.
И это касается не только иностранных организаций. Вообще-то любое современное национальное государство приобрело технократический оттенок за счет того, что некоторые компетенции были переведены из демократического поля куда-то в другое место. Например, значительно возросла власть центральных банков и конституционных судов. Судя по всему, правительства сочли необходимым вырвать такие системообразующие задачи, как финансовый контроль и конституционные проверки, из лап партийной политики и сделать их независимыми от сопряженной с ней ставки на успех у избирателей.
Это плохо? Не вызывает сомнений, что технократическая власть может показать прекрасные результаты: лучший тому пример – китайское Wirtschaftswunder[15]. Да и технократ Марио Монти в качестве главы правительства Италии лучше справлялся с решением задач, стоявших перед обществом, чем это когда-либо делал Сильвио Берлускони. Однако эффективность не генерирует легитимность автоматически. Доверие к технократу тает на глазах, как только он приступает к урезанию расходов. В результате на президентских выборах в феврале 2013 года Монти набрал всего 10 % голосов[16]. Просто в Китае существуют свои способы обуздывать недовольных правительственной политикой.
Не стоит считать технократию табу – хотя бы потому, что в начале своего существования государства часто проходят через технократическую фазу. Пятая республика Шарля де Голля в 1958 году, Косово в 2008 году – не всегда государства возникают демократическим путем. В переходный период после краха прежнего порядка власть всякий раз сосредотачивается в руках невыборной элиты. В такой момент важно как можно быстрее провести выборы или референдум, чтобы заработал счетчик доверия и задним числом возникла легитимность. За короткое время технократия может дать новый импульс, но на постоянное использование она не рассчитана. Демократия – это не просто форма правления на благо народа, но и само правление должно осуществляться народом.
То, что делают технократы, прямо противоположно тому, что делают популисты. Они пытаются справиться с синдромом демократической усталости, поставив эффективность выше легитимности, в надежде, что хорошие результаты в конечном счете принесут одобрение тех, кем управляют. Другими словами, в надежде, что эффективность спонтанно генерирует легитимность. Это может сработать, конечно, но политика – это нечто большее, чем просто хорошее управление. Рано или поздно понадобится делать моральный выбор, и тут не обойтись без диалога с обществом. И возникает вопрос: как организовать этот диалог? В парламенте, – будет стандартным ответом. Но эффективен ли традиционный парламент в этом случае? Этот вопрос интересует многих. Итак, мы подошли к третьему диагнозу.
Виновата представительная демократия: диагноз от прямой демократии
2 августа 2011 года в Нью-Йорке, в парке Боулинг-Грин, расположившись на траве кружком, сидела группа из 12 человек{29}. Этот день стал кульминацией одного из самых удивительных эпизодов современной истории Америки. За предшествующие недели и месяцы демократы и республиканцы так и не смогли прийти к соглашению касательно повышения потолка американского внешнего долга{30}. Демократы хотели, чтобы правительство заняло больше денег на международном финансовом рынке ради гарантии устойчивости национальной экономики, республиканцы же готовы были пойти на это только при условии, что Обама резко сократит государственные расходы на тех, кто больше всего нуждается в помощи. Республиканцы, подстегиваемые «Чайной партией», держали свою позицию: сначала режем траты и только тогда влезаем в долги. Демократы, считающие минимальный налог на самых богатых более справедливым решением, чем драконовские меры по отношению к самым бедным, не поддавались на шантаж республиканцев. К тому же разве не республиканцы ввергли страну в иракскую авантюру и тем самым раздули внешний долг?
Дебаты зашли в тупик, и приближался день, когда американское правительство уже не смогло бы выплачивать зарплаты и оплачивать счета, – по расчетам, 2 августа 2011 года. Ситуация до крайности походила на велогонку, когда лидирующие участники идут ноздря в ноздрю до самого финиша. Если ни один из них ничего не предпримет, их всех нагонит основная группа спортсменов. США грозил мощный экономический спад. И даже мировой кризис, потому что когда опустевает государственная казна крупнейшей экономики мира, она утягивает за собой и весь остальной мир. Дошло даже до того, что технократический Китай попросил демократическую Америку не доводить дело до крайностей: все понятно, партийные интересы и все такое, но есть ведь и такое понятие, как политическая ответственность. В итоге демократы сдались, и победа досталась республиканцам. Такое впечатление, что предвыборная президентская кампания 2012 года шла полным ходом уже тогда.
Тем двенадцати в парке Боулинг-Грин такое положение вещей надоело до чертиков. Безумное перетягивание каната между двумя партиями чуть не вызвало мировой кризис. Можно ли еще говорить о Конгрессе как о месте, где народные представители служат общественным интересам? Или же Палата представителей и Сенат превратились в песочницу, где расшалившиеся партии играют во все более опасные игры? Среди присутствующих была живущая в Нью-Йорке художница из Греции{31}. Она предложила не просто протестовать, а использовать метод, который она видела в Афинах: «общее собрание» в публичном месте, где любой прохожий мог бы подойти и высказаться. На такой general assembly[17] обсуждались аргументы за и против и вся группа искала консенсус. Этот опыт эгалитарной, прямой демократии, предлагающей альтернативу препирательствам представительной демократии, вызвал необыкновенное воодушевление. Собрание в Боулинг-Грин в последующие недели и месяцы только выросло. Родилось движение «Occupy Wall Street» («Захвати Уолл-стрит»).
Упоминание Уолл-стрит и лозунг «We are the 99 %»[18] теперь вызывают ощущение, что движение было полностью сосредоточено на экономике, хотя в действительности в основе протеста лежало сильное недовольство представительной демократией{32}. Один из участников высказался так:
«В Конгрессе утверждают, что их единственная цель – служение американскому народу, но на деле все сводится к борьбе разных партий за власть. Наши выбранные народные представители… представляют лишь интересы людей из своих драгоценных партий и состоятельной элиты, которая оплачивает их предвыборную кампанию, – конечно, в обратном порядке. Отсюда главная претензия, высказываемая 99 %. Our representatives aren’t representing us[19]»{33}.
Участников движения «Захвати Уолл-стрит», разбивших осенью 2011 года палаточный городок в Зукотти-парке, вдохновили демонстранты на площади Тахрир в Каире и на Пуэрта-дель-Соль в Мадриде. «Генеральная ассамблея» проводилась два раза в день. Это был своеобразный парламент вне парламента, политический форум без политических партий, где граждане свободно предлагали свои идеи и обсуждали их, не прибегая к услугам выборных представителей. «Генеральная ассамблея» стала сердцем всего движения, и уже скоро сформировался свой арсенал ритуалов. Самым необычным среди них был people’s mic, или «народный микрофон»: так как пользоваться усилителями было нельзя, все выступления «транслировались» без технических средств, даже если участников было несколько сотен. Выступающий говорил, люди вокруг повторяли его слова, люди вокруг них повторяли их дальше, пока сообщение волнами не доходило до задних рядов. Чтобы выразить одобрение или несогласие или чтобы попросить уточнения, использовались специальные жесты. На собраниях не было ни председателя, ни глав фракций, ни уполномоченных представителей – от силы несколько модераторов, призванных следить за процессом. Их девизом была «горизонтальность»{34}.
23 сентября появился первый официальный документ движения, «Principles of Solidarity»[20]. Самый первый изложенный принцип касался не «казино-капитализма», глобализации, бонусов топ-менеджмента или банковского кризиса, а демократии. Как ответ на ощущение лишения политических прав в самом начале списка красовалась следующая фраза: «Engaging in direct and transparent participatory democracy»[21]{35}.
В других частях западного мира люди тоже выходили на улицы за лучшую демократию. В Испании Indignados (Индигнадос)[22] выросли в мощное движение, выступающее с лозунгом «¡Democracia real ya!»[23]. На площади Синтагма в Афинах перед входом в парламент десятки тысяч греков скандировали лозунги за настоящую демократию. У дверей биржи Берлаге в Амстердаме, перед Лондонской биржей, перед Европейским центральным банком во Франкфурте люди разбивали палатки. В Германии появились Wutbürger, «Разгневанные граждане», протестующие против нового вокзала в Штутгарте, ночных полетов над Франкфуртом, третьей посадочной полосы в Мюнхене, перевозок ядерных отходов по железной дороге. Wutbürger было выбрано в Германии словом 2010 года. Я сам в числе прочих стоял у истоков G1000 – инициативного проекта за большее гражданское участие в политических решениях. В киберпространстве появились Anonymous[24] и пиратские партии.
В декабре 2011 года журнал Time выбрал собирательный образ протестующего человеком года. Впоследствии Лондонская школа экономики посвятила внезапному появлению в Европе всех этих subterranean politics[25] обширное международное исследование. Оно привело к очень значимым результатам:
«Важнейшим заключением нашей работы является вывод о том, что в основе всех протестных акций, кампаний и гражданских инициатив лежит глубокое разочарование в формальной политике в ее нынешней форме. Эпитеты „angry“[26], „возмущенные“ и „рассерженные“ выражают это разочарование. ‹…› Так, по сравнению с другими европейскими странами Германию гораздо меньше затронули меры по сокращению бюджетных расходов. ‹…› Тем не менее там, как в остальных странах Европы, обращает на себя внимание публичное проявление „подземной“ политики. Объяснение заключается в том, что нынешние протесты касаются не исключительно сокращения бюджетных расходов, но самой политики»{36}.
Многие из протестующих уверены в диагнозе: синдром демократической усталости вызван современной представительной демократией с ее деградирующими структурами и ритуалами. Они согласны с технократами в том, что состояние современной демократии критическое, но предлагают не заменить ее (как технократы), а улучшить. Как это сделать? Уж точно не с помощью инъекции новых сил в парламент (как предлагают популисты). Переливание крови не обеспечит выздоровления смертельно больного организма, считают они. К тому же их не устраивает культ лидера, характерный для популизма: для них это слишком «вертикально», и в итоге это все равно некое делегирование власти. Но как же тогда быть? Эффективность технократов им тоже не улыбается. Нетривиальный, пространный способ проведения заседаний протестующих говорит сам за себя: легитимность для них гораздо важнее, чем быстрый результат.
При ближайшем рассмотрении движений «Захвати Уоллстрит» и «Индигнадос» бросается в глаза их ярый антипарламентаризм. Our representatives aren’t representing us[27], говорили в Нью-Йорке. В Мадриде кто-то это выразил так:
«У нас в Испании бóльшая часть политического класса даже не слушает нас. Политики должны бы прислушаться к нам и дать возможность самим гражданам напрямую участвовать в политике, чтобы в нее было вовлечено все общество, а пока они на наш счет только богатеют и учитывают лишь интересы крупного капитала»{37}.
Движения «Захвати Уолл-стрит» и «Индигнадос» любят всякие прилагательные: новая демократия, deep democracy[28], горизонтальная, прямая, партиципативная, consensus-driven[29] – короче говоря, true democracy[30]. По их мнению, парламенты и партии уже отжили свое. Конфликту они противопоставляют консенсус, голосованию – обсуждение, театральным перебранкам – возможность быть услышанным с уважением. Они отказываются от лидеров, у них нет конкретных требований, они с недоверием относятся к протянутой руке уже существующих движений. Когда «Индигнадос» шли по улицам Брюсселя, они не хотели видеть ни флаги политических партий, ни даже представителей профсоюзов. Все это – часть системы: вот позиция протестующих.
В последний раз такой ярый антипарламентаризм в Европе мы видели в межвоенный период. Тогда многим представлялось, что и Первая мировая война, и кризис двадцатых годов – это уродливые последствия буржуазной демократии XIX века, и против парламентской системы гневно выступали три вождя: Ленин, Муссолини и Гитлер. Сейчас часто забывают об этом, но и фашизм, и коммунизм изначально были попытками вдохнуть жизнь в демократию: упразднение парламента позволяла народу стать единым целым с вождем (фашизм) или же напрямую управлять самому (коммунизм). Фашизм быстро выродился в тоталитаризм, но коммунизм еще долгое время искал новые формы коллективных обсуждений. Стоит еще раз смести пыль с Ленина. В своей знаменитой работе «Государство и революция», написанной в 1917 году, он выступает за отмену парламентаризма. «В парламентах только болтают со специальной целью надувать „простонародье“». Он выразил воззрения Маркса на процесс выборов в такой сентенции, которая была бы вполне уместна в Нью-Йорке или Мадриде: «Раз в несколько лет решать, какой член господствующего класса будет подавлять, раздавливать народ в парламенте, – вот в чем настоящая суть буржуазного парламентаризма». На создание собственной альтернативы его вдохновила Парижская коммуна 1871 года (отсюда даже сам термин «коммунизм»):
«Продажный и прогнивший парламентаризм буржуазного общества Коммуна заменяет учреждениями, в коих свобода суждения и обсуждения не вырождается в обман. ‹…› Представительные учреждения остаются, но парламентаризма, как особой системы, как разделения труда законодательного и исполнительного, как привилегированного положения для депутатов, здесь нет»{38}.
Страшно даже не то, что некоторые сторонники движения «Захвати Уолл-стрит» сравнивали события в Зукотти-парке с Парижской коммуной: даже лучшие из нас порой впадают в пафос{39}. Но что движение, с таким гневом выступающее против парламентской системы, не знает истории и отказывается рассматривать приемлемые альтернативы, – это признак не только слабости со стратегической точки зрения, но и крайнего безрассудства. Действительно ли они стремились ниспровергнуть существующее устройство? И каким стало бы наше будущее? Какие были бы гарантии равенства и свободы? Как можно было бы избежать катастрофических ошибок? Недостаточно быть только классными и нестандартными, когда речь идет о таких серьезных вещах, как изменение концепции совещательной модели. Крупный французский теоретик демократии Пьер Розанваллон не зря предупреждал: «Когда пытаются усилить демократию, она может обратиться против себя и превратиться в тоталитаризм, как произошло в Советском Союзе»{40}.
Когда словенский философ Славой Жижек выступал в Нью-Йорке перед участниками движения «Захвати Уолл-стрит», он просил их не очаровываться самими собой. К сожалению, это все-таки произошло. Американский журналист Томас Франк описывает в своем обличительном эссе, как движение пристрастилось к культу партиципативности, «прямой демократии», и как средство превратилось в самоцель:
«Активным кругам, конечно, полезно создавать культуру демократического движения, но это всего лишь отправная точка. Движение „Захвати Уолл-стрит“ так и не пошло дальше. Оно, в отличие от популистов, не призывало к созданию субказначейской системы. Оно не возглавило какую-нибудь стачку (настоящую) или сидячую забастовку, не заблокировало какой-нибудь вербовочный центр, не захватило кабинет кого-нибудь из университетских деканов. По сравнению с ним гласные споры IWW[31] столетней давности кажутся выдержанными в совершенно прусском духе. Наивысшей точкой для последователей движения была горизонтальная культура. „The process is the message“[32], – хором пели протестующие»{41}.
Нидерландский социолог Виллем Схинкел добавляет: «В некотором смысле „Захвати Уолл-стрит“ – симуляция идеологического сопротивления. На первом месте у них стремление к контридеологии, а сама контр-идеология отодвинута в сторону»{42}.
«Оккупаи» скорее обозначили болезнь, нежели предложили лечение. Они поставили верный диагноз, но выдвинули слабую альтернативу. Для самих участников «генеральных ассамблей» это, несомненно, очень интересный и важный опыт. Осознание того, что ты являешься членом сообщества, проводящего совещания спокойно и по-взрослому, может давать невероятно сильные ощущения. Взрастить в себе гражданскую добродетель непросто всегда, но особенно во времена, когда и парламент, и СМИ подают плохой пример. К сожалению, никто не знает, как стимулировать этот процесс у правящего класса, имеющего возможность что-то менять. Стефан Эссель, французский дипломат и бывший член Сопротивления, написавший памфлет «Indignez-vous»[33], от которого образовано название Indignados, неоднократно подчеркивал, что одного возмущения без вовлеченности недостаточно и что нужно пытаться влиять на правительство: «Во власть нужно вовлекаться не по краям, а в самом ее центре»{43}.
Каждый из трех рассмотренных способов лечения представляется мне опасным: популизм заключает в себе опасность для меньшинства, технократия – для большинства, антипарламентаризм – для свободы.
Но в последнее время в Европе также появились движения, не согласные символически протестовать в стороне. Они на самом деле добрались до «центра власти». Их можно назвать «неопарламентаристами». Одно из них – образованная в 2006 году в Швеции Пиратская партия, на некоторое время ставшая, пусть и виртуально, третьей по популярности в Германии{44}. В Нидерландах хитрым путем пыталось выбиться в большие партии и пробраться в парламент движение «G500»{45}. А в Италии выросло в третью по величине партию в стране «Движение пяти звезд» Беппе Грилло{46}.
Все эти неопарламентские движения объединяет то, что они хотят усилить представительную демократию с помощью новых форматов участия. Пиратская партия эволюционировала из платформы борьбы за цифровые права в политическое движение, стремящееся обогатить представительную демократию прямой демократией{47}. Более 500 молодых голландцев из «G500» внезапно вступили в три крупнейшие центристские партии, чтобы повлиять на их предвыборные программы. Затем они предложили избирателям использовать приложение Stembreker[34], чтобы придать больше веса своим голосам за счет того, что их предпочтения стратегическим образом объединялись. И тут цель та же: усилить совещательный элемент как в самих партиях, так и при формировании коалиций. «Движение пяти звезд», несмотря на популистскую риторику своего лидера, стремилось улучшить народное представительство за счет введения новых правил: не допускать в парламент людей с судимостью, ввести табу на пожизненное членство, запретить избрание одного и того же человека на должность более чем на два срока. Эти меры должны способствовать большему участию простых граждан в политике.
Общим для всех трех инициатив оказалось то, что за стремительным стартом и лавиной внимания со стороны СМИ каждый раз очень быстро наступал момент, когда энтузиазм публики и СМИ пропадал. То, что было сначала новым и искрилось свежими идеями, через несколько месяцев оказывалось на помойке. Тот факт, что вы получили власть в парламенте, еще не значит, что вам пожизненно гарантировано внимание СМИ. В своей роли народного избранника можно расти четыре года, но на следующий же день после выборов надо засветиться на радио, и желательно при этом выдать остроумное замечание и показать владение предметом, как будто вы занимались этим всю жизнь. Дилетантство не страшно, лишь пока вы остаетесь в статусе дилетанта. Иначе с вами разберутся еще до того, как вы сможете рассказать о своих планах. В результате таланты и идеалы сгорают очень быстро. Новые движения не отворачиваются от парламента, и это заслуживает уважения, но в том обществе, в котором мы живем, – обществе эмоционального восприятия – просто пройти процедуру выборов уже недостаточно.
Да, синдром демократической усталости вызывается слабостью представительной демократии, но ни антипарламентаризм, ни неопарламентаризм не смогут изменить ситуацию. Причина заключается в том, что ни те, ни другие не изучали саму идею представительства. В одном случае от нее отворачиваются, в другом в нее еще верят, но и те и другие слепо доверяют тому, что представительство народа в формальном совещательном органе неразрывно связано с выборами. Давайте рассмотрим это предположение более внимательно.
Виновата выборно-представительная демократия: новый диагноз
За последние годы предлагалось много решений для усиления представительной демократии и возвращения ей прежнего блеска. В основном они принимают форму новых правил игры. Например, по отношению к людям, занимающим должность в политике: запретить им совмещать свою общественную работу с бизнесом и потребовать обязательного декларирования доходов и собственности. Вводятся новые правила и для партий: от них требуют финансовой прозрачности, соблюдения более строгих условий субсидирования, открытости архивов. И наконец, предлагают новые правила проведения выборов: местные, региональные и европейские выборы должны проходить в один день, чтобы затем настал период покоя; необходимо заново определить избирательные округа, создать новые системы подсчета, новые принципы определения тех, кто имеет право голоса. Не стоит ли отдать родителям голоса их несовершеннолетних детей, чтобы они могли выражать свои долгосрочные предпочтения? Или разрешить голосовать за несколько партий одновременно, чтобы справиться с партократией? Не стоит ли наравне с голосованием за определенных людей на регулярной основе организовывать референдумы, голосование за идеи?
Эти предложения полезны и даже необходимы, но даже полное их осуществление не поможет решить проблему, потому что синдром демократической усталости вызывается не представительной демократией как таковой, а ее специфической разновидностью – выборно-представительной демократией, демократией, осуществляющей народное представительство посредством выборов. Эта мысль требует пояснения.
Слова «выборы» и «демократия» почти для всех стали синонимами. Мы впитали идею о том, что единственный способ достичь демократии – использовать избирательные урны. Ведь во «Всеобщей декларации прав человека» 1948 года так и написано: «Воля народа должна быть основой для власти правительства; эта воля должна находить себе выражение в периодических и нефальсифицированных выборах, которые должны проводиться при всеобщем и равном избирательном праве путем тайного голосования или же посредством других равнозначных форм, обеспечивающих свободу голосования». Словосочетание «находить себе выражение» предельно точно описывает симптоматику нашего видения. Говоришь «демократия» – имеешь в виду «выборы». Но разве не странно, что такой универсальный документ – самый универсальный правовой документ за всю историю человечества – настолько жестко определяет, каким образом должна выражаться народная воля? Не удивительно ли, что такой краткий текст об основных правах человека (на все про все меньше двух тысяч слов) подробно останавливается на практическом осуществлении одного из них, как если бы в законы о здравоохранении сразу были бы включены кулинарные рецепты? Такое ощущение, что составители текста 1948 года одним из основных прав человека считали сам метод. Как будто процедура получила сакральный статус сама по себе.
В этом и заключается основная причина синдрома демократической усталости: мы все превратились в электоральных фундаменталистов. Мы презираем тех, кого выбираем, но поклоняемся выборам. Электоральный фундаментализм – это несгибаемая вера в то, что демократия немыслима без выборов, что выборы являются необходимым, как говорится, богом данным условием существования демократии. Электоральные фундаменталисты отказываются видеть в выборах способ участия в демократии, считая их самоцелью, священным принципом, к которому неприменимы человеческие мерки.
Эта слепая вера в избирательные урны как единственный оплот народного суверенитета заметнее всего в международной дипломатии{48}. Когда западные страны-доноры надеются на то, что такие истощенные конфликтами государства, как Конго, Ирак, Афганистан или Восточный Тимор, встанут на путь демократии, то имеют в виду, что там должны проходить выборы, желательно по западному образцу: с кабинками для голосования, избирательными бюллетенями и урнами, с партиями, предвыборными кампаниями и коалициями, с избирательными комиссиями, списками кандидатов и сургучом для печатей. Короче, совсем как у нас, но только у них. Тогда мы этим странам будем давать деньги. У местных демократических и протодемократических институтов (совет деревни, традиционное посредничество в конфликтных ситуациях, суд по древнему обычаю) нет ни единого шанса: хоть их мирный коллективный метод совещания и решения конфликтов очень ценен, денежный кран будет перекрыт, как только они отойдут от нашего проверенного рецепта, – точно так же, как народной медицине лучше убраться подальше при появлении медицины западной.
Судя по рекомендациям западных доноров, может показаться, что демократия – некий продукт на экспорт: готово к употреблению, в удобной упаковке, можно пересылать по почте. Демократия становится сборной моделью из «Икеи» под названием «свободные и честные выборы», которую получатель легко соберет на месте, пользуясь при необходимости прилагаемой инструкцией.
А если собранная мебель будет криво стоять? Или на ней будет неудобно сидеть? Или она будет разваливаться? Что ж, тогда виноват не далекий производитель, а местный потребитель.
То, что в еще неокрепших государствах выборы могут приводить к самым неожиданным последствиям (насилие, этнические волнения, преступность, коррупция…), отходит на второй план. О том, что выборы не приводят к демократизации, а даже, наоборот, ей препятствуют и разрушают ее, ради удобства забывается. Каждая страна мира должна проводить выборы, и всё тут, несмотря на потенциальный collateral damage[35]. Вероятно, наш электоральный фундаментализм воистину принимает тут форму нового, всемирного евангелизма. Выборы – таинство этой новой веры, ее неотъемлемый ритуал, в котором форма важнее содержания.
По большому счету, странно, что мы так фокусируемся на выборах: люди экспериментируют с демократией почти три тысячи лет, и только последние 200 лет исключительно с помощью выборов. И всё же мы считаем, что это единственно возможный способ. Почему? Конечно, здесь играет роль сила привычки, но есть и более фундаментальная причина: нельзя отрицать, что прошедшие два века выборы отлично справлялись со своей задачей. Невзирая на некоторые печально известные уродливые проявления, они очень часто приводили к демократии: с их помощью был организован тяжелый процесс поиска приемлемого баланса между противоречивыми требованиями эффективности и легитимности.
При этом часто забывается, что выборы возникли в совсем другом контексте, чем тот, в котором им приходится функционировать сейчас. Фундаменталисты часто не видят исторической перспективы и исходят из того, что их догмы всегда были незыблемыми. Поэтому электоральные фундаменталисты плохо знают историю демократии. Получается, что это правая вера без ретроспективы. Нам действительно надо оглянуться назад.
Когда деятели Американской и Французской революций предлагали выборы как инструмент, с помощью которого можно будет узнать «волю народа», не было еще ни политических партий, ни законов о всеобщем избирательном праве, ни коммерческих СМИ, не говоря уже о социальных сетях. Мало того, изобретатели выборно-представительной демократии и представить себе не могли, что такие феномены могут появиться. На рисунке 1 показано, как с тех пор эволюционировал политический ландшафт.
Было время, когда по всей Европе было не найти граждан: были одни подданные. Начиная со Средних веков и до XVIII века – здесь мы рисуем картину широкими мазками – власть была сосредоточена в руках суверенного правителя. (Оставим пока за скобками Голландскую, Флорентийскую и Венецианскую республики: это исключения.) Сидя в своем дворце, крепости или замке, возможно при поддержке некоторых из дворян или советников, правитель принимал решения по вопросам, касающимся управления страной. На рыночной площади глашатай озвучивал его решения, и тот, кто хотел его услышать, его слышал. Отношения между властью и народом осуществлялись в одностороннем порядке, и это продолжалось от феодализма до абсолютизма.
Рис. 1. Выборы в исторической перспективе: ключевые этапы выборно-представительного устройства в западных демократиях
Но с течением времени возникла «публичная сфера», если обратиться к терминологии немецкого социолога Юргена Хабермаса. Сопротивляясь жесткому вертикальному управлению, подданные стали обсуждать насущные темы в публичных местах. В XVIII веке, веке просвещенного деспотизма, эти ручейки слились в мощный поток, и, как показывает Хабермас, возникли постоянные места, где люди обсуждали общественные вопросы. Этим занимались в центральноевропейских кофейнях, на немецких Tischgemeinschaften[36], во французских ресторанах и британских public houses[37]. Именно в этих новых заведениях и сформировалась публичная сфера: в кафе, театрах, операх и т. д., хотя, наверное, больше всего в диковинном нововведении того времени – газете. Политическая осведомленность, наметившаяся еще в эпоху Возрождения, становилась отличительной чертой все большего количества социальных групп. Родился гражданин.
Кульминацией стали Американская революция 1776 года и Французская революция 1789 года: восставшая буржуазия скинула иго британской и французской корон и решила, что теперь сувереном должен быть не монарх, а народ. И чтобы дать этому народу возможность говорить (по крайней мере, буржуазному сегменту: избирательное право было еще далеко не у всех), была изобретена некая формальная процедура – выборы, процедура, которая до этого в основном применялась для избрания нового папы римского{49}. Выборы были известны как метод, позволяющий добиться единогласия среди группы единомышленников, например кардиналов. Отныне выборы должны были и в политике приводить к единогласию людей, считавшихся добродетельными в их кругах. Чтобы представить это, гражданину начала XXI века придется приложить некоторое усилие: оказывается, выборы не всегда были полем брани, когда-то их изобрели, чтобы добиваться единогласия! Оптимальное публичное пространство – то место, где теперь можно было в буквальном смысле parler, свободно говорить ради общего дела, – стало отныне называться парламентом. Эдмунд Берк сказал о нем следующее: «Парламент – не съезд представителей разных и враждебных интересов, каждый из которых должен защищать эти интересы как агент и адвокат против других агентов и адвокатов; но парламент – это совещательный орган одной нации, обладающей одним интересом, как целое»{50}. Даже Жан-Жак Руссо, во многом расходившийся с Берком, придерживался того же мнения: «Чем больше согласия в собраниях, то есть чем ближе мнения к полному единодушию, тем явственнее господствует общая воля, но долгие споры, разногласия, шумные перебранки говорят о преобладании частных интересов и об упадке Государства»{51}. Парламентаризм стал ответной реакцией буржуазии конца XVIII века на абсолютизм «старого порядка». Он представлял собой форму непрямой представительной демократии. Имеющий право голоса «народ» (читай: буржуазная элита) выбирал себе представителей, которые будут в парламенте защищать интересы общественного дела. Выборы, народное представительство и свобода прессы шли нога в ногу.
В течение последующих двух веков этот метод XVIII века претерпевает пять структурных трансформаций: появляются политические партии, вводится всеобщее избирательное право, усложняется структура гражданского общества, публичное пространство наводняют коммерческие СМИ и социальные сети добавляют жару. Само собой разумеется, вносят свою лепту и внешние экономические факторы: во времена кризиса происходит спад демократического энтузиазма (межвоенный период, наше время), во времена благосостояния – подъем.
Политические партии возникли лишь после 1850 года. Конечно, предпосылки для разделения общества в молодых демократиях были и раньше: между городскими жителями и провинциалами, между капиталом и земельными собственниками, между либералами и католиками, между сторонниками и противниками федерализма. Но только к концу XIX века эти группы эволюционировали в прочные, официально признанные организации. Это еще были не массовые, а скорее кадровые партии со скромной численностью и амбициями к управлению. Но эта ситуация быстро изменилась. Хотя в большинстве конституций они вообще не упоминаются, эти организации эволюционировали в важнейших игроков на политическом поле. Например, социалистическая партия благодаря индустриализации повсюду стала важнейшим борцом за всеобщее избирательное право. Признание последнего (в 1917 году в Бельгии и Нидерландах, в 1918 году в Великобритании – и там, и там только для мужчин) означало структурную трансформацию выборной системы: с этого момента выборы станут борьбой между организованными в партии представителями различных интересов общества, пытающимися заручиться поддержкой как можно большей части электората. И если раньше выборы были призваны формировать единство, то теперь они превратились в настоящие арены для ожесточенной борьбы кандидатов между собой. Началось перетягивание каната между партиями.
После Первой мировой войны любовь к выборной демократии стала остывать на глазах. Экономический кризис двадцатых-тридцатых годов подточил поддержку партий. По всей Европе все бóльшую популярность стали приобретать антипарламентаристские, тоталитаристские модели. Никто не мог предположить, что после мирового пожара 1940–1945 годов демократия снова возродится к жизни, но последствия войны и необычайный рост благосостояния пятидесятых – шестидесятых годов привели к тому, что в западном мире многие положительно отнеслись к идее реанимировать парламентскую систему.
В послевоенные годы на политическом поле главенствовали массовые партии. Государство было в их руках. Благодаря целой сети организаций-посредников (профсоюзов, корпораций, контролируемой государством системы здравоохранения, даже сети школ и собственных СМИ) они смогли стать близкими отдельному гражданину. По сути, публичная сфера находилась в руках этих общественных объединений. Правда, правительство было собственником самых больших и новых на тот момент СМИ (радио и телевидения), но партии также получили возможность высказываться: через участие в советах директоров, использование эфирного времени или развитие собственных телерадиокомпаний. В результате была достигнута высочайшая стабильность системы, с высокой степенью лояльности к партиям и предсказуемым поведением избирателей.
Этому равновесию положило конец неолиберальное мышление, резко изменившее публичное пространство в восьмидесятые и девяностые годы. Теперь идейным вдохновителем публичного пространства уже не могли быть общественные организации, их место занял свободный рынок. Это касалось бесчисленных сфер общественной жизни, в особенности СМИ. Партийные газеты исчезли или были перекуплены медиаконцернами, появились новые коммерческие каналы, даже государственные каналы стали все больше ориентироваться на рынок. Произошел настоящий бум в сфере СМИ. Непомерно выросло значение тиражей и охвата аудитории: они стали ежедневно меняющимся курсом акций общественного мнения. Коммерческие СМИ проявили себя как важнейшие производители общественного консенсуса в обществе. Напротив, общественным организациям пришлось существенно потесниться: то ли из-за того, что профсоюзы и государственная система здравоохранения сами пошли по рыночному пути, то ли из-за того, что теперь правительство предпочитало обращаться к гражданину напрямую, не прибегая к помощи социальных посредников. Результат оказался предсказуемым: гражданин превратился в потребителя, выборы – в лотерею. Партии, особенно когда их финансирование в основном обеспечивало правительство (зачастую с целью предотвратить коррупцию), перестали видеть в своем лице посредников между народом и властью и получили доступ к кормушке государственного аппарата. Чтобы оставаться возле нее, им необходимо (и тогда, и сейчас) раз в несколько лет обращаться к избирателю, чтобы подзаправиться легитимностью. Выборы стали ведущейся в СМИ борьбой за благосклонность избирателя. Нешуточные страсти, вызываемые таким образом у народа, скрыли из виду гораздо более глубокую эмоцию – растущее недовольство всем, что имеет отношение к политике. «Должно быть, трудно найти человека, не настроенного цинично по отношению к тому коммерческому медийному спектаклю, который нам выдают за выборы», – сказал американский теоретик Майкл Хардт пару лет назад{52}. «Elections are just a beauty contest for ugly people»[38] – под таким язвительным названием это интервью было опубликовано в интернете.
В 2004 году британский социолог Колин Крауч впервые использовал термин «постдемократия» для описания этой новой, контролируемой СМИ системы:
«При этой модели, несмотря на проведение выборов и возможность смены правительств, публичные предвыборные дебаты представляют собой тщательно срежиссированный спектакль, управляемый соперничающими командами профессионалов, которые владеют техниками убеждения, и ограниченный небольшим кругом проблем, отобранных этими командами. Масса граждан играет пассивную, молчаливую, даже апатичную роль, откликаясь лишь на посылаемые им сигналы. За этим спектаклем электоральной игры разворачивается непубличная реальная политика, которая опирается на взаимодействие между избранными правительствами и элитами, представленными преимущественно деловыми кругами»{53}.
Безусловно, под определение постдемократического государства более всего подходила Италия Берлускони, но и в других странах мы видели схожие процессы. Начиная с конца ХХ века гражданин становится похож на своего предшественника в XIX веке. Поскольку гражданские общественные объединения ослабли, между государством и индивидом опять пролегла пропасть. Исчезли инстанции, направляющие усилия в единое русло. Кто теперь соберет множество индивидуальных предпочтений воедино? Кто переведет для вышестоящих стремления простых людей на язык политических тезисов? Кто вычленит из пестрой разноголосицы ясные идеи и облечет во внятные слова? Об «индивидуализме» говорят как о чем-то недостойном, как будто в том, что обрушились коллективные структуры, виноват сам гражданин. Но, по сути, дело в следующем: народ опять превратился в массы, хор – в какофонию.
И это еще не всё. Потому что после возникновения политических партий, введения всеобщего избирательного права, подъема и упадка общественных организаций, захвата власти коммерческими СМИ – после всего этого в начале XXI века появилось нечто совершенно новое: социальные сети. Допустим, само слово «социальные» неверно: Facebook, Twitter, Instagram, Flickr, Tumblr и Pinterest такие же коммерческие СМИ, как и CNN, FOX и Euronews, с тем отличием, что их владельцы ждут от вас не того, что вы будете смотреть и слушать, а того, что вы будете писать и делиться. Их главная цель – продержать вас как можно дольше на сайте, потому что это позволяет зарабатывать на рекламе. Вот почему им важно количество ваших «друзей» и «фолловеров», вот для чего нужен вызывающий привыкание круговорот «лайков» и «репостов», вот откуда берутся постоянные напоминания о том, что сейчас делают другие, бесконечные предложения подружиться и непрошенные уведомления о популярных постах.
Но социальные сети – это СМИ с совершенно особой динамикой. Если гражданин 2000 года мог поминутно следить за политическим действом по радио, телевидению или в интернете, то сегодня он ежесекундно может на него реагировать: писать комментарии и тем самым мобилизовать остальных. Культура немедленного репортажа получает в довесок еще и моментальную обратную связь. То есть какофонии становится еще больше. Работа общественного деятеля и особенно выборных политиков не становится от этого легче: он не только сразу видит, нравятся ли его предложения гражданину, но и скольких людей этот гражданин сможет взбудоражить. Новые технологии дают людям возможность высказаться (позволяя Мубараку и Бен Али присоединиться к разговору), но из-за этих новых возможностей выборная система еще больше трещит по швам.
К тому же коммерческие СМИ и социальные сети только укрепляют друг друга. Подхватывая и тиражируя новости друг друга, они создают атмосферу всеобщей взвинченности. Жесткая конкуренция, падение продаж и риск потерять рекламодателей только усугубляют рвение коммерческих СМИ еще более эмоционально освещать еще более раздутые конфликты, а их редакции всё уменьшаются, молодеют и дешевеют. Национальная политика превратилась для радио и телевидения в ежедневную мыльную оперу, в радиоспектакль с бесплатными актерами. По большей части редакции сами определяют крупный план, сценарий и подбор типажей и актеров, а политики с переменным успехом стараются привнести хоть какие-нибудь собственные акценты. Самые популярные политики – это те, кто умеет перекроить сценарий и сместить фокус обсуждения в дебатах, то есть направить их в нужное им русло. Предусмотрена и возможность импровизации, и имя ей – горячие новости.
Что касается печатных СМИ, то там ситуация еще сложнее. Газеты теряют читателей, а ряды партий редеют: старые игроки демократии в начале XXI века превратились в утопающих, с громкими криками цепляющихся друг за друга, не сознавая, что тем самым только приближают свой конец. Свободная пресса вовсе не так свободна, как ей кажется, ибо связана по рукам и ногам форматом, тиражами, акционерами и неизменной востребованностью желтизны.
Результаты соответствующие. Из-за коллективной истерии коммерческих СМИ, социальных сетей и политических партий предвыборная лихорадка стала перманентной. Подобные вещи имеют серьезные последствия для функционирования демократии: эффективность страдает от оглядок на выборы, легитимность – от непрерывных позывов презентовать себя как можно ярче. Существующая выборная система раз за разом приводит к несоблюдению общественных интересов и невозможности работать на долгосрочную перспективу: и общественные интересы, и долгосрочная перспектива приносятся в жертву краткосрочным соображениям и интересам партий. Когда-то выборы были изобретены, чтобы осуществить демократию, но сейчас, в современных условиях, они, скорее, стали для нее помехой.
И напоследок масла в огонь добавили финансовый пузырь 2008 года и последовавшие экономический и валютный кризисы, окончательно лишившие систему всяких надежд на спокойствие. Вновь стали актуальны популизм, технократия и антипарламентаризм. На тридцатые годы пока еще не похоже, но сходство с двадцатыми становится все заметнее.
Если бы отцы-основатели США и герои Великой французской революции знали, в каких условиях придется функционировать их методу 250 лет спустя, они точно предложили бы другую модель. Представим себе, что сегодня нужно было бы разработать процедуру, призванную выяснить волю народа: неужели лучшее, что мы смогли бы придумать, это заставить людей раз в четыре или пять лет вставать в очередь на избирательном участке, где в сумраке кабинки для голосования они смогут поставить галочку, причем не напротив какого-либо проекта, а напротив имен в списке, о которых многие месяцы не прекращались разговоры в некоей коммерческой среде, извлекающей из этой суматохи собственную выгоду? И назвали бы мы тогда этот странный, архаичный ритуал «торжеством демократии»?
Из-за того, что мы свели демократию к представительной демократии, а представительную демократию – к выборам, эта ценная сама по себе система по уши увязла в проблемах. Впервые со времен Американской и Великой французской революций значение следующих выборов важнее, чем уже состоявшихся. Такая трансформация просто ошарашивает. Выборы уже не дают победителю долгосрочного мандата. Весла, которыми мы гребем, становятся всё короче. Демократия так хрупка, как не была ни разу со времен Второй мировой войны. Если мы не будем осторожными, она постепенно выродится в диктатуру выборов.
Вообще-то мы не должны удивляться: какие из изобретений конца XVIII века все еще востребованы в начале двадцать первого? Дилижанс? Монгольфьер? Табакерка? Вывод будет не очень популярным, но мы все же его озвучим: на данный момент выборы примитивны. Демократия, которая сводится к выборам, подписывает себе смертный приговор. Все именно так, как если бы в воздухе мы ограничились бы перемещениями на воздушном шаре, несмотря на смерчи и климатические изменения, несмотря на то что в небе уже появились высоковольтные линии и частные спортивные самолеты, а в космосе – космические станции.
Возможность заявить о себе во всеуслышание перекраивает наш мир. Только кто теперь возьмет слово? Это ключевой вопрос. До изобретения книгопечатания по всей Европе было всего несколько сотен людей, имеющих право проявлять индивидуальность: аббаты, князья и монархи решали, какие тексты можно переписывать, а какие нет. Но благодаря появлению печатного станка эту власть вдруг получили тысячи людей. Так старая власть пришла в упадок, и изобретение Гутенберга облегчило переход от Средних веков к Возрождению. Но теперь, с появлением социальных сетей, создается впечатление, что печатный станок есть у каждого! Скорее даже, что каждый теперь стоит во главе скриптория. Гражданин больше не читатель, а главный редактор, и за счет этого происходит важное перераспределение власти. Крупным, состоявшимся фирмам приходится вставать на колени перед немногочисленными недовольными клиентами{54}. Считавшиеся незыблемыми диктатуры теряют контроль над своим населением, которому удается организоваться через социальные сети. Политические партии больше не продуцируют единодушие в обществе – теперь уже общество раздирает их на куски. Их классическая патриархальная модель защиты интересов граждан не работает в условиях, когда гражданин сам может заявить о себе громче, чем когда-либо. По своей сути демократия – это вертикальная модель, а XXI век становится все горизонтальнее. Нидерландский профессор Ян Ротманс, преподаватель переходного менеджмента, недавно сказал: «Сейчас движение идет от централизации к децентрализации, от вертикального к горизонтальному, от сверху вниз к снизу вверх. Более 100 лет мы потратили на то, чтобы выстроить свое общество именно так: централизованно, сверху вниз, вертикально. Теперь весь этот образ мышления перевернут вверх ногами. Так что приходится добывать очень много новых знаний и отказываться от старых. Самый главный барьер – в нашей голове»{55}.
Выборы – это ископаемое горючее политики: когда-то они придали огромное ускорение развитию демократии, как нефть – развитию экономики, но сейчас оказывается, что они вызывают новые колоссальные проблемы. Если мы срочно не задумаемся о свойствах нашего демократического горючего, нам грозит невиданный системный кризис. Упрямо держаться за одни только выборы в эпоху экономической депрессии, истеричных СМИ и быстро меняющейся культуры значит практически то же самое, что преднамеренно похоронить демократию.
Как же случилось, что все зашло так далеко?
3. Патогенез
Демократическая процедура: жеребьевка (Античность и эпоха Возрождения)
Профессор Верден – один из самых интересных преподавателей, которых я встречал. На первом курсе он вел у меня исторический метод – сухой, но необходимый предмет, – а также историю Греции. На этих лекциях раз в неделю его приятный голос рассказывал нам об истории минойской цивилизации, об управлении в Спарте, о росте флота в Афинах и завоеваниях Александра Великого. Верден был преподавателем классического толка. Он не пользовался ни диафильмами, ни слайдами, а PowerPoint еще не изобрели. Все, что он делал, – в течение двух часов удивительно интересно рассказывал. Он был седой, разумеется, в костюме и при галстуке, в очках в роговой оправе. Эрудирован, красноречив, подчеркнуто вежлив. Дело было осенью 1989 года; я только что поступил на отделение археологии.
Однажды утром в понедельник, до занятий, один из моих однокурсников показывал всем какие-то хрупкие на вид камешки. На выходных он ездил веселиться в Берлин. За несколько дней до этого рухнула Берлинская стена. И вот он, как будущий археолог, между возлияниями прихватил несколько бетонных осколков.
Верден – имени у него еще не было – должен был нам рассказывать об учреждениях V века в Афинах. Перикл, греческий город-государство, рождение демократии: нам предстояло услышать, к какой славной традиции скоро присоединятся восточные немы.
Но тот мир, который обрисовал нам профессор, был несказанно далек от всего того, что мы каждый день видели в новостях по телевизору. У меня сохранился тот конспект. «Цель – политическое равенство, – читаю я в своей бывшей тетрадке, а ниже: – не всего населения, только среди граждан; а это лишь малая часть». Я помню, что был слегка разочарован. Весь Берлин, стоя на холоде и раскачиваясь в такт, распевал: «Wir sind das Volk»[39], но в древних Афинах почти никто из этих одетых в куртки людей не имел бы права голоса. «Используя термин „демократизация“, – так было написано в программе лекций, – нельзя забывать, конечно, об основной характерной черте полиса, а именно об эксклюзивности гражданского права». Женщины, приезжие, несовершеннолетние и рабы гражданами не считались.
Но это еще не всё. Тремя основными органами власти были Народное собрание, Совет пятисот и Народный суд. Принимать участие в их работе мог любой гражданин, но, торжественно произнес профессор, было три аспекта, в которых «надо полностью отдавать себе отчет».
«Во-первых, участие граждан осуществлялось напрямую. Это идет вразрез с нашей современной системой, где народные представители имеют гораздо бóльшую специализацию. Из простых граждан сейчас собирается только суд присяжных. Во-вторых, важные решения принимались огромным количеством людей. На Экклесию, или Народное собрание, собирались тысячи людей; в Гелиэе, или Народном суде, состояло шесть тысяч человек. На некоторые заседания суда присяжных собиралось до нескольких сот присяжных. И это идет вразрез с нашей системой, где мы видим некоторую олигархизацию демократии».
«Олигархизация» – в этом весь Верден. Однако самое интересное еще впереди. «В-третьих, назначение на должность происходило в результате жеребьевки, включая значительную часть государственных должностей». Тут-то я уже вскочил со стула. Мне только что исполнилось 18 лет, в этом возрасте человек получает право голоса. Вскоре мне впервые предстоит заявить, какие люди и какая партия вызывают у меня наибольшее доверие. На бумаге этот афинский взгляд на равенство выглядел красиво, но хотел ли я жить в подобной демократии с элементами копеечной лотереи, детали которой описывал Верден? И даже так: хотели ли этого восточные немы, вышедшие на улицы за свободные выборы?
У жеребьевки есть свои преимущества, спокойно продолжал Верден. «Целью было нейтрализовать личное влияние. А в Риме подобного не было, и поэтому там наблюдались бесчисленные скандалы, связанные с подкупом и взятками. Кроме того, в Афинах на должность люди назначались на один год и обычно не могли переизбираться. Вообще на всех уровнях граждане должны были как можно чаще сменять друг друга, поскольку цель заключалась в том, чтобы обеспечить максимальное участие, а значит, и равенство. В сердце афинской демократической системы находились именно жеребьевка и ротация».
Я разрывался между энтузиазмом и скептицизмом. Мог бы я доверять представителям администраций, которых не выбирали, а назначили жребием? Как такое возможно? Как тут избежать дилетантства?
«Афинская система была скорее прагматичной, чем догматичной, – рассказывал Верден далее, – она основывалась не на теории, а на опыте. Например, жеребьевку не применяли для назначения на высшие военные и финансовые должности. Там существовала процедура выборов, ротация не была обязательной. Так, компетентных лиц можно было переизбирать. Такого человека, как Перикл, например, выбирали стратегом 14 лет подряд. То есть здесь принцип равенства уступал принципу безопасности. Но это касалось лишь меньшинства мандатов на управление».
Я вышел из аудитории sadder but wiser[40]. Мистический оплот нашей демократии оказался просто архаичной системой с расшатанными процедурами. Жеребьевка и ротация, конечно, прекрасно подходят мелким городам-государствам давнего прошлого, когда мужи в сандалиях и с простынями, перекинутыми через плечо, могли целыми днями неторопливо беседовать на пыльных рыночных площадях о постройке нового храма или колодца. Но черпать в них вдохновение для бурного настоящего? В наших беспокойных руках все еще тлела бетонная крошка от Берлинской стены.
Недавно я раскопал в своем архиве курс профессора Вердена (теперь я знаю, что его звали Херман). Если синдром демократической усталости действительно вызван нынешней выборно-представительной демократией, если наш кризис демократии происходит из-за специфической процедуры, до уровня которой мы ее низвели, если выборы все чаще скорее тормозят демократию, нежели помогают ей, может оказаться полезным посмотреть, как же раньше люди реализовывали свое стремление к демократии.
В своем любопытстве я не одинок. В последние годы в академических кругах сильно возрос интерес к истории нашего современного политического устройства. Настоящим прорывом стала книга французского политолога Бернара Манена «Принципы представительного правительства» («Principes du Gouvernement Représentatif»), вышедшая в 1995 году{56}. Первое же предложение произвело эффект разорвавшейся бомбы: «Современное демократическое правление возникло из политической системы, которую ее основатели считали противоположностью демократии». Манен первый занялся вопросом, почему так важны выборы. Он буквально по нитке собрал информацию о том, по какой причине сразу же после Американской и Великой французской революций была сознательно принята выборно-представительная система. И вот зачем: чтобы оставить суматоху демократии за дверью! «Представительное управление было введено с полным осознанием, что выбранные представители обязательно будут особенными гражданами, отличными в социальном плане от тех, кто их выбирал». В основании нашей современной демократии заложен также и аристократический рефлекс. Автор делает далеко идущий вывод: та представительная система, которую мы знаем, «содержит элементы как демократические, так и недемократические»{57}. К этому я еще вернусь.
Вслед за блестящим исследованием Манена в последние годы вышло несколько книг, предлагающих свежий взгляд на проблему{58}. Эти новые работы доказывают, что наша современная демократия – результат случайного стечения обстоятельств за два последних века. Они рассматривают историю предшествующих веков в неожиданном ракурсе, показывая, что имели место и другие возможные виды демократии.
Хорошо, что же было до Американской и Великой французской революций? Оказывается, в античные времена и в эпоху Возрождения в разных местах важную роль играла жеребьевка.
Итак, если вернуться назад, то в древних Афинах V и IV веков до нашей эры должности в важнейших органах управления действительно назначались жребием: Совет пятисот (Буле), Народный суд (Гелиэя) и почти все основные государственные должности (Arkhai). Совет пятисот был главным правительственным органом афинской демократии: он составлял повестку дня для Народного суда (Экклесии), осуществлял контроль над финансами, общественными работами и деятельностью должностных лиц и даже отвечал за дипломатические отношения с соседними державами. Назначенные жребием граждане находились в самом центре власти, а из 700 должностных лиц 600 назначались посредством жеребьевки, остальные избирались. Народный суд почти каждое утро выбирал сотни присяжных из числа шести тысяч граждан. Для этого в каждой из фил (общин) использовался собственный клеротерион, большая вертикальная плита с пятью колонками отверстий, в которые потенциальные судьи должны были вставить каждый свою табличку с именем. Жеребьевка происходила следующим образом: из вертикальной трубки с воронкой вверху и затвором внизу, находящейся рядом с плитой, вынимались шарики двух цветов, совпадающие с рядом именных табличек в клеротерионе. Кого вытягивали, тот мог участвовать в суде. Можно сказать, что люди кидали кости, чтобы получить возможность вершить суд; это была в некотором роде рулетка, позволяющая распределить власть по справедливости.
Жеребьевка использовалась как в законодательной, так и в исполнительной и судебной власти (рис. 2b). Каждый новый закон готовился Советом пятисот, в Народном собрании проходило голосование, Народный суд проверял его на законность, а должностные лица следили за его выполнением. Совет пятисот контролировал исполнительную власть, Народный суд выполнял функции судебной власти.
Мандаты перераспределялись в афинской демократии на удивление часто: народным судьей выбирали всего на один день, членом Совета или должностным лицом – всего на год (за это человек получал плату). Повторное попадание в Совет допускалось только один раз, с обязательным перерывом хотя бы в один год. Любой, кто считал себя способным к управлению, могли предложить свою кандидатуру. Благодаря этому достигалось очень широкое участие: от 50 до 70 % граждан старше 30 лет за свою жизнь участвовали в работе Совета.
Сегодня мы можем удивляться, что во время своего расцвета афинская демократия функционировала благодаря жеребьевке, но для современников в этом не было ничего необычного. Аристотель без обиняков утверждал: «Одной из основ демократического строя является замещение должностей по жребию, олигархического же – по избранию». Хотя сам Аристотель был сторонником смешанной формы правления, он подчеркивал различие между жеребьевкой и выборами, назвав первый метод демократическим, а второй – нет. Подтверждение этому можно найти и в других его высказываниях. Например, о Спарте он пишет, что ее «государственный строй представляет собой олигархию, как имеющий много олигархических черт, хотя бы, например, то, что все должности замещаются путем избрания и нет ни одной замещаемой по жребию». Жребий, по Аристотелю, был проявлением истинной демократии. Не зря афинская демократия отличалась тем, что при ней практически не существовало разницы между политиками и обывателями, между правителями и управляемыми, между должностными лицами и подчиненными им гражданами. Должность «профессионального политика», не вызывающая у нас никакого удивления, показалась бы простому афинянину совершенно абсурдной. По этому поводу Аристотель высказал очень интересную мысль: «Основным началом демократического строя является свобода ‹…›. А одно из условий свободы – по очереди быть управляемым и править»{59}. Этой идее уже два с половиной тысячелетия, но какая поразительная проницательность! Свобода – не то же самое, что постоянно быть у власти. И не быть от нее в стороне. И тем более свобода не значит покорно сдаться на волю власти. Свобода – это баланс между лидерством и командной работой, между ситуациями, где вы управляете, и ситуациями, где вами управляют. Сейчас, когда «олигархизация демократии» зашла гораздо дальше, чем 25 лет тому назад, когда профессор Верден предостерегал нас, кажется, что такое понимание свободы напрочь забыто.
Рис. 2. Главные органы афинской демократии (V и IV вв. до н. э.) и распределение законодательной, исполнительной и судебной власти
Часто афинскую демократию определяют как «прямую». Верден рассказывал нам о большом Народном собрании, проходившем раз в месяц при прямом участии тысяч граждан. В IV веке до нашей эры оно собиралось почти еженедельно. Но основная часть работы приходилась на другие, более специализированные органы, такие как Народный суд и Совет пятисот, а также на деятельность должностных лиц. И там говорил не весь народ, а произвольно выбранные его представители, сведенные вместе судьбой. Не весь афинский народ участвовал в решениях этих инстанций напрямую. Поэтому я полностью согласен с одним из последних исследований, где афинская демократия рассматривается не как «прямая», а как особый вид представительной демократии – невыборная представительная демократия{60}. Я бы даже пошел дальше. Поскольку представительство осуществляется посредством жеребьевки, мы можем говорить о алеаторно-представительной демократии (от лат. alea – игральная кость). Алеаторно-представительная демократия – это непрямая форма правления, при которой разделение на правителей и управляемых происходит при помощи жеребьевки, а не избрания. В политической истории Западной Европы гораздо больше примеров подобного устройства, чем принято считать.
Во времена Римской республики некоторые следы афинской системы жеребьевки еще можно проследить, но в эпоху империи она вышла из употребления. Только в Средние века, в период расцвета городов Северной Италии, эта процедура вновь вошла в употребление. Самые ранние примеры мы видим в Болонье (1245), Виченце (1264), Новаре (1287) и Пизе (1307), но больше всего свидетельств до нас дошло из великих городов Возрождения: Венеции (1268) и Флоренции (1328) (табл. 1).
И в Венеции, и во Флоренции применяли жеребьевку, но делали это совершенно по-разному. В Венеции на протяжении многих веков использовали жеребьевку для назначения главы государства – дожа (слово, равнозначное dux, то есть «герцог»). Венецианская республика была не демократией, а олигархией под началом нескольких аристократических семей: управление находилось в руках дворян числом от нескольких сотен до нескольких тысяч, составлявших всего лишь 1 % от всего населения. От трети до четверти из них занимали почти все государственные должности. Титул дожа был пожизненным, но, в отличие от королевской власти, не передавался по наследству. Ради предотвращения распрей между семьями при выборе нового дожа стала использоваться жеребьевка, но чтобы удостовериться в том, что во главе островного государства окажется компетентный человек, в процедуру жеребьевки было добавлено голосование. В результате образовалась невероятно сложная система из десяти этапов, занимавшая десять дней. Процедура начиналась с Большого совета (Consiglio Grande), в котором заседало 500 знатных горожан (их количество начиная с XIV века увеличивалось). Каждый из них клал в урну деревянный шар (ballotta) со своим именем, а младший из присутствующих шел из зала Совета в базилику Святого Марка, чтобы привести оттуда первого попавшегося мальчика от восьми до десяти лет. Ему разрешалось присоединиться к конклаву, и он назначался ballottino – мальчиком, заведующим шарами. Своей чистой от скверны детской рукой он доставал из урны имена 30 участников; затем во время еще одной жеребьевки это количество «выпаривалось» до девяти человек. Это был первый избирательный комитет. В его задачу входило опять расшить свою группу в девять человек до сорока: за счет голосования с квалифицированным особым большинством (вообще-то это был подвид кооптации). А затем эти сорок жеребьевкой опять «выпаривались» до двенадцати, которым вновь предоставлялось право голосовать и довести количество до двадцати пяти. И так продолжалось еще долго: избирательный комитет каждый раз прореживался жеребьевкой, а затем расширялся голосованием, друг друга сменяли алеаторный и выборный методы. В девятый, предпоследний, заход избирательный комитет доходил до 41 человека. Именно они наконец шли совещаться за закрытыми дверями, чтобы выбрать дожа.
Таблица 1. Жеребьевка как политический инструмент Античности и эпохи Возрождения
Венецианская система может показаться жутко затянутой, но не так давно группа ученых, используя компьютерные вычисления, определила, что описанный leader election protocol[41] интересен тем, что победа на самом деле достается самым популярным кандидатам, при том что шанс есть и у аутсайдеров, а коррупционное влияние исключается. К тому же таким образом можно выдвинуть компромиссного кандидата, выгодно подав его скромные преимущества{61}. Все это шло на пользу и легитимности, и эффективности новоизбранного дожа. Во всяком случае, историки сходятся в том, что необычайная стабильность Венецианской республики, просуществовавшей больше пяти веков, пока Наполеон не положил ей конец, частично объясняется использованием этой хитроумной системы с шарами. Несомненно, без жеребьевки республика погибла бы гораздо раньше в результате распрей между влиятельными семьями. (Сам собой напрашивается вопрос: а что ждет современные правительства, раздираемые на части межпартийными раздорами?)
Pour la petite histoire[42]: от венецианской системы осталось одно любопытное напоминание. По одной из странных причуд судьбы, которыми славится этимология, английское слово ballot (избирательный бюллетень) напрямую происходит от итальянского ballotte – шарики для жеребьевки[43].
Во Флоренции дело обстояло иначе. Жеребьевка была там известна как система imborsazione (дословно: «складывание в мешок»). Цель преследовалась та же: снизить остроту конфликтов между заинтересованными группами, но флорентийцы пошли гораздо дальше, чем жители Венеции. Им важно было избирать жребием не только главу государства, но и практически все должности в администрации и органах управления. Если Венеция была республикой аристократических семей, то Флоренция – республикой, где всем заправляли высшие слои буржуазии и влиятельные корпорации. Поэтому, как и в Древних Афинах, избранные по жребию служили в основных государственных инстанциях: городском правительстве (Синьории), законодательном совете и магистратах. Синьория, как и Совет пятисот в Афинах, была высшим исполнительным органом, занимавшимся международной политикой, административным контролем и даже подготовкой законов. В отличие от жителей Афин, граждане не имели права самостоятельно подавать заявку на занятие должности: их должна была выставить гильдия, родственники или какая-либо организация; тогда они приобретали статус nominati[44]. Затем проводилась следующая сортировка: комиссия, составленная из представителей разных городских слоев, решала голосованием, кто из кандидатов подходит для этой должности. Лишь затем проводилась жеребьевка, называвшаяся la tratta, «вытягивание». Потом из списка вычеркивались имена людей, уже имевших мандат или совершивших преступление. Таким образом, процесс состоял из четырех этапов: выдвижение кандидата, голосование, жеребьевка, вычеркивание. Как и в Афинах, было запрещено совмещать различные должности и занимать должность более одного года. И как в Афинах, эта система позволяла добиться широкой вовлеченности населения: целых 75 % граждан выставлялись кандидатами. Nominati не знали, прошли ли они в следующий тур: список не разглашался. Если кандидата не приглашали на одну из нескольких тысяч государственных должностей, это значило, что он не прошел либо жеребьевку, либо голосование.
Венецианская модель применялась впоследствии в Парме, Иврее, Брешии и Болонье, а флорентийская – в Орвието, Сиене, Пистойе, Перудже и Лукке. Благодаря бесчисленным выгодным торговым контрактам она даже дошла до Франкфурта-на-Майне. На Пиренейском полуострове эту процедуру переняли различные города королевства Арагон, например Льейда (1386), Сарагоса (1443), Жирона (1457) и Барселона (1498). Там жеребьевка приобрела известность под названием insaculación (буквально «вытягивание жребия из мешка» – перевод на испанский итальянского слова imborsazione). И здесь преследовалась та же цель: повысить устойчивость системы, непредвзято распределяя полномочия власти. Прекратились бесконечные споры о том, кто имеет право на городской или муниципальный мандат или на заседание в избирательной комиссии, – теперь такие вопросы решались быстро и беспристрастно. Недовольные могли утешиться мыслью, что такая возможность им скоро представится еще раз: как в Афинах и Флоренции, назначенную по жребию должность нельзя было занимать более года. Конечно, такая быстрая ротация способствовала вовлеченности. В Кастилии, другом крупном королевстве полуострова, жеребьевкой пользовались в Мурсии, Ла-Манче и Эстремадуре. Когда в 1492 году король Фердинанд II присоединил королевство Кастилия к Арагону, заложив тем самым основу для образования Испании, он сказал: «Известно по опыту, что города и области, где применяется жребий, скорее обеспечивают лучшую жизнь, здоровую администрацию и управление, чем режимы, основанные на выборах. Они более единодушны и равноправны, более миролюбивы и не настолько преисполнены себялюбия»{62}.
Из этого беглого исторического обзора мы можем сделать следующие шесть заключений: 1) с античных времен жеребьевку использовали в разных государствах как полноценный политический инструмент; 2) это касалось географически небольших, урбанизированных государств (город-государство, город-республика), где участвовать в политике могла лишь ограниченная часть населения; 3) применение жеребьевки часто совпадало с расцветом благосостояния и всеобщего благоденствия (Афины в V и IV веках до нашей эры, Венеция и Флоренция в эпоху Возрождения); 4) использование жеребьевки и ее процедуры были различными, но всегда приводили к снижению конфликтности и большему вовлечению граждан; 5) жеребьевка нигде не была единственным инструментом, а применялась в сочетании с голосованием в целях гарантии компетентности; 6) бывало, что применявшие жеребьевку государства на протяжении веков оставались политически стабильными, несмотря на серьезные внутренние разногласия среди противоборствующих групп. В карликовом государстве Сан-Марино в тех случаях, когда из 60 членов Совета нужно было выбрать двух капитанов-регентов, жеребьевка применялась до середины ХХ века{63}.
В XVIII веке, в эпоху Просвещения, к вопросу демократического государственного устройства обратились великие философы. В своей книге 1748 года «О духе законов» Монтескье, основоположник современного правового государства, повторил тот вывод, к которому пришел Аристотель за две тысячи лет до него: «Назначение по жребию (le suffrage par le sort) свойственно демократии; назначение по выборам (le suffrage par choix) – аристократии». И для него с самого начала было очевидно, что выборы носят элитарный характер. В противовес этому он писал: «Жребий представляет самый безобидный способ избрания: он предоставляет каждому гражданину возможность послужить отечеству». Для гражданина это хорошо, но хорошо ли это для отечества? Поэтому, для исправления очевидных опасных недостатков этого способа – что к власти придут некомпетентные люди, – требовалось критическое отношение граждан к должностному лицу и к самим себе и оценка проведенной работы. Монтескье восхищался устройством афинского общества, в котором должностные лица должны были отчитываться о своей деятельности, так что «получалось нечто среднее между избранием и жребием»{64}. Таким образом, компенсировать дефекты можно лишь за счет сочетания обеих систем: в чистом виде жребий привел бы к некомпетентности, в чистом виде голосование – к беспомощности.
Схожие мысли мы найдем в знаменитой «Энциклопедии» Дидро и Д’Аламбера, составленной в пятидесятых годах XVIII века. В статье «Дворянство» мы прочтем, что жеребьевка – неподходящий метод для правящей аристократии («Le suffrage ne doit point se donner par sort; on n’en auroit que des inconvéniens» – «Не должно избирать жребием, это бы только привело к неприятностям»), лучше собрать Сенат: «Тогда можно было бы утверждать, что аристократия в виде Сената, в определенном смысле, является демократией в рамках сословия дворян и что народ – ничто». Впрочем, авторы дают понять, что у аристократии есть определенная ответственность перед народом. В статье, посвященной демократии, по большей части повторяется аргументация Монтескье.
Через несколько лет эту тему развил Руссо. Он также считал интересной идею о смешанной форме, особенно в отношении разделения должностей. «Когда соединяют выборы и жребий, – пишет он в вышедшей в 1762 году книге „Об общественном договоре“, – то первым путем следует заполнять места, требующие соответствующих дарований, такие как военные должности; второй путь более подходит в тех случаях, когда достаточно здравого смысла, справедливости, честности, как в судейских должностях». Руссо описал двойной метод, на протяжении веков применявшийся в Древних Афинах для назначения на государственные должности. Сочетание случайности и сознательного выбора создавало систему с высоким уровнем легитимности и при этом способную к эффективной работе. Конечно, в любом обществе дарования распределены неравномерно, но это еще не значит, что жребий можно сбросить со счетов: «Выборы по жребию более свойственны демократии, – считал также и он. – Во всякой подлинной демократии магистратура – это не преимущество, но обременительная обязанность, которую по справедливости нельзя возложить на одного человека скорее, чем на другого. Один лишь Закон может возложить это бремя на того, на кого падет жребий»{65}.
Вывод напрашивается сам собой: в двух важнейших книгах XVIII века по политической философии, несмотря на существенные различия между авторами, обнаруживается согласие относительно того, что демократичнее не выборы, а жеребьевка и что сочетание обоих методов благотворно сказывается на обществе. Алеаторная и выборная процедуры могут взаимно дополнять и укреплять друг друга.
Аристократическая процедура: выборы (XVIII век)
А потом происходит нечто странное. Это прекрасно описывает Бернар Манен:
«Однако по прошествии едва ли одного поколения после Духа законов и Общественного договора идея распределения публичных должностей по жребию практически исчезает. Она никогда всерьез не рассматривалась в период Американской и Французской революций. Когда отцы-основатели объявляли равенство всех граждан, они без тени сомнения утвердили на обеих сторонах Атлантики безусловное господство способа избрания, издавна считавшегося аристократическим»{66}.
Как это могло случиться? Как произошло, что доводы самых влиятельных философов того времени были проигнорированы – в век, когда тем не менее непрерывно ссылались на разум и les philosophes[45]? В чем причина этого одностороннего триумфа процедуры выборов, которая считалась аристократической? И наконец, как могло статься, что жеребьевка, как теперь принято выражаться, «совсем исчезла с радаров»?
Одно время историки и политологи считали, что столкнулись с загадкой. Может быть, дело в практических трудностях? Да, определенно, существовала разница в масштабах: применить жеребьевку в античных Афинах, городе площадью несколько квадратных километров, – не то же самое, что применить ее в такой большой стране, как Франция, или на огромной территории тринадцати только что получивших независимость штатов на атлантическом побережье Северной Америки. Уже с точки зрения преодоления расстояний речь идет о совершенно иной вселенной. Это, конечно, имело значение.
Да, в конце XVIII века национальные реестры населения и демографическая статистика еще не были достаточно развиты, чтобы дать жеребьевке справедливый шанс. Не была известна даже численность населения в стране, не говоря уже о том, как извлечь из данных о ней репрезентативную выборку. И да, тогда еще не было глубоких, детальных знаний об афинской демократии. Первое обстоятельное исследование, «Выборы по жребию в Афинах» («Election by Lot at Athens») Джеймса Уиклифа Хедлама, появилось только столетие спустя, в 1891 году. До того времени обходились некоторыми весьма неполными представлениями, описанными в таких случайных работах, как «О природе и использовании жребия: исторический и теологический трактат» («Of the Nature and Use of Lots: A Treatise Historicall and Theologicall») пуританского священника Томаса Гатакера, опубликованной в 1627 году.
Но практические трудности были не единственной причиной. Ведь учет населения в древних Афинах тоже вели не идеально. А жители Флоренции не располагали детальными знаниями о том, как обстояло дело в Греции. И все же они использовали жеребьевку в широких масштабах. В трудах американских и французских революционеров бросается в глаза не то, что они не могли применить жеребьевку, а то, что они этого просто не хотели, причем не только по практическим причинам. Кажется, что у них ни на минуту не возникало желания приложить к этому усилия. На неосуществимость никто из них не жаловался. Возможно, жеребьевка и была неосуществима, но им она определенно представлялась нежелательной. Это связано с их взглядами на демократию.
Для Монтескье существовало три формы государственного правления: монархия, деспотия и республика. При монархии одно лицо властвовало согласно установленным законам; при деспотии также властвовало одно лицо, но без установленных законов, совершенно произвольно; а при республике власть сохранялась за народом. У этой последней формы государственного правления он выявил еще одно, чрезвычайно важное, отличие: «Если в республике верховная власть принадлежит всему народу, то это демократия. Если верховная власть находится в руках части народа, то такое правление называется аристократией»{67}.
Довольно хорошо известно, что высшая буржуазия, которая в 1776 и 1789 годах стряхнула с себя британскую и французскую корону, боролась за республиканскую форму государственного правления. Но ратовала ли она за демократический вариант этой формы государственного правления? На словах, во всяком случае, – да. Ссылок на народ достаточно. Революционеры непрерывно кричали, что считают сувереном le peuple[46], что la Nation[47] следует писать с большой буквы и что We the People[48] – начало всему, но когда доходило до дела, они все-таки демонстрировали вполне элитарные взгляды на этот самый народ. Новые независимые штаты Северной Америки называли «республиками», а не «демократическими республиками». Даже Джон Адамс, видный борец за независимость и второй президент Соединенных Штатов, весьма опасался такой системы и предупреждал: «Запомните, что демократия продолжается недолго. Уже скоро она чахнет, изнемогает и умертвляет сама себя. Не было еще такой демократии, которая не совершила самоубийства»{68}. Джеймс Мэдисон, отец американской Конституции, неизменно считал демократию «зрелищем, полным беспорядка и споров», которое обычно «и живет недолго, и умирает насильственной смертью»{69}.
В революционной Франции термин «демократия» также был не в ходу и имел скорее негативную коннотацию. Он указывал на волнения, которые поднялись бы в случае, если бы к власти пришла беднота. Такой выдающийся революционер и патриот, как Антуан Барнав, депутат первого Национального собрания, описывал la democratie[49] как «самую злобную, самую губительную и самую вредную для самого народа из всех политических систем»{70}. Во французских конституционных дебатах о предоставлении избирательного права, которые велись с 1789 по 1791 год, термин «демократия» не упоминался ни разу{71}.
Канадский политолог Франсуа Дюпюи-Дери провел исследование использования термина «демократия» и установил, что основоположники Американской и Французской революций этого термина явно избегали. Демократия означает хаос и экстремизм, думало большинство из них, а от этого они хотели держаться подальше. Речь шла не только о выборе слов. Демократическая реальность также казалась им отвратительной. Многие из них были юристами, крупными землевладельцами, фабрикантами, судовладельцами, а в Америке также плантаторами и рабовладельцами; зачастую уже под властью британской или французской короны, во время расцвета аристократии, они занимали политические и управленческие должности и имели социальные и родственные связи с системой, против которой они боролись{72}. «Эта элита старалась подорвать легитимность короля и аристократии. В то же самое время она подчеркивала политическую некомпетентность народа с тем, чтобы править самой. Тем не менее она громко провозглашала, что нация суверенна и что она, элита, желает служить ее интересам»{73}.
В этом контексте термин «республика» звучал благороднее, чем «демократия», и выборы становились важнее жеребьевки. У лидеров революции во Франции и США к жеребьевке не лежала душа, потому что у них не лежала душа к демократии. Когда кто-то получает от престарелого дедушки шикарную карету, он не сразу разрешает внукам в ней разъезжать.
Но вернемся к типологии Монтескье: патриотические лидеры Французской и Американской революций определенно были республиканцами, но отнюдь не демократического толка. Они не хотели позволить народу ездить в карете власти, а предпочитали держать поводья в руках, ведь иначе от кареты останутся одни обломки. В Соединенных Штатах элите было что терять в том случае, если бы власть выскользнула у нее из рук: ее экономические привилегии были значительны. Равным образом это относилось и к Франции, но там имело значение и кое-что другое. В отличие от США, там приходилось строить новое общество на той же территории, на которой действовала предшествовавшая власть. Поэтому для новой элиты было важно заключить компромисс со старым землевладельческим дворянством. Иными словами, в карете, которую приняли революционеры, сидело еще порядочно бывших аристократов, и, чтобы не разбить карету на новой дороге, приходилось до некоторой степени считаться с мнением этих несговорчивых пассажиров – хотя бы потому, что в противном случае они могли бы ставить палки в колеса.
Но в обеих странах тенденция очевидна: республика, которую задумали и собирались осуществить лидеры революции, должна была стать скорее аристократической, чем демократической. И способствовать этому могли выборы.
В наши дни этот вывод может показаться ересью: мы же так часто слышали, что современная демократия начинается с революций 1776 и 1789 годов. Однако из тщательного анализа исторических текстов вырастает совсем другая история{74}.
Уже в 1776 году, когда США провозгласили независимость, Джон Адамс писал в своих знаменитых «Мыслях о правительстве», что Америка слишком велика и густонаселенна, чтобы управлять ею прямо. Это было верно. Бездумно перенесенная афинская или флорентийская модель никогда не могла бы здесь работать. Но вывод, к которому он приходил на основе этих рассуждений, был довольно странным. Важнейшим шагом было, как утверждал Адамс, «to depute power from the many, to a few of the most wise and good»[50]. Если народ в целом не может говорить, то за него это должен делать кружок самых выдающихся. Адамс питал довольно наивную и утопическую надежду на то, что собрание таких добродетельных депутатов будет «думать, чувствовать, рассуждать и действовать» как остальная часть общества: «Они должны будут стать точным портретом всего населения в миниатюре». Естественно, оставалось под вопросом, могли ли банкир из Нью-Йорка и юрист из Бостона, собравшись вместе, проявить столько же сочувствия к нуждам и обидам жены сельского пекаря из Массачусетса или докера из Нью-Джерси, как к нуждам и обидам друг друга.
Десятью годами позднее Джеймс Мэдисон, основоположник американской конституции, пошел в этом дальше. Статьи Конфедерации[51] нужно было заменить полноценной конституцией для федеративной Америки, и Мэдисон, который написал ее первую редакцию, пустил в ход все средства, чтобы его проект ратифицировали в 13 штатах тогдашней конфедерации. В феврале 1788 года в «Записках федералиста» – серии из 85 эссе, которую он с двумя коллегами публиковал в нью-йоркских газетах с целью побудить штат Нью-Йорк к ратификации, – он писал: «Цель каждой политической конституции состоит или должна была бы состоять в том, чтобы прежде всего получить в качестве лидеров людей, которые обладают высшей мудростью для распознания общего блага общества и наибольшей добродетелью, чтобы стремиться к этому благу. ‹…› Выборный способ назначения руководителей является характерным принципом республиканской системы»{75}.
Отдавая предпочтение men who possess most wisdom to discern, and most virtue to pursue, the common good of society[52], Мэдисон всецело присоединяется к Джону Адамсу. Но при этом он весьма далеко отстоит от афинского идеала равномерного распределения политических шансов. Если для греков различие между руководителями и руководимыми должно было быть минимальным, то для Мэдисона такое различие было желательно. Если Аристотель считал попеременное участие в управлении проявлением свободы, то составитель американской конституции как раз придерживался мнения, что бразды правления должны держать в руках «лучшие»{76}.
Власть, осуществляемая лучшими, – не это ли по-гречески значило aristokratia? Во всяком случае, Томас Джефферсон, отец американской независимости, считал, что существует нечто такое, как «естественная аристократия, основанная на таланте и добродетели», и что лучшая форма правления со всей возможной эффективностью вовлекает «этих естественных аристократов в правительство»{77}.
И это не приведет к «мнимой олигархии», продолжает Джеймс Мэдисон, поскольку эти лучшие пришли бы к власти посредством выборов. И работать с ними было бы не только эффективно, но и легитимно благодаря процедуре выборов. Его рассуждения шли следующим образом:
«Кто выбирает представителей в федеральные органы власти? Как богатые, так и бедные; как высокообразованные, так и неграмотные; как надменные наследники знаменитых родов, так и скромные сыновья безвестных и злополучных пасынков судьбы. The electors are to be the great body of the people of the United States»[53].
О том, что женщины, индейцы, негры, бедняки и рабы не принадлежат к их числу, Мэдисон не сообщает. Что сам он был владельцем крупных рабовладельческих плантаций в Виргинии, не вызывало тогда возражений. Что только ограниченная элита могла добиваться власти, было применимо и к Древней Греции. Но что действительно имело значение, что действительно было ново, так это то, что в выборно-представительной системе, предложенной Мэдисоном, в отличие от жеребьевки, управляющие отныне качественно отличались от управляемых. Он пишет об этом весьма многословно:
«На кого падет выбор народа? На любого гражданина, чьи достоинства заслужат уважение и доверие его сограждан. ‹…› Прежде всего, поскольку они уже отмечены предпочтением, оказанным согражданами, следует полагать, что, как правило, они будут также отличаться высокими качествами».
Таким образом, нужно уже иметь заслуги, внушать уважение и доверие, быть именитым, нужно уже быть другим, лучше, чем остальные, превосходить их. Возможно, представительная система и была демократической благодаря избирательному праву, но с самого начала она была также аристократической в том, что касалось рекрутирования: каждому можно голосовать, но предварительный отбор уже состоялся в пользу элиты.
Следовательно, вот здесь, на этом самом месте, это началось на практике – со слов Джеймса Мэдисона в 57-м номере «Записок федералиста», появившемся 19 февраля 1788 года в газете The New York Packet. Или нет, лучше сказать, что здесь это закончилось, здесь идеалы афинской демократии – равномерное распределение политических шансов – были окончательно похоронены. Отныне должно существовать различие между компетентными управляющими и некомпетентными управляемыми. Это больше походило на начало технократии, а не демократии.
По французским текстам также видна аристократизация революции. Вся эта кутерьма началась с народного восстания, которое через некоторое время было укрощено новой, буржуазной, элитой, которая хотела «навести порядок в делах», то есть управлять страной и защищать собственные интересы. В США такой процесс осуществился в период между обретением независимости в 1776 году и принятием конституции 1789 года (с Мэдисоном в главной роли), а во Франции – между мятежом 1789 года и конституцией 1791 года. Восстание, в котором участвовали низшие слои населения (включая раздутый до мифологических масштабов штурм Бастилии), всего через несколько лет выльется в конституцию, в которой высказывание ограничено избирательным правом, а избирательное право предоставлено только одному французу из шести.
В «Декларации прав человека и гражданина», важнейшем документе революционного 1789 года, значилось: «Закон есть выражение общей воли. Все граждане имеют право участвовать лично или через своих представителей в его создании». Но в конституции 1791 года этот личный вклад совсем исчез: «Нация, от которой одной проистекают все власти, может их осуществлять лишь путем уполномочия. Французская Конституция представительная». В течение трех лет законодательная инициатива перешла от народа к народным представителям, от участия – к представительству.
Особенно поражает позиция аббата Сийеса, католического священника из Фрежюса, чей крамольный памфлет «Что такое третье сословие?» заронил искру в пороховую бочку революции. Сийес – человек, который считал, что дворянство и духовенство, первое и второе сословия, обладают слишком большой властью по отношению к третьему сословию, буржуазии; человек, который выступал за бóльшую вовлеченность этой третьей группы и отмену аристократических привилегий; человек, которого читали повсюду (в январе 1789 года было продано более 30 тысяч экземпляров его памфлета); человек, который стал выразителем разочарования и считался одним из виднейших теоретиков революции, – даже он считал, что Франция не была демократией и не могла стать демократией. Он писал: «Народ, повторяю я, в стране, которая не является демократией (а Франция также не должна ею стать), народ может разговаривать и действовать только через своих представителей»{78}.
С тех пор возникло нечто вроде «политической агорафобии», страха перед человеком с улицы, – даже среди революционеров{79}. Раз уж парламент избран, народ должен держать язык за зубами. Отныне жребий использовался только в таких весьма специфических сферах общественной жизни, как формирование коллегий народных заседателей в некоторых судебных делах.
Такая аристократизация революции, должно быть, доставила удовольствие Эдмунду Берку. Этот английский философ и политик как огня боялся, что народ получит слишком большую власть. В своих витиевато изложенных «Размышлениях о революции во Франции» (1790) он отмечал, что правители должны отличаться от остальных, но не благодаря «blood and names and titles»[54] – он сознавал также, что времена изменились, – а благодаря «virtue and wisdom»[55]. При этом он добавил:
«Профессии парикмахера или фонарщика, как и многие другие, не могут ни для кого быть предметом почета – не говоря уже о множестве других, более лакейских занятиях. Государство никоим образом не должно угнетать этот класс людей; но если такие, как они, индивидуально или коллективно начнут управлять государством, оно столкнется с серьезными трудностями. ‹…› Все поприща должны быть открыты для всех людей, но выбор необходим. Невозможно управлять государством по очереди или по случаю. Никакая вербовка по жребию и никакая очередность не могут быть хороши для правительства, которое занимается важными делами».
Итак, с афинским идеалом покончено! Это наиболее явный отказ от жеребьевки в конце XVIII века, который я знаю. Берк был против демократии, против Руссо, против революции и против жеребьевки. Он охотнее признает компетентность элиты: «Я не колеблясь могу сказать, что путь от неизвестности к уважению и власти не должен быть слишком легким. ‹…› Храм чести лучше всего строить на возвышенности»{80}.
Слова Берка не пропали втуне. В переговорах по поводу новой французской конституции 1795 года, после бурных лет террора, председатель Конвента Буасси д’Англа, который должен был подготовить этот текст, сказал: «Нами должны править лучшие; лучшие – это те, кто получил лучшее образование и имеет наибольший интерес в соблюдении законов; так вот, за редким исключением, такие депутаты найдутся только среди тех, кто обладает собственностью. Они преданы стране, где находится их собственность, привержены законам, которые их защищают, и покою, который их бережет. ‹…› Страна, которой управляют собственники, знакома с общественным порядком, страна, которой управляют несобственники, пребывает в дикости»{81}.
Великая французская революция, точно так же как и Американская, не изгнала аристократию, чтобы заменить ее демократией, а изгнала наследственную аристократию, чтобы заменить ее аристократией выборной, «une aristocratie elective»[56], если использовать терминологию Руссо. Робеспьер называл ее даже «une aristocratie representativé[57]»!{82} Монарха и дворянство убрали с дороги, народ убаюкали риторикой о la Nation, le Peuple и la Souverainete[58], а власть взяла новая высшая буржуазия. Свою легитимность она получила уже не по воле Бога, не по праву земли или рождения, а вследствие другого аристократического пережитка – выборов. Отсюда изнурительные дискуссии о том, кто может обладать избирательным правом, отсюда и весьма ограниченное его предоставление: в расчет принимаются только те, кто платит достаточно налогов. На первых парламентских выборах согласно конституции 1791 года правом голоса обладал только один француз из шести. Пламенный революционер Марат, который яростно критиковал аристократизацию народного восстания, оценивал число французов, которым нельзя было голосовать, в восемнадцать с лишним миллионов. «Чего мы добьемся, – говорил он, – если сначала уничтожаем аристократию знати, чтобы потом заменить ее аристократией богачей?»
Демократизация выборов: мнимый процесс (XIX и XX века)
Небольшое резюме. Если предыдущую главу я закончил мыслью, что сегодня выборы как демократический инструмент устарели, то теперь мы узнали, что они, собственно говоря, и не были задуманы как демократический инструмент. Значит, все гораздо хуже! Кроме того, наиболее употребительный демократический инструмент – жеребьевка – был полностью отменен архитекторами представительной системы, за исключением ограниченной сферы судопроизводства с участием присяжных заседателей. Мы, электоральные фундаменталисты, уже десятилетиями цепляемся за избирательную урну, как за Священный Грааль демократии, а теперь сознаем, что не к тому привязались, – не к Граалю, а к кубку с ядом, к методу, который был разработан как определенно антидемократический.
Как получилось, что мы так долго этого не видели? Нам осталось сделать третий шаг, чтобы вникнуть в суть патогенеза нашего электорального фундаментализма. На первом этапе я показал физиологию алеаторно-представительной демократии в Античности и в эпоху Возрождения. На втором этапе я показал, как в конце XVIII века новая элита отставила эту традицию в сторону ради выборно-представительной демократии. Теперь мне осталось еще проследить, как получилось, что с тех пор этот аристократический поворот в XIX и ХХ веках смог приобрести демократическую легитимность – пока в последние годы не оказался под ударом. Иными словами: после аристократизации революции мы теперь должны рассмотреть демократизацию выборов.
Прежде всего бросается в глаза, что изменилась терминология. Республика, основанная на избирательном праве, каким бы ограниченным оно ни было, все чаще описывается как «демократия». Так, уже в 1801 году наблюдатель мог установить, что «выборная аристократия, о которой Руссо говорил 50 лет назад, является тем же самым, что мы в настоящее время называем представительной демократией»{83}. Эта синонимия ныне полностью канула в Лету: сегодня почти никто не помнит об аристократических корнях нашего современного строя.
В начале XIX века, когда великий Алексис де Токвиль девять месяцев путешествовал по Соединенным Штатам, изучая там новый государственный строй, он без колебаний дал итоговой книге название «О демократии в Америке». Причина этого изложена уже в первой строке: «Среди множества новых предметов и явлений, привлекших к себе мое внимание во время пребывания в Соединенных Штатах, сильнее всего я был поражен равенством условий существования людей». Нигде больше, полагал Токвиль, не существовало страны, где понятие «суверенитет народа» ценилось бы так высоко. Поскольку эта книга в XIX веке пользовалась особым авторитетом, она определенно внесла свой вклад в растущую популярность термина «демократия» при описании республиканской выборно-представительной системы.
Обратите внимание: это не значит, что он без критики, восторженно приветствовал выборы. Токвиль был незаурядным наблюдателем. Как у отпрыска старого аристократического семейства, несколько выдающихся представителей которого окончили свои дни на гильотине, у него были все основания относиться к новейшему строю с подозрением. Тем не менее он проявил пылкий интерес и открытость к тому, что происходило в Америке. В отличие от других аристократов, он сознавал, что революция в США и во Франции была не accident de parcours[59], а частью гораздо большего, веками нараставшего развития в направлении увеличения равенства. Эту тенденцию было не остановить. Поэтому он намеренно дистанцировался от старого мира: никогда не пользовался своим дворянским титулом, порвал с церковью и женился на незнатной девушке. В тридцатые годы XIX века, когда он сам пошел во французскую политику, он сожалел о том, что система, в которой ему приходится работать, недостаточно демократична и предоставляет гражданину лишь ничтожные шансы на участие в политике.
Благодаря поездке в Америку Токвиль стал страстным демократом, но оставался критически настроен по отношению к конкретным формам, которые принимало новое государственное правление. Не только в США, но и во Франции выборы победили жеребьевку, и отныне роль жребия съежилась до использования его в формировании коллегии присяжных заседателей при определенных судебных процессах.
Как он относился к обоим методам отбора? Его прекрасную прозу стоит процитировать подробно. Почти невозможно поверить, что нижеследующий отрывок об избирательной системе написан в 1830-е годы:
«По мере приближения выборов глава исполнительной власти начинает думать лишь о предстоящей борьбе; у него уже нет будущего, он не в состоянии ничего предпринимать и лишь вяло осуществляет все то, что, вполне возможно, придется завершать кому-то другому. ‹…› С другой стороны, взоры всей страны также сосредоточены на подготовке новых выборов, она ждет их результатов. ‹…› Тот период, который непосредственно предшествует выборам, а также тот промежуток времени, когда эти выборы проходят, следует всегда считать периодом общенационального кризиса. ‹…› Задолго до назначенного дня выборы становятся самым важным и, если так можно выразиться, единственным делом, действительно занимающим умы людей. Различные группировки удваивают свое усердие, и тут-то в этой счастливой и спокойной стране начинают бушевать такие искусственно возбуждаемые эмоции, какие только можно себе вообразить. Что же касается президента, то он целиком занят тем, чтобы защищать себя. Он уже не думает об интересах государства, а действует с единственной целью добиться переизбрания. Он буквально падает ниц перед большинством и нередко вместо того, чтобы противостоять страстям, раздирающим это большинство, к чему, кстати, его обязывает должность, сам идет навстречу этим капризам.
По мере приближения выборов интриги нарастают, а волнение людей приобретает все более лихорадочный и массовый характер. Граждане делятся на несколько лагерей, каждый из которых выступает за определенного кандидата. Вся страна взбудоражена, выборы становятся ежедневной темой всех публичных изданий, всех частных бесед, целью любых начинаний, объектом всех помыслов – словом, единственным в этот момент интересом у всей страны. Правда, как только объявляются результаты выборов, эта суматоха кончается, все успокаиваются, словно река, вышедшая из берегов, а затем мирно возвращающаяся в собственное русло. И не удивительно ли вообще, что подобная буря могла-таки возникнуть?»{84}
Должно быть, это наиболее ранняя критика выборно-представительной демократии с ее выборной лихорадкой, ее параличом управления, ее медиатизацией – одним словом, ее истерией. Гораздо положительнее Токвиль высказывается о составляемой по жребию коллегии присяжных заседателей, «группы граждан, выбранных наугад и временно облеченных правом судить». Здесь также длинный отрывок:
«Суд присяжных, и особенно суд присяжных по гражданским делам, отчасти прививает всем гражданам образ мыслей, подобный образу мыслей судей, а ведь именно это наилучшим образом подготавливает людей к свободной жизни. [Отметим, что Токвиль, как и Аристотель, связывает свободу со случайным принятием ответственности, а также описывает свободу как нечто, чему люди должны учиться.] Вынуждая людей заниматься не только своими собственными делами, он противостоит индивидуальному эгоизму, гибельному для общества. Суд присяжных удивительно развивает независимость суждений и увеличивает природные знания народа. Именно в этом и состоит, по моему мнению, его самое благотворное влияние. Его можно рассматривать как бесплатную и всегда открытую школу, в которой каждый присяжный учится пользоваться своими правами и ежедневно общается с самыми образованными и просвещенными представителями высших классов. Там он на практике постигает законы, которые становятся доступными его пониманию благодаря усилиям адвокатов, мнению судьи и даже страстям сторон. Думаю, что практический ум и политический здравый смысл американцев объясняются главным образом тем, что у них уже в течение длительного времени гражданские дела разбираются судом присяжных. Не знаю, приносит ли пользу суд присяжных тяжущимся, но убежден, что он очень полезен для тех, кто их судит. Это одно из самых эффективных средств воспитания народа, которыми располагает общество»{85}.
Хотя молодая американская политика демонстрировала все, чего может добиться демократия, Токвиль тем не менее сожалел о неизбежном вреде предвыборной борьбы – даже в то время, когда еще не существовало ни массовых партий, ни средств массовой информации.
Годы, когда появились обе части «Демократии в Америке», будут отмечены еще одним событием, которое будет способствовать процветанию выборно-представительной системы: получением независимости Бельгией в 1830 году. Может показаться удивительным, что возникновение такой крошечной страны, которая до тех пор находилась под властью иностранных держав, – только после Великой французской революции ими были Австрия, Франция и Нидерланды, – будет иметь такое влияние. И все же это так. Составленная бельгийцами конституция войдет в историю как образец выборно-представительной модели{86}.
Независимость Бельгии устанавливалась по знакомой процедуре: после выступлений против правящих властей (август – сентябрь 1830 года) во время конституционного собрания (ноябрь 1830-го – февраль 1831 года) произошла аристократизация переворота. Революция была делом рук радикалов, республиканцев и демократов; конституционный процесс провели аристократы, духовенство и умеренные либералы. А могло ли быть иначе? Это было 3 ноября 1830 года; при выборах в Национальный конгресс, первый парламент, который должен был написать конституцию, избирательным правом обладали только 46 тысяч мужчин – менее 1 % от общей численности населения. Свой голос могли подать только те, кто платил достаточно налогов («податей»). Определять будущее страны должны были главным образом крупные землевладельцы, аристократы и представители свободных профессий с добавлением некоторых «способных избирателей» – граждан, которые не могли преодолеть налоговый порог, но благодаря своим способностям все же приветствовались, – как протестантские пасторы и университетская профессура. Национальный конгресс насчитывал 200 членов: 45 из них принадлежали к дворянству, 38 – к адвокатуре, 21 – к магистрату и 13 – к духовенству. Половина из них до провозглашения независимости занимала публичные должности, так что разрыв с прошлым был не так велик, как надеялись{87}.
Революционный порыв угас, конституция стала умеренным компромиссом, которому могли сочувствовать за рубежом и которым можно было тешиться внутри страны. Консервативные силы общества могли удовлетвориться тремя моментами: установилась монархия (а не республика), сохранился имущественный избирательный ценз (вместо введения более широкого избирательного права) и был учрежден сенат (а не только парламент). Особенно важно было последнее, потому что тем самым аристократия получала в новом государстве собственный орган. Вследствие того, что налоговый порог был чрезвычайно высоким, кресел в сенате могли добиться только самые богатые: всего лишь 400 жителей страны попали в число кандидатов на избрание.
Прогрессивным силам в молодом бельгийском обществе удалось добиться следующего: власть короля сделали подконтрольной конституции и парламенту (в таких случаях говорят о конституционной, или парламентской, монархии), выборы стали прямыми вместо непрямых (в отличие от Франции и США), в конституции закрепили свободу печати и свободу объединений, а также ввели судопроизводство с участием коллегии присяжных заседателей, назначаемых по жребию. Налоговый избирательный ценз оставался в силе, но он был не таким строгим, как в других странах. В Бельгии мог голосовать один житель из 95, а во Франции, где тем временем восстановилась монархия, – только один из 160{88}. С пустыми руками остались только радикальные участники народного восстания.
Хотя три четверти статей Бельгийской конституции были позаимствованы из более ранних конституционных текстов Франции и Нидерландов, ее оригинальность состояла в продуманной системе checks and balances[60] между различными властями: главой государства, парламентом и правительством. И эти качества не остались незамеченными.
Теперь мало известно, как велико было влияние, которым обладал один этот текст, но в XIX веке он в самом деле был ориентиром при возникновении современных национальных государств. Конституция Саксонии (1831), Швейцарской конфедерации (1848) и проект конституции федеративной Германии, составленный Франкфуртским национальным собранием (1849), заимствовали из него целые разделы. Другие конституции, в частности испанская (1837), составлялись под его сильным влиянием. После революционного 1848 года этот текст много раз служил примером: при составлении конституции в Греции (1848 и 1864), Нидерландах (1848), Люксембурге (1848), Сардинском королевстве (1848), Пруссии (1850), Румынии (1866), Болгарии (1879) и даже в Османской империи (1876). В отношении Нидерландов, Люксембурга, Греции, Румынии и Болгарии речь действительно идет о точных копиях бельгийского оригинала. Его влияние к началу XX века дотянулось даже до Ирана (1906), а после младотурецкой революции 1908 года и до Османской империи, впоследствии ставшей Турцией. Такие новые центральноевропейские государства, как Польша, Венгрия и Чехословакия, также опирались на него{89}.
Недавним сравнительным исследованием установлено: «Бельгийская конституция 1831 года принадлежит к числу важнейших конституций, составленных до 1848 года»{90}. В «Новой Кембриджской современной истории» говорится о «маяке», тексте, который «превосходит конституцию практически любого другого европейского государства своего времени»: «Этот образец конституции… обладал столь многими качествами, которые были или уникальны, или гораздо лучше, чем то, что можно было найти где-либо еще… что остается удивляться, что этот текст не копировали чаще»{91}.
Одним словом, краткий, наглядный текст из 139 статей будет еще в течение столетия определяющим для значительной части современного мира. Выборно-представительная модель тем самым стала нормой. Токвиль дал ей наименование «демократия», Бельгийская конституция создала образец для международного использования. Борьба за более широкую демократию с 1850 года стала борьбой не против выборов, а борьбой за более широкое избирательное право. Рабочее движение, которое поднималось по всей Европе, даже сделало его одним из своих главных лозунгов. За жеребьевку не ратовали ни в коей мере. В народных кругах жеребьевка даже получила нехороший привкус: она слишком напоминала о ненавистной системе военной жеребьевки, по которой набирали в армию молодых рекрутов. Придумали ее в конце XVIII века французы, но именно в Бельгии такая практика, к отчаянию многих, применялась еще 100 лет. Основоположник фламандской литературы Хендрик Консьянс посвятил этому одно из своих лучших произведений, роман «Рекрут» («De loteling»){92}.
Разумеется, целью военной жеребьевки было не равномерное распределение политических возможностей, а нейтральное распределение непопулярных обязанностей. По крайней мере, на бумаге. На деле же поддерживалось социальное неравенство: юноши из богатых семей, вытянувшие жребий, не жалели денег, чтобы отправить сыновей крестьян или рабочих на выполнение своей воинской повинности. Поэтому среди низших классов глубоко укоренилось неприятие жеребьевки: казалось, что она полезна главным образом аристократии. Какой поворот истории! Выборы вдруг стали считаться демократическими, а жеребьевка – аристократической. Ни один социалистический лидер не выступил бы в защиту ее использования в политике, ни один деревенский священник не стал бы ее защищать. С жеребьевкой было покончено.
Джеймс Уиклиф Хедлам, выполнивший в Королевском колледже Кембриджа исследование о жеребьевке в древних Афинах, начал свою книгу, изданную в 1891 году и ставшую классическим трудом, такими словами: «В древней истории нет другого обычая, который так же труден для понимания, как обычай выбирать государственных служащих путем жеребьевки. У нас самих нет опыта использования такой системы; любое предложение ввести ее показалось бы смешным, и трудно поверить, что некогда она была широко распространена в цивилизованном обществе»{93}.
Полвека спустя, в 1948 году, Всеобщая декларация прав человека постановила, что «воля народа должна находить себе выражение в периодических и нефальсифицированных выборах». А еще полвека спустя Фрэнсис Фукуяма в своем мировом бестселлере провозгласил «конец истории», благословив мистический брак между парламентской демократией и свободной рыночной экономикой: «Страна демократическая, если она предоставляет людям право выбирать свое правительство путем регулярных, тайных, многопартийных выборов на основе всеобщего и равного избирательного права для взрослых»{94}.
Вуаля, консенсус достигнут.
Вот он, патогенез нашего электорального фундаментализма: жеребьевка, наиболее демократический из всех политических инструментов, в XVIII веке потерпела поражение перед выборной системой; однако выборы были задуманы не как демократический инструмент, а как процедура, приводящая к власти новую, непотомственную аристократию. Благодаря расширению избирательного права эта аристократическая процедура существенно демократизировалась, не отказываясь от фундаментального олигархического различия между управляющими и управляемыми, между политиками и избирателями. Вопреки надеждам Авраама Линкольна, выборная демократия осталась скорее government for the people[61], чем by the people[62]. С ней неизбежно связано что-то вертикальное: в ней всегда были низ и верх, власти и подданные. Участие в выборах становилось подобием служебного лифта, поднимающего отдельных персон. Поэтому демократия через выборы продолжает сохранять нечто от добровольно выбранного феодализма, формы внутреннего колониализма, с которой все согласились.
Синдром демократической усталости, в наши дни проявляющийся повсюду, представляет собой вполне естественное следствие канонизации выборно-представительной системы. На протяжении десятилетий выборы поддерживали надлежащее функционирование демократии, но теперь мы все чаще замечаем, что они – явление, заимствованное откуда-то из другого места. Да, в прошлом эту систему изрядно доработали, чтобы она более или менее соответствовала механизму народного суверенитета, но все же по прошествии двух веков износ начинает давать о себе знать. Эффективность трещит, легитимность скрипит. Повсюду проявляются несогласие, недоверие и протест. Повсюду задаются вопросом: возможна ли какая-нибудь другая демократия? Стоит ли удивляться, что в данном контексте идея жеребьевки снова оживает?
4. Лечебные средства
Существует прекрасная пословица, которую зачастую приписывают Ганди, хотя на самом деле она центральноафриканского происхождения: «Все, что ты делаешь для меня без меня, ты делаешь против меня». В двух словах так можно было бы описать трагедию нынешней выборно-представительной демократии: если кто-то, пусть даже с самыми благими намерениями, управляет народом, не привлекая к этому сам народ, он управляет только наполовину. В XVIII веке, когда значительная часть народа была неграмотна, а значительная часть территории – недосягаема, предпочтение, отданное выборам, отчасти диктовалось практическими причинами. Но справедливо ли это сегодня?
Возрождение жеребьевки: делиберативная демократия (конец XX века)
В августе 1988 года американский журнал The Atlantic Monthly опубликовал примечательную статью некоего Джеймса Фишкина. Эта заметка занимала всего две страницы, но ее содержание многих удивило. Она появилась за несколько месяцев до президентских выборов, которые привели к власти Джорджа Буша-старшего после предвыборной борьбы с Майклом Дукакисом. Оба они были выдвинуты своими партиями после долгой серии primaries (первичных выборов) и caucuses (предвыборных собраний членов партии), проходивших по всей стране. Благодаря тому, что предварительные туры в США неизменно начинаются в штатах Айова и Нью-Гэмпшир и широко освещаются в СМИ, эти штаты получают гораздо больше власти, чем они, в сущности, заслуживают. Действительно, кто имеет там успех, тот получает очень много эфирного времени, а кто недобирает голосов – тому крышка: его спонсоры выходят из игры. Еще до того, как сторонники партий смогут внимательно рассмотреть различные кандидатуры внутри своих партий, спор уже в значительной степени решен частными законами средств массовой информации и спонсорства.
Правильно ли это? – задается вопросом Фишкин. Насколько это демократично? Этот молодой профессор университета в Техасе был знаком с новейшей литературой по своей специальности. Он хорошо знал «За пределами враждебной демократии» («Beyond Adversary Democracy») – работу политолога Джейн Мэнсбридж, вышедшую за несколько лет до этого. Мэнсбридж утверждала, что в Америке существуют две традиции демократии: adversary[63] и unitary[64] – враждебная и уважительная, одна происходит от противоборства партий, другая – от переговоров между гражданами. Разумеется, Фишкин знал также книгу Бенджамина Барбера «Сильная демократия» («Strong Democracy»), вышедшую в 1984 году, – одну из наиболее весомых книг по политической теории, появившихся в последние десятилетия XX века. Барбер проводил различие между сильной и слабой демократией и утверждал, что конфликтная представительная демократия настоящего времени является типичной слабой демократией.
То было увлекательное время. Джон Ролз и Юрген Хабермас, два ведущих политических философа послевоенного периода, ратовали за более широкую вовлеченность граждан в разговор о будущем устройстве общества. Такой разговор мог бы вестись разумно и сделал бы демократию справедливее в условиях, когда все больше исследователей предупреждало о границах существующего строя.
Не следует ли применить эти новые идеи на практике? В той знаменитой статье из «Атлантика» Фишкин предложил на две недели собрать 1500 граждан со всей Америки, вместе со всеми кандидатами в президенты от республиканцев и демократов. Граждане могли бы узнать о планах кандидатов и обсудить их между собой. Их совещания можно было бы показать по телевидению, чтобы другие граждане также могли сделать более обоснованный выбор. Фишкин совершенно сознательно позаимствовал из афинской демократии два аспекта: участников отобрали бы по жребию, и они получили бы материальную компенсацию, которая гарантировала бы максимальное разнообразие их состава. «Политическое равенство начинает действовать благодаря случайной выборке. Теоретически тогда все граждане имеют равные шансы быть избранными в качестве участников». Равномерное распределение политических возможностей – афинский идеал восстал из пепла. Но то, чего Фишкин добивался своей случайной выборкой, было не просто очередным анкетным опросом: «Такие опросы определяют, что публика думает, если она не думает. ‹…› Напротив, делиберативный опрос определяет, что публика думала бы, получив шанс подумать».
Так родился термин «делиберативная (совещательная) демократия» – демократия, при которой граждане не только голосуют за политиков, но и разговаривают друг с другом и с экспертами. Делиберативная демократия – это такая форма демократии, при которой коллективное обсуждение имеет главное значение и в которой участники на основе информации и аргументации формулируют конкретные, рациональные ответы на вызовы общества. Чтобы не позволить отдельным самостоятельным участникам монополизировать коллективный процесс, работа проводится в основном с малыми подгруппами, профессиональными модераторами и по намеченному плану. В последние годы наблюдается просто взрыв литературы по делиберативной демократии, но источнику, вызвавшему ее к жизни, уже 2500 лет. Сам Фишкин говорил: «Это сочетание политического равенства и совещательности восходит к древним Афинам, где совещательный микрокосм из нескольких сотен людей, выбранных по жребию, принимал жизненно важные решения. С упадком афинской демократии такая практика вышла из употребления, а затем была предана забвению»{95}.
Фишкин все это предлагал на полном серьезе. Он стал искать организационные формы и средства, но к президентским выборам 1992 года еще не был готов. Как всех доставить? Где они смогут остановиться? Две недели были бы слишком долгим сроком, 1500 граждан – слишком много. Он подкорректировал свое предложение: собрать 600 человек на выходные было бы выполнимо, а статистически это все еще репрезентативно. После нескольких менее крупных совещательных проектов, реализованных в Англии, он был готов к 1996 году, когда в президентских выборах участвовали Билл Клинтон и Боб Доул. С 18 по 21 января в Остине, штат Техас, состоялось первое совещательное выяснение обстановки, названное Конференцией по национальным проблемам (National Issues Convention). Фишкин получил поддержку, в частности, со стороны компаний American Airlines и Southwestern Bell, властей города Остина и вещательной компании PBS, которые в общей сложности выделили ему более четырех миллионов долларов. Компания PBS предоставила больше четырех часов эфирного времени для репортажей об этой инициативе, чтобы за совещанием отобранных по жребию граждан и различных кандидатов в президенты могла следить широкая публика. Несмотря на прекрасную поддержку, Фишкину пришлось столкнуться также с некоторым противодействием. Отдельные лица, формирующие общественное мнение, высмеивали его предложение. Еще до начала мероприятия журналисты по всей Америке получили экземпляры журнала Public Perspective, который предостерегал о неуместности этой инициативы{96}. Граждане, которые собираются совещаться? Невозможно или, по крайней мере, нежелательно и во всяком случае опасно.
Джеймс Фишкин не падал духом. Как ученый, он просто хотел узнать, что делает такое обсуждение с людьми. Он дал им заполнить анкеты – перед совещаниями, во время и после них, – чтобы видеть, как развиваются их взгляды. Участники заранее получили папки с информационными материалами, они могли говорить друг с другом и с экспертами. Повлияет ли это на их взгляды? Во всяком случае, на наблюдателей произвели большое впечатление «преданность делу, взаимное уважение и чувство юмора большинства участников, благодаря чему в группах царила атмосфера толерантности к отличающимся мнениям»{97}.
Но и выводы из объективных обсуждений были налицо: различие между «до» и «после» в самом деле оказалось поразительным. Процесс обсуждения сделал граждан значительно компетентнее, они стали давать более тонкие политические оценки, научились корректировать свое мнение и лучше поняли сложность принятия политических решений. Впервые было продемонстрировано научно, что простые индивиды могут стать компетентными гражданами, если только получат для этого инструменты. Фишкин верил, что именно здесь заложены возможности укрепления демократии, путь от «направляемой совещаниями массовой демократии лозунгов и soundbites[65]» к «настоящему голосу общества»{98}.
Работа Джеймса Фишкина вызвала настоящий deliberative turn[66] в политических науках. В том, что делиберативная демократия может дать сильный импульс еле живой выборно-представительной демократии, никто из серьезных ученых уже не сомневался. Участие граждан заключается не только в том, что им дозволено приводить свои доводы, бастовать, подписывать петиции или участвовать в других формах разрешенной активности в общественном пространстве. Оно должно быть закреплено институционально. Сам Фишкин тем временем организовал десятки делиберативных обсуждений по всему миру, зачастую с весьма впечатляющими результатами{99}. В Техасе, штате, где он работал, неоднократно отбирались по жребию граждане, чтобы обсудить проблемы возобновляемой энергии, – не самая очевидная тема для этого нефтяного штата. Благодаря таким обсуждениям с отобранными по жребию гражданами доля людей, заявивших, что они готовы платить несколько больше за ветровую и солнечную энергию, возросла с 52 до 84 %! Благодаря такому росту группы поддержки Техас в 2007 году превратился в штат с наибольшим количеством ветрогенераторов в США; десятью годами ранее он тащился в хвосте. В Японии речь шла о пенсиях, в Болгарии – о дискриминации цыган, в Бразилии – о карьере чиновников, в Китае – о городском управлении и т. д. Эти обсуждения всякий раз приводили к новому законодательству. Оказалось также, что делиберативная демократия работает и в таких глубоко разобщенных обществах, как Северная Ирландия. Фишкин побудил родителей – католиков и протестантов – обсудить реформу системы образования и увидел, что люди, которые чаще говорили друг о друге, чем друг с другом, все-таки в состоянии вырабатывать очень практичные предложения.
В других странах также шли поиски новых моделей для участия граждан. В Германии уже с семидесятых годов существовали «ячейки планирования» (Planungszellen). Дания в 1986 году учредила Технологический совет (Teknologi-radet) – организацию, работающую параллельно с парламентом и дающую гражданам возможность высказываться по вопросу общественных последствий новых технологий, в частности ГМО. Во Франции в 1995 году появилась Национальная комиссия для общественных обсуждений (Commission nationale pour le débat public), дающая возможность гражданского участия в решении проблем окружающей среды и инфраструктуры. Великобритания взялась за Гражданские коллегии присяжных (Citizen Juries). Для привлечения граждан к решению проблем технической политики Фландрия в 2000 году учредила Институт общества и технологии. И это только несколько примеров; на сайте participedia.net имеется информация о сотнях проектов по обсуждениям за прошедшие годы. С каждым днем этот список растет.
Особенно плодотворной такая практика оказалась на уровне городов. Так, жители Нью-Йорка в течение двух дней совместно решали, что строить на территории Всемирного торгового центра (Ground Zero). В Манчестере речь шла о предотвращении преступлений. В бразильском городе Порту-Алегри и некоторых других южноамериканских городах жители участвуют в представительных обсуждениях бюджета: граждане непосредственно привлекаются к бюджетной политике своих городов. В китайском городе Вэньлин отобранным по жребию гражданам разрешается давать партийному руководству советы по приоритетам в крупных инфраструктурных проектах. В Роттердаме-Южном и в Генке в 2013 году многочисленная выборка жителей обсуждала основные социально-экономические проблемы будущего.
Однако партиципативная демократия вовсе не сводится к демократии национальной или локальной. Европейский союз взялся за широкомасштабную делиберативную демократию (Совместное волеизъявление в 2005 году, Консультации граждан Европы в 2007 и 2009 годах), а 2013 год объявил Годом гражданина.
Идет ли речь о гражданских коллегиях присяжных, малых группах, консенсусных конференциях, делиберативных обсуждениях, Planungszellen[67], débats publics[68], citizens’ assemblies[69], people’s parliaments[70] или town hall meetings[71], организаторы неизменно прилагают все усилия, чтобы услышать голос граждан в период между выборами. За счет алеаторно-представительной демократии выборно-представительная демократия обогатилась.
Каждый делиберативный проект должен решить, как будет выглядеть состав граждан. Если граждане сами хотят записаться, точно известно, что они будут мотивированными и вовлеченными. Недостаток такого самоотбора состоит в том, что придут в основном деятельные, образованные белые мужчины старше 30 лет, так называемые профессиональные граждане. Не идеально. Если набор происходит путем жеребьевки, состав получится более разнообразным, более легитимным, но издержки тоже будут выше: составить хорошую, репрезентативную выборку дорого, а недобровольные участники изначально будут не столь осведомленными и могут быстрее утратить интерес. Самоотбор повышает эффективность, жеребьевка – легитимность. Иногда предпочтительна промежуточная форма: жеребьевка, предшествующая самоотбору, или самоотбор, предшествующий жеребьевке.
А вот как быть не должно. В апреле 2008 года премьер-министр Австралии Кевин Радд созвал тысячу человек из числа виднейших австралийских граждан для разговора об Австралии 2020 года. Он искал «best and brightest»[72] граждан страны – лозунг, пришедший из конца XVIII века. Граждане должны были самостоятельно выставить свою кандидатуру, представить список своих квалификационных данных и отправить мотивационное письмо о том, как они участвовали бы в процессе. Не было предусмотрено возмещение расходов на дорогу и проживание – и это в Австралии, стране с такими расстояниями. Сколько бедных женщин-аборигенов с севера заказало бы билет до Канберры? М-да, так избранную аристократию заменит не демократия, а самоизбранная аристократия, – час от часу не легче. Тогда участие граждан превратиться в «меритократический конклав»{100}.
Демократическое обновление на практике: международные поиски (2004–2013)
Среди процессов высказывания последних лет есть пять, которые, по моему мнению, особенно бросаются в глаза, потому что они были смелее и весомее, а кроме того, происходили на национальном уровне. Два из них имели место в Канаде, остальные – в Нидерландах, Исландии и Ирландии. Все они осуществились в прошедшее десятилетие (ирландский продлился до конца 2013 года); все получили от правительств временные полномочия и крупный бюджет; все относились к исключительно важным материям: реформе избирательной системы или даже конституции. Здесь действительно самая сердцевина демократии. Это нечто иное, чем дать гражданам поговорить о ветрогенераторах и кукурузных початках.
В таблице 2 представлены сведения по каждому из этих проектов. Я различаю два этапа. Первый продолжался с 2004 по 2009 год и охватывал гражданские форумы в канадских провинциях Британская Колумбия и Онтарио и в Нидерландах – три проекта, которые относились к реформе существующей избирательной системы или, по крайней мере, к разработке предложения по реформе.
Второй этап начался в 2010 году и продолжается до сих пор. В него входят Конституционная ассамблея в Исландии и Конституционное собрание в Ирландии – два проекта, которые смогли выработать предложения по изменению конституции. В Ирландии речь шла о восьми статьях конституции, в Исландии – о тексте в целом. Пригласить граждан переписать конституцию – дело нешуточное. И отнюдь не случайно, что зайти так далеко на пути демократического обновления отважились именно две страны, которые вышли из финансового кризиса 2008 года весьма потрепанными. Банкротство Исландии и рецессия в Ирландии подвергли господствующую модель суровому испытанию. Для восстановления доверия правительствам пришлось что-то делать.
Британская Колумбия в 2004 году запустила самый амбициозный делиберативный процесс, который происходил где-либо в мире в современную эпоху. Этот канадский штат пожелал доверить реформу избирательной системы произвольной выборке из 160 граждан. В Канаде до сих пор использовалась британская избирательная система, работающая на основе мажоритарного принципа: если в каком-либо избирательном округе кандидат лидирует с минимальным отрывом, ему присваивается весь выигрыш (the winner takes all[73], в отличие от пропорциональной системы). Было ли это наиболее справедливо? Участникам citizens’ assembly[74] пришлось регулярно встречаться друг с другом в течение почти целого года. Преобразование избирательных правил игры – это такой сюжет, из которого политическим партиям не так-то легко выпутаться: вместо того чтобы служить общему благу, они должны непрерывно задаваться вопросом, до какой степени новое предложение навредит им самим.
Таблица 2. Демократические инновации в некоторых западных странах
Именно поэтому идея поработать с независимыми гражданами показалась разумной также в Онтарио. Население в этой провинции втрое больше, чем в Британской Колумбии, но и здесь приглашения были разосланы большой, произвольно выбранной группе граждан, включенных в списки избирателей. Заинтересованных пригласили на информационное собрание, где они при желании могли подтвердить свое участие. Из этих кандидатов была отобрана по жребию репрезентативная группа в составе 103 граждан: в нее должны были входить 52 женщины и 51 мужчина, по крайней мере один из них должен был быть представителем коренного населения, при этом следовало учитывать возрастную пирамиду. Назначался только председатель. В окончательном составе участников, вытянувших жребий, оказалось 77 человек, родившихся в Канаде, и 27 – за ее пределами. По роду занятий среди них встречались няня, бухгалтер, чернорабочий, преподаватель, служащий, предприниматель, специалист по информационным технологиям, студент и патронажный медработник.
Хотя в Нидерландах действует пропорциональная избирательная система, политическая партия D66 выступает за совершенствование демократических правил игры. В 2003 году, когда эта партия участвовала в переговорах о формировании правительства, она убедила своих партнеров по коалиции основать Гражданский форум по избирательной системе – по аналогии с канадским прецедентом. Другие партии не выразили большого энтузиазма, но поскольку только так можно было убедить D66 вступить в коалицию, они смирились. В 2006 году в результате досрочных выборов D66 вышла из правительства, и этот проект спокойно себя изжил – настолько спокойно, что большинство голландцев – даже те, кто регулярно читал газеты, – впоследствии ничего о нем не слышали и едва ли могут что-то о нем вспомнить. А жаль, потому что, как и в Канаде, там была проделана интересная работа{101}.
В упомянутых трех случаях набор участников происходил в три этапа: 1) из реестра избирателей по жребию составлялась большая random sample[75] граждан; они получали по почте приглашение; 2) проводился процесс самовыдвижения: заинтересованные приходили на информационное собрание и могли выставить свою кандидатуру для продолжения; 3) из этих кандидатов путем жеребьевки составлялась окончательная команда, причем соблюдалось равномерное распределение по возрасту, полу и т. д. Таким образом, это была система «жеребьевка – самовыдвижение – жеребьевка».
Переговоры продолжались от девяти до двенадцати месяцев в трех местах. За это время участники получали возможность вникнуть в суть дела с помощью экспертов и документов. Затем они совещались с другими гражданами и вели переговоры между собой. Наконец они формулировали конкретное предложение по изменению избирательного закона (кстати, заметим, что в Онтарио граждане выбрали избирательную модель, отличную от существовавшей в Британской Колумбии: делиберация не является манипуляцией в заранее заданном направлении).
При чтении отчетов об этих канадских и нидерландских гражданских парламентах в интернете бросается в глаза, как много нюансов присутствует в доводах, которыми подкрепляется технически отточенная альтернатива. Тому, кто сомневается, что простые граждане, отобранные по жребию, в состоянии принимать продуманные и разумные решения, стоит почитать эти отчеты. Выводы Фишкина еще раз нашли подтверждение.
Но бросается в глаза и то, что ни одному из рассмотренных трех проектов не удалось на деле оказать влияние на политику. Как же это могло быть? Здравомыслие на входе и почти никакого конкретного результата на выходе? Верно. Во всех трех случаях предложение citizens’ assembly[76] следовало утвердить на референдуме. Как видно, жеребьевка в качестве демократического инструмента была еще слишком необычной, чтобы получить истинную легитимность, – как если бы решение американской коллегии присяжных следовало утвердить на всенародном совещании. Но дело обстояло именно так. Результатом было то, что многомесячную работу нескольких десятков граждан население должно было оценить за несколько секунд. В Британской Колумбии 57,7 % граждан проголосовало за. Это много, но недостаточно, чтобы преодолеть предусмотренный порог в 60 %. В скобках заметим, что в 2009 году, во второй попытке, энтузиазм упал до 39,9 %. В Онтарио за проголосовало только 36,9 % граждан. А в Нидерландах кабинет Балкененде решил оставить вообще без последствий рекомендации Гражданского форума по избирательной системе, на который сам же ассигновал более пяти миллионов евро.
Демократическое обновление – процесс постепенный. Поэтому заключительные неудачи канадских и нидерландского процессов особенно поучительны. Тому есть много причин: 1) граждане, голосовавшие на референдуме, как уже сказано, не следили за обсуждениями: в кабине для голосования их неквалифицированное мнение (raw opinion) пришло в резкое столкновение с informed opinion[77] вовлеченных лиц{102}; 2) форумы граждан представляют собой лишь временные учреждения с ограниченными полномочиями; вследствие этого их голос не так весом, как у официальных, постоянных органов; 3) зачастую политические партии были заинтересованы в дискредитации предложений или просто их игнорировали, потому что реформа избирательной системы стоила бы им власти; в Нидерландах правительство даже решило не объявлять референдум, а рекомендации сразу отправить в макулатуру{103}; 4) в Канаде коммерческие средства массовой информации зачастую настроены враждебно по отношению к citizens’ assemblies[78] независимо от содержания предложений; в Онтарио пресса вела себя даже «истерически негативно»{104}; 5) часто гражданские форумы не располагали опытными ораторами и адекватным бюджетом кампании: хотя о решении сообщали СМИ, деньги шли скорее на содержательную работу, а не на маркетинг; 6) референдумы по предложениям о комплексной реформе, вероятно, всегда ставят в привилегированное положение лагерь голосующих против: if you don’t know, say no[79] – так это называется; при голосовании по Европейской конституции также было достаточно противников, чтобы посеять сомнение, и голосующим за пришлось гораздо больше работать и общаться с людьми. Остается под вопросом, подходят ли вообще референдумы для принятия решений по сложным проблемам{105}.
За прошедшие десятилетия референдум часто выходил на передний план в качестве эффективного средства преобразования демократии. В эпоху индивидуализации, когда организованное гражданское общество теряет ту значимость, которой оно обладало ранее, многим кажется, что целесообразно напрямую спрашивать мнение населения по спорным делам. Однако после референдумов по Европейской конституции в Нидерландах, Франции и Ирландии любовь к референдумам несколько остыла. Но они все еще пользуются большой популярностью, как показывают референдумы о независимости Каталонии и Шотландии, а также о выходе Великобритании из Европейского Союза. Референдумы и делиберативная демократия родственны тем, что они непосредственно обращаются к мнению простого гражданина. В остальном же они идут вразрез друг с другом: на референдуме всех просят проголосовать по теме, о которой обычно лишь немногие что-то знают, при делиберативной демократии репрезентативную выборку людей просят обсудить тему, о которой они получают всю возможную информацию. На референдуме еще очень часто говорит интуиция, при делиберации говорит просвещенное общественное мнение.
Citizens’ assemblies[80] еще могут выполнить большую работу, но рано или поздно они должны заявить о своих выводах. Это всегда мучительный процесс. Закрытость гражданского обсуждения вдруг попадает на яркий дневной свет общественного пространства. Тогда в лагере политических партий и коммерческих СМИ неизменно появляются страстные оппоненты. Это явление широко распространено и весьма любопытно. Откуда такая неприязнь? Многие ученые и активные политики задаются этим вопросом. В то время как civil society[81] зачастую настроено положительно по отношению к расширению гражданского высказывания – хотя бы потому, что профсоюзы, организации работодателей, молодежные движения, женские организации и другие участники общественной жизни сами делают это на протяжении более чем столетия, – пресса и политики настроены скорее пренебрежительно. Происходит ли это потому, что пресса и политики привыкли служить блюстителями общественного мнения и неохотно выпускают из рук эту привилегию? Это определенно играет свою роль. Потому что пресса и политики принадлежат к старой выборно-представительной системе и, следовательно, с трудом овладевают новыми формами демократии? Может быть и так. Потому что те, кто действует top-down[82], возможно, скорее испытывают неудобство от того, что возникает bottom-up[83]? И это не исключено.
Но здесь играют роль еще и другие факторы. Политические партии опасаются своих избирателей. Хорошо известно, что граждане с недоверием относятся к своим политикам, но что и политики могут с точно таким же недоверием воспринимать своих граждан, пока еще ново. Вспомним исследование Петера Канне, который показал, что девять из десяти политиков подозрительно относятся к гражданскому населению. Если политики в массе своей считают, что население по определению думает иначе, чем они, то не следует удивляться, что они изначально скептически настроены по отношению к его участию.
У средств массовой информации свои сомнения. Делиберативные процессы с отобранными по жребию гражданами зачастую означают интенсивные переживания для самих участников, но плохо подходят к формату современной информации: они происходят медленно, в них нет своих теноров, известных лиц, заметных конфликтов. Граждане просто разговаривают, сидя за круглыми столами, держа под рукой стикеры и фломастеры. Этого мало, чтобы привлечь зрителя. Парламентская демократия – это театр, и иногда она осчастливливает телевидение, но делиберативная демократия содержит мало драматического и с трудом выливается в рассказ. Когда британский «Четвертый канал» (Channel 4) транслировал «Народный парламент» («The People’s Parliament») – серию передач, консультантом которой был Джеймс Фишкин и в которой сотня отобранных по жребию граждан вела дебаты на такие дискуссионные темы, как молодежная преступность и право на забастовку, – вещатель прекратил передавать эту серию уже после нескольких выпусков. Просто она не завладевала вниманием зрителя{106}. Это тоже проясняет сдержанность средств массовой информации.
В Исландии учли печальный результат нидерландского и канадских экспериментов. Во избежание того, что работа группы граждан отправится в мусорный бак, были введены три существенных изменения. Во-первых, после жеребьевки брались за дело не 100–160 граждан, а только двадцать пять, которые были избраны! Кандидатам нужно было представить по 30 подписей; всего предложили свои кандидатуры 522 человека. Остальное население пришло к избирательным урнам, чтобы выбрать команду из 25 человек. В скобках заметим, что вследствие политических препирательств между официальными политическими партиями это голосование позже объявили недействительным, после чего парламент просто-напросто сам назначил избранных, но это сейчас несущественно. Принцип заключался в том, что конституционный форум должен быть избран. Во-вторых, было желание избежать того, что деятельность одной этой маленькой группы не будет пользоваться легитимностью у граждан и политиков. Поэтому тысячи граждан заранее пригласили обсудить принципы и ценности новой конституции, а семи политикам поручили составить предварительное заключение объемом 700 страниц. Так было задумано, чтобы впоследствии выбить почву из-под ног критиканов. В-третьих, организаторы совершенно сознательно решили не сажать команду из 25 человек в black box[84], из которого после нескольких месяцев внутреннего обсуждения появилась бы готовая к употреблению конституция. В процессе написания конституции assembly[85] каждую неделю выкладывала предварительную редакцию статей на сайте. На основе отзывов, которые приходили через Facebook, Twitter и другие СМИ, писали более новую редакцию, которая снова выкладывалась в интернете, и так далее. Процесс был откорректирован на основе почти четырех тысяч комментариев. Прозрачность и обсуждение стали решающим фактором. Газета International Herald Tribune написала, что это первая конституция, которая осуществилась через crowdsourcing[86].
Результат был соответствующим: на референдуме 20 октября 2012 года, когда проект конституции был представлен гражданам Исландии, две трети из них проголосовали за. На дополнительный вопрос, который возник во время обсуждений в конституционном совете, – должны ли природные богатства острова, которые не являются частной собственностью, стать достоянием нации – положительно ответили не менее 83 % проголосовавших{107}.
Хотя утверждение в парламенте уже долгие годы заставляет себя ждать, этот исландский опыт до сих пор остается наиболее впечатляющим примером делиберативной демократии. Обязан ли его успех широкой открытости процесса? Или назначению выборов вместо жеребьевки? Трудно сказать. Но не вызывает сомнений, что благодаря выборам в процесс были вовлечены сведущие люди. Это положительно сказалось на эффективности: они составили новую конституцию всего за четыре месяца. Но, с точки зрения легитимности, это было несколько хуже. Насколько мог быть разнообразным состав constitutional assembly[87] из 25 человек, если в ней заседали семь руководителей (университетов, музеев, профсоюзов), кроме того, пять профессоров и доцентов, четыре представителя средств массовой информации, четыре художника, два юриста и священник? В ней нашлось место даже отцу певицы Бьорк, видному профсоюзному деятелю. И среди них был только один крестьянин{108}. Такой состав собрания, с методологической точки зрения, был, возможно, самым слабым звеном в исландском гражданском обсуждении. Возможно, впечатляющая прозрачность, которая проливала свет на весь процесс, способствовала массовому одобрению проекта конституции больше, чем состав гражданского собрания. Поэтому остается под вопросом, могла бы команда, состоящая только из выбранных по жребию граждан, за более длительное время и при той же открытости составить конституцию, которая получила бы на референдуме столько же голосов.
Этот вопрос вскоре был вынесен на обсуждение в Ирландии. Конституционное собрание, которое открылось в январе 2013 года, также извлекло уроки из первого этапа демократических экспериментов. Выводы были таковы: привлекать гораздо больше политиков (как в Исландии), но граждан отбирать по жребию (в отличие от Исландии). Ирландцы также сочли, что шансы на успех и осуществление будут выше, если пораньше подключить политиков к процессу. В этом они продвинулись гораздо дальше исландцев. Отсюда – никакой горстки избранных, которые составляли бы предварительное заключение, но сознательный выбор в пользу совместной работы политиков и граждан в течение всего процесса: 66 граждан и 33 политика, выходцы из Республики Ирландии и из Северной Ирландии, в их числе такой, как Джерри Адамс, целый год совещались друг с другом. Может показаться странным, что в процессе гражданского участия слово вновь предоставляется известным личностям из сферы партийной политики, со всеми их риторическими талантами и знанием дела. Но этот выбор будет способствовать быстрому применению решений, снятию у политиков леденящего душу страха перед участием граждан и предупреждению насмешек со стороны партийных политиков в дальнейшем. Делиберативный процесс иногда может оказывать серьезное влияние на участников: политики теряют свое недоверие по отношению к гражданам – точно так же, как и граждане теряют свое недоверие к политикам. Участие граждан может укрепить взаимное доверие. Значит ли это, что нет опасности, что перевес окажется на стороне политиков? Следует подождать анализа ирландской модели, но если процесс хорошо организован, то вес некоторых участников компенсируется такими внутренними checks and balances[88], как разбиение на подгруппы и рассредоточение принятия решений.
Кроме того, ирландцы решительно выбрали жеребьевку. Их Конституционное собрание опиралось на движение «Мы, граждане» («We the Citizens») – успешный проект Дублинского университетского колледжа с участием отобранных по жребию граждан. Независимое исследовательское бюро составило произвольную группу из 66 граждан с учетом возраста, пола и происхождения (Республика Ирландия и Северная Ирландия). Возникшее вследствие этого разнообразие стало хорошей основой для разговора на такие щекотливые темы, как однополый брак, права женщин и запрет богохульства в нынешней конституции. Они делали это не одни: в Ирландии участники также выслушивали экспертов и получали предложения от других граждан (по вопросу об однополых браках поступило более тысячи сообщений). Впрочем, решения Конституционного собрания еще не имели силы закона: сначала его рекомендации следовало направить в обе палаты ирландского парламента, затем в правительство, а уже после этого на референдум. Иными словами, они должны были пройти еще множество шлюзов, потому что на втором этапе гражданских форумов тоже можно опасаться, что жеребьевка вызовет бурления.
Однако на национальном референдуме 22 мая 2015 года население Ирландии согласилось с изменениями в конституции, которые сделали возможным однополый брак. Доля голосов, поданных за, составила ни много ни мало 62 %. Этот референдум произошел после того, как в 2013 году Конституционное собрание подало 79 % голосов за рекомендацию изменить конституцию в этом отношении. Я не знаю лучшего примера того, как делиберативная демократия на практике сыграла действительно решающую роль. В современную эпоху такое в мире случилось впервые: совещание с отобранными по жребию гражданами привело к изменению конституции{109}.
Для сравнения: в «католической» Ирландии введение однополого брака произошло более или менее спокойно – в частности, благодаря гражданскому участию, а в это время в libertaire[89] Франции целый год продолжались сильные политические волнения по тому же поводу. В демонстрациях по улицам Парижа приняли участие более 300 тысяч человек. Там гражданину не дали высказаться.
Демократическое обновление в будущем: ассамблеи, собранные по жребию
Я потому так подробно остановился на примерах из Канады, Нидерландов, Исландии и Ирландии, что они представляют собой исключительно интересные эксперименты в сфере демократического обновления. Хотя у них был большой размах и речь шла о существенных темах, ведущие зарубежные СМИ сообщали о них лишь изредка. Поэтому сведения о накопленных знаниях и опыте не пробились к широкой международной аудитории. Такая задержка мешает другим задумываться больше чем на два этапа вперед. Демократия продвигается разными темпами: в то время как политики опасаются, СМИ подозревают, а граждане пребывают в неведении, ученые и общественные деятели устремляются к дальним горизонтам. Как сказал бельгийский философ Филипп Ван Парейс, их задача – «слишком рано оказаться правыми»{110}. В середине XIX века, когда Джон Стюарт Милль приводил доводы в пользу того, что женщины достойны права голоса, современники объявили его сумасшедшим.
Зная, что их уделом будет пренебрежительное отношение и даже издевательский смех, в прошедшие десятилетия различные авторы тем не менее выступали за то, чтобы институционально и конституционально закрепить в демократии жеребьевку. Они считали, что она не может ограничиваться лишь разовыми проектами; отобранные по жребию граждане должны составлять часть государственной структуры. Как именно это должно быть, представляло бы тему для обсуждения. Большинство мыслителей предлагало составлять путем жеребьевки один из законодательных органов. К настоящему времени представлено более 20 сценариев такого рода{111}. Авторы каждого из них пришли к выводу, что произвольно составленный парламент может сделать демократию более легитимной и эффективной. Более легитимной – потому что это восстановит идеал равномерного распределения политических возможностей. Более эффективной – потому что эта новая, отобранная по жребию совокупность народных представителей не потерялась бы в перетягивании каната между политическими партиями, предвыборных играх, баталиях средств массовой информации и законотворческих торгах. Она могла бы печься только об общем благе. Ниже я разбираю пять из важнейших предложений (таблица 3){112}.
В 1985 году американские авторы Эрнест Калленбах и Майкл Филлипс предложили преобразовать существующую в США Палату представителей в Представительскую палату. Народные представители в количестве 435 человек не избирались бы, а отбирались по жребию. Авторы вовсе не были фантастами. Уже за много лет до этого Эрнест Калленбах прославился своей книгой «Экотопия» («Ecotopia»), которая разошлась тиражом в миллион экземпляров. Многие из его смелых для того времени взглядов ныне стали общепринятыми. Майкл Филлипс был банкиром, опубликовавшим такие работы, как «Семь магических законов денег» и «Честный бизнес». В шестидесятые годы он организовал платежную систему MasterCard.
Современная чисто выборная система, по их мнению, непредставительна и слишком чувствительна к коррупции. Слишком много значит власть больших денег. Жеребьевка могла бы это поправить. Из существующих списков для назначения присяжных заседателей (дело в том, что в США они более обширны, чем списки избирателей) произвольно отбирали бы граждан, чтобы в течение трех лет они исполняли обязанности членов парламента. Вознаграждение было бы соответственным, потому что нужно, чтобы бедные хотели в этом участвовать, богатые могли прервать свои дела, а люди, загруженные работой, могли освободить время. Чтобы гарантировать преемственность, уходить в отставку палата могла бы не вся в один и тот же день, а по частям, например треть состава ежегодно. Их компетенция не должна отличаться от той, которой обладает современная палата: предлагать Сенату законы и оценивать законопроекты Сената.
Бросается в глаза, что Калленбах и Филлипс не выступали за полный отказ от выборов. Наоборот, они считали разумным, чтобы наряду с Сенатом, состоящим из избранных граждан, существовала палата, состоящая только из граждан, отобранных по жребию. Представительство должно было осуществляться как электорально, так и алеаторно. «Мы полагаем, что идея прямого представительства не оторвана от жизни. Как только это будет повсеместно понято, это станет столь же честно и справедливо, столь же действенно и привлекательно, как когда-то было распространение избирательного права»{113}.
Таблица 3. Предложения по жеребьевке в законодательные ассамблеи
За прошедшие годы их предложение совершенствовалось различными авторами. Появились предложения и для Великобритании. Энтони Барнетт и Питер Карти сочли, что пора демократизировать и Палату лордов – единственный сенат на Западе, членство в котором для некоторых все еще остается наследственным. Барнетт является основателем сайта openDemocracy и регулярно пишет для газеты The Guardian; Карти пишет для различных солидных британских изданий (The Guardian, The Independent, The Independent on Sunday, Financial Times и т. д.). В отличие от своих американских коллег, они хотят формировать по жребию не Палату общин, а верхнюю палату. Они также считают, что такой составленный по жребию орган не должен иметь права инициировать законы: следует ограничиться надзором за законодательной деятельностью Палаты общин. Новая, составленная по жребию Палата лордов, которую они переименовали в Палату равных (равнозначных), должна тогда проверять ясность, целесообразность и конституционность законопроектов{114}. Разумеется, авторы сознавали, что их план радикален, но сейчас демократии нужны перспективы. «Говорят, что жизненный цикл любой важной идеи проходит через три этапа. Сначала ее отрицают. Затем ее высмеивают. Впоследствии она становится общепризнанной мудростью»{115}.
Кит Сазерленд, исследователь при Эксетерском университете, называющий себя консерватором, считает, что все должно быть наоборот. Палата лордов остается Палатой лордов, а Палату общин следует преобразовать в орган, формируемый по жребию, то есть парламент, – в точности как в американском предложении. Он тоже считает, что высокое денежное вознаграждение важно, и разделяет предложение своих британских коллег о том, чтобы не наделять выбранную по жребию палату правом законодательной инициативы. При этом он задается вопросом, не должны ли при жеребьевке предъявляться какие-либо минимальные требования, касающиеся возраста, образования и компетентности кандидатов. Будучи консерватором, он высказывает предложение проводить жеребьевку только среди граждан старше 40 лет: к нуждам более молодых слоев населения, по его мнению, уже проявляется достаточно внимания со стороны СМИ, политических партий и рынка. Как к этому ни относиться, вывод ясен: «Жребий представляет собой необходимый компонент любой формы правления, которая хочет называть себя демократической»{116}.
Во Франции политолог Ив Синтомер предложил не заменять Национальное собрание или Сенат палатой, сформированной по жребию, а дополнить систему новой палатой. Эта Третья палата формировалась бы на основе жеребьевки среди кандидатов-добровольцев. Он тоже указывает на важность достойного денежного вознаграждения и предоставления информации. Назначенным по жребию народным представителям следует предоставить возможность пользоваться помощью сотрудников, какой сейчас располагают избранные депутаты. Он не говорит, кто должен иметь какие права, но предлагает, чтобы Третья палата занималась вопросами, требующими долгосрочного планирования (экология, социальная сфера, избирательная система, конституция). Ведь это именно те сферы деятельности, до которых при существующей модели слишком часто не доходят руки{117}.
Немецкий профессор Хубертус Бухштайн также выступает за то, чтобы создать дополнительную палату – не на национальном, а на наднациональном уровне. Должен появиться второй Европейский парламент, говорит он, на этот раз сформированный из граждан, отобранных по жребию. Он называет это Палатой по жребию. Двести ее депутатов должны быть отобраны по жребию из всего взрослого населения Европейского союза при соблюдении пропорционального представительства по государствам – членам ЕС, на срок в два с половиной года. Участие должно быть обязательным, если только не имеется серьезных препятствий. В отношении таких депутатов также должны действовать финансовые и организационные условия такого рода, чтобы не было оснований уклониться. В отличие от британских авторов, он считает, что сформированный по жребию парламент ЕС как раз должен иметь право законодательной инициативы, а также консультативные полномочия и даже право вето. Это далеко идущие меры, но Бухштайн придерживается мнения, что оказывать eine deliberative Entscheidungsdruck[90] необходимо, чтобы компенсировать недостаток демократии в Европе{118}. Только под таким делиберативным давлением ЕС может достичь эффективности и прозрачности при принятии решений.
Что бросается в глаза, если рассмотреть эти различные предложения вместе? Во-первых, что каждый раз речь идет об очень крупном целом: Франция, Великобритания, США, ЕС. Прошло то время, когда жеребьевка подходила только для городов-государств и карликовых государств. Во-вторых, что, несмотря на значительное расхождение во мнениях, существует консенсус относительно срока (предпочтительно несколько лет) и денежного вознаграждения (предпочтительно высокое). В-третьих, что неравномерное распределение компетентности граждан должно быть устранено благодаря их подготовке и поддержке со стороны экспертов, как это происходит в парламентах сейчас. В-четвертых, что орган, сформированный по жребию, никогда не рассматривается в отрыве от выборного органа, а представляется дополнением к нему. И наконец, в-пятых, что каждый раз речь идет о формировании по жребию только законодательной палаты.
Модель демократии, основанная на жребии
Весной 2013 года специализированное научное издание Journal of Public Deliberation опубликовало замечательную статью американского исследователя Террилла Бурисиуса. Бурисиус, который ранее 20 лет проработал в штате Вермонт в качестве выборного политика, задался вопросом, насколько были осуществимы предшествующие предложения. Могла ли бы замена выборной палаты на палату, формируемую по жребию, обеспечить демократии большую поддержку и придать ей больше энергии? Его вопрос был чрезвычайно своевременным. В идеале действительно хотелось бы получить сформированный по жребию Европейский парламент, который представляет весь ЕС, но сколько литовских деревенских булочниц закроют свои магазины на несколько лет, чтобы отправиться заседать в Страсбурге в Палате по жребию? Сколько молодых инженеров с Мальты отложат свои многообещающие строительные проекты на три года, потому что на них пал европейский жребий? Сколько безработных из английской глубинки оставят паб и приятелей, чтобы годами сидеть с незнакомыми людьми, ковыряясь в текстах законов? И даже если они этого захотят, насколько хорошо они будут это делать? Сформированный по жребию парламент мог бы стать легитимнее (потому что был бы представительнее), но работал ли бы он эффективнее? Или большинство назначенных по жребию стало бы придумывать всякие отговорки, чтобы не ехать, вследствие чего представительство народа опять превратилось бы в занятие для высокообразованных мужчин? Укрепление демократии путем назначения ассамблеи по жребию звучит красиво, но вызывает множество возражений. Желание дать слово каждому сопряжено с опасностью возникновения новых форм элитаризма. Как примирить идеал с практикой? Над этим вопросом и бился Бурисиус.
Он вернулся к афинской демократии, изучил механизмы ее действия и задался вопросом, как выглядело бы их современное применение. В целом в афинской демократии жеребьевка использовалась не для отдельных учреждений, а для целого ряда, за счет чего создавалась система checks and balances[91]: один сформированный по жребию орган следил за другим. «Совет пятисот определял повестку дня и подготавливал законопроекты для Народного собрания, но сам голосовать по законам не мог. Закон, который был принят Народным собранием, мог быть отозван Народным судом, хотя суды, в свою очередь, сами голосовать по законам не могли». Следовательно, процесс принятия решений был распределен между различными учреждениями (ср. рис. 2b). Это кажется волокитой, но имеет важные преимущества.
Афинское разделение властей между различными сформированными по жребию органами и самовыдвинувшимися участниками Народного собрания служило трем важным целям, которых нет у наших современных законодательных органов: 1) законодательные органы относительно хорошо представляли гражданское население; 2) они в большой степени были устойчивы к коррупции и к слишком высокой концентрации политической власти; и 3) шансы на участие в обсуждении и в принятии решений были широко распределены среди релевантного населения{119}.
Работа с несколькими сформированными по жребию органами (multi-body sortition[92], по терминологии Бурисиуса) обеспечивала бы больше легитимности и больше эффективности.
Как могло бы нечто подобное работать сегодня? На рисунке 3 я попытался схематически представить модель Бурисиуса. Делаю это на основе его статьи, дополненной более ранним исследованием и перепиской по электронной почте с ним и его коллегой Дэвидом Шектером.
В сущности, говорит Бурисиус, нужны шесть различных органов. Почему так много? Потому что нужно суметь согласовать друг с другом противоположные интересы. Будучи знатоком в области демократических инноваций, он знает, как это непросто. Желательно, чтобы жеребьевка обеспечила большую репрезентативную выборку, но известно также, что работать удобнее в маленьких группах. Желательна быстрая ротация, чтобы благоприятствовать широкому участию, но известно также, что более длительные полномочия обеспечат более эффективную работу. Хочется позволить участие каждому, кто пожелает, но известно также, что тогда будут излишне представлены высокообразованные активные граждане. Желательно заставить граждан советоваться друг с другом, но известно также, что это грозит групповым мышлением, склонностью быстро находить консенсус. Желательно дать как можно больше власти органу, сформированному по жребию, но известно также, что некоторые индивиды будут оказывать слишком сильное давление на групповой процесс – с непредсказуемыми последствиями.
Рис. 3. Множественная жеребьевка: модель демократии, основанной на жребии (числа вымышлены)
Эти пять дилемм знакомы всякому, кто когда-либо работал с альтернативными формами обсуждения. Они касаются идеальной численности группы, идеальной продолжительности работы, идеального метода отбора, идеального метода обсуждения и идеальной групповой динамики. Ну вот, как говорит Бурисиус, идеала нет, откажитесь от его поисков. Гораздо лучше спроектировать модель, состоящую из нескольких органов: так преимущества различных опций смогут друг друга усилить, а недостатки – друг друга ослабить.
Вместо того чтобы отдавать органу, сформированному по жребию, всю власть, вполне можно разбить законодательную работу на этапы.
На первом этапе должна быть определена повестка дня. У Бурисиуса это происходит в Совете по повестке дня – широком органе, участники которого отбираются по жребию из тех, кто записался самостоятельно (следовательно, есть некоторое сходство с афинскими народными судами). Совет по повестке дня обрисовывает проблематику, но дальше ее не разрабатывает. Таких полномочий у него нет. Граждане, которые не принадлежат к Совету по повестке дня, но все же хотят привлечь внимание к какой-либо частной проблеме, могут реализовать свое право на ходатайство: при достаточном числе подписей их вопрос также будет рассмотрен.
На втором этапе начинают действовать различные инициативные коллегии; их может быть сколько угодно, хоть сто. Инициативные коллегии представляют собой группы по 12 граждан, каждый из которых может предложить законопроект (или часть законопроекта). Они сформированы не по жребию и не в результате выборов, а из граждан, добровольно выставивших свою кандидатуру, чтобы вместе подумать над какой-либо частной темой. В такой коллегии могут заседать 12 граждан, которые друг с другом не знакомы и не преследуют общих целей, но с таким же успехом они могут оказаться группой, проталкивающей выгодный ей законопроект. Это не страшно: последнее слово также не за ними, и они должны учитывать, что их предложение будут оценивать другие. Благодаря работе с инициативными коллегиями те, кто обладает релевантным опытом, смогут объединить свои знания для выдвижения конкретных политических предложений. Это обеспечит эффективность системы. Если на повестке дня стоит безопасность дорожного движения, то речь пойдет о местных организациях, объединениях велосипедистов, о кондукторах автобусов, людях из транспортной сферы, о родителях, чьи дети погибли в дорожно-транспортных происшествиях, об автомобильных федерациях и т. д.
На третьем этапе все эти предложения направляются в обзорные коллегии. Для каждой сферы управления существует одна такая коллегия. Тогда, например, предложения по безопасности дорожного движения попадают в обзорную коллегию, которая занимается мобильностью. Эти коллегии можно сравнить с парламентскими комиссиями. Они не обладают правом законодательной инициативы и в итоге не голосуют по законопроекту. Они выполняют чисто посредническую работу (подобно Совету пятисот в Афинах). На основе данных, полученных из инициативных коллегий, они организуют публичные слушания, приглашают специалистов и разрабатывают законопроекты. Во всех обзорных коллегиях, по предложению Бурисиуса, заседает около 150 членов, отобранных по жребию из граждан, которые записались сами. Речь идет о должностях с очень высокой ответственностью. Члены коллегий заседают по три года, работают на постоянной основе и получают за это справедливое денежное вознаграждение, сравнимое с парламентским окладом. Ротация происходит не коллективно по окончании трехлетнего срока, а постепенно, по 50 мест за рабочий год.
Чтобы избежать концентрации всей власти в обзорных коллегиях, имеется четвертый, очень важный, орган: законопроект представляют в Политический суд – самый странный орган в схеме Бурисиуса. Дело в том, что в этом суде нет постоянных членов. Всякий раз, когда нужно голосовать по законопроекту, отбирают путем жеребьевки 400 граждан, чтобы они собрались на один день. В исключительных случаях речь может идти о нескольких днях, не более недели. Важно, что жеребьевка происходит среди всего взрослого населения (следовательно, не только среди тех, кто выставил свою кандидатуру; в этом отношении больше похоже на гражданскую коллегию присяжных в судебном процессе). Тот, на кого пал жребий, должен явиться, если только у него нет по-настоящему уважительной причины. Это важно для представительности. Поэтому участники также щедро вознаграждаются за свое присутствие. Политический суд заслушивает различные законопроекты, составленные обзорной коллегией, выслушивает беспристрастное изложение аргументов за и против, а затем проводит по ним тайное голосование. Следовательно, какие-либо дискуссии более не ведутся, нет партийной дисциплины, нет группового давления, нет тактических соображений при голосовании, нет политического торга, нет подхалимажа: каждый по чести и совести голосует за то, что, по его мнению, в долгосрочной перспективе наилучшим образом послужит общим интересам. Чтобы избежать влияния харизматичных спикеров на исход голосования, законопроекты представляют нейтральные служащие. Поскольку здесь хорошо проявляется срез всего общества, решения Политического суда приобретают силу закона.
Чтобы направить процесс в верное русло, Террилл Бурисиус предлагает еще два дополнительных органа: Совет по регламенту и Совет по надзору. Оба они также формируются по жребию; первый занимается составлением процедур жеребьевки, слушаний и голосований; второй следит за тем, чтобы правительственные чиновники соблюдали эти процедуры, и рассматривает возможные жалобы. Таким образом, эти два совета выполняют метаполитическую функцию: они – составители и блюстители правил игры. Совет по регламенту мог бы формироваться по жребию из людей, которые когда-либо уже получали место в органе, сформированном по жребию: ведь они разбираются во всех тонкостях процедур.
Этой модели добавляет привлекательности ее способность к развитию. Не все твердо установлено заранее. «Самое главное заключается в том, что все это относится только к стартовому проекту», – написал Бурисиус по электронной почте.
Он будет развиваться так, как это сочтет желательным Совет по регламенту. Единственное правило, которое я тем или иным образом хотел бы сделать постоянным, – это чтобы Совет по регламенту не мог дать больше власти себе самому. Возможно, основным правилом должно быть, что новые правила игры для Совета по регламенту вступают в силу только после того, как его состав сменился на 100 %{120}. Кроме того, когда система уже будет функционировать в течение некоторого времени, на мой взгляд, число лиц, из которых можно выбирать по жребию членов Совета по регламенту, можно будет ограничить добровольцами, прежде работавшими в каком-либо другом органе, сформированном посредством отбора по жребию. Следовательно, вместо того чтобы детально описывать все заранее, он набросал «самообучающуюся» систему.
В этом проекте характерно то, как вековой поиск демократии – поиск благоприятного равновесия между эффективностью и легитимностью – принимает здесь форму системы, основанной чисто на жеребьевке. То, что граждане могут по желанию записаться в пять или шесть органов, идет решительно на пользу такому подходу (для инициативных коллегий им даже не нужно проходить жеребьевку: взяться за дело может каждый желающий). Но заключительное суждение, последнее слово в принятии решения, основанное на репрезентативной выборке Политического суда, существенно для легитимности. Короче говоря, тот, кто считает себя в состоянии послужить обществу, получает возможность участвовать в обсуждении, но окончательное решение – за сообществом.
В конце XVIII века такое равновесие между поддержкой и деятельностью не считалось возможным. Американские и французские революционеры полагали, что государственные дела слишком важны, чтобы поручать их народу: отдав предпочтение выборной аристократии, они отдали первенство эффективности перед легитимностью. Сегодня мы за это расплачиваемся. Народ ропщет. Легитимность выборно-представительной системы громко подвергается сомнению.
Предложение Бурисиуса чрезвычайно воодушевляет. Оно представляет собой вдохновляющий пример того, что демократию можно устроить совершенно иначе. Оно отталкивается от древних Афин, но не перенимает процедуры слепо. Оно основано на недавних исследованиях делиберативной демократии и экспериментах с жеребьевкой и благодаря этому учитывает потенциальные ловушки отдельных формул. Оно моделирует систему checks and balances[93], позволяющих избежать этих ловушек и воспрепятствовать концентрации власти. Но в первую очередь оно возвращает политику гражданам: элитарное разделение на управляющих и управляемых полностью отменяется. Мы возвращаемся к аристотелеву идеалу попеременного правления и подчинения правлению.
Так в каком направлении нам теперь нужно двигаться? Проведены блестящие исторические исследования, политические философы выполнили великолепную работу, имеется масса вдохновляющих практических примеров, предложены некоторые усовершенствованные схемы, из которых схема Бурисиуса представляется особенно многообещающей. Каков следующий шаг?
Хотя модель Бурисиуса эволютивна, она начинает видоизменяться только тогда, когда уже существует. Остается неясно, как должен происходить переход к ней от современной системы. В более ранней статье, написанной в соавторстве с Дэвидом Шектером, Бурисиус утверждает, что эту модель можно применить in a variety of ways[94]:
• чтобы разработать отдельный закон (как ассамблея граждан Британской Колумбии);
• чтобы разработать все законы в рамках определенной политической сферы (например, в сфере, которая является настолько спорной, что избранные должностные лица предпочтут уступить ее гражданам, либо где у законодателей есть конфликт интересов, обусловленный сроками полномочий, зарплатой или избирательным законом);
• чтобы повысить делиберативное качество гражданской инициативы или референдума;
• чтобы заменить избранную палату двухпалатной системой;
• чтобы вместо выборного законодательного органа провести в жизнь целый законодательный процесс{121}.
А что, если в этих пяти возможных применениях мы сейчас увидим пять последовательных шагов исторического преобразования? Робко начать и завершить с энтузиазмом. Собственно говоря, насколько я понимаю, в некотором смысле этот процесс уже начался. Этап 1 произошел в Канаде. Этап 2 полным ходом идет в Ирландии. Этап 3 существует уже дольше всего. Этапы 4 и 5 – да, это самые серьезные проблемы; к ним мы еще не подошли. Для общего применения схемы Бурисиуса (этап 5) точно еще не настало время. Если только нет угрозы революции, политические партии сами себя так быстро не отменят, чтобы в один прекрасный день сделать возможной multibody sortition[95]. Но для этапа 4 время уже подходит.
Своевременность введения бирепрезентативной системы
Демократия подобна глине, а лепит ее время. Конкретные формы, которые она принимает, всегда определяются историческими условиями. Как форма государственного устройства, в центре которой стоит обсуждение, она весьма чувствительна к имеющимся средствам связи. Этим обусловлено, что демократия древних Афин сформировалась культурой устной речи. Этим обусловлено, что выборно-представительная демократия XIX и XX веков созрела во время печатного слова (газеты и другие однонаправленные средства массовой информации – радио, телевидение и интернет 1.0). Но сегодня мы живем в эпоху постоянной интерактивности. Сверхбыстрая децентрализованная связь создает новые формы вовлечения в политику. Но какая демократия ей подходит?{122}
Как должно правительство обходиться со всеми этими дееспособными гражданами, которые сегодня кричат, будто стоя у боковой линии поля во время футбольного матча? Во-первых, с радостью, а не с недоверием. Потому что за всей яростью и в интернете, и в реальной жизни кроется нечто положительное, а именно вовлеченность. Это подарок, обернутый колючей проволокой. Безразличие было бы куда хуже. Во-вторых, оно должно развязать им руки, не стремясь все делать вместо граждан. Гражданин – не дитя и не клиент. В начале третьего тысячелетия отношения стали более горизонтальными.
Врачам пришлось учиться обхождению с пациентами, которые отыскали картину своего заболевания в интернете. Сначала это казалось обременительно, теперь оказывается козырем: empowerment[96] может способствовать излечению. То же происходит в политике. Власть меняется. Раньше мог говорить тот, у кого власть. Сегодня власть как раз приобретают, разговаривая. Leadership[97] заключается теперь не в разрубании узлов от имени народа, а в инициировании процессов – вместе с народом. Если обращаться с ответственным гражданином как с голосующим быдлом, он и будет вести себя как голосующее быдло, а если обращаться с ним как со взрослым, то и он поведет себя как взрослый. Связь между правительством и гражданами теперь представляет собой связь не между родителями и потомством, а между равными взрослыми. Политикам хорошо бы не смотреть через колючую проволоку, а доверять гражданам, принимать всерьез их эмоции и ценить их опыт. Поэтому пригласите их. Дайте им власть. И – поскольку это остается справедливым – соберите все их имена и проведите жеребьевку.
Я верю, что из драматического системного кризиса демократии можно выйти, дав новый шанс жеребьевке. Использование жребия не является чудодейственным средством или идеальным рецептом – как никогда не были ими и выборы, – но оно может помочь исправить многие пороки современной системы. Жеребьевка не иррациональна, она арациональна: это заведомо нейтральная процедура, при которой политические шансы распределяются равномерно и удается избежать раздора. Риск коррупции снижается, выборная лихорадка спадает, внимание к общему благу возрастает. Отобранные по жребию граждане, возможно, не так компетентны, как профессиональные политики, но у них есть нечто иное – свобода. Ведь им не нужно избираться и переизбираться.
Поэтому на данном этапе истории демократии целесообразно вверять власть не только избранным гражданам, но и гражданам, отобранным по жребию. Если мы доверяем принципу жеребьевки в судопроизводстве, почему бы не доверять ему и при законотворчестве? Он принесет покой. Избранные граждане (наши политики) не будут зависеть только от коммерческих средств массовой информации и социальных сетей, но почувствуют поддержку второй ассамблеи, для которой выборная лихорадка и рейтинги совершенно ничего не значат, – ассамблеи, для которой на первом месте все еще стоят общие интересы и долгосрочная перспектива, ассамблеи граждан, которым действительно удается обсудить что-то вместе – не потому, что они лучше остальных, а потому, что в сложившихся обстоятельствах проявляются.
Демократия не является формой правления, осуществляемого лучшими в нашем обществе; нечто подобное называется аристократией, будь она даже выборной. Можно выбрать ее, но сразу изменить название. Демократия, напротив, процветает за счет предоставления слова самым разным голосам. Речь идет о равном праве решать, о равном праве «определять политические действия», как однажды выразился американский философ Алекс Герреро: «Каждое лицо в какой-либо политической юрисдикции должно было бы иметь одинаковую власть, чтобы определять, какие политические действия следует предпринять этой юрисдикции»{123}. Одним словом, речь идет о том, чтобы управлять и быть управляемыми, о government of the people, for the people[98], но в конце концов также by the people[99].
Но впереди еще много подводных камней. «Граждане на это неспособны!», «Политика – трудная штука!», «Вся власть глупцам!», «Плебс у кормила – будьте бдительны!» и т. д. Прежде чем двигаться дальше, следует остановиться на наиболее распространенном возражении против жеребьевки, а именно на предполагаемой некомпетентности неизбранных. Такая критика несет в себе нечто положительное, она доказывает, что многие бережно относятся к качеству своей демократии. Горе той стране, где демократическое обновление не вызывает вопросов: там обеспокоенность поглощена пучиной и царит апатия. Горе и той стране, которая не может спокойно вести разговор о будущем демократии: там царит истерия.
Паника, которую у многих вызывает сама идея жеребьевки, демонстрирует, до какой степени за два века выборно-представительной демократической системы в умах укоренилось иерархическое мышление, вера в то, что государственные дела могут блюсти только исключительные индивиды. Перечислю некоторые контраргументы:
• Важно сознавать, что доводы, которые сегодня приводятся против отбора граждан по жребию, зачастую идентичны доводам, которые в свое время приводились против предоставления избирательного права крестьянам, рабочим или женщинам. Тогда противники тоже высказывали предположение, что теперь-то демократия действительно погибнет.
• Несомненно, избранный парламент обладает более высокой внутренней технической компетентностью, чем отобранный по жребию. С другой стороны, каждый является знатоком своей собственной жизни. Что толку в парламенте, полном высокообразованных юристов, если лишь немногие из них знают, сколько стоит хлеб? Жеребьевка приведет в законодательный корпус более точный срез общества.
• Избранные тоже не всегда одинаково компетентны. Иначе зачем им нужны помощники, эксперты и исследовательские центры? Почему министры могут возглавлять то одно министерство, то другое? Не только ли потому, что они окружены штатом профессионалов, которые помогают с технической работой?
• Парламент, сформированный по жребию, не будет изолированным: можно приглашать экспертов, рассчитывать на профессионалов, которые будут модерировать дебаты, и спрашивать граждан. Кроме того, депутатам можно будет выделить время, чтобы они освоились, и предоставить в их распоряжение административный персонал для подготовки документов.
• Поскольку отобранным по жребию гражданам не нужно заниматься партийной работой, проводить кампании и выступать в СМИ, у них останется больше времени, чем у их избранных коллег в другой законодательной палате. Они смогут полностью посвятить себя законодательной работе: знакомиться с делами, выслушивать экспертов, совещаться друг с другом.
• Вклад каждого соответствует его таланту и амбициям. Тот, кто считает себя способным к тяжелой управленческой работе, может записаться на жеребьевку в Совет по повестке дня, обзорные коллегии, Совет по регламенту или Совет по надзору. Тому, у кого есть конкретные идеи по определенному законодательству, будут рады в инициативной коллегии. Тот, кто предпочитает легкую работу, наверное, подождет, пока его ненадолго призовут в Политический суд. Это как участвовать в голосовании, даже если постоянно не следишь за политикой.
• Отобранные по жребию коллегии присяжных в судопроизводстве доказывают, что обычно люди относятся к своим обязанностям весьма серьезно. Опасения, что законодатели поведут себя легкомысленно и безответственно, беспочвенны. Если мы соглашаемся, что 12 человек по чести и совести могут принимать решение о свободе или неволе своего согражданина, то можем рассчитывать и на то, что большее их число захочет и сможет ответственно послужить интересам общества.
• Все эксперименты с гражданскими форумами показывают, как целеустремленно и конструктивно ведут себя отобранные по жребию участники и какими отточенными зачастую бывают их рекомендации. Разумеется, это не значит, что все будет идти как по маслу, но слабые стороны есть и у избранных народных представителей. Их законы также иногда грешат изъянами.
• Почему мы признаем, что лобби, аналитические центры и разного рода группы по интересам могут оказывать влияние на политику, но не решаемся наделить ответственностью простых граждан, о которых и идет речь?
• Кроме того, палата из отобранных по жребию граждан не будет единственной. На этом этапе демократии законодательство должно будет формироваться на основе взаимопонимания между избранным парламентом и сформированным по жребию. Вся власть глупцам? Если угодно, так. Но все-таки не тиранам.
Тот, кто сейчас хочет отыскать что-либо на Google Maps, видит, что можно выбирать между картой и видом со спутника. По первой можно точнее составить маршрут, на втором лучше видно окружение. Точно так же и с демократией. Парламент похож на картографическую проекцию общества, упрощенное отображение сложной действительности. Поскольку на основе этого отображения намечается будущее (что такое политика, как не наметки будущего?), картографическая проекция должна быть как можно детальнее, штабная карта и аэрофотосъемка дополняют друг друга. Сегодня мы должны двигаться в направлении бирепрезентативной модели – парламента, который строится как посредством голосования, так и посредством жеребьевки. У обоих способов есть свои преимущества: компетентность профессиональных политиков и свобода граждан, которым не нужно переизбираться. Следовательно, электоральная и алеаторная модели идут рука об руку.
Бирепрезентативная система в данный момент представляется наилучшим средством для лечения синдрома демократической усталости, которым страдает так много стран. Взаимное недоверие между управляющими и управляемыми снижается, когда роли разграничены не так явно. Граждане, получившие доступ на государственный уровень благодаря жеребьевке, открывают для себя сложность политических отношений. Жеребьевка – удивительная школа демократии. Но и политики открывают ту сторону гражданского населения, которую они по большей части недооценивали: способность к рациональному и конструктивному принятию решений. Они приходят к выводу, что голосование по некоторым законам проходит быстрее, когда граждане привлечены к этому с самого начала. Если поддержка шире, то и эффективность возрастает. Одним словом, бирепрезентативная модель формирует у управляющих и управляемых адекватное представление о себе и окружающих.
Возможно, такая двойная система со временем уступит место системе, полностью основанной на жребии (этап 5 у Бурисиуса), ведь, в конечном счете, демократия – постоянно развивающийся процесс. Но в данный момент сочетание жеребьевки и выборов является лучшим лечебным средством. Ведь оно будет использовать лучшее из традиции популизма (стремление к все более подлинной представительности) без опасной иллюзии монолитного народа. Кроме того, она вберет в себя лучшее из традиции технократии (признание технических знаний неизбираемых профессионалов) без предоставления им решающего слова. Оно будет также использовать лучшее из традиции прямой демократии (культуру горизонтального партиципативного обсуждения) без антипарламентаризма этого течения. Наконец, так будет произведена переоценка лучшего, что есть в классической представительной демократии (значение делегирования возможности управлять), без электорального фетишизма, которым она всегда сопровождается. Благодаря такому сочетанию положительных элементов возрастет легитимность и повысится эффективность: чем больше управляемые будут ассоциировать себя с правительством, тем эффективнее смогут управлять те, кто облечен властью. Бирепрезентативная модель направит демократию в более спокойное русло.
Когда должен начаться этот переход? Сейчас. Где? В Европе. Почему? Европейский союз обладает преимуществом. Каким? Он предоставляет убежище государствам-членам, которые имеют мужество обновить свой демократический фундамент.
Обновление управления – всегда рискованное предприятие. На местном уровне города и муниципалитеты принимаются за работу с широкомасштабным участием граждан только по приказу сверху, когда их побуждают к этому национальные правительства. Европейский союз, в свою очередь, мог бы предусмотреть стимулы привлечения государств-членов к полезным пилотным проектам с жеребьевкой. Ведь это именно ЕС первым взялся за широкое внедрение random samples[100] и делиберативной демократии{124}. И это ЕС провозгласил 2013 год Годом гражданина. Чего стоят возвышенные идеалы ЕС, если в стольких странах, в него входящих, демократия рассыпается?
Кризис в южных государствах – членах ЕС (в Греции, Италии, Испании, Португалии, на Кипре) приближает пугало постдемократии. В Венгрии и Греции криптофашистские движения уже не кажутся такими крипто. В Италии и Греции на смену демократии на короткое время пришла технократия. В Нидерландах, Франции и Великобритании популизм стал значимым фактором. Бельгия не так давно прожила полтора года без правительства. И так далее.
Было бы интересно впервые применить бирепрезентативную модель в такой стране, как Бельгия. Никакая другая страна Европы так остро не испытала на себе синдром демократической усталости: после выборов 2010 года правительственная команда сформировалась только через 541 день – абсолютный мировой рекорд. Кроме того, никакая другая страна не предоставляет такой отличной возможности осуществить жеребьевку. С 2014 года в Бельгии больше нет непосредственно избираемого Сената. На федеральном уровне законодательная власть отныне основана исключительно на парламенте – Палате народных представителей. Помимо этого за последние десятилетия львиная доля общенациональной власти была переведена на более низкие уровни управления: Фландрии, Валлонии, Брюсселю и немецкоязычной части страны{125}. Чтобы официально сохранять связь этих уровней друг с другом, Сенат постепенно превращается в палату для размышлений, где встречаются различные региональные власти страны. Если когда-то Сенат, подобно британской Палате лордов, был собранием бельгийской аристократии, то теперь это скорее палата регионального многообразия страны, как американский Сенат. Пятьдесят сенаторов из шестидесяти пришли из региональных парламентов, остальные десять кооптируются. Доля избираемых сенаторов систематически снижается: если в 1830 году Сенат в полном составе избирался непосредственно, то сегодня не избирается ни один из его членов, что открывает возможности для жеребьевки. Благодаря последовательным изменениям конституции население постепенно привыкнет к мысли, что прямые выборы более не являются абсолютным условием формирования национальных ассамблей. Если и есть в Европейском союзе место, где можно реализовать алеаторно-представительную демократию, то это недавно реформированный бельгийский Сенат{126}.
В бирепрезентативной Бельгии Сенат мог бы состоять исключительно из граждан, отобранных по жребию, тогда как в парламенте все еще заседали бы избираемые граждане. Сколько должно быть сенаторов, как будет происходить жеребьевка, какие полномочия получит такой Сенат, каков будет срок его полномочий и какое вознаграждение будет справедливо – на эти вопросы пока еще рано давать ответ. Важнее остановиться на постепенном введении multi-body sortition[101]. Национальное правительство при поддержке со стороны ЕС могло бы впервые применить жеребьевку для принятия какого-либо отдельного закона (например, касающегося того, какие полномочия сохранит за собой федеральное государство). Для этого нужно созвать некоторые инициативные коллегии, Обзорную коллегию и Гражданскую коллегию присяжных. Политики заранее решат, как поступить с результатами. Будет рекомендация обязательной к исполнению или нет? Когда она приобретет законную силу?
Если этот опыт окажется положительным, работу с жеребьевкой можно будет распространить на отдельные политические сферы – преимущественно на сферы, слишком деликатные для того, чтобы их можно было разрешить в рамках партийной политики (этап 2 у Бурисиуса). Поэтому в Ирландии Конституционное собрание занялось рассмотрением однополых браков, прав женщин, богохульства и избирательного закона. В Бельгии можно было бы подумать об окружающей среде, предоставлении убежища и миграции, а также о проблемах, касающихся различных языковых общин. Для осуществления этого необходимо организовать Совет по повестке дня, Совет по регламенту и Совет по надзору. Тогда гражданское высказывание станет постоянной частью управленческого архипелага – совокупности островков, которые в новой демократии будут сообщаться друг с другом, чтобы придать форму целому{127}. На следующем этапе политики решат, стоит ли закрепить участие граждан путем жеребьевки, и заключат необходимые для этого соглашения: Сенат можно перестроить в законодательный орган, состоящий из нескольких частей (этап 4 у Бурисиуса).
Бельгия может стать первой страной Европы, где на практике будет осуществлена бирепрезентативная система. Как Исландия и Ирландия воспользовались финансово-экономическим кризисом прошедших лет, чтобы смело привлечь массы к изменению своих конституций, так и Бельгия может воспользоваться политическим кризисом прошлых лет, чтобы существенно омолодить свою демократию. Но для пилотного этапа подойдут и другие страны: Португалия – вследствие кризиса, но также вследствие хорошей осведомленности о партиципативных бюджетах в этой все еще молодой демократии; Эстония – еще более юная демократия, которая сталкивается с серьезной проблемой, обусловленной необходимостью определить место русского меньшинства; Хорватия – самый новый член ЕС, где продвигаются active citizenship[102] и good governance[103]; Нидерланды – благодаря Гражданскому форуму по избирательной системе и в силу давних традиций общественного обсуждения (при планировании польдеров) и т. д. Мне кажется, в любом случае целесообразно начать с относительно малых государств – членов ЕС.
Это предложение менее футуристично, чем кажется на первый взгляд. Граждане, отобранные по жребию, ныне уже обладают властью. Изучение общественного мнения с помощью random samples[104] всего за несколько лет повсюду в Европе превратилось из нейтрального барометра для политического климата в чрезвычайно важный инструмент, на основе которого политические партии корректируют свой дискурс. Теперь оно не только служит для измерения популярности той или иной партии, политика или мероприятия – нет, теперь оно само по себе стало политическим фактом. Его влияние велико. Управляющие придают ему большое значение, decision-makers[105] его учитывают. Те, кто предлагают жеребьевку, преследуют лишь одну цель: сделать уже существующий процесс прозрачным.
Одним словом: чего же мы ждем?
Заключение
Мы разрушаем свою демократию, сводя ее к выборам, тогда как выборы не были даже задуманы как демократический инструмент. Так можно одной фразой обобщить рассуждения, которые я развивал в первых трех главах этой работы. В четвертой главе я рассмотрел, как в наши дни можно снова ввести жеребьевку – исторически более демократичный инструмент.
А что, если ничего не изменится? Что, если национальные правительства, партии и политики скажут: «Жеребьевка? Очень хорошо, но мы уже много сделали для гражданина в последние годы, правда же? Мы же придумали много новых инструментов». Верно. Тот, у кого есть жалобы, во все большем числе стран может попасть к омбудсмену. Тот, у кого есть собственное мнение, уже может время от времени голосовать на референдуме. Тот, кто соберет достаточно подписей, может в порядке «гражданской инициативы» внести что-либо в повестку дня. Все это формы высказывания, которых не существовало раньше – раньше, когда правительство вело диалог с союзами, советами, комиссиями и с самим собой.
Эти новые инструменты ценны, особенно теперь, когда организованное гражданское общество обладает меньшим влиянием. Но их все еще далеко не достаточно. Гражданская инициатива доставляет нужды народа до порога законодателя, как если бы это были бутылки молока. Не дальше. Народ может принять на референдуме уже подготовленный и выданный ему через окошко законопроект. Не раньше. Только тогда можно критиковать его с пеной у рта. Поэтому разговоры с омбудсменом ведутся в саду – подальше от законодательного процесса. Не ближе. В скобках замечу, что омбудсмен и является, фигурально выражаясь, садовником правительства: он болтает с соседями и таким способом узнает об их заботах.
Новые инструменты? Конечно, но гражданина все еще боязливо держат снаружи. Двери и окна законодательного дома остаются закрыты. Внутрь никому не попасть, даже через лаз для кошки. В свете нынешнего кризиса такая агорафобия может только удивлять. Похоже, что политики испуганно закрылись в своем собственном замке и украдкой смотрят из-за занавесок на уличную суматоху. Не лучшая позиция: она только еще больше возбуждает беспокойство.
Без коренных перемен этому строю не суждено просуществовать долго. При виде того, как снижается явка на выборы и членство в партиях, как презирают политиков, при виде того, с каким трудом формируется правительство, как мало оно может сделать и как трудно его за это наказать, при виде того, как быстро набирают силу популизм, технократия и антипарламентаризм, при виде того, как все больше граждан жаждут высказаться и как быстро их стремление переходит в разочарование, сознаешь: мы уже тонем. Времени осталось немного.
Все очень просто: или двери распахнут сами политики, или в обозримом будущем их выломают рассерженные граждане, скандирующие лозунги вроде «No taxation without participation![106]», одновременно вдребезги разбивая в доме демократии обстановку и вынося на улицу люстру власти.
К сожалению, это не фантазии. Пока я дописывал эту книгу, организация Transparency International опубликовала свой «Global Corruption Barometer». Приведенные в нем сведения откровенно шокируют. Повсеместно политические партии рассматриваются как наиболее коррумпированные организации в мире. Почти во всех западных демократиях они красуются на первом месте. Цифры по Европейскому союзу драматические.
Как долго это еще может продолжаться? Ситуация шаткая. Будь я политиком, потерял бы сон. Как страстный демократ, я уже плохо сплю. Это бомба замедленного действия. Сейчас, кажется, еще спокойно, но это затишье перед бурей. Это безмолвие 1850 года, когда казалось, что рабочий вопрос сошел на нет. Это затишье перед длительным периодом высокой нестабильности. Тогда речь шла об избирательном праве, сегодня речь идет о праве высказаться. Но, в сущности, это одна и та же борьба – борьба за политическое освобождение и за демократическое участие. Мы должны деколонизировать демократию. Мы должны демократию демократизировать.
Еще раз: так чего же мы ждем?
Послесловие
Автомобиль починить легче, пока он ездит, чем после аварии.
Три года назад я написал работу, которая вызвала много споров. Когда книга была еще в типографии, на нее обрушились два очень известных политолога, не успевшие ее прочитать. Когда она вышла в свет, некоторые критики вместо текста книги отрецензировали ее название. Кроме того, некоторые сложившиеся политики и журналисты отреагировали со странной обидой, как будто я у них что-то отнял, – до сих пор не знаю, что именно: игрушку, привилегию, кусок власти? В их аргументах зачастую просто невозможно разобраться.
Все-таки моя основная мысль была проста: что выборы не являются синонимом демократии, а иногда даже наносят ей ущерб. Что это не так уж глупо, учитывая, что они были введены два века назад именно для того, чтобы остановить демократию. Что существует еще одна древняя, но забытая процедура, с которой стоило бы стряхнуть пыль.
Но были также и разумные комментарии. Множество разборов, однодневных конференций и дебатов, которые расширили мои представления. Некоторые дискуссии в интернете доказали, что в социальных сетях могут не только кричать. Многие ветераны политики в Бельгии и Нидерландах в конце концов признали, что с нынешней демократией не все в порядке, и изъявили готовность обдумать предложение о проведении жеребьевки в дополнение к выборам, чтобы сделать представительную систему еще представительнее.
Что, кстати, было такого революционного в этом предложении? Уже сейчас мы ежедневно используем жеребьевку в наших демократиях, вот только используем самый плохой из ее возможных вариантов – изучение общественного мнения. При изучении общественного мнения у случайной выборки людей спрашивают, что они думают, если не думают, – и их ответ влияет на политику. Но не было бы целесообразнее узнать, что думают те же самые люди, имея возможность подумать? Да еще если бы к этому прислушивались политики?
Сравним общество с кастрюлей супа. Чтобы узнать, вкусный ли он, мы пробуем от него немножко, чтобы можно было приправить остальное, которое мы не пробовали. Вопрос в том, как мы выбираем это «немножко». Используемая кухонная утварь имеет значение. Потому что с шумовкой выборов дегустируют нечто иное, чем со столовой ложкой жеребьевки, – и принимают другие решения. Инструменты не обладают нейтральностью. Процедурами определяются результаты. Я ратую за сочетание обеих – столовой ложки и шумовки, жеребьевки и выборов, двух форм народного представительства одновременно, хотя бы только для того, чтобы прекратить непрерывную выборную лихорадку и краткосрочное мышление современной системы. Потому что тот, кто в XXI веке сводит демократию к одним только выборам, преднамеренно ее выхолащивает.
Я выступал за то, чтобы помимо выборов ввести сочетание жеребьевки, ротации и делиберации. Как я полагаю, при важных решениях избранные правительства могут пригласить граждан (жеребьевка), чтобы вместе обговорить курс, который следует проводить (делиберация), и это – всякий раз с другими гражданами (ротация). Благодаря жеребьевке можно избежать того, что слово получат только богатые высокообразованные белые мужчины. Благодаря делиберации – структурированным переговорам граждан с экспертами, политиками и друг с другом – можно избежать того, что слушаться будут только интуиции. А благодаря ротации можно избежать того, что только минимальное меньшинство будет к этому подключено.
Изучение общественного мнения? Достаточная жеребьевка и достаточная ротация, но нет делиберации. Следствие: безосновательное заключение.
Приемные часы по вечерам? Достаточная ротация и достаточная делиберация, но нет жеребьевки. Следствие: дипломная демократия.
Гражданские коллегии? Достаточная жеребьевка и достаточная делиберация, но нет ротации. Следствие: разочарование у непричастных.
Сбалансированное сочетание этих трех аспектов, по моему мнению, могло бы способствовать сокращению разрыва между гражданами и правителями. Это было предложение вернуть покой и разум в нашу измотанную парламентскую систему. Оно было не атакой на политиков, а попыткой побудить политиков снова принимать решения по актуальным проблемам, чтобы добиться доверия граждан.
Эта новая динамика не кажется мне преждевременной, потому что пока граждане и политики, как сейчас, держат друг друга в клещах взаимного недоверия, власть будет доставаться другим. Когда две собаки дерутся из-за кости, ее уносят наднациональные рынки. А сколько власти уже перешло от национальной демократии к международной технократии (МВФ, ЕЦБ, еврозона)… В результате – еще больше разочарования у гражданина, еще больше бессилия у политиков, еще больше подозрительности с обеих сторон, еще большее давление в котле, и система готова взорваться.
Здесь и там кое-что начинает созревать. Такой город, как Утрехт, решился сделать шаг. Теперь муниципалитет на регулярной основе отбирает по жребию около 150 граждан, чтобы вместе обсудить такие долгосрочные цели, как план по энергетике и план по интеграции беженцев. В Бельгии различные муниципалитеты, провинции, политические партии и даже министры участвуют в экспериментах с новыми формами гражданского высказывания. В крупнейших городах Нидерландов (Амстердам, Гаага, Амерсфорт, Апелдорн, Гронинген, Неймеген и т. д.) проведены встречи G1000. В таких городах, как Мадрид и Барселона, начаты исследования, возможно ли введение жеребьевки на местном уровне. Некоторые политики в Бельгии выступают за то, чтобы конституционная комиссия или даже весь Сенат формировались путем жеребьевки. А в Швейцарии – стране, которую многие считают лучшей демократией в мире, – сейчас идет сбор подписей за референдум по вопросу о том, чтобы формировать Nationalrat[107], нижнюю палату парламента, на основе жеребьевки, а не выборов.
Собственно, речь идет о совершенно естественном дальнейшем развитии демократии от права голоса к праву высказывания. Этот процесс так же неотвратим, как распространение избирательного права на женщин веком ранее: сначала он вызывает споры, позже становится само собой разумеющимся. В то время как уровень образования высок, как никогда, а информация распространяется быстрее, чем раньше, совершенно нормально, что мы доводим свою демократию до уровня XXI века. Давайте не забывать, что выборы пришли из того времени, когда большинство населения было неграмотно.
Но происходит ли оно на самом деле, такое обновление? Или мы продолжаем маяться с устаревшей системой?
Здесь я могу без ложной скромности указать на 12 изданий книги «Против выборов», тысячи экземпляров которой были распределены по всем муниципальным управлениям в Нидерландах, на многие переводы, которые, в свою очередь, дали повод к дебатам в Осло, Копенгагене, Париже, Лондоне и Берлине и к симпозиумам в бельгийском Сенате, а главное – в Александрийской библиотеке, где двадцать бывших глав государств и правительств вместе с ключевыми фигурами «арабской весны» занимались этой проблемой. Но речь все же идет не о приключениях одной отдельно взятой книги.
Да, на местном уровне есть какие-то подвижки. А на национальном? Если даже в Ирландии и Исландии – в странах, которые дальше всего продвинулись в сфере демократического обновления, – сегодня избранные политики не решаются прислушаться к рекомендациям своих гражданских собраний, то чем мы тогда, собственно говоря, занимаемся? Если во времена колоссального недоверия к партийной политике нигде в Европе политики национального уровня ни на дюйм не приблизились к более взрослому обращению с гражданином, то чем мы тогда, собственно говоря, занимаемся? Если даже Европейский союз в самый критический момент со дня его основания все еще думает, что это «вопрос лучшей коммуникации с гражданином», и не сознает, что сама вертикальная система «сверху вниз» представляет собой основную проблему, то чем мы тогда, собственно говоря, занимаемся?
Демократия – это такая форма правления, при которой народ правит сам. Хотим ли мы, чтобы это когда-нибудь до нас дошло? Проблема не в том, что граждане хотят и могут вместе думать о политике, – ответ на этот вопрос безоговорочно положителен. Проблема в том, что большинство политиков этого все еще не хочет. Они ведут себя так, как французская аристократия в 1788 году, но полагают, что последствия такими же не будут.
Что демократическая система будет обновляться, не подлежит сомнению. Вопрос только в одном: когда? Начнется ли наконец это насущное обновление сейчас, или сначала должен наступить конец демократическим ценностям, должны произойти серьезные беспорядки, насилие или даже крах парламентской системы? Иными словами, займемся мы обновлением до или после аварии? Я долго думал, что еще не поздно, что политики будут достаточно мудры, чтобы ввести необходимые изменения до наступления полного краха, хотя бы только в собственных интересах. Но с лета 2016 года я все больше в этом сомневаюсь. Разумеется, неудобно ремонтировать автомобиль, пока на нем едешь. Но еще труднее ремонтировать его после аварии.
Я пишу это в начале сентября 2016 года. Последние несколько дней я живу в бывшей столице фашизма. Вчера впервые в послевоенной истории Германии правые экстремисты одержали важную победу на выборах: в федеральной земле Мекленбург – Передняя Померания «Альтернатива для Германии», прежде незначительная партия, набрала больше голосов, чем ХДС канцлера Меркель. Можно считать это кульминацией «лета тревоги нашей». Лето 2016 года и без того войдет в историю как лето, когда западная демократия расшиблась о собственные границы. В Великобритании несуразное предвыборное обещание привело к несуразному референдуму (честное, нормальное большинство, никаких обсуждений в парламенте или правительстве) с «Брекзитом» в результате – самое важное политическое событие в Европе со дня падения Берлинской стены в 1989 году. В США едва ли вменяемый madman[108] неожиданно стал кандидатом в президенты от республиканской партии, навсегда изменив тональность политических дебатов в Америке. А турецкий президент Эрдоган после неудачного путча определенно встал в один ряд с такими демократически избранными авторитарными лидерами, как Путин и Орбан.
В Бразилии был отправлен в отставку президент, который когда-то был надеждой всего континента; испанским политикам после двух раундов выборов все еще не удалось сформировать правительство. Во Франции, Нидерландах и Австрии стало еще понятнее, что явно ксенофобские партии при следующих выборах смогут загрести высшую должность. Несколько мерзких нападений со стороны совершенно распущенных индивидов привели к тошнотворной охоте на ведьм в отношении целых групп населения. Присовокупить к этому такие долгосрочные проблемы, как вопрос беженцев, банковский кризис, офшорные зоны, растущее неравенство, судьба Европы, а над всем этим – проблема изменения климата, – и невольно возникнет вопрос: способна ли вообще еще на что-нибудь западная демократическая система?
Три года назад на заключительных страницах своей книги я предупреждал о «длительном периоде высокой нестабильности», который наступит, если мы вовремя не приведем свою демократию в чувство. Я в самом деле не знал, как быстро пойдет процесс. Я надеялся, что ошибаюсь. «Чего же мы ждем?» – написал я в конце своего текста – нетерпеливо, но с надеждой. Я все еще задаюсь этим вопросом, все громче – но надежды все меньше.
Берлин, 5 сентября 2016 года
Слова благодарности
Замысел этой книги созрел летом 2012 года, когда я прошел Пиренеи с запада на восток. Застряв из-за сильного тумана в деревушке Альдюд (французская Страна Басков), я нашел в бывшей школе экземпляр «Общественного договора» Жан-Жака Руссо. Меня так поразил фрагмент о жеребьевке, что я переписал его себе в записную книжку. Он неделями не выходил у меня из головы. Во время длительного восхождения на высокогорье я мысленно выстраивал структуру своей работы. И все-таки эта книга больше, чем просто les rêveries du promeneur solitaire[109]. Это результат нескольких лет чтения, поездок и выслушивания.
Без опыта, полученного в организации G1000, я никогда не начал бы эту книгу. В феврале 2011 года, когда я решил инициировать в Бельгии этот объемный проект с целью расширить гражданское участие, я еще не знал, что он превратится в такое яркое предприятие, которое многому меня научит. Я многим обязан чрезвычайно вдохновляющей команде, стоящей за этой организацией. Прежде мы (почти) не были знакомы, но я неизменно чувствовал, какая это теплая, умная и расторопная команда. Колумнист Паул Хермант впервые обратил мое внимание на жеребьевку. Специалист по конституции Себастьен Ван Дрогенбрук уже на первом собрании говорил со мной о труде Бернара Манена. Наши методисты Мин Решан и Дидье Калювартс только-только закончили свои диссертации о делиберативной демократии и рассказали мне об экспериментах Джеймса Фишкина. Лидер нашей кампании Като Леонард пришла из телекоммуникационного сектора и во время бесчисленных автомобильных поездок на fundraising events[110] указала мне на растущее значение «сотворчества» и stakeholder management[111] в деловой жизни. Я бережно храню воспоминания об этих бесконечных, полных энтузиазма беседах. Полезно было поговорить и с Бенуа Дереном. Он представлял франкоязычную сторону, а я – фламандскую. Будучи основателем Фонда для будущих поколений, он обладал огромным практическим опытом организации гражданского участия на региональном и европейском уровне. А будучи швейцарским бельгийцем, он зачастую высказывал свежие идеи – как в тот раз, когда на собрании он вслух задался вопросом, почему бы просто не назначать некоторых членов Сената жеребьевкой.
В организации G1000 я благодарю также Петера Вермеерса, Дирка Якобса, Дэйва Синардета, Франческу Вантилен, Мириану Фраттаролу, Фатму Гирретц, Мириам Стоффен, Джонатана Ван Парейса и Фатиму Зибу: они оказались не только прекрасными собеседниками, но и хорошими друзьями. Алине Гуталс, Ронни Давид, Франсуа Ксавье Лефевр и многие другие присоединились к нам не с самого начала, но теперь тоже впряглись. Здесь не хватит места выразить благодарности сотням волонтеров, тысячям жертвователей и двенадцати с лишним тысячам сочувствующих проекту, но хочу особо поблагодарить всех участников гражданской встречи на высшем уровне 2011 года и собрания граждан 2012 года. Более чем кто-либо они убедили меня в том, что граждане хотят и могут работать над будущим демократии.
Эта книга стала прорастать, когда в 2011/2012 учебном году я смог занять кафедру Клеверинги в Лейденском университете – почетную профессорскую должность, учрежденную, чтобы размышлять о праве, свободе и ответственности в духе великого, мужественного юриста Рудолфа Клеверинги[112]. Моя речь при вступлении в должность называлась «Демократия в удушье. Опасности электорального фундаментализма». Я благодарен Коллегии деканов и в особенности ныне покойному Виллему Виллемсу, бывшему декану факультета археологии, и бывшему ректору Паулу ван дер Хейдену за проявленное ко мне доверие. Благодарю также всех студентов, обучавшихся по программе honours college[113], за исследовательские работы на тему выборов и демократизации в такой незападной стране, как Афганистан. Кроме того, бельгийские исследователи Филипп Ван Парейс, Шанталь Муфф, Мин Решан и Паул Де Грауве предоставили мне возможность изложить свои идеи. Два выдающихся знатока древности, Могенс Херман Хансен из Копенгагена и Пол Картледж из Кембриджа, были так добры, что поделились своими мыслями о жеребьевке в Древней Греции. Я искренне им признателен.
В зарубежных поездках мне выпала честь встретиться с многочисленными политологами и демократическими политическими деятелями. В Нидерландах я многому научился у Йосин Питерсе, Ивонны Зондероп и Виллема Схинкела. В Германии на меня произвели большое впечатление Карстен Берг и Мартин Вильгельм; то же относится к Карлу Хенрику Фредрикссону в Австрии, Инге Вахсман и Пьеру Каламу во Франции, Игору Штиксу и Сречко Хорвату в Хорватии и Бернис Шоли и А. Самаду Саиду в Малайзии. Последний является символом нации, легендарным поэтом-диссидентом, который в свои 78 лет продолжает неустанно бороться за демократию.
Я не принадлежу к категории граждан, которые по определению презирают политиков. Я как раз считал поучительным и внимательно слушал то, что рассказали мне из своей практики такие люди, как Сабин де Бетюн, председатель Сената Бельгии, и Герди Вербеет, тогдашний председатель Второй палаты Парламента Нидерландов. В ходе подготовки этой книги я имел долгие беседы с некоторыми ветеранами бельгийской политики; особенно щедро поделились опытом Свен Гатц, Инге Вервотте, Каролин Геннез, Йос Гейселс и Хюго Ковелье. Я не приводил прямых цитат – книга выходит за пределы бельгийского контекста, – но то, что они рассказали, расширило мой кругозор.
Всем большое спасибо.
Многие люди отвечали на мои вопросы: Марк Свейнгедау, Марникс Бейен, Валтер Ван Стеенбрюгге, Филип Де Рейнк, Йелле Хамерс, Фабьен Моро, Томас Саалфелд и Сона Н. Голдер. С Кеннетом Картером я смог обменяться мыслями об ассамблее граждан Британской Колумбии по реформе избирательной системы: он был там ведущим исследователем. Такими же увлекательными были беседы с Эйрикуром Бергманном и Джейн Суитер, которые тесно связаны с конституционными советами в Исландии и Ирландии. Терри Бурисиусу и Дэвиду Шектеру из США я особенно благодарен за оживленную и продолжительную переписку по поводу их multi-body sortition model[114]. То же относится и к Йэйну Уокеру и Дженет Хартц-Карп, которые провели великолепную новаторскую работу в Австралии.
Петер Вермеерс, Эмми Десхюттер и Люк Хейсе прочитали текст и, как обычно, порадовали меня своими меткими комментариями. Без их дружбы я бы ничего не добился. Шарлотт Бондюэль помогла мне с поисками в интернете и составлением некоторых таблиц. Работать с ней вместе было большим удовольствием. Вил Хансен снова был моим бесподобным редактором. И это он в один прекрасный день в моем кабинете предложил название. Он подумал о «Против интерпретации» Сьюзен Сонтаг, а я – о «Против метода» Пола Фейерабенда, и мы оба смаковали эти слова.
Брюссель, июль 2013 года
Библиография
Главной книгой, которую я прочитал для этого эссе, были «Принципы представительного правления» Бернара Манена (Manin Bernard. Principes du gouvernement représentatif. Paris, 1995). Их продолжением стали некоторые великолепные работы: британский политический мыслитель Оливер Даулен написал «Политический потенциал жребия: исследование случайной выборки граждан для государственной службы» (Dowlen Oliver. The Political Potential of Sortition: A Study of the Random Selection of Citizens for Public Office. Exeter, 2009), немецкий профессор политической теории и истории идей Хубертус Бухштайн опубликовал книгу «Демократия и лотерея: жребий как политический инструмент принятия решений от античности до ЕС» (Buchstein Hubertus. Demokratie und Lotterie: Das Los als politisches Entscheidungsinstrument von Antike bis zur eu. Frankfurt, 2009), парижский политолог Ив Синтомер излагает «Краткую историю демократических экспериментов: жеребьевка и политика от Афин до наших дней» (Sintomer Yves. Petite histoire de l’experimentation democratique: tirage au sort et politique d’Athenes a nos jours. Paris, 2011), а канадский профессор политических наук Франсис Дюпюи-Дери выпустил книгу «Демократия: политическая история этого слова в США и Франции» (Dupuis-Deri Francis. Democratie: Histoire politique d’un mot aux Etats-Unis et en France. Montreal, 2013).
Желающие узнать более общую историю приключений демократии могут многое почерпнуть из книги Джона Кина «Жизнь и смерть демократии» (Keane John. The Life and Death of Democracy. London, 2009). Более техническими, но весьма впечатляющими являются исследования Пьера Розанваллона «Контрдемократия» (Rosanvallon Pierre. La contre-democratie. Paris, 2006), «Демократическая легитимность» (Idem. La legitimite democratique. Paris, 2008) и «Общество равных» (Idem. La societe des egaux. Paris, 2011). На нидерландском языке появилась очень хорошая антология этих содержательных работ: «Демократия и контрдемократия» (Idem. Democratie en tegendemocratie. Amsterdam, 2012). Две лучшие книги о демократии времен Античности: «Афинская демократия в эпоху Демосфена» Могенса Германа Хансена (Hansen Mogens Herman. The Athenian Democracy in the Age of Demosthenes. London, 1999) и «Демократия: жизнь» Пола Картледжа (Cartledge Paul. Democracy: A Life. Oxford, 2016). Аналогичные фактические сведения о современной системе можно найти в превосходном справочнике Майкла Галлахера, Майкла Лейвера и Питера Мэра «Представительное правление в современной Европе» (Gallagher Michael, Laver Michael, Mair Peter. Representative Government in Modern Europe. London, 2011). У последнего автора этого справочника – к сожалению, слишком рано умершего крупного ирландского политолога Питера Мэра – в 2013 году вышел посмертный сборник «Управление пустотой: пробелы западной демократии» (Mair Peter. Ruling the Void: The Hollowing of Western Democracy. London, 2013). При написании первой главы я находился под сильным влиянием его работ.
В последние годы аргументы в пользу жеребьевки снова рассматриваются и обсуждаются в академических кругах со всей открытостью. Барбара Гудвин, профессор политологии Университета Восточной Англии, в 1992 году опубликовала оказавшую большое влияние книгу «Справедливость в лотерею» (Goodwin Barbara. Justice by Lottery Lottery. Chicago, 1992), в которой она поставила на повестку дня принципиальное значение жеребьевки для демократии. Австралийские исследователи Лин Карсон и Брайан Мартин написали в соавторстве «Случайный выбор в политике» (Carson Lyn, Martin Brian. Random Selection in Politics. Westport, 1999). В последнее время исследования в этой области стремительно развиваются. Оливер Даулен, автор уже упомянутого ранее «Политического потенциала жребия» и соучредитель Общества за демократию, включающую случайный выбор (Society for Democracy including Random Selection), совместно с Жилем Деланнуа выпустил сборник «Жеребьевка: теория и практика» (Sortition: Theory and Practice / Gil DeLannoi and Oliver Dowlen, eds. Exeter, 2010). Он также написал более основательный труд «Отобранные по жребию: гражданские лотереи и будущее гражданского участия» (Dowlen Oliver. Sorted: Civic Lotteries and the Future of Public Participation. Toronto, 2008), который находится в открытом доступе в формате pdf. В свою очередь, Террилл Бурисиус работает над книгой с многообещающим названием «Проблемы с выборами: все, что вы думали, что знаете о демократии, неверно» (Bouricius Terrill. The Trouble With Elections: Everything You Thought You Knew About Democracy Is Wrong).
Конкретные предложения по возврату к жеребьевке я нашел у Эрнеста Калленбаха и Майкла Филлипса в «Легислатуре гражданина» (Callenbach Ernest, Phillips Michael. A Citizen Legislature. Berkeley, 1985), у Энтони Барнетта и Питера Карти в работе «Афинская альтернатива: радикальная реформа для Палаты лордов» (Barnett Anthony, Carty Peter. The Athenian Option: Radical Reform for the House of Lords. London, 1998), у Кита Сазерленда в работе «Народный парламент: исправленный сценарий для очень английской революции» (Sutherland Keith. A People’s Parliament: A (Revised) Blueprint for a Very English Revolution, Exeter, 2008) и в ранее упомянутых работах Синтомера и Бухштайна. Это только выборочный материал. Более полный список можно найти в статье Антуана Верня «Краткий обзор литературы по жеребьевке» (Vergnes Antoine. A brief survey of the literature of sortition) в названном выше сборнике под редакцией Жиля Деланнуа и Оливера Даулена. Мой рисунок 3 также отсылает к новейшим предложениям. В интернете выложена статья Террилла Бурисиуса «Демократия через множественную жеребьевку: уроки Афин для современности» (Bouricius Terrill. Democracy through multi-body sortition: Athenian lessons for the modern day // Journal of Public Deliberation. 2013. Vol. 9. Iss. 1. Article 11).
Обширна литература по делиберативной демократии. В частности, я ссылаюсь на последнюю работу Джеймса Фишкина «Когда говорят люди: совещательная демократия и общественное обсуждение» (Fishkin James. When the People Speak: Deliberative Democracy and Public Consultation. Oxford, 2009) и недавнюю антологию Шарля Жирара и Алис Ле Гофф «Совещательная демократия: антология основополагающих текстов» (La démocratie délibérative: anthologie des textes fondamentaux // recueil édité par Charles Girard et Alice Le Goff. Paris: Éditions Hermann. 2010. ISBN 9782705670450) на французском языке. С самыми последними разработками можно ознакомиться по материалам таких научных журналов, как International Journal of Public Participation и Journal of Public Deliberation.
Очень многое появляется в последнее время о высказывании гражданина. Филип Де Рейнк и Каролин Дезер выполнили работу «Гражданское участие во фламандских городах: введение новшеств в управление» (Rynck Filip De, Dezeure Karolien. Burgerparticipatie in Vlaamse Steden: Naar een innoverend participatiebeleid. Brugge, 2009), Жорж Ферребеф написал «Гражданское участие и город» (Ferreboeuf Georges. Participation citoyenne et ville. Paris, 2011). Ценные конкретные рекомендации можно найти в работах «Мы вбрасываем высказывание: исследование отправных точек для надлежащего гражданского участия» (‘We gooien het de inspraak in’. Een onderzoek naar de uitgangspunten voor behoorlijke burgerparticipatie. Den Haag, 2009) Национального омбудсмена Нидерландов и «Решать решительно иначе. Дополнение к управлению, когда в нем участвуют жители» (Beslist anders beslissen. Het surplus voor besturen als bewoners het beleid mee sturen. Brugge, 2011) Общественной надстройки Западной Фландрии. Фонд короля Бодуэна опубликовал превосходный справочник «Методы участия: руководство для пользователей» (Participatieve methoden. Een gids voor gebruikers. Brussel, 2006). Он выложен в интернете в формате pdf.
В Бельгии и Нидерландах также ведутся бурные споры о будущем парламентской демократии. Для Фландрии можно сослаться на книги Томаса Декреса «От шторма веет раем. О рынке, демократии и оппозиции» (Decreus Thomas. Een paradijs waait uit de storm. Over markt, democratie en verzet. Berchem, 2013) и Ману Клайса «Застой. О политике властей, правлении всезнаек и закулисной демократии» (Claeys Manu. Stilstand. Over machtspolitiek, betweterbestuur en achterkamerdemocratie. Leuven, 2013). Для Нидерландов первой приходит в голову работа Виллема Схинкела «Новая демократия. К другим формам политики» (Schinkel Willem. De nieuwe democratie. Naar andere vormen van politiek. Amsterdam, 2012), а также «Польдеры 3.0. Нидерланды и общее благо» Ивонне Зондероп (Zonderop Yvonne. Polderen 3.0. Nederland en het algemeen belang. Leusden, 2012) и «Доверять – хорошо, но понимать – лучше. О жизненной силе нашей парламентской демократии» Герди Вербеет (Verbeet Gerdi.Vertrouwen is goed maar begrijpen is beter. Over de vitaliteit van onze parlementaire democratie. Amsterdam, 2012). К важнейшим научным исследованиям относятся два сборника: «Просвеченная демократия. Функционирование нидерландской демократии», составители Руди Андевег и Жак Томассен (Democratie doorgelicht. Het functioneren van de Nederlandse democratie / samengesteld door Rudy Andeweg en Jacques Thomassen. Leiden, 2011) и «Спорная демократия. О проблемах истории успеха», составители Ремиг Артс и Петер де Гуде (Omstreden democratie. Over de problemen van een succesverhaal / samengesteld door Remieg Aerts en Peter de Goede. Amsterdam, 2013).
Некоторые организации за демократическое обновление особенно активны в интернете. Рекомендуемые международные сайты:
• openDemocracy.net: независимый некоммерческий сайт, зачастую с весьма примечательными статьями;
• participedia.net: важнейший международный сайт о партиципативной демократии;
• sortition.net: портал с историческими текстами и множеством полезных ссылок;
• Equality by Lot (equalitybylot.wordpress.com): богато оформленный блог «Равенство по жребию» с живым онлайновым сообществом «клеротерианцев», которые обсуждают жеребьевку.
Все больше западных стран обзаводится также национальными платформами за демократическое обновление, зачастую с весьма интересными сайтами:
• Джефферсоновский центр за новые демократические процессы, США (The Jefferson Centre for New Democratic Processes): название говорит само за себя;
• Центр за делиберативную демократию, США (Center for Deliberative Democracy): связан со Стэнфордским университетом, центром Джеймса Фишкина; полезная информация об оценках совещательности;
• AmericaSpeaks и GlobalVoices (США): организуют широкомасштабные гражданские форумы; богато оформленные сайты;
• newDemocracy.com.au (Австралия): много внятной информации о жеребьевке;
• We the Citizens («Мы, граждане», Ирландия): сайт широкомасштабной гражданской инициативы в Ирландии;
• 38 Degrees (Великобритания): влиятельная организация за высказывание граждан, более миллиона членов;
• Mehr Demokratie (Германия): существует 25 лет, но все еще боевита, ратует за право на инициативу и за референдумы;
• Democracy International («Международная демократия», ЕС): базирующаяся в Германии панъевропейская организация, которая уже долгие годы выступает за европейскую гражданскую инициативу;
• Teknologi-radet (Дания): Датский технологический совет, инициатор множества партиципативных процессов, по которым на этом сайте даются пояснения на английском языке;
• NetwerkDemocratie (Нидерланды): Нидерландская платформа за обновление управления, в частности на основе применения цифровых технологий;
• G1000 (Бельгия): четырехъязычный сайт одноименной организации, которая вошла в состав Фонда для будущих поколений;
• Koning Boudewijnstichting (Фонд короля Бодуэна, Бельгия): признанная в мире организация – в частности, благодаря многолетнему проекту по управлению;
• Democracia Real Ya! (Испания): боевая организация за демократию, выросшая из гражданских протестов марта 2011 года;
• Association pour une démocratie directe (Ассоциация за прямую демократию, Франция): сайт молодой, динамичной французской организации, которая ратует за большую открытость.
Сноски
1
World Values Survey – Всемирный обзор ценностей, проект, изучающий ценности и убеждения людей.
(обратно)2
Телодвижениями (англ.).
(обратно)3
Явка избирателей (англ.).
(обратно)4
Промежуточных (англ.).
(обратно)5
Невероятный, ошеломляющий (англ.).
(обратно)6
Здравого смысла (англ.).
(обратно)7
Умения чувствовать народ (нем.).
(обратно)8
Не под запись (англ.).
(обратно)9
Гражданской инженерии (англ.).
(обратно)10
Самолет-невидимка (англ.).
(обратно)11
Третьего пути (англ.).
(обратно)12
Новой середины (нем.).
(обратно)13
Сожительства (франц.).
(обратно)14
Альтернативы не существует (англ.).
(обратно)15
Экономическое чудо (нем.).
(обратно)16
Президента в Италии не выбирают всенародным голосованием. В феврале 2013 года в Италии состоялись парламентские выборы, на которых партия «Гражданский выбор», возглавляемая Монти, набрала 10 % голосов. – Примеч. ред.
(обратно)17
Генеральной ассамблее (англ.).
(обратно)18
«Нас 99 %» (англ.).
(обратно)19
Наши представители не представляют нас (англ.).
(обратно)20
«Принципы солидарности» (англ.).
(обратно)21
«Участие в прямой и прозрачной партиципаторной демократии» (англ.).
(обратно)22
«Возмущенные» (исп.).
(обратно)23
«Настоящая демократия!» (исп.).
(обратно)24
«Анонимус» (англ.).
(обратно)25
Подземных политических течений (англ.).
(обратно)26
«Разгневанные» (англ.).
(обратно)27
Наши представители не представляют нас (англ.).
(обратно)28
Глубинная демократия (англ.).
(обратно)29
Демократия всеобщего консенсуса (англ.).
(обратно)30
Настоящая демократия (англ.).
(обратно)31
Industrial Workes of the World («Индустриальные рабочие мира») – международная рабочая организация, созданная в 1905 году в Чикаго и выступавшая за прямую рабочую демократию на рабочем месте.
(обратно)32
«Наше послание – сам процесс» (англ.).
(обратно)33
«Возмутитесь!» (франц.).
(обратно)34
Дословно: «Расщепитель голосов» (нидерл.).
(обратно)35
Сопутствующий ущерб (англ.).
(обратно)36
Застольях (нем.).
(обратно)37
Пабах (англ.).
(обратно)38
«Выборы – не что иное, как конкурс красоты среди уродов» (англ.).
(обратно)39
«Народ – это мы!» (нем.).
(обратно)40
Грустнее, но мудрее (англ.).
(обратно)41
Алгоритм выбора победителя (англ.).
(обратно)42
Занимательности ради (франц.).
(обратно)43
Отсюда в русский язык вошло слово «баллотироваться» – выдвигать свою кандидатуру на выборах. – Примеч. пер.
(обратно)44
Назначенных (итал.).
(обратно)45
Философов (франц.).
(обратно)46
Народ (франц.).
(обратно)47
Нация (франц.).
(обратно)48
Мы, народ (англ.).
(обратно)49
Демократию (франц.).
(обратно)50
Передать власть от многих к немногим мудрейшим и лучшим (англ.).
(обратно)51
Договор об образовании конфедерации 13 английских колоний в Северной Америке.
(обратно)52
Людям, которые обладают высшей мудростью для распознания общего блага общества и наибольшей добродетелью, чтобы стремиться к этому благу (англ.).
(обратно)53
Избирателями предстоит стать подавляющей части народа Соединенных Штатов (англ.).
(обратно)54
Крови, именам и титулам (англ.).
(обратно)55
Добродетели и мудрости (англ.).
(обратно)56
Выборной аристократией (франц.).
(обратно)57
Представительной аристократией (франц.).
(обратно)58
Нации, Народе, Суверенитете (франц.).
(обратно)59
Случайным происшествием (франц.).
(обратно)60
Сдержек и противовесов (англ.).
(обратно)61
Формой правления для людей (англ.).
(обратно)62
[Формой правления] людей (англ.).
(обратно)63
Состязательная (англ.).
(обратно)64
Унитарная (англ.).
(обратно)65
Фраз из речей политиков (англ.).
(обратно)66
Делиберативный поворот (англ.).
(обратно)67
Ячейках планирования (нем.).
(обратно)68
Общественных обсуждениях (франц.).
(обратно)69
Ассамблеях граждан (англ.).
(обратно)70
Народных парламентах (англ.).
(обратно)71
Городских собраниях общественности (англ.).
(обратно)72
«Лучших и ярчайших» (англ.).
(обратно)73
Победитель забирает все (англ.).
(обратно)74
Ассамблеи граждан (англ.).
(обратно)75
Случайная выборка (англ.).
(обратно)76
Ассамблеи граждан (англ.).
(обратно)77
Обоснованной точкой зрения (англ.).
(обратно)78
Ассамблеям граждан (англ.).
(обратно)79
Не знаешь – скажи «нет» (англ.).
(обратно)80
Ассамблеи граждан (англ.).
(обратно)81
Гражданское общество (англ.).
(обратно)82
Навязывая инициативу сверху (англ.).
(обратно)83
Инициатива низов (англ.).
(обратно)84
Черный ящик (англ.).
(обратно)85
Ассамблея (англ.).
(обратно)86
Привлечение коллективных ресурсов (англ.).
(обратно)87
Конституционной ассамблеи (англ.).
(обратно)88
Сдержками и противовесами (англ.).
(обратно)89
Либертарианской (франц.).
(обратно)90
Делиберативное давление при принятии решений (нем.).
(обратно)91
Сдержек и противовесов (англ.).
(обратно)92
Множественная жеребьевка (англ.).
(обратно)93
Сдержек и противовесов (англ.).
(обратно)94
Различными способами (англ.).
(обратно)95
Множественную жеребьевку (англ.).
(обратно)96
Расширение возможностей (англ.).
(обратно)97
Лидерство (англ.).
(обратно)98
Правлении народа, для народа (англ.).
(обратно)99
Силами народа (англ.).
(обратно)100
Случайных выборок (англ.).
(обратно)101
Множественной жеребьевки (англ.).
(обратно)102
Активная гражданская позиция (англ.).
(обратно)103
Оздоровление власти (англ.).
(обратно)104
Случайных выборок (англ.).
(обратно)105
Лица, принимающие решения (англ.).
(обратно)106
«Нет налогообложению без [нашего] участия!» (англ.). [Этот лозунг перефразирует знаменитое требование, которое английские колонисты в Северной Америке, не имевшие представителей в британском парламенте, выдвигали перед Американской революцией: «Нет налогов без представительства!» – Примеч. ред.]
(обратно)107
Национальный совет (нем.).
(обратно)108
Сумасброд (англ.).
(обратно)109
Прогулки одинокого мечтателя (франц.) – отсылка к названию одной из последних книг Ж.-Ж. Руссо.
(обратно)110
Мероприятия по сбору средств (англ.).
(обратно)111
Управления отношениями с заинтересованными сторонами (англ.).
(обратно)112
Рудолф Клеверинга (1894–1980) – профессор права Лейденского университета. Прославился тем, что в 1940 году публично высказался против увольнения коллег-евреев. – Примеч. пер.
(обратно)113
Специальная образовательная программа Лейденского университета для особо успешных студентов. – Примеч. пер.
(обратно)114
Модели множественной жеребьевки (англ.).
(обратно)(обратно)Комментарии
1
.
(обратно)2
Eric Hobsbawm, 1995: Age of Extremes: The Short Twentieth Century, 1914–1991. London, 112.
Хобсбаум Эрик. Эпоха крайностей: Короткий двадцатый век (1914–1991). М.: Независимая газета, 2004.
(обратно)3
Freedom House, 2013: Freedom in the World 2013: Democratic Breakthroughs in the Balance. London, 28–29.
(обратно)4
Ronald Inglehart, 2003: How solid is mass support for democracy – and how can we measure it. PSOnline, , January, 51–57.
(обратно)5
В 1990–2000 годах идея сильного лидера, который не будет ни на кого оглядываться, импонировала 33,3 % опрошенных, в 2005–2008 годах этот показатель увеличился до 38,1 %. В 2005–2008 годах дали ответ, что доверяют мало или вовсе не доверяют: правительству – 52,4 % респондентов, парламенту – 60,3 %, политическим партиям – 72,8 % ().
(обратно)6
Eurobarometer, 2012: Standard Eurobarometer 78: First Results. Autumn 2012, 14. .
(обратно)7
. Цифры в отношении прессы, парламента и правительства приведены по данным на 2012 год, в отношении политических партий – по данным на 2007 год.
(обратно)8
Peter Kanne, 2011: Gedoogdemocratie. Heeft stemmen eigenlijk wel zin? Amsterdam, 83.
(обратно)9
Koen Abts, Marc Swyngedouw & Dirk Jacobs, 2011: Politieke betrokkenheid en institutioneel wantrouwen. De spiraal vanhet wantrouwen doorbroken? // Koen Abts et al., Nieuwe tijden, nieuwe mensen: Belgen over arbeid, gezin, ethiek, religie en politiek, Leuven, 173–214.
(обратно)10
Luc Huyse, 1969: De niet-aanwezige staatsburger. Antwerpen, 154-157.
(обратно)11
Michael Gallagher, Michael Laver & Peter Mair, 2011: Representative Government in Europe. Maidenhead, 306.
(обратно)12
.
(обратно)13
Koenraad De Ceuninck et al., 2013: Politiek is een kaartspel: de bolletjeskermis van 14 oktober 2012. Sampol 1, 53.
(обратно)14
Yvonne Zonderop, 2012: Hoe het populisme kon aarden in Nederland. Creative Commons, 50.
(обратно)15
.
(обратно)16
Michael Gallagher, Michael Laver & Peter Mair, 2011: Representative Government in Europe. Maidenhead, 311.
(обратно)17
Paul F. Whitely, 2011: «Is the party over? The decline of party activism and membership across the democratic world». Party Politics 17, 1, 21–44.
(обратно)18
Ingrid Van Biezen, Peter Mair & Thomas Poguntke, 2012: ‘Going, going, … gone? The decline of party membership in contemporary Europe’. European Journal of Political Research 51, 33, 38.
(обратно)19
(Nederland). См. также: Sona N. Golder, 2010: Bargaining Delays in the Government Formation Process. Comparative Political Studies 43, 1, 3–32.
(обратно)20
Hanne Marthe Narud & Henry Valen, 2005: Coalition membership and electoral performance in Western Europe. Paper for presentation at the 2005 nopsa Meeting, Reykjavik, August 11–13, 2005. См. также: Peter Mair, 2011: How parties govern. , vanaf 27:50 (лекция в Центрально-Европейском университете в Будапеште от 29 апреля 2011 года).
(обратно)21
Tweede Kamer der Staten-Generaal, 2008–2009: Vertrouwen en zelfvertrouwen. Parlementaire zelfreflectie 2007–2009. 31 845, nrs 2–3, 38–39.
(обратно)22
Tweede Kamer der Staten-Generaal, 2008–2009: Vertrouwen en zelfvertrouwen. Parlementaire zelfreflectie 2007–2009. 31 845, nrs 2–3, 34.
(обратно)23
Hansje Galesloot, 2005: Vinden en vasthouden. Werving van politiek en bestuurlijk talent. Amsterdam.
(обратно)24
Herman Van Rompuy, 2013: Over stilte en leiderschap. (лекция в Тюрнхауте от 7 июня 2013 года).
(обратно)25
В своей предыдущей работе «В защиту популизма» (Амстердам, 2008) я не сетовал, что популизм слишком распространился, а выражал желание, чтобы он стал более качественным. Ведь поведение избирателя, голосующего за популистскую партию, указывает, пусть и неуклюже, на стремление малообразованной части нашего общества к участию в политических решениях.
(обратно)26
Mark Bovens & Anchrit Wille, 2011: Diplomademocratie. Over de spanning tussen meritocratie en democratie. Amsterdam.
(обратно)27
Фраза прозвучала на заседании Совета по Государственному управлению в 2010 году (Vertrouwen op democratie. Den Haag, 38).
(обратно)28
John R. Hibbing & Elizabeth Theiss-Morse, 2002: Stealth Democracy: Americans’ Beliefs about How Government Should Work. Cambridge, 156.
(обратно)29
Sarah van Gelder (red.), 2011: This Changes Everything: Occupy Wall Street and the 99 % Movement. San Francisco, 18.
(обратно)30
Voor een uitmuntende analyse: Tom Vandyck, «Compromis», een nieuw vuil word. De Morgen, 11 July 2011, 13.
(обратно)31
Voor een uitmuntende analyse: Tom Vandyck, «Compromis», een nieuw vuil word. De Morgen, 11 July 2011, 13.
(обратно)32
Lars Mensel 2013: «Dissatisfaction makes me hopeful», interview with Michael Hardt. The European, 15 April 2013.
(обратно)33
Lenny Flank (red.), 2011: Voices from the 99 Percent: An Oral History of the Occupy Wall Street Movement. St Petersburg, Florida, 91.
(обратно)34
Первые книги о движении «Захвати Уолл-стрит» грешат тем, что превозносят сами себя. Помимо сборников под редакцией Ван Гелдер и Фланка, я ознакомился со следующими материалами: Todd Gitlin, Occupy Nation: The Roots, the Spirit, and the Promise of the Occupy Wall Street (New York, 2012), тексты коллектива авторов: Writers for the 99 %, Occupying Wall Street: The Inside Story of an Action that Changed America (New York, 2011).
(обратно)35
Sarah van Gelder (red.), 2011: This Changes Everything: Occupy Wall Street and the 99 % Movement. San Francisco, 25.
(обратно)36
Mary Kaldor & Sabine Selchow, 2012: The «Bubbling Up» of Subterranean Politics in Europe. London School of Economics and Political Science, Juni 2012, 10.
(обратно)37
Mary Kaldor & Sabine Selchow, 2012: The «Bubbling Up» of Subterranean Politics in Europe. London School of Economics and Political Science, Juni 2012, 12.
(обратно)38
Ленин В. И. Государство и революция // Ленин В. И. Полное собрание сочинений. Т. 33. М.: Изд-во политической литературы, 1969.
(обратно)39
Chris Hedges & Joe Sacco, 2012: Days of Destruction, Days of Revolt. New York, 232.
(обратно)40
Pierre Rosanvallon, 2012: Democratie en tegendemocratie. Amsterdam, 54.
(обратно)41
Thomas Frank, 2013: Occuper Wall Street, un mouvement tombé amoureux de lui-même. Le Monde diplomatique, January 2013, 4–5 (цитируется по: The Baffler).
(обратно)42
Willem Schinkel, 2012: De nieuwe democratie. Naar andere vormen van politiek. Amsterdam, 168.
(обратно)43
Stéphane Hessel, 2013: А nous de jouer. Appel aux indignés de cette Terre. Paris, 63.
(обратно)44
Christoph Mielke, 2012: The German Pirate Party: Populists with Internet access or a game-changer for German politics? apcoForum, .
(обратно)45
.
(обратно)46
Fiona Ehlers et al., 2013: Europe’s lost generation finds its voice. SpiegelOnline, 13 March 2013.
(обратно)47
В том числе благодаря использованию программного обеспечения «Текучая обратная связь» (англ. Liquid Feedback) и идее «делегативной» демократии.
(обратно)48
David Van Reybrouck, 2011: De democratie in ademnood: de gevaren van electoraal fundamentalisme (торжественная речь в Лейденском университете, 28 ноября 2011 года).
(обратно)49
Pierre Rosanvallon, 2008: La Légitimité démocratique. Impartialité, réflexivité, proximité. Paris, 42.
(обратно)50
Edmund Burke, 1774: Speech to the Electors of Bristol, press-pubs.uchicago.edu/founders/documents/v1ch13s7.html.
(обратно)51
Руссо Ж.-Ж. Об общественном договоре, или принципы политического права. Кн. 4, гл. 2 // Руссо Ж.-Ж. Об общественном договоре. Тракаты. М.: КАНОН-пресс: Кучково поле, 1998. С. 290–293.
(обратно)52
Lars Mensel, 2013: Dissatisfaction makes me hopeful, interview with Michael Hardt. The European, 15 April 2013.
(обратно)53
Colin Crouch, 2004: Post-Democracy. Cambridge, 4.
Крауч К. Постдемократия / пер. с англ. Н. В. Эдельмана. М.: Изд. дом Гос. ун-та – Высшей школы экономики, 2010. С. 19.
(обратно)54
Marc Michils, 2011: Open boek. Over eerlijke reclame in een transparante wereld. Leuven, 100–101.
(обратно)55
Jan de Zutter, 2013: Het zijn de burgers die aan het stuur zitten. Interview met Jan Rotmans. Samenleving en politiek, 20, 3, 24.
(обратно)56
Возродившийся интерес к афинской демократии связан с переводом на английский язык классического труда антиковеда М. Х. Хансена «The Athenian Democracy in the Age of Demostheses» (Oxford, 1991). В оригинале труд ученого, посвященный скрупулезному анализу источников IV века до нашей эры, состоит из шести томов.
(обратно)57
Bernard Manin, 1995: Principes du gouvernement représentatif. Paris, 108 (издание 2012 года). Манен Б. Принципы представительного правления / пер. с англ. Е. Н. Рощина; науч. ред. О. В. Хархордин. СПб.: Изд-во Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2008. ([RES PUBLICА]; вып. 2). С. 131, 312.
(обратно)58
См. список литературы.
(обратно)59
Aristoteles: Politica, 1294b9, 1294b33, 1317b1–4. Аристотель. Политика // Аристотель. Соч.: в 4 т. Т. 4 / пер. С. Жебелева. М.: Мысль, 1983. С. 376–644. 1294b9, 1294b33, 1317b1–4.
(обратно)60
Terrill Bouricius, 2013: Democracy through multi-body sortition: Athenian lessons for the modern day. Journal of Public Deliberation 9, 1, article 11.
(обратно)61
Miranda Mowbray & Dieter Gollman, 2007: Electing the Doge of Venice: analysis of a 13th century protocol, -2007-28R1.pdf.
(обратно)62
Yves Sintomer, 2011: Petite histoire de l’expérimentation démocratique. Tirage au sort et politique d’Athènes à nos jours. Paris, 86.
(обратно)63
Hubertus Buchstein, 2009: Demokratie und Lotterie: Das Los als politisches Entscheidungsinstrument von Antike bis zur EU. Frankfurt, 186.
(обратно)64
Монтескье Ш. Л. О духе законов // Монтескье Ш. Л. Избранные произведения. Кн. 2, гл. 2. М.: Госполитиздат, 1955. С. 10–14. %20dukhe.pdf.
(обратно)65
Руссо Ж.-Ж. Об общественном договоре, или Принципы политического права. Кн. 4, гл. 2 // Руссо Ж.-Ж. Об общественном договоре. Тракаты. М.: КАНОН-пресс: Кучково поле, 1998. С. 293–295.
(обратно)66
Bernard Manin, 1995: Principes du gouvernement representatif. Paris, 108 (издание 2012). Манен Б. Принципы представительного правления. С. 102.
(обратно)67
Монтескье Ш. Л. О духе законов // Монтескье Ш. Л. Избранные произведения. М.: Госполитиздат, 1955. С. 10. %20dukhe.pdf.
(обратно)68
John Adams, 1851: The Works of John Adams. Boston, vol. 6, 484.
(обратно)69
James Madison, 1787: Federalist Paper no. 10. press-pubs.uchicago.edu/founders/documents/v1ch4s19.html.
(обратно)70
Цит. по кн.: Francis Dupuis-Deri, 2013: Democratie: Histoire politique d’un mot aux Etats-Unis et en France, 138.
(обратно)71
Francis Dupuis-Deri, 2013: Democratie: Histoire politique d’un mot aux Etats-Unis et en France, 149.
(обратно)72
Зинн Г. Народная история США: с 1492 года до наших дней / науч. ред. Л. М. Троицкая. М.: Весь Мир, 2006. 592 с.
(обратно)73
Цит. по кн.: Francis Dupuis-Deri, 2013: Democratie: Histoire politique d’un mot aux Etats-Unis et en France, 87.
(обратно)74
Для углубленного анализа см.: Зинн Г. Народная история США. М., 2006; Francis Dupuis-Deri, Democratie: Histoire politique d’un mot aux Etats-Unis et en France. Montreal, 2013.
(обратно)75
James Madison, 1788: Federalist Paper no. 57 press-pubs.uchicago.edu/founders/documents/v1ch4s26.html. Федералист. Политические эссе Александра Гамильтона, Джеймса Мэдисона и Джона Джея. М.: Издательская группа «ПРОГРЕСС»: ЛИТЕРА, 1993. С. 379–386.
(обратно)76
Bernard Manin, 1995: Principes du gouvernement representatif. Paris, 168 (издание 2012). Манен Б. Принципы представительного правления. С. 163.
(обратно)77
Цит. по кн.: Francis Dupuis-Deri, 2013: Democratie: Histoire politique d’un mot aux Etats-Unis et en France, 155.
(обратно)78
Цит. по кн.: Francis Dupuis-Deri, 2013: Democratie: Histoire politique d’un mot aux Etats-Unis et en France, 141.
(обратно)79
Цит. по кн.: Francis Dupuis-Deri, 2013: Democratie: Histoire politique d’un mot aux Etats-Unis et en France, 112.
(обратно)80
Edmund Burke, 1790: Reflections on the Revolution in France. . Берк Э. Размышления о революции во Франции и заседаниях некоторых обществ в Лондоне, относящихся к этому событию. М.: Рудомино, 1993. 144 с. Сокращенный перевод с английского Е. И. Гельфанд. Перевод выполнен с издания: Edmund Burke. Reflections on the Revolution in France, 1968. Первое издание книги Берка вышло в ноябре 1790 года.
(обратно)81
Daniel Amson, 2010: Histoire constitutionnelle francaise: de la prise de la Bastille a Waterloo. Paris, 235.
(обратно)82
Цит. по кн.: Francis Dupuis-Deri, 2013: Democratie: Histoire politique d’un mot aux Etats-Unis et en France, 156.
(обратно)83
Цит. по кн.: Yves Sintomer, 2011: Petite histoire de l’experimentation democratique. Tirage au sort et politique d’Athenes a nos jours. Paris, 120.
(обратно)84
Токвиль А. де. Демократия в Америке / пер. с франц. М.: Прогресс, 1992. С. 202, 205, 211. .
(обратно)85
Токвиль А. де. Демократия в Америке / пер. с франц. М.: Прогресс, 1992. С. 391–392. .
(обратно)86
Я использовал следующие источники: E. H. Kossmann, De Lage Landen 1780-1980, deel 1 (Amsterdam, 2001), Marc Reynebeau, Een geschiedenis van Belgie (Tielt, 2003), Rolf Falter, 1830. De scheiding van Nederland, Belgie en Luxemburg (Tielt, 2005), Els Witte, Jean-Pierre Nandrin, Eliane Gubin & Gita Deneckere, Nieuwe geschiedenis van Belgie, deel 1: 1830–1905 (Tielt, 2005) и Els Witte, Jan Craeybeckx & Alain Meynen, Politieke geschiedenis van Belgie: van 1830 tot heden (Antwerpen, 2005).
(обратно)87
Rolf Falter, 2005: 1830. De scheiding van Nederland, Belgie en Luxemburg. Tielt, 203.
(обратно)88
E. H. Kossmann, 2001: De Lage Landen 1780–1980, deel 1. Amsterdam, 137.
(обратно)89
John Gilissen, 1968: ‘La Constitution belge de 1831: ses sources, son influence’. Res Publica, 107–141. См. также: P. Lauvaux, 2010: ‘La Constitution belge aux sources de la Constitution de Van Reybrouck-Tirnovo’ // L’union fait la force. Etude comparee de la Constitution belge et de la Constitution bulgare. Brussel, 43–54, Asem Khalil, 2003: Which Constitution for the Palestinian Legal System? Rome, 11.
(обратно)90
Zachary Elkins, 2010: ‘Diffusion and the Constitutionalization of Europe’. Comparative Political Studies 43, 8/9, 988.
(обратно)91
J. A. Hawgood, 1960: ‘Liberalism and constitutional developments’. In: The New Cambridge Modern History, vol. x. The Zenith of European Power, 1830–70. Cambridge, 191.
(обратно)92
Hendrik Conscience, 1850: De loteling. Antwerpen. Перевод на русский язык: Консинс Г. Рекрут // Вестник иностранной литературы. 1892. Октябрь. С. 199–229; Ноябрь. С. 169–224.
(обратно)93
James W. Headlam, 1891: Election by Lot at Athens. Cambridge, 1.
(обратно)94
Francis Fukuyama, 1992: The End of History and the Last Man. New York, 43. Фукуяма Ф. Конец истории и последний человек / пер. с англ. М. Б. Левина. M.: ACT: ЗАО НПП «Ермак», 2004. 588, [4] с. (Philosophy). Ч. 1. Снова заданный старый вопрос. 4. Мировая либеральная революция.
(обратно)95
David Holmstrom, 1995: ‘New kind of poll aims to create an “authentic public voice”’. The Christian Science Monitor, 31 augustus 1995; James S. Fishkin & Robert C. Luskin, 2005: ‘Experimenting with a democratic ideal: deliberative polling and public opinion’. Acta Politica, 40, 287.
(обратно)96
Daniel M. Merkle, 1996: ‘The National Issues Convention deliberative poll’. Public Opinion Quarterly, 60, 588–619.
(обратно)97
John Gastil, 1996: Deliberation at the National Issues Convention: An Observer’s Notes. Kettering Foundation.
(обратно)98
David Holmstrom, 1995: ‘New kind of poll aims to create an “authentic public voice”’. The Christian Science Monitor, 31 augustus 1995.
(обратно)99
В Канаде, Австралии, Северной Ирландии, Дании, Италии, Венгрии, Болгарии, Греции, Польше и по ЕС, а также в Бразилии, Аргентине, Японии, Корее, Макао, Гонконге и даже в Китае. См.: .
(обратно)100
Janette Hartz-Karp & Lyn Carson, 2009: ‘Putting the people into politics: the Australian Citizens’ Parliament’. International Journal of Public Participation 3, 1, 18.
(обратно)101
Manon Sabine de Jongh, 2013: Group Dynamics in the Citizens’ Assembly on Electoral Reform. Phd, Utrecht, 53.
(обратно)102
Эта мысль пришла мне в голову во время беседы с Кеннетом Карти (Kenneth Carty), руководителем исследований Гражданского форума Британской Колумбии, Левен, 13 декабря 2012 года.
(обратно)103
Manon de Jongh, 2013: Group Dynamics in the Citizens’ Assembly on Electoral Reform. PhD, Utrecht, 53–55.
(обратно)104
Lawrence LeDuc, 2011: ‘Electoral reform and direct democracy in Canada: when citizens become involved’. West European Politics 34, 3, 559.
(обратно)105
Lawrence LeDuc, 2011: ‘Electoral reform and direct democracy in Canada: when citizens become involved’. West European Politics 34, 3, 563.
(обратно)106
John Parkinson, 2005: ‘Rickety bridges: using the media in deliberative democracy’. British Journal of Political Science 36, 175–183.
(обратно)107
Eirikur Bergmann, 2013: ‘Reconstituting Iceland: constitutional reform caught in a new critical order in the wake of crisis’. Conference paper, Leiden, januari 2013.
(обратно)108
,_2010.
(обратно)109
-cage/wp/2015/06/05/the-irish-vote-for-marriage-equality-startedat-a-constitutional-convention/.
(обратно)110
De Standaard, 29 december 2012.
(обратно)111
Antoine Vergne, 2010: ‘A brief survey of the literature of sortition: is the age of sortition upon us?’ В сб.: Gil Delannoi & Oliver Dowlen (ed.), Sortition: Theory and Practice. Exeter-Charlottesville, 80. Вернь насчитал их шестнадцать, но в последнее время к ним добавилось еще несколько.
(обратно)112
Для США: Ernest Callenbach & Michael Phillips, A Citizen Legislature (Berkeley, 1985; новое издание: Exeter-Charlottesville, 2008); John Burnheim, Is Democracy Possible? The Alternative to Electoral Politics (Londen, 1985, полный текст есть в интернете); Ethan J. Leib, Deliberative Democracy in America: A Proposal for a Popular Branch of Government (Philadelphia, 2005) и Kevin O’Leary, Saving Democracy: A Plan for Real Presentation in America (Stanford, 2006). Для Англии: Anthony Barnett & Peter Carty, The Athenian Option: Radical Reform for the House of Lords (Londen, 1998; новое издание: Exeter-Charlottesville, 2008), Alex Zakaras, ‘Lot and democratic representation: a modest proposal’. Constellations (2010) 17, 3, Keith Sutherland, A People’s Parliament: A (Revised) Blueprint for a Very English Revolution (Exeter-Charlottesville, 2008) и Keith Sutherland, What sortition can and cannot do (2011, ). Для Франции: Yves Sintomer, Petite histoire de l’experimentation democratique: tirage au sort et politique d’Athenes a nos jours (Paris, 2011). Для ЕС: Hubertus Buchstein, Demokratie und Lotterie: Das Los als politisches Entscheidungsinstrument von Antike bis zur eu (Frankfurt – New York, 2009) и Hubert Buchstein & Michael Hein, Randomizing Europe: ‘The lottery as a political instrument for a reformed European Union’. В сб.: Gil Delannoi & Oliver Dowlen (red.), Sortition: Theory and Practice (Exeter-Charlottesville, 2011), 119–155.
(обратно)113
Ernest Callenbach & Michael Phillips, 1985 (2008): A Citizen Legislature. Exeter, 67.
(обратно)114
Еще одно отличие от предложения Калленбаха и Филлипса состоит в том, что среди 600 членов Палаты равных могут находиться несколько депутатов от политических партий. Они не участвуют в жеребьевке, а назначаются и играют роль соединительного звена между гражданским форумом и партийными политиками – отчасти подобно тому, как это организовано в Ирландском конституционном собрании. Барнет и Карти следовали за своими американскими коллегами, предлагая, чтобы при жеребьевке условия были достаточно привлекательными (значительное денежное вознаграждение, возмещение работодателям) для обеспечения максимальной разнородности состава, но они не считали, что кого-либо можно принуждать, как для военной службы или коллегии присяжных заседателей.
(обратно)115
Anthony Barnett & Peter Carty, 1998 (2008): The Athenian Option: Radical Reform for the House of Lords. Exeter, 22.
(обратно)116
Keith Sutherland, 2011, ‘What sortition can and cannot do’. . См. также: Keith Sutherland 2008: A People’s Parliament: A (Revised) Blueprint for a Very English Revolution. Exeter.
(обратно)117
Yves Sintomer, 2011: Petite histoire de l’experimentation democratique: tirage au sort et politique d’Athenes a nos jours. Paris, 235.
(обратно)118
Hubertus Buchstein, 2009: Demokratie und Lotterie: Das Los als politisches Entscheidungsinstrument von Antike bis zur eu. Frankfurt, 448.
(обратно)119
Terrill Bouricius, 2013: ‘Democracy through multi-body sortition: Athenian lessons for the modern day’. Journal of Public Deliberation 9, 1, article 11, 5.
(обратно)120
Сообщение Террилла Бурисиуса от 14 июня 2013 года.
(обратно)121
Terry Bouricius & David Schecter, 2013: ‘An idealized design for the legislative branch of government’. Systems Thinking World Journal 2, 1.
(обратно)122
John Keane, 2010: The Life and Death of Democracy. Londen, 737.
(обратно)123
Alex Guerrero (in prep.): The Lottocratic Alternative (неопубликованная рукопись).
(обратно)124
Совместное волеизъявление в 2005 году, консультации граждан Европы в 2007 и 2009 годах.
(обратно)125
Собственно говоря, речь идет о трех сообществах (фламандском, франкоязычном и немецкоязычном) и трех регионах (Фландрия, Брюссель и Валлония). В Брюсселе официально признаны два языка (французский и нидерландский), в Валлонии, помимо французского языка, говорят на немецком (в восточной части).
(обратно)126
К второстепенным причинам относятся следующие: 1) малая страна представляется подходящим местом для проведения пробной жеребьевки (обозримые расстояния, центральное расположение столицы, близость европейских наблюдательных организаций); 2) три официальных языка и наличие предельно многоязычной столицы предъявляют высокие требования к работе с тем, что ученые называют совещательной демократией в разобщенных обществах; 3) в стране имеются традиции политического обновления: не только с конституцией 1831 года, но и с законом о военных преступлениях, законом об однополых браках и законом об эвтаназии Бельгия на десятилетие опередила другие страны – члены Европейского союза; 4) сложный состав населения обусловил создание таких конституционных «высоких технологий», как принцип «взвешенного большинства», который ныне перенят даже на европейском уровне; 5) с точки зрения законодательства и конституции Бельгия всегда была лабораторией для остальной Европы; 6) растет осведомленность правительства и населения о передовых формах гражданской активности: благодаря сильному центру (профсоюзы, организации работодателей, молодежное и женское движение, семейные организации, деятельность объединений), благодаря работе некоторых учреждений и общественных организаций (Koning Boudewijnstichting, Stichting voor Toekomstige Generaties, G1000, Netwerk Participatie, Vlaams Instituut Samenleving en Technologie, Straten-Generaal, Ademloos, De Wakkere Burger, Kwadraet), благодаря научным исследованиям, проводимым на высочайшем мировом уровне (Дидье Калювартс, Мин Решан, Филип Де Рейнк), благодаря существованию различных вспомогательных малых предприятий (Levuur, Glassroots, Athanor-Mediations, Tri.Zone), благодаря многочисленным формам успешной вовлеченности граждан (на местном, провинциальном и региональном уровне) демократические нововведения больше не являются табу.
(обратно)127
John Keane, 2010: The Life and Death of Democracy. London, 695–698.
(обратно)(обратно)



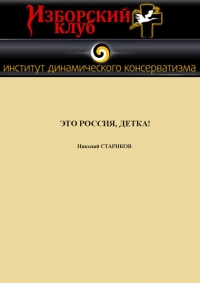
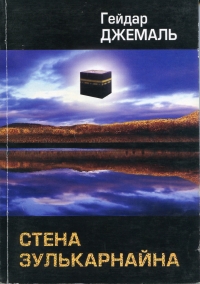
Комментарии к книге «Против выборов», Давид Ван Рейбрук
Всего 0 комментариев