Ян-Вернер Мюллер Что такое популизм?
У слова «народ» всего лишь одно значение – «смесь». Попробуйте подставить вместо «народа» слова «число» и «смесь», и вы получите самые удивительные словосочетания – «суверенная смесь», «воля смеси» и т. д.
Поль ВалериВласть исходит от народа. Но куда она приходит?
Бертольт БрехтJAN-WERNER MÜLLER
WHAT IS POPULISM?
Перевод с английского АНАСТАСИИ АРХИПОВОЙ
Настоящая книга основана на лекциях в Институте гуманитарных наук, прочитанных в 2014 году.
Институт гуманитарных наук (Das Institut fur die Wissenschaften vom Menschen, IWM) – независимый институт передовых исследований в гуманитарных и социальных науках ().
WHAT IS POPULISM?
Copyright © 2016 Jan-Werner Muller All rights reserved.
© Перевод на русский язык. Издательский дом Высшей школы экономики, 2018
Опубликовано Издательским домом Высшей школы экономики <;
Предисловие
Впервые эта книга была опубликована летом 2016 г.
С тех пор произошел ряд событий. Некоторые из них могут оказаться поучительными с точки зрения того, как следует размышлять о популизме – и как с ним бороться.
Если автор инаугурационной речи Дональда Трампа хотел создать образцовый текст для пособия по изучению популизма, это ему (или ей), несомненно, с блеском удалось. Когда слушаешь эту речь, невозможно отделаться от мысли, что США только что освободились от власти оккупантов. Президент объявил, что власть снова принадлежит народу, после свержения ненавистного, чуждого ему «истеблишмента», захватившего Вашингтон.
Все популисты, так же как и Трамп, противопоставляют «народ» коррумпированной и своекорыстной элите. Но не всякий, кто критикует власть имущих, – полулист. Популиста отличает – и это основная мысль этой книги – утверждение, что он и только он представляет настоящий народ. Как объяснил нам Трамп, ему теперь принадлежит исполнительная власть, а, стало быть, народу принадлежит власть над правительством. Из этого следует, что любая оппозиция нелегитимна: если ты против Трампа – ты против народа. Это глубоко авторитарная позиция, знакомая нам по таким лидерам, как Уго Чавес, венгерский премьер-министр Виктор Орбан, объявивший себя нелибералом, и турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган. Трамп послал миру очень четкий сигнал о том, какую угрозу он представляет для демократии.
Чавесу нравился лозунг «Вместе с Чавесом правит народ». По иронии судьбы, такой знак равенства между народом и его верным представителем подразумевает, что популист не берет на себя никакой политической ответственности. Трамп делает вид, что он всего лишь главный исполнитель истинной воли народа. В таком же ключе Эрдоган после переворота летом 2016 г. отреагировал на критику его намерений вернуть смертную казнь: «Значение имеет только то, что скажет мой народ». И не важно, что он уже заранее проинструктировал «свой народ», что ему говорить; не важно, что он выступает в роли единственного законного толкователя гласа народного. Любое несогласие по определению становится недемократическим. И все сдержки и противовесы – абсолютно необходимые и естественные в системе демократического разделения властей – становятся препятствием на пути осуществления народной воли.
Некоторые либералы наивно полагали, что Трамп в какой-то момент продемонстрирует четкое намерение «объединить» и «исцелить» разделенную страну. После своего избрания Трамп писал в Твиттере послания в таком духе: «Мы объединимся и победим, победим, победим!» В инаугурационной речи он говорил о «единой» и «несокрушимой» Америке. Все популисты постоянно говорят об «объединении народа». Но это всегда объединение на условиях, которые диктует народ, а иначе – берегись! Так, в мае 2016 г. Трамп заявил в одной из своих речей во время предвыборной кампании (мы еще упомянем об этом в книге): «Единственное, что важно, – это объединение народа, потому что другие люди ничего не значат». Другими словами, статус принадлежности к народу даже тех, кто со всех мыслимых юридических и моральных точек зрения является полноправными гражданами, может быть поставлен под сомнение, если они не разделяют представлений популиста о том, как именно должно осуществляться единство народа.
Всякий популист пытается объединить свой народ – подлинный народ, – постоянно выступая против тех, кто, с его точки зрения, не является частью «настоящей Америки», «настоящей Турции» и т. д. Поляризация – для популистов не проблема, а способ удержания власти. Поэтому более чем наивно полагать, что рано или поздно популисту придется «пойти на контакт с другой стороной». Конфликт исключительно полезен для популиста, пока ему удается использовать этот конфликт (особенно в неутихающих культурных войнах), чтобы раз за разом демонстрировать, что такое «настоящий народ» и насколько он могуществен.
Но не все так плохо. Я думаю, 2016-й annus horribilis преподал нам еще и несколько ценных уроков. Может показаться, что феномен, исследуемый в этой книге, будет только крепнуть; в конце концов, практически каждый день мы слышим и читаем о том, что «волна популизма захлестнула весь мир». Однако представление о глобальном тренде «антиэлитистских настроений» – это отнюдь не нейтральное описание политической реальности. Популистские лидеры сами постоянно подогревают такие идеи, в дополнение к своего рода теории домино. Марин Ле Пен на собрании европейских популистов в Кобленце (Германия) в январе 2017 г. воскликнула: «2016-й был годом пробуждения англосаксонского мира. Я уверена, что 2017-й год станет годом пробуждения народов континентальной Европы!» Найджел Фарадж, не удовольствовавшись метафорами домино и волн, заговорил сразу о «цунами» и, причудливо тасуя метафоры, восхвалял итальянских избирателей, которые отвергли конституционные реформы премьер-министра Маттео Ренци за то, что они «пальнули из базуки» по Европе.
Эти красочные и довольно-таки безвкусные образы вводят в большое заблуждение. Брекзит вовсе не дело рук одного Фараджа. Чтобы добиться «выхода», он нуждался в союзниках из числа тори, таких как Борис Джонсон и Майкл Гоув, – причем в Гоуве, пожалуй, больше всех остальных. Все-таки Джонсон всегда считался несколько эксцентричным политиком; Гоув же выглядел интеллектуалом-тяжеловесом в правительстве (он был министром образования и министром юстиции). Когда Гоув заявил, что граждане не должны верить экспертам, это прозвучало веско – ведь Гоув сам был экспертом. Еще важнее то, что Брекзит стал не просто результатом стихийных антиэлитистских настроений всех угнетенных: евроскептицизм, который когда-то был маргинальной позицией части британских консерваторов, десятилетиями пестовался таблоидами и политиками вроде Дэвида Кэмерона, который не верил в выход из ЕС, но из своих соображений и карьерных интересов продолжал твердить мантру о плохом Брюсселе. Те же самые аргументы годятся и для ситуации по другую сторону Атлантики. Трамп выиграл не в качестве кандидата-аутсайдера от третьей стороны – популистского движения. У Фараджа были Джонсон и Гоув, а Трамп заручился благословением таких почтенных республиканцев, как Ньют Гингрич (еще один настоящий интеллектуал от консерваторов), Крис Кристи и Руди Джулиани. Верно и то, что многие известные республиканцы воспротивились восхождению миллионера-застройщика. Но партия никогда не исключала его из своих рядов, и узкопартийная позиция – ключевой фактор, объясняющий исход выборов: 90 % граждан, считающих себя республиканцами, голосовали за Трампа. Не будет преувеличением сказать, что некоторые из них проголосовали за Трампа, как в свое время американцы голосовали за бизнесмена – «спасителя нации» Росса Перо (его выдвижение кандидатом от третьей партии помогло Биллу Клинтону выиграть в 1992 г.). Еще раз: без Республиканской партии Трамп не стал бы президентом.
Приведем один эмпирический контрпример, который ставит под сомнение всю эту образность домино и волн. В Австрии все предсказывали победу правого популиста Норберта Хофера на выборах в декабре 2016 г., но вместо этого выиграл политик от партии «зеленых» Александер Ван дер Беллен. Этот, казалось бы, сбой во всемирном популистском тренде содержит в себе ценный урок для Запада. Многие консервативные политики открыто выступили против Хофера, особенно местные мэры и другие провинциальные политики, пользовавшиеся доверием сельской Австрии, которое лидерам «зеленых» из Вены совершенно точно не удалось бы завоевать самим по себе. Раскола между сельским населением, сочувствующим популистам, и городами, приверженными либерализму, – раскола, очевидного в ситуациях с Брекзитом и Трампом, – на самом деле можно избежать. Более того, благодаря кампании Ван дер Беллена множество граждан стали вступать в контакт с людьми, с которыми они обычно не пересекались в своей повседневной жизни. У них даже были листовки с инструкциями, как разговаривать со сторонниками Хофера: например, не переходить в немедленную атаку и не обвинять их в ксенофобии и фашизме. Популизм можно остановить.
Очень важно не зацикливаться чрезмерно на популистах и радикальных партиях. Нам нужно присматриваться и к другим политикам, в частности, отслеживать, кто из консерваторов готов пойти на сотрудничество. Мы также должны осознавать, что иногда обычные консервативные или христианско-демократические партии превращаются в популистские и тем самым стирают четкую грань между «истеблишментом» и «антиистеблишментом». Орбановская партия «Фидес» не всегда была популистской и не вела кампанию 2010 г. на популистской платформе; только после своего избрания Орбан превратился в убежденного противника либерализма и ЕС и лидера, систематически подрывающего закон и демократические ценности в своей стране. И точно так же партия «Право и справедливость» Ярослава Качиньского на выборах 2015 г. демонстрировала умеренную позицию, но, получив поддержку большинства, тут же обнаружила свое истинное популистское лицо и последовала по стопам Орбана.
Конечно, панацеи от популизма не существует и нет никаких пошаговых инструкций, как победить популистов. Но мы все же не полностью дезориентированы и беспомощны. Убеждайте политиков разговаривать с популистами – но не как популисты. Присматривайтесь к потенциальным союзникам среди консерваторов, пытайтесь отговорить их от сотрудничества с популистами (разумеется, если эти последние перестают быть популистами – т. е. антиплюралистами, – с ними прекрасно можно работать в условиях демократии). Не стоит презрительно сбрасывать со счетов сторонников популистов и называть их «никудышными», как это сделала Хилари Клинтон в сентябре 2016 г. Разговаривайте с людьми, с которыми вы не часто сталкиваетесь; если у вас есть серьезные основания полагать, что они стали жертвами несправедливости, требуйте от вашего правительства и/или вашей партии исправить эту несправедливость.
Вена, январь 2017 г.
Введение Все мы – популисты?
На нашей памяти слово «популизм» во время американской избирательной кампании никогда еще не звучало так часто, как в 2015–2016 гг. «Популистами» называли и Дональда Трампа, и Берни Сандерса. Это термин постоянно использовался в качестве синонима понятия «антиистеблишмент» и, судя по всему, безотносительно к конкретному политическому содержанию. Содержание, в отличие от установки, попросту не принималось в расчет. Этот термин в первую очередь ассоциировался с определенными настроениями и эмоциями: популисты «рассержены», а их сторонники испытывают «разочарование» или «обиду». Такие же утверждения звучат и в адрес европейских политических лидеров и их сторонников: так, например, Марин Ле Пен и Герта Вилдерса обычно называют популистами. Оба этих политика очевидным образом принадлежат к правому крылу. Но, как мы видим в случае с Сандерсом, «левых» бунтарей также регулярно называют популистами: есть еще греческая СИРИЗА – альянс левых сил, пришедший к власти в январе 2015 г., и испанская партия «Подемос», которая, как и СИРИЗА, представляет собой фундаментальную оппозицию политике жесткой экономии, предложенной Ангелой Меркель в качестве ответа на экономический кризис в Европе. Обе они – особенно «Подемос» – подчеркивают, что вдохновляются явлением, которое принято называть «розовой волной»: успехом в Латинской Америке таких популистских лидеров, как Рафаэль Корреа, Эво Моралес и в особенности Уго Чавес. Но что же все-таки общего у всех этих политических деятелей? Если считать, вслед за Ханной Арендт, что политическое суждение – это способность правильно проводить различия, то такое повсеместное смешение правого и левого, когда речь заходит о популизме, должно ставить нас в тупик. Можно ли в таком случае утверждать, что ставший чрезвычайно популярным диагноз «популизм», распространяющийся на самые разные политические явления, – это сбой политического суждения?
Эта книга начинается с наблюдения, что при всех разговорах о популизме (болгарский политолог Иван Крастев, проницательный аналитик, исследующий устройство современных демократий, даже окрестил наше время «эпохой популизма») далеко не очевидно, о чем же именно мы говорим[1]. У нас попросту нет никакой теории популизма, и мы, похоже, не располагаем никакими внятными критериями, которые позволили бы определить, в какой момент политические деятели превращаются в популистов в более или менее строгом смысле этого слова. В конце концов, каждый политик – особенно в странах с демократией, где все зависит от избирателей, – стремится понравиться «народу». Все они стремятся быть понятными для максимально большего числа граждан и чутко улавливать, что думает, а в особенности, что чувствует «простой народ». Может быть, «популист» – это просто успешный политик, который нам не по вкусу? Может, упрек в популизме как раз и является популистским ходом? Или, наконец, может быть, популизм – это «настоящий голос демократии», как утверждал Кристофер Лэш?
Задача этой книги – попытаться понять, что такое популизм и что с ним делать. Я разбираю эту проблему на трех уровнях. Прежде всего, я пытаюсь показать, какого рода политических деятелей следует квалифицировать как популистов. Я утверждаю, что критика элит – необходимое, но не достаточное условие, для того чтобы называться популистом. В противном случае всякий, критикующий текущее положение дел в государстве – не важно где, в Греции, Италии или
США, – по определению будет популистом. Что бы мы ни думали о СИРИЗА, «Движении пяти звезд» Беппе Грилло или Сандерсе, трудно отрицать тот факт, что их атаки на элиты часто вполне оправданны. Кроме того, практически любого кандидата в президенты США можно было бы назвать популистом, если все, что для этого требуется, – это критика правящей элиты: в конце концов, все кандидаты выступают «против Вашингтона».
Помимо того что они против элит, популисты всегда против плюрализма. Популисты утверждают, что по-настоящему народ представляют только они. Вспомним, например, как турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил на съезде партии в пику своим многочисленным внутренним критикам: «Мы – народ. А вы кто?» Разумеется, он понимал, что его оппоненты – тоже турки. Такая апелляция к исключительному представительству носит не эмпирический характер, а отчетливо моральный. Во время предвыборной гонки популисты рисуют своих политических соперников черными красками, выставляя их частью аморальной, коррумпированной элиты; придя к власти, они отказываются признавать законность оппозиции. Популистская логика подразумевает, что тот, кто не поддерживает популистскую партию, не является частью народа – всегда понимаемого как нравственно чистая и справедливая целостность. Проще говоря, популисты не утверждают: «Мы – это 99 %». Они заявляют: «Мы – это 100 %».
И это уравнение всегда работает для популистов: все, что в него не укладывается, можно списать со счетов как безнравственную группу людей, на самом деле не принадлежащую к народу. Иными словами, популизм – это всегда в той или иной форме политика идентичности (хотя и не всякая политика идентичности непременно будет популистской). Из понимания популизма как разновидности политики идентичности, претендующей на исключительность, следует, что популизм представляет угрозу для демократии. Ведь демократия подразумевает плюрализм мнений и признание того, что нам нужно найти справедливый способ сосуществования свободных, равных в правах, но отличающихся друг от друга и не сводимых к одной норме граждан. Идея единого, однородного, подлинного народа – не более чем фантазия; как сказал как-то раз философ Юрген Хабермас, «народ» возможен только во множественном числе. И это к тому же фантазия опасная, потому что популисты не просто процветают благодаря конфликту, поощряя поляризацию, – они обращаются со своими политическими оппонентами как с «врагами народа» и стремятся полностью исключить их из общественной жизни.
Это не значит, что все популисты немедленно отправляют своих врагов в ГУЛАГ или возводят стены на государственных границах, но и к безобидной предвыборной риторике или к протесту, который перегорает, как только популист приходит к власти, популизм тоже не сводится. Популисты во власти могут осуществлять популистскую политику. Это противоречит «народной мудрости», согласно которой популистские протестные партии тут же самораспускаются, как только приходят к власти, поскольку сам против себя протестовать не будешь. Популистское правительство отличают три особенности: попытки монополизировать государственный аппарат; коррупция и «массовый клиентелизм» (материальные выгоды или бюрократическое покровительство в обмен на политическую поддержку со стороны граждан, которые становятся «клиентами» популистов); а также систематическое подавление гражданского общества. Конечно же, тем же самым занимаются и многие авторитарные правители. Разница в том, что популисты оправдывают свое поведение, утверждая, что они являются единственными выразителями народных чаяний; это позволяет им вполне открыто признавать свои практики. Это также объясняет, почему изобличения в коррупции обычно крайне редко вредят популистским лидерам (вспомним того же Эрдогана или австрийского правого популиста Йорга Хайдера). С точки зрения их сторонников, «они делают это для нас», т. е. для подлинного народа. Во второй главе книги я показываю, что популисты даже создают конституции (наиболее наглядные примеры – Венесуэла и Венгрия). Вопреки распространенному образу популистского лидера как ничем не ограничиваемого политика, который напрямую обращается к стихийным неорганизованным массам с балкона президентского дворца, в действительности популисты часто стремятся создавать ограничения, пока им приходится считаться с существованием других партий. Конституции же они создают не для того, чтобы сохранить плюрализм, а чтобы его уничтожить.
Третья глава исследует ряд более глубоких причин популизма, в особенности недавние социально-экономические перемены повсюду на Западе. В ней также ставится вопрос о том, какая реакция на действия популистских политиков и их избирателей может оказаться наиболее эффективной. Я отвергаю как патерналистский либеральный подход, который по сути дела предлагает психотерапию гражданам, «чьи страхи и гнев нужно принять всерьез», так и представление о том, что ведущим политическим деятелям нужно просто копировать популистские программы. Не годится и идея полного исключения популистов из политического диалога, поскольку исключение популистов – это просто зеркальное отражение воли популистов к исключению. В качестве альтернативы я предлагаю ряд особых политических мер, с помощью которых можно было бы дать отпор популистам.
Более четверти века назад один никому не известный чиновник из Госдепартамента опубликовал знаменитую и по большей части неверно истолкованную статью. Автором статьи был Фрэнсис Фукуяма, а называлась она «Конец истории». Давно уже стало хорошим тоном с видом интеллектуального превосходства ронять с ехидной усмешкой, что, мол, с окончанием холодной войны история, очевидно, не закончилась. Но, конечно же, Фукуяма не предсказывал окончание всех конфликтов. Он всего лишь выдвинул утверждение, что на уровне идей у либеральной демократии нет больше соперников. Он признает, что кое-где другие идеологии могут пользоваться поддержкой, но при этом считает, что ни одной из них не будет под силу соперничать с повсеместной привлекательностью либеральной демократии – и рыночного капитализма.
Так ли сильно он ошибался? Радикальный исламизм не представляет серьезной идеологической угрозы либерализму. (Те, кто придумал определение «исламофашизм», демонстрируют скорее ностальгию по четко очерченным линиям фронта в духе холодной войны, нежели понимание современных политических реалий.) То, что сейчас иногда называют «китайской моделью» государственного капитализма, кажется некоторым новой моделью меритократии – по-видимому, главным образом тем, кто считает себя самыми достойными[2] (например, предпринимателям Кремниевой долины). Эта модель, несомненно, вдохновляет своими достижениями (миллионы людей смогли выбраться из нищеты), особенно в развивающихся странах. И все же «демократия» остается главным политическим призом, и авторитарным правительствам приходится платить огромные суммы лоббистам и пиарщикам, чтобы международные организации и западные элиты признали их в качестве истинных демократий.
Но не все так гладко обстоит с самой демократией. Опасность для сегодняшних демократий заключается вовсе не в наличии идеологических систем, последовательно отрицающих демократические идеалы. Опасность заключается в популизме – деградировавшей форме демократии, которая обещает воплотить в жизнь наивысшие демократические идеалы («Править должен народ!»). Иными словами, опасность исходит изнутри демократического мира – политические деятели, представляющие угрозу, говорят на языке демократических ценностей. Тот факт, что в результате мы получаем откровенно антидемократическую форму правления, должен беспокоить всех нас. Он говорит о том, что назрела нужда в тонком и взвешенном политическом суждении, которое позволит нам с большой точностью определить, где кончается демократия и начинаются опасности популизма.
I. Что популисты говорят
Призрак бродит по Европе, призрак популизма»[3], – писали Гита Ионеску и Эрнест Геллнер в предисловии к сборнику статей о популизме, изданному в 1969 г. В основу сборника положены доклады, прочитанные на большой конференции в Лондонской школе экономики в 1967 г. Целью этой конференции было «дать определение популизму». Как оказалось, ее многочисленные участники так и не смогли прийти к единому мнению. Но чтение докладов выступлений весьма поучительно: трудно отделаться от мысли, что тогда, как и сейчас, всевозможные политические тревоги находили себе выход в разговорах о «популизме», причем само это слово использовалось для определения самых разнообразных феноменов, которые на первый взгляд кажутся взаимоисключающими. Учитывая, что сегодня мы точно так же не можем выработать единую позицию, невольно задаешься вопросом: а тут вообще есть о чем говорить?
В конце 1960-х понятие популизма возникло в контексте дебатов по поводу деколонизации, фантазий на тему будущего «крестьянского движения» и (что сейчас, в начале XXI в., кажется наиболее удивительным) дискуссий об истоках и развитии коммунизма в целом и маоизма в частности. Сегодня, прежде всего в Европе, все тревоги – ив гораздо меньшей степени надежды – вновь сосредоточились вокруг «популизма». В общих чертах дело обстоит так: с одной стороны, либералы обеспокоены тем, как массы, которые, с их точки зрения, стремительно утрачивают симпатии к либерализму, становятся легкой добычей для популизма, национализма и даже откровенной ксенофобии. С другой стороны, теоретики демократии озабочены расцветом того, что они называют «либеральной технократией», подразумевая под этим «ответственное управление» (responsible governance) элиты, состоящей из экспертов, которые сознательно не идут навстречу пожеланиям простых граждан[4]. Тогда популизм – это, возможно, то, что голландский социолог Кас Мюдде назвал «нелиберально-демократи-ческим ответом на недемократический либерализм». Популизм в этом смысле не только угроза, но также и возможность внести коррективы в политику, которая слишком оторвалась от «народа»[5]. Бенджамин Ардити в попытке определить взаимоотношения популизма и демократии предлагает впечатляющий образ. Согласно Ардити, популизм – это пьяный гость на званом ужине, грубиян с ужасными манерами, который «заигрывает с женами других гостей». Но зато спьяну он может выложить всю правду о либеральной демократии, которая забыла, что в основе ее лежит идеал народного суверенитета[6].
В Соединенных Штатах слово «популизм» ассоциируется преимущественно с представлением о потенциальном конфликте истинно эгалитарной политики левого толка с линией Демократической партии, которая, с точки зрения популистских критиков, стала слишком центристской или, как говорят в Европе, оказалась в руках технократов (хуже того – «плутократов»). Как популистов превозносили (или клеймили) защитников «Мэйн-стрит» против «Уолл-стрит».
Популистами называют и политиков во власти, таких как мэр Нью-Йорка Билл де Блазио и сенатор от Массачусетса Элизабет Уоррен. В США часто говорят о «либеральном популизме», а вот в Европе такое выражение воспринимается как вопиющее противоречие, поскольку по разные стороны Атлантики в понятия «либерализм» и «популизм» вкладываются разные значения[7]. Как известно, в Северной Америке прилагательное «либеральный» почти синоним прилагательного «социал-демократический», а популизм – это попросту либерализм в его чистом неразбавленном виде. В Европе же популизм не может сочетаться с либерализмом, если под последним понимается уважение к плюрализму мнений и представление о демократии как системе сдержек и противовесов (и в целом ограничений, накладываемых на народную волю).
Мало того что подобная разница в политическом словоупотреблении сама по себе сбивает с толку – дело осложнилось еще больше с появлением новых движений, таких как «Чайная партия» и «Захвати Уолл-стрит». Оба описываются как популистские; дошло даже до того, что предлагалось создать коалицию между правыми и левыми силами, критически настроенными по отношению к мейнстримной политике, где популизм будет общим знаменателем. Эта любопытная симметрия обозначилась также и во время президентской кампании 2016 г., когда СМИ описывали и Дональда Трампа, и Берни Сандерса как популистов, только один был правым, а другой – левым. Общим у них обоих, как нам неустанно твердили, было то, что они «бунтари против истеблишмента», пришедшие на волне «недовольства», «разочарования» и «обиды» граждан.
Очевидно, что популизм – политически сомнительное, неблагонадежное понятие[8]. Профессиональные политики знают, что стоит на кону в битве за значение этого слова. Так, например, в Европе видные «представители истеблишмента» не упускают случая заклеймить своих оппонентов как популистов. Но некоторые из этих заклейменных пошли в контрнаступление. Они заявляют, что если быть популистом и значит работать на благо народа, то они с гордостью будут носить этот титул. Как нам относиться к подобным заявлениям? И как отличить настоящих популистов от тех, кого просто так называют (а также от тех, кого популистами никто не называет, в том числе они сами, и кто все же по сути – популисты)? Мы столкнулись с самым настоящим концептуальным хаосом, ведь практически кого угодно – левых, правых, демократов, антидемократов, либералов, нелибералов – можно объявить популистами, а сам популизм рассматривается то как друг демократии, то как ее злейший враг.
Как же нам быть? В этой главе я предпринимаю три шага. Во-первых, пытаюсь показать, почему распространенные подходы к пониманию популизма не работают и заводят в тупик. Социально-психологический подход, фокусирующийся на настроениях избирателей, социологический анализ, нацеленный на определенные социальные классы, а также оценка качества политических программ – все это до какой-то степени помогает понять природу популизма, но не позволяет четко очертить границы популизма и показать, в чем его отличие от других феноменов. (Самоописания политических деятелей тоже здесь не годятся: нельзя автоматически стать популистом, только потому что так себя называешь.) Я отказываюсь от всех этих подходов и иду другим путем[9].
Я полагаю, что популизм – это не жесткая доктрина, а скорее набор довольно отчетливых положений, в которых просматривается внутренняя логика. Если проанализировать эту логику, можно обнаружить, что популизм – это вовсе не полезные коррективы, которые необходимо внести в демократию, ставшую слишком «элитистской», как утверждают многие обозреватели. Образ, предполагающий, что либеральная демократия – это такие весы, которые можно качнуть чуть больше в сторону либерализма или чуть больше в сторону демократии, в корне неверный. Да, действительно, демократии могут различаться по ряду моментов, таких, например, как возможность и частота референдумов или право судей накладывать вето на законы, принятые подавляющим большинством голосов тем или иным законодательным органом. Но представление о том, что мы приближаем идеалы демократии, настраивая «молчаливое большинство», предположительно игнорируемое элитами, против избранного политика, – не просто иллюзия; это политически губительная идея. В этом смысле, на мой взгляд, правильное представление о природе популизма поможет нам глубже понять природу демократии. Популизм – это что-то вроде тени, которая постоянно сопутствует современной представительной демократии, неотступная угроза. Понимание того, что такое популизм, поможет нам лучше разглядеть отличительные черты – а также, до определенной степени, недостатки – демократических систем, в которых мы существуем[10].
Понять, что такое популизм: тупики
Представление о популизме как о чем-то «прогрессивном» или связанном с «широкими массами» – это преимущественно американский (характерный для Северной, Центральной и Южной Америки) феномен. В Европе этот термин понимается иначе, в силу других исторических предпосылок. Здесь популизм является синонимом (такого рода комментарии обычно исходят от либералов) безответственной политики или разного рода политического заигрывания («демагогия» и «популизм» часто используются как взаимозаменяемые понятия). Как выразился однажды Ральф Дарендорф, популизм – штука простая, а демократия – сложная[11]. «Популизм» издавна ассоциируется с накоплением государственного долга – эта ассоциация снова возникла недавно при обсуждении таких партий, как греческая СИРИЗА и испанская «Подемос», которые, с точки зрения многих европейских обозревателей, служат примером «левого популизма».
Популизм также часто ассоциируется с тем или иным классом, особенно с мелкой буржуазией и, пока крестьяне и фермеры не исчезли из европейского и американского политического воображения (это произошло, на мой взгляд, примерно в 1979 г.), с теми, кто занимался возделыванием земли. Эта теория выглядит социологически обоснованной (классы – это, разумеется, условные конструкции, но их можно вполне корректно и с высокой степенью точности идентифицировать на эмпирическом уровне). Подобный подход обычно подкрепляется набором критериев, позаимствованных из социальной психологии: утверждается, что те, кто публично выражает поддержку популистам, и в особенности те, кто голосует за популистские партии, движимы «страхами» (перед модернизацией, глобализацией и т. п.) или чувством «гнева», «разочарования» и «обиды».
Наконец, среди историков и социологов (и в Европе, и в США) распространено мнение, что популизм лучше всего описывать, исходя из того, какие общие черты выявляются у тех партий и движений, которые в тот или иной период своего существования называли себя «популистскими». Таким образом, характерные черты данного конкретного «-изма» выводятся из самоописаний соответствующих исторических акторов.
С моей точки зрения, ни один из этих подходов и на первый взгляд прозрачных эмпирических критериев не годится для концептуализации популизма. Учитывая распространенность таких подходов – и то, с какой легкостью употребляются сейчас на каждом шагу такие обманчиво нейтральные, эмпирически обоснованные диагнозы, как «низший средний класс» и «обида», – я хотел бы более детально изложить свои возражения.
Прежде всего, в том, что касается качества проводимой политики, трудно отрицать тот факт, что политика, обосновываемая ссылками на «народ», на самом деле может оказаться безответственной: те, кто ее проводят, плохо ее продумали и не сумели проанализировать имеющиеся данные; скорее всего, если бы они могли просчитать все долгосрочные последствия, то воздержались бы от политической гонки, эффект которой – всего лишь краткосрочная выгода от победы на выборах. Не надо быть неолиберальным технократом, чтобы видеть абсолютно иррациональный характер такого рода политических стратегий. Вспомним незадачливого преемника Уго Чавеса на посту президента Венесуэлы, Николаса Мадуро, который пытался бороться с инфляцией, отправляя в магазины электроники солдат, чтобы они меняли этикетки на товарах на новые, с заниженной ценой. (Теория инфляции, которой отдавал предпочтение Мадуро, сводилась к тому, что во всем были виноваты «паразиты из буржуазии».) А французский Национальный фронт в 1970-х и 1980-х годах расклеивал плакаты с лозунгом «Два миллиона безработных – это два миллиона лишних иммигрантов!» Такое простое уравнение всякому было под силу решить и сделать «здравый» вывод о том, каким должно быть правильное политическое решение.
И все равно мы не можем выработать четкий критерий, позволяющий определить, что составляет основу популизма. Ведь во многих областях общественной жизни четкую, бесспорную линию между ответственной и безответственной политикой провести попросту невозможно. Обвинения в безответственности очень часто сами по себе крайне пристрастны (а политика, часто осуждаемая за безответственность, почти всегда идет на пользу самым обездоленным)[12].
Как бы то ни было, обсуждение в политическом контексте вопроса об «ответственности/безответственности» предполагает вопрос о том, как следует понимать эту «ответственность», в соотношении с какими ценностями и задачами?[13] Возьмем самый очевидный пример: соглашения о свободной торговле могут считаться разумными и ответственными с точки зрения максимального увеличения совокупного ВВП, но при этом иметь распределительные последствия, которые могут показаться неприемлемыми в свете других ценностей. Тогда дебаты должны вращаться вокруг ценностей общества в целом или, возможно, вокруг другого способа распределения доходов в соответствии с другими экономическими теориями. Подчеркивание различий между популизмом и ответственной политикой только затуманивает по-настоящему важные вопросы и может оказаться очень удобным способом дискредитации критики текущего политического курса.
Попытки сфокусироваться на определенных социально-экономических группах, на которые якобы опираются популисты, также никуда не приводят. Как показали многочисленные исследования, такие теории не имеют под собой реального основания[14]. Подобный аргумент часто является результатом весьма сомнительных допущений, вытекающих из теории модернизации. Действительно, во многих случаях избиратели, поддерживающие то, что можно назвать популистскими партиями, схожи между собой по уровню дохода и образования; особенно это справедливо в отношении
Европы, где те, кто голосует за популистские партии правого толка, как их принято называть, имеют меньший доход и менее образованны. (Среди них также подавляющее большинство составляют мужчины – как в Европе, так и в США, но не в Латинской Америке[15].) Но эта картина отнюдь не повсеместна. Как показала немецкий социолог Карин Пристер, экономически преуспевающие граждане часто демонстрируют социал-дарвинистский подход, оправдывая свою поддержку правых партий следующим соображением: «Я же смог этого добиться – а они почему не могут?» (Вспомним плакат «Чайной партии»: «Перераспределите лучше трудовую этику!»[16]) В таких странах, как Франция и Австрия, популистские партии завоевали такую поддержку не в последнюю очередь потому, что весьма успешно воспроизводят принцип так называемых всеохватных партий: они привлекают большое число рабочих, но у них есть избиратели и из других слоев общества.
Многочисленные опросы показывают, что индивидуальное социально-экономическое положение и поддержка правых популистских партий часто вообще никак не соотносятся между собой, потому что поддержка правых популистов обычно вытекает из гораздо более общих соображений респондента по поводу ситуации в стране в целом[17]. Неверно сводить представления о национальном упадке или угрозе («Элиты отнимают у нас нашу собственную страну!») к личным страхам или «тревоге по поводу социального статуса». Многие сторонники популистских партий гордятся тем, что имеют собственное мнение (и даже проводят собственные изыскания) по поводу политической ситуации, и отвергают идею о том, что их взгляды связаны с их личной ситуацией или обусловлены личными эмоциями[18].
Нужно с большой осторожностью относиться к таким нагруженным терминам, как «фрустрация», «гнев» и особенно «ресентимент», которые якобы объясняют популизм. На то есть по меньшей мере две причины. Прежде всего, хотя наблюдатели, употребляющие слово «ресентимент», возможно, в тот момент и не держат в голове Ницше с его «Генеалогией морали», тем не менее избежать соответствующих ассоциаций практически невозможно. Таким образом, получается, что те, кто испытывает чувство ресентимента, по определению слабы; хотя у Ницше ресентимент может подвигнуть охваченных им людей на творческую инициативу: умнейшие среди слабых побеждают сильных, преобразовывая иерархию человеческих ценностей. Тем не менее те, кого гложет обида и зависть, воспринимаются как люди с низменными устремлениями и реакционеры по складу характера[19]. Они завидуют сильным и копят внутри себя эту неприязнь; таким образом, их отношение к сильным определяет их самовосприятие на самом глубоком уровне, поскольку они на самом деле мечтают о признании со стороны высших. В этом смысле завистники органически неспособны на автономное, независимое поведение. Они постоянно лгут себе по поводу своего реального положения, даже если сами не могут до конца поверить в собственную ложь. Как выразился Макс Шелер, яд ресентимента медленно разъедает души людей[20].
Может, кто-то и вправду думает, что именно так дело обстоит с теми, кто носит бейсболки с надписью «Сделаем Америку снова великой». Или что за популистские партии голосуют исключительно авторитарные личности или, как говорят социальные психологи, личности с «низким уровнем доброжелательности»[21]. Но у таких психологизирующих диагнозов – губительные политические последствия: они только укрепляют людей в их мнении относительно «либеральных элит» – что они не просто невыносимо высокомерны, но еще и откровенно не дотягивают до собственных демократических идеалов, поскольку, вместо того чтобы прислушаться к мнению простых людей, прописывают лечение боязливым и завистливым гражданам, назначая им политическую терапию. Факт в том, что «гнев» и «фрустрация» не всегда отчетливо выражены, кроме того, это не «просто эмоции», в том смысле, что их нельзя полностью отделить от мыслительного процесса. У гнева и фрустрации всегда есть причины, которые многие вполне способны так или иначе сформулировать[22]. Я не хочу сказать, что все эти причины разумны и обоснованны и что их всегда нужно принимать за чистую монету. Чувство несправедливости или ощущение, что «у нас отняли страну», разумеется, само по себе не является оправданием. Но смещать дискуссию в сторону социальной психологии (в попытке рассматривать рассерженных и разочарованных граждан как потенциальных пациентов политического санатория) – значит пренебрегать базовой демократической обязанностью логического мышления. Здесь наши просвещенные либералы, похоже, воспроизводят жест исключения, свойственный их прославленным предшественникам в XIX в., которые весьма скептически относились к возможности поделиться своими властными полномочиями, полагая, что массы «слишком эмоциональны», чтобы быть способными к разумному голосованию.
Даже если считать, что ничто не должно мешать элитам критиковать ценностные ориентиры простых граждан, все равно довольно странно валить политические убеждения в одну кучу с социально-экономическим положением и психологическим состоянием тех, кто эти убеждения разделяет. Это все равно что сказать: суть социал-демократии в том, что ее сторонники – это рабочий народ, завидующий богатым людям. Представление о том, кто такие сторонники популизма, конечно, имеет важное значение для понимания этого явления. Но попытка объяснить этот сложный феномен как сумбурное политическое высказывание «неудачников, проигравших в процессе модернизации» – это не просто высокомерие. Это еще и никакое не объяснение.
Тогда почему же мы так часто к нему прибегаем? Потому что сознательно или бессознательно мы продолжаем исходить из допущений, вытекающих из теории модернизации, которая пережила свой расцвет в 1950-1960-х. Этим грешат даже те политологи и социологи, которые, если задать им вопрос в лоб, непременно ответят, что теория модернизации давно и полностью себя изжила. Именно либеральные интеллектуалы, такие как Дэниел Бэлл, Эдвард Шилз и Сеймур Мартин Липсет (все они – последователи Макса Вебера), в 1950-е годы стали описывать то, что они считали «популизмом», как беспомощное выражение тревог и гнева тех, кто мечтал о простой «досовременной» (premodern) жизни, как «в старые добрые времена»[23]. Так, Липсет утверждал, что популизм привлекателен для «выбитых из колеи, раздраженных и психологически бездомных, потерпевших личные неудачи, социально изолированных, лишенных ощущения экономической безопасности, малообразованных, простодушных и авторитарных личностей»[24]. Непосредственными мишенями для критики со стороны этих социологов были маккартизм и Общество Джона Бёрча, но их диагноз часто распространялся на случаи реального популистского бунта в Америке конца XIX в. Так, Виктор Феркисс считал последователей Фермерского альянса и Народной партии предтечами американской разновидности фашизма[25]. Это утверждение было оспорено, но связанные с ним допущения не потеряли своей актуальности для многих современных экспертов в области социально-политических процессов[26].
Наконец, существует идея о том, что популизм должен как-то быть связан с теми, кто впервые назвал себя популистами. Вспомним русских народников конца XIX в. и идеологию народничества, которое обычно переводится как «популизм». Народники были интеллектуалами, идеализировавшими русских крестьян и рассматривавшими деревенскую общину как политическую модель для страны в целом. В качестве политического руководства к действию они предлагали «хождение в народ». (Как многие городские интеллектуалы, они обнаружили, что «народ» отнюдь не приветствовал их так, как они надеялись, и не принял политических рекомендаций, которые интеллектуалы извлекли из якобы «подлинной, чистой жизни» народа.)
С точки зрения многих исследователей, непременно должна быть какая-то причина, объясняющая, почему «популизм» возник одновременно в России и в США в конце XIX в. То обстоятельство, что оба этих движения имели какое-то отношение к фермерам и крестьянам, породило представление (доминировавшее по меньшей мере до конца 1970-х) о том, что популизм тесно связан с аграрианизмом и что это был бунт реакционных, экономически отсталых групп в стремительно модернизирующихся обществах.
В наши дни такие ассоциации почти полностью утрачены, но история происхождения «популизма» в США все еще наводит многих обозревателей на мысль, что популизм по крайней мере на каком-то уровне должен быть «популярным», «народным», т. е. соответствовать чаяниям самых социально неприспособленных и возвращать в политический процесс тех, кто из него исключен. Это ощущение усиливается благодаря наблюдениям за тем, что происходит в Латинской Америке, где сторонники популизма всегда подчеркивали его инклюзивный и эмансипационный характер в условиях экономического неравенства, которое на этом континенте выражено ярче, чем где бы то ни было на земном шаре.
Понятно, что такие ассоциации не отменишь одним росчерком пера: исторический язык складывается так, как он складывается, и, как учит нас Ницше, четкое определение можно дать только тому, что не имеет истории. Но политическая и социальная теория не может основываться на одном конкретном историческом явлении, когда, например, всякая форма популизма тут же втискивается в шаблон, заданный американской Народной партией[27]. Мы должны допустить возможность, что корректное и непредвзятое исследование природы популизма в результате покажет, что ряд исторических движений и акторов, открыто называвших себя популистами, следует исключить из этого анализа. Лишь очень немногие историки (и политологи, в той мере, в какой их интересуют такого рода исторические явления) решатся утверждать, что правильное понимание природы социализма требует включить в это явление национал-социализм, на том основании, что нацисты называли себя социалистами. Но чтобы определить, какой исторический опыт соответствует тому или иному «-изму», мы, конечно же, должны располагать теорией данного «-изма». Так что же такое популизм?
Логика популизма
Я предлагаю следующее определение: популизм – это особое моралистическое воображение политики, способ восприятия политической действительности, предполагающий моральную чистоту и внутреннюю однородность (дальше я покажу, что это абсолютная фикция) народа, который противопоставляется коррумпированным и морально деградировавшим элитам[28]. Критика элит – необходимое, но не достаточное условие, чтобы считаться популистом. В противном случае всякий, кто критикует власть имущих и текущее положение дел в том или ином государстве, по определению был бы популистом. Помимо того что популисты выступают против элит, они также противники плюрализма: популисты утверждают, что они – и только они – являются истинными представителями народа[29]. Их политические соперники всего лишь часть безнравственной, развращенной элиты. Во всяком случае, так популисты утверждают, пока они сами еще не во власти; оказавшись у кормила, они не признают никакой законной оппозиции. Главное утверждение популистов состоит в том, что тот, кто не поддерживает популистскую партию, не является частью истинного народа. Как говорил французский философ Клод Лефор, сначала нужно «извлечь» истинный народ из общей массы реальных граждан[30]. Этот идеальный народ наделяется нравственной чистотой и непогрешимой волей. Популизм возникает с появлением представительной демократии: это ее тень. Популисты жаждут того, что политолог Нэнси Розенблюм называет «холизмом»: представление о том, что в политическом устройстве не должно быть раскола и что народ может быть единым целым, у которого есть единый истинный представитель[31]. Таким образом, базовая идея популизма – это морализированная форма антиплюрализма. Политические акторы, не приверженные этой идее, не могут считаться популистами[32]. Популизм использует аргумент pars pro toto, «часть вместо целого», и претендует на исключительное представительство: и то и другое понимается в моральном, т. е. не эмпирическом смысле слова[33]. Иными словами, не бывает популизма без обращения от имени народа как целого. Вспомним печально знаменитую речь Джорджа Уоллеса при вступлении в должность губернатора Алабамы: «От имени величайшего народа, когда-либо ступавшего по Земле, я провожу черту в пыли и бросаю перчатку под ноги тирании… и я заявляю… сегрегация сегодня… сегрегация завтра… сегрегация навеки»[34]. Сегрегация не продлилась вечно, зато навеки была испорчена репутация Уоллеса из-за очевидного расизма. Риторика, которая изобличает в Уоллесе популиста, строится вокруг притязания на исключительное право говорить «от имени величайшего народа, когда-либо ступавшего по Земле». Что именно давало губернатору Алабамы право говорить от лица всех американцев – за исключением, разумеется, сторонников «тирании», под которой имелись в виду администрация Кеннеди и все, кто добивался того, чтобы положить конец сегрегации? И что давало ему право утверждать, что «настоящая Америка» – это то, что он называл «великим англосаксонским Югом»?[35] Очевидно, все хорошее и подлинное в Соединенных Штатах было связано с Югом, судя по речи Уоллеса: «И вы, сыны и дочери старинного неколебимого, как скала, патриотизма Новой Англии… и вы, отважные уроженцы великого Среднего Запада… и вы, потомки пионеров Дальнего Запада, чей дух пылал свободой… мы приглашаем вас присоединиться к нам… потому что вам близок образ мыслей южан… дух южан… философия южан… вы – тоже южане и наши братья по борьбе». К концу речи Уоллес договорился до того, что все отцы-основатели фактически были южанами[36].
Это и есть главное утверждение популистов: только отдельные представители народа являются подлинным народом. Вспомним, как Найджел Фарадж приветствовал голосование по Брекзиту, заявив, что это «победа подлинного народа» (таким образом, как бы отказав в подлинности 48 % британского электората, проголосовавшим против выхода Великобритании из ЕС, – или, иными словами, поставив под сомнение их статус полноправных членов политического сообщества). Сюда же относится и реплика Дональда Трампа, которая осталась практически незамеченной на фоне других возмутительных и глубоко оскорбительных высказываний, так и сыпавшихся из уст Нью-Йоркского миллиардера. На предвыборном митинге в мае Трамп заявил, что «единственное, что важно, – это объединение народа, потому что другие люди ничего не значат»[37].
Со времен древних греков и римлян слово «народ» использовалось по меньшей мере в трех смыслах: во-первых, народ как целое (т. е. все члены политии или того, что раньше называли «политическим телом»); во-вторых, «простые люди» (часть res publica, состоящая из простолюдинов – т. е., выражаясь современным языком, из обездоленных, бесправных, исключенных, забытых); в-третьих, нация как целое, понимаемое в культурном смысле слова[38].
Совершенно некорректно утверждать, что всякая апелляция к «народу» должна расцениваться как популизм. Идеализация народа (Бакунин писал: «Народ – единственный источник нравственной правды… и я имею в виду отбросы, отребье, не испорченное буржуазной цивилизацией») не обязательно связана с популизмом, хотя русские народники конца XIX в. именно так его и понимали. Отстаивание прав «простого народа», или тех, кто исключен, даже если оно сопряжено с открытой критикой элит, также не является безусловным критерием популизма. Политик-популист или популистское движение должны, прежде всего, заявлять о том, что какая-то часть народа и есть народ – и что только это движение или политический деятель способны выявить истинный народ и быть единственным выразителем его интересов. Отстаивание интересов плебса (если воспользоваться политической терминологией Древнего Рима), «простого народа», – это не популизм, но утверждение, что только плебс (противопоставляемый патрициям, не говоря уже о рабах) является истинным populus Romanus и что подлинными представителями этого истинного народа являются только популяры, – вот это уже популизм. Точно так же дело обстояло и в маккиавелли-евской Флоренции: отстаивать права popolo в борьбе с grandi – это еще само по себе не популизм, но заявлять, что всем grandi, вне зависимости от того, что они говорят или делают, не место во Флоренции, – это популизм.
Популисты часто осмысляют политическую нравственность в терминах труда и коррупции. По этой причине некоторые специалисты склонны ассоциировать популизм с идеологией «продюсеризма»[39]. Популисты противопоставляют нравственно безупречных, невинных и честных тружеников коррумпированной элите, которая толком и не работает (разве что в целях продвижения своих корыстных интересов), а популисты правого толка противопоставляют тружеников еще и подонкам общества (тем, кто тоже на самом деле не работает, а только паразитирует на труде других людей). В американской истории, например, сторонники Эндрю Джексона противостояли как «аристократам» из верхушки общества, так и коренным американцам и рабам, т. е. самым низам общества[40]. Популисты правого толка, как правило, стремятся изобличить симбиотические отношения, существующие между элитой, которая оторвана от народа, и маргинальными группами, которые тоже сильно отличаются от народа. В Америке XX в. эти группы обычно отождествлялись с либеральными элитами, с одной стороны, и расовыми меньшинствами – с другой. Эта логика, доведенная до абсурда, выявилась в связи с полемикой вокруг свидетельства о рождении Барака Обамы: президент в глазах правых популистов оказался одновременно и представителем «элиты с побережий», и афроамериканским Другим, т. е. он ни с какой точки зрения не принадлежал к истинному американскому народу Этим объясняется исключительное помешательство «рожденцев» на том, чтобы доказать, что Обама не только символически нелегитимный президент, но и в буквальном смысле нелегал, т. е. человек «неамериканского» происхождения, который обманом узурпировал высший пост в государстве. (Это помешательство оставило далеко позади даже нападки «правых» в 1990-х, когда они именовали Билла Клинтона не иначе как «ваш президент», – хотя стремление подчеркнуть фундаментальную нелегитимность главы исполнительной власти по сути своей было таким же[41].) Можно также вспомнить о посткоммунистических элитах и этнических группах, таких как цыгане, в Центральной и Восточной Европе, или о «коммунистах» и нелегальных иммигрантах (в дискурсе Сильвио Берлускони) в Италии. В первом случае либеральные посткоммунистические элиты не признавались частью народа, поскольку вступили в сговор с внешними силами вроде Евросоюза и исповедовали убеждения, чуждые Родине, ну а цыгане, самое обездоленное меньшинство в Европе, вообще никогда не имели никакого отношения к народу. Так, популистская партия правого толка «Йоббик» в Венгрии всегда проводит аналогии между «преступлениями политиков» и «преступлениями цыган»[42].
Моралистическая концепция власти, продвигаемая популистами, должна, разумеется, опираться на некий критерий, позволяющий проводить различия между нравственным и безнравственным, безупречностью и развращенностью, между людьми, которые, как сказал бы Трамп, имеют значение и теми, кто «ничего не значит». Но этот водораздел не обязательно пролегает между трудом и его противоположностью. Если с «трудом» возникают какие-то сложности, под рукой всегда есть этнические маркеры. (Конечно, в расистском дискурсе между расой и леностью часто ставится знак равенства, как бы само собой разумеющийся: всякий же знает, что «королевы пособий» белыми не бывают.) И все же ошибкой было бы полагать, что популизм всегда оказывается формой национализма или этнического шовинизма. Есть множество других способов проводить различия между нравственным и безнравственным. Главное, чтобы всегда имел место некий признак, который отличает нравственно безупречных людей от их оппонентов. Это представление о существовании подлинного благородного народа отличает популистов от других политиков, которых также можно назвать антиплюралистами. Например, ленинисты или религиозные деятели, отличающиеся высокой нетерпимостью, не считают народ нравственно безупречным и непогрешимым в своей воле. Не всякий, кто выступает против плюрализма, автоматически оказывается популистом.
Так кого же, по их утверждению, представляют популисты?
Вопреки распространенному мнению, популисты не выступают против представительства как такового. Скорее, они отстаивают его специфическую версию. Идея представительства вполне устраивает популистов, пока правильные представители представляют правильный народ, принимая правильные решения и делая правильные вещи.
Популистам нужно не только установить, кто именно принадлежит к истинному народу, но и каким-то образом сформулировать потребности и желания этого истинного народа. Обычно они выдвигают идею о том, что существует единственное всеобщее благо, которое народ ясно понимает и желает обрести, и что есть политик или партия (или, что менее вероятно, движение), которые способны обеспечить политический курс, гарантирующий обретение этого блага[43]. В этом смысле, как показали Кас Мюдде и Кристобаль Ровира Кальтвассер в ключевой работе, посвященной практическим случаям популизма, в популистском дискурсе всегда есть что-то «руссоистское», хотя, разумеется, между популизмом и демократической мыслью Руссо существуют важные различия, о чем я буду говорить ниже[44]. Кроме того, акцент на единственном всеобщем благе, которое доступно пониманию на уровне «здравого смысла» и может быть отчетливо артикулировано в качестве единственно верного политического курса, совпадающего с волей народа, отчасти объясняет тот факт, почему популизм часто ассоциируется с чрезмерным упрощением политических задач[45]. Так, например, венгерский популистский лидер правого толка Виктор Орбан не принимал участия в дебатах перед выборами 2010 и 2014 гг. (одержав победу в обоих случаях). Свой отказ участвовать в дебатах он объяснил так:
Сейчас не нужны никакие дебаты по поводу политических тонкостей, альтернатива им совершенно очевидна. <…> Вы наверняка видели, что происходит, когда дерево падает на дорогу и вокруг собирается множество людей. Эти люди обычно делятся на два типа. У одних есть гениальные идеи по поводу того, каким способом можно убрать дерево с дороги. Они делятся с другими своими потрясающими теориями и раздают советы. Другие же видят, что самое лучшее – это просто начать оттаскивать дерево с дороги… Нам необходимо осознать, что для возрождения экономики нам не теории нужны, а тридцать крепких парней, которые начнут воплощать в жизнь все то, что, как мы знаем, нужно сделать[46].
Мы видим, что Орбан отождествляет правильную политику со здравым смыслом, очевидным всякому. Совершенно понятно, что именно нужно делать: не нужно никаких дебатов о ценностях, никакой предварительной взвешенной оценки имеющихся эмпирических данных.
Хотя вообще-то нужно. Мы уже видели, что для популистов не существует такой вещи, как законное справедливое соревнование во время предвыборной гонки; отсюда такие лозунги, как Abbasso tutti! («Долой их всех!»), \Que se vayan todos! («Пусть катятся куда подальше!»), Quils sen aillent tous! («Пусть убираются!»), или же мероприятия Беппе Грилло под названием «дни V» («V» значит vaffanculo, «иди в задницу»). А когда они приходят к власти, для них не существует законной оппозиции. Но если популисты и впрямь – единственные законные представители народа, то как вышло, что они не повсюду у власти? И как можно выступать против них, когда они у власти? И вот здесь в игру вступает ключевой аспект представлений популистов о том, что такое политическое представительство: может показаться, что они отстаивают идею демократического представительства народной воли, но на самом деле это представительство «истинного народа» носит для них не более чем символический характер (например, «истинные американцы», излюбленный термин Джорджа Уоллеса). «Народ» для них – это вымышленная конструкция, вынесенная за рамки демократических процедур, однородное и нравственно сплоченное единство, чья предполагаемая воля будет разыгрываться в качестве козырной карты, которая должна побить реальные результаты демократических выборов. Не случайно знаменитая (или печально знаменитая) идея Ричарда Никсона о «молчаливом большинстве» всегда пользовалась огромным успехом у популистов: если большинство не было бы молчаливым, оно уже давно имело бы правительство, которое по-настоящему представляло бы его интересы[47]. Если популист не набирает достаточное количество голосов избирателей, это не потому, что он или она не являются представителями народа, а потому, что большинство не набралось пока смелости высказаться. Пока они находятся в оппозиции, популисты всегда будут ссылаться на некий неинституционализированный народ «где-то там». Это такая экзистенциальная оппозиция по отношению к тем, чья власть была признана в ходе реальных выборов или просто по результатам опросов, которые, по мнению популистов, не отражают истинной народной воли.
Подобное представление о «народе» вне любых политических форм и структур во многом возникло под влиянием идей Карла Шмитта, юриста и политического теоретика правого толка межвоенного периода. Его работы, наряду с трудами фашистского философа Джованни Джентиле, послужили концептуальным мостом между демократией и недемократией: оба теоретика утверждали, что фашизм способен воплотить демократические идеалы в жизнь в гораздо большей мере, чем сама демократия[48]. Оппонент Шмитта, австрийский юрист (и теоретик демократии) Ганс Кельзен утверждал, что воля парламента – это не народная воля и что в действительности эту народную волю как нечто непротиворечивое и однозначное вообще невозможно уловить. Единственное, с чем мы можем иметь дело, – это результаты выборов, а все остальное, согласно Кельзену (и в особенности некое органическое единство под названием «народ», чьи интересы ставятся превыше интересов отдельных партий), – не более чем «метаполитические иллюзии»[49].
Термин «иллюзии» вполне оправдан. Народ невозможно распознать в его целостности и быть представителем этой целостности: хотя бы потому, что народ никогда не бывает неизменным – одни граждане умирают, другие рождаются. Но всегда существует большой соблазн говорить от лица народа, который ты якобы понимаешь[50]. Робеспьер упростил себе задачу, заявив, что он и есть народ (вполне в логике королей, свергнутых Французской революцией). Очень показательно, что французские революционеры так и не сумели найти подходящую форму символического воплощения принципа народовластия: народ не мог быть представлен в своей целостности, а отдельные символы, такие как фригийский колпак или Геракл, оказались не слишком убедительными. Жак-Луи Давид хотел воздвигнуть гигантскую статую «народа» на Пон-Нёф: основание ее он собирался отлить из обломков памятников королям, а на бронзу для статуи должны были пойти расплавленные пушки «врагов народа». (Его замысел получил одобрение, но дело ограничилось только изготовлением модели.) Суверенный народ, этот, как предполагалось, важнейший актор революции, стал своего рода «французским Яхве», т. е. абсолютно невыразимой сущностью. (Показывать можно было только слова: во время революционных праздников носили знамена с цитатами из «Общественного договора» Руссо[51].)
Теперь мы подошли к тому, чтобы прояснить главные различия между популистской идеей представительства и общественной воли у Руссо. Воплощение последней требует реального участия граждан; популисты же вещают об истинной воле народа, исходя, например, из своих представлений о том, что такое быть «настоящим американцем». Больше Volksgeist, чем volonte generate, – вот концепция демократии, в которой все решает не численность реальных участников, а «сущность», «дух», или, если начистоту, «истинная идентичность». То, что первоначально выглядело как притязания популистов быть истинными представителями народной воли, на поверку оказалось притязаниями на то, чтобы представлять некую символическую сущность.
На это можно возразить: но ведь популисты часто требуют больше референдумов! Да. Но надо четко понимать, что такое референдум в представлении популистов. Они не хотят, чтобы люди постоянно участвовали в политическом процессе. Референдум проводится не с целью запустить бессрочный дискуссионный процесс, в ходе которого граждане постепенно вырабатывают собственные взвешенные и продуманные решения; референдум – это инструмент ратификации того, что популистский лидер уже определил в качестве подлинных народных интересов, причем с точки зрения идентичности, принадлежности, а не с точки зрения агрегирования эмпирически верифицируемых интересов. Популизм без участия – в этом нет никакого внутреннего противоречия. На самом деле популистам даже не особенно надо быть противниками элит, если под антиэлитизмом подразумевать требование как можно более широкого распределения власти в обществе. Как уже говорилось, у популистов не возникает никаких проблем с представительством, если только представителями являются они сами; точно так же они не возражают против элит, если они сами и есть эти элиты, ведущие за собой народ. Поэтому наивно предполагать, что можно, например, отыграть очко у Трампа, указав на то, что он сам является представителем элит (хотя и не политической элиты в узком смысле слова); это же верно и в отношении европейских бизнесменов, переквалифицировавшихся в политиков, таких как швейцарский популист Кристоф Блохер. Они знают, что они часть элиты, их сторонники тоже это знают; смысл в том, что они объявляют себя правильной элитой, которая не предаст народного доверия и будет честно и неукоснительно исполнять непреложную и ясно выраженную политическую волю народа.
Не случайно, что популисты во власти (о них я буду говорить в следующей главе) часто принимают на себя роль «опекуна» пассивного по сути своей народа. Возьмем правление Берлускони в Италии: идеальный сторонник Берлускони – тот, что удобно устроился дома на диване и смотрит телевизор (предпочтительно каналы, которыми владеет Берлускони), а государственные дела оставляет на усмотрение Cavaliere, который благополучно управляет страной, как огромной корпорацией (ее еще иногда называли azienda Italia). А выходить на площади и принимать участие в политическом процессе не нужно. Или возьмем второе правительство Орбана в Венгрии, с 2010 г. и далее, которое создало якобы подлинно народную конституцию (после липового процесса «консультаций с народом» путем опросов), но не сочло необходимым провести эту конституцию через всеобщее голосование.
Теперь стало понятнее, почему популисты часто заключают «договоры» с «народом» (так поступила глубоко популистская швейцарская Народная партия, так же поступали Берлускони и Хайдер; можно также вспомнить «Договор с Америкой» Ньюта Гингрича)[52]. Популисты исходят из предпосылки, что голос «народа» един и он оглашает некий императивный мандат, в котором содержатся четкие указания политикам, что именно им делать в правительстве (в отличие от свободного мандата, в соответствии с которым представители должны руководствоваться собственным суждением). Поэтому никакие дебаты тут не нужны, а тем более все эти нудные и бестолковые прения в Конгрессе и прочих национальных ассамблеях. Популисты – вот истинные выразители чаяний народа, которые уже разработали все пункты договора. Но дело в том, что пресловутый императивный мандат вовсе не исходит от народа: содержащиеся в нем указания основываются на интерпретации популистами «народной воли». Политологи давно уже твердят, что логически непротиворечивая, единая «народная воля» – это просто фантазия[53] и что никто не может заявлять, как это делал Хуан Перон, что «политический лидер – это тот, кто знает, чего хочет народ»[54]. Менее очевидно, что такая претензия на знание народной воли ослабляет демократическую подотчетность. Популисты всегда могут сказать народу: «Мы сделали все, как вы хотели, вы нас на это уполномочили, если что-то пойдет не так, это не наша вина». Свободный мандат, в отличие от императивного, возлагает бремя ответственности на представителей: им придется отчитаться за свои политические решения, когда подойдет время выборов. Популисты любят намекать, что свободный мандат – это не слишком демократический инструмент; на самом деле верно ровно обратное, и не случайно демократические конституции, в которых детально разработана концепция роли представителей, отдают предпочтение свободному, а не императивному мандату.
Бескомпромиссный, морализированный антиплюрализм и опора на неинституционализированное понятие «народа» объясняют, почему популисты так часто противопоставляют «морально правильный» исход голосования реальным эмпирически доказуемым результатам выборов, если последние прошли не в их пользу. Вспомним, как Виктор Орбан, проиграв на выборах 2002 г., заявил, что «нация не может быть в оппозиции»; или как Андрес Мануэль Лопес Обрадор, не сумев добиться в 2006 г. поста президента Мексики, утверждал, что «победа правых невозможна с нравственной точки зрения» (провозглашая себя «легитимным президентом Мексики»)[55]; или патриотов из «Чайной партии», которые заявляли, что президент, собравший большинство голосов, «правит вопреки воле большинства»[56]. А Герт Вилдерс назвал голландскую Палату представителей «липовым парламентом» с «липовыми политиками». И наконец, у нас еще есть Дональд Трамп, который на каждое поражение во время праймериз реагировал тем, что обвинял своих оппонентов в совершении подлога, а также называл всю систему в целом, в том числе Национальный съезд Республиканской партии, «мошеннической». Короче говоря, для популиста проблема никогда не бывает в его собственной неспособности выразить народную волю; всегда виноваты институты, которые выдают неправильные результаты. Эти институты только с виду такие демократические; на самом деле что-то происходит там за кулисами, где сидят продажные и лживые элиты, обманывающие народ. Так что теории заговора – это не просто дополнительный штрих к популистской риторике; они укоренены в самой логике популизма и вырастают из нее.
Популистские лидеры
На первый взгляд, многие популистские лидеры как будто бы соответствуют нашим ожиданиям, что они «такие же, как мы», что они «мужчины (и даже женщины) из народа». Но совершенно очевидно, что далеко не все лидеры такого рода вписываются в это определение. Дональд Трамп совершенно точно не «такой же, как мы» во всех смыслах этого слова. Вообще-то, похоже, что настоящий популистский лидер – на самом деле прямая противоположность «нам», т. е. обыкновенным людям. Он или она должен быть харизматической личностью, т. е. наделенным необыкновенными талантами. Был ли Уго Чавес обыкновенным человеком? Или он был особым, потому что в нем было «понемножку от вас от всех», как он любил говорить? На первый взгляд, может показаться, что логика представительства посредством механизма выборов применима и к популистам: политика-популиста выбирают за его выдающуюся способность видеть, в чем заключается народное благо[57]. Это ничем не отличается от общих представлений о механизме выборов, согласно которым путем голосования выбирают «лучшего» (это дало повод некоторым экспертам утверждать, что в выборах всегда содержится элемент аристократизма; если бы мы и впрямь считали, что все граждане равны, достаточно было бы простой лотереи, чтобы заместить все должности, как это и происходило в античных Афинах)[58]. Может казаться, что избранный таким образом представитель лучше всех понимает, что такое благо для народа, потому что он похож на нас в каких-то важных аспектах, но это не обязательно. В конце концов, абсолютно похожих людей не бывает. Даже «слесарь Джо» в каком-то смысле особенный, потому что он более обыкновенный, чем все остальные[59].
Ключ к тому, как на самом деле устроено лидерство в популизме, можно обнаружить в предвыборных лозунгах австрийского крайне правого популиста Хайнца-Кристиана Штрахе (преемник Йорга Хайдера в качестве лидера Австрийской партии свободы): ER will, was WIR wollen («ОН хочет того, чего хотим МЫ»), что вовсе не то же самое, что «он такой же, как ты». Или другой лозунг: Er sagt, was Wien denkt («Он говорит то, о чем Вена думает») – а не «Он – это Вена». Или вспомним вымышленного политика из совершенно другой части света: лозунг Вилли Старка из «Вся королевская рать» (величайшего романа о популизме в истории литературы, в основу которого легли некоторые факты карьеры Хьюи Лонга в Луизиане) – «Я слушаю сердце народное».
Лидер правильно понимает то, о чем мы правильно думаем, а иногда он даже улавливает эту правильную мысль немножко раньше, чем мы сами. Осмелюсь предположить, именно эта идея стоит за столь частыми призывами Дональда Трампа в Твиттере: «ПОУМНЕЙ!» или «ДУМАЙ!» И все это не зависит от харизмы, и для этого вовсе не надо быть политическим изгоем. Конечно, если ты идешь против правящих элит, не принадлежа к ним, это вызывает больше доверия. Тем не менее, конечно же, есть случаи, когда популисты являются политиками-карьеристами: Герт Вилдерс и Виктор Орбан всю жизнь провели в парламенте. Это не помешало им быть популистскими лидерами.
Но что они на самом деле имеют в виду, когда утверждают, что являются нашими представителями и «лидерами»? Если исходить из наблюдений, которые мы успели сделать в этой главе, это представительство должно быть «символически корректным». Лидеру не обязательно обладать личной харизмой. Но он (или она) должен транслировать ощущение непосредственной связи с самой «сутью» народа, а лучше всего – с каждым отдельным человеком. Вот почему в кампаниях Чавеса фигурировали такие лозунги, как ¡Chávez es pueblo! («Чавес – это народ!») и ¡Chávez somos millones, tú también eres Chávez! («Чавес – это миллионы нас, ты тоже Чавес!»). После его смерти люди объединились под новым лозунгом: Seamos como Chávez («Будем как Чавес»).
Лидеру необязательно «воплощать» собой народ, как следует из таких утверждений, как «Индира – это Индия, Индия – это Индира». Но обязательно должно присутствовать ощущение непосредственной связи и идентификации с лидером. Популисты всегда стремятся к тому, чтобы, так сказать, вычленить среднего человека и по возможности вообще не привлекать сложно устроенные партийные структуры в качестве посредников между гражданами и политиками. То же самое относится и к журналистам: популисты всегда упрекают массмедиа за то, что те являются медиаторами, посредниками; строго говоря, в этом и заключается функция массмедиа, как следует из самого названия, но популисты считают, что СМИ просто искажают политическую реальность. Надя Урбинати придумала в связи с этим феноменом полезное, хотя и немного парадоксальное, понятие «прямое представительство»[60]. Идеальный пример – Беппе Грилло и его движение «Пять звезд» в Италии, которое буквально выросло из блога Грилло. Простой итальянец может выяснить, что на самом деле происходит, зайдя на сайт Грилло, и, выразив там свое мнение, тем самым идентифицироваться с Грилло как с единственным подлинным представителем и выразителем интересов итальянского народа. Вот как объясняет это сам Грилло: «Ребята, вот как это работает – вы мне сообщаете свое мнение, а я работаю усилителем»[61]. Когда grillini – так называют сторонников Грилло – в конце концов попали в парламент, Джанроберто Казаледжо, политтехнолог и сетевой администратор Грилло, заявил, что наконец-то в парламент прошло «мнение итальянского народа»[62].
Вполне возможно, что твиттер Дональда Трампа должен был играть роль такой же приманки во время президентской кампании 2016 г.: «настоящие американцы», минуя массмедиа, получают прямой доступ (точнее, иллюзию прямого доступа) к человеку, который не просто знаменитость, а настоящий «Хемингуэй 140 знаков», как он назвал себя. Все то, что либералы от Монтескье до Токвиля восхваляли как умиротворяющее воздействие посреднических органов, оказывается сметено в пользу «прямого представительства» Урбинати. Все, что могло бы противоречить нашим представлениям, глохнет в эхо-камере Интернета. У Сети (и у лидеров вроде Трампа) всегда есть ответ – и он поразительным образом всегда именно такой, на какой мы и рассчитываем.
Бескомпромиссный антиплюрализм и принцип «прямого представительства» объясняют еще одну особенность политиков-популистов, которую обычно рассматривают отдельно от остальных. Я имею в виду то обстоятельство, что популистские партии почти всегда внутренне монолитны, а рядовые члены напрямую подчиняются единому лидеру (реже – группе лидеров). Конечно, «внутренняя демократия» политических партий – которую ряд уставов считает лакмусовой бумажкой, тестом на демократию и, следовательно, на легитимность (и в конечном счете легальность) партии – может быть во многом пресловутым благим намерением. Многие партии до сих пор являются, как говорил Макс Вебер, просто машинами для отбора и избрания лидеров, площадками для амбициозных политиканов, а не форумом для аргументированных дебатов. Это свойственно всем партиям; но популистские партии особенно склоны к внутреннему авторитаризму. Если есть только одно общее благо и только один способ подлинного его представительства (в отличие от либо узкопартийных, либо допускающих возможность ошибки представлений об общем благе), то разногласия внутри партии, которая претендует на то, чтобы быть единственным законным выразителем народных чаяний, недопустимы[63]. И если может быть только одно «символически корректное» представительство настоящего народа – концепция, на которую, как мы уже видели, постоянно ссылаются популисты, – то нет особого смысла дискутировать по этому поводу
Крайний пример такого рода – партия Герта Вилдерса «Partij voor de Vrijheid» (PVV). Это партия одного человека не в переносном, а в самом буквальном смысле слова: Вилдерс контролирует все и вся. Изначально Вилдерс и его главный идеолог Мартин Босма хотели основать не политическую партию, а фонд. Юридически невозможно, но факт: сегодня PVV функционирует в качестве партии, в которую входит всего лишь два члена – сам Вилдерс и фонд «Stichting Groep Wilders» (единственный член фонда, как нетрудно догадаться, все тот же Вилдерс)[64]. Члены PW в парламенте – это просто делегаты (каждую субботу Вилдерс их жестко натаскивает, как они должны вести себя и как им заниматься законотворческой работой в парламенте)[65]. Примерно так же дело обстоит и с Грилло. Он вовсе не просто «усилитель», как он себя любит называть. Он контролирует «своих» парламентариев и изгоняет из движения всех, кто осмеливается выражать несогласие с ним[66].
Конечно, на практике популисты идут на компромиссы, вступают в коалиции и умеряют свои претензии на уникальное представительство народной воли.
Но было бы неверно считать, что они такие же, как и все остальные партии. Они не просто так хотят быть «фронтом» (Национальный фронт), «движением» или фондом[67]. Партия – это всего лишь часть (народа), а популисты претендуют на то, чтобы выражать волю целого, без остатка. В реальной практике содержание «символически корректного представительства» народа может со временем меняться в рамках одной и той же партии. Возьмем Национальный фронт. При основателе партии Жане-Мари Ле Пене партия изначально была пристанищем правых экстремистов, монархистов и в особенности тех, кто не смог смириться с утратой Францией Алжира в 1960-х. Позже дочь Ле Пена Марин отказалась от исторического ревизионизма своего отца (который печально знаменит, в частности, тем, что назвал газовые камеры «историческими мелочами») и попыталась подать свою партию как последний оплот французских республиканских ценностей перед лицом двойной угрозы ислама и экономической диктатуры Еврозоны, навязываемой Германией. Каждое второе воскресенье мая Народный фронт проводит митинг у статуи Жанны д’Арк в первом парижском округе, символически выражая тем самым свою преданность идее независимости Франции и подлинно народного французского суверенитета. Времена меняются, а вместе с ними и способы, которыми можно активизировать идею «подлинного народа», выявляя главных врагов Республики.
Подобные трансформации легче осуществить, если базовый лозунг популистов будет оставаться, по сути дела, пустым. Какой смысл в лозунге «Сделаем Америку снова великой!», кроме того, что элиты обманули народ и что всякий, кто против Трампа, тем самым выступает против «величия Америки»? Какой другой смысл есть в лозунге Джорджа Уоллеса «Борись за Америку!» (общенациональная версия успешного лозунга «Борись за Алабаму!»), помимо того что Америку хотят принести в жертву и что все, кто критикует Уоллеса, автоматически становятся теми, кто отказывается защищать Соединенные Штаты?
Еще раз: так, значит, все мы популисты?
Как мы уже видели, популизм – это способ осмысления политической реальности с моральной точки зрения, который подразумевает претензию на исключительное моральное представительство. Конечно, о морали и нравственности говорят далеко не только популисты; любой политический дискурс пронизан моральными утверждениями, и любой политик выдвигает то, что Майкл Соуэрд назвал «репрезентативными притязаниями»[68]. Мало найдется политиков, которые буду говорить: «Мы всего лишь фракция, мы представляем интересы отдельной группы». Еще меньше политиков готовы признать правоту своих оппонентов, поскольку сама логика политического соперничества делает это невозможным. Но демократические политики отличаются от популистов тем, что выдвигают свои репрезентативные притязания в виде гипотез, которые могут быть опровергнуты эмпирическим путем на основании реальных результатов, полученных благодаря установленным процедурам и институтам, таким как выборы[69]. Или, как утверждает Паулина Очоа Эспехо, притязания демократов на выражение народной воли являются самоограничительными, и в них заложена возможность ошибки[70]. В этом смысле демократы могли бы подписаться под знаменитыми словами Беккета из «Худшему навстречу»: «Пытался. Проиграл. Неважно. Попытайся еще раз. Проиграй снова. Проиграй лучше». Популисты же, наоборот, будут настаивать на своих репрезентативных притязаниях, невзирая ни на что, потому что их притязания носят моральный и символический, а не эмпирический, характер, их нельзя опровергнуть. Будучи в оппозиции, популисты неизменно стараются посеять сомнения в институтах, которые производят «неправильные с моральной точки зрения» результаты. Поэтому их можно было бы назвать «врагами институтов» – хотя и не институтов как таковых. Они попросту враги механизмов представительства, которые не оправдывают их притязаний на эксклюзивное моральное представительство.
Непопулистские политики не заявляют в пламенных речах, что они говорят от лица той или иной группы (хотя некоторые, действительно, представляют конкретные группы; в Европе, во всяком случае, названия партий часто указывают на то, что они представляют определенную клиентелу, например, мелких землевладельцев или христиан). А демократические политики средней руки вовсе не стремятся открыто исповедовать возвышенную этику, согласно которой мы все, несмотря на наши узкопартийные взгляды, участвуем в общем проекте, нацеленном на совершенствование фундаментальных политических ценностей политического сообщества[71]. Но большинство из них вполне согласятся с тем, что представительство не является незыблемым и непогрешимым, что мнение оппонентов имеет право на существование, что общество не может быть представлено целиком и без остатка и что одна-единственная партия или человек не могут быть неизменными представителями подлинного народа вне демократических процедур и установлений. Что означает, что они имплицитно основываются на утверждении, сформулированном Хабермасом: «народ» существует только во множественном числе[72].
Итак, популизм – это не психологическая особенность, не какой-то определенный социальный класс и не политика упрощенчества. И это не вопрос стиля. Да, Джордж Уоллес подчеркнуто носил дешевые костюмы и говорил американцам, что он «все ест с кетчупом». Да, некоторые популисты испытывают на прочность границы дозволенного, делая грубые заявления в теледебатах (или оскорбляя ведущего). Но из этого не следует, как считают некоторые социологи, что популисты – это просто-напросто люди с «плохими манерами»[73]. Популизм – это не просто любая мобилизационная стратегия, которая апеллирует к «народу»[74]; он использует весьма специфический язык. Популисты не просто критикуют элиты – они также претендуют на то, что они и только они являются представителями истинного народа. И этот особый язык – не просто субъективные впечатления. Такие исследователи, как Кит Хокинс, занимаются систематическим выявлением элементов популистского языка и даже сумели дать количественную оценку его распространению в различных странах[75]. Таким образом, мы можем с полным основанием говорить о степенях популизма. Мы установили, что популистскую риторику можно изучить и зафиксировать. Следующий вопрос – что происходит, когда популистам предоставляется возможность воплотить свои идеи на практике.
II. Что популисты делают, или Популизм во власти
У нас может возникнуть искушение сделать вывод из всего вышеизложенного, что популисты живут в мире политических фантазий: они вообразили себе раскол между развращенными элитами и нравственно чистым, внутренне однородным, цельным народом, который не способен ни на что дурное, и разыгрывают карту символического представительства от лица этого народа против погрязшей в пороке политической реальности, которая такова, потому что популисты пока еще не пришли к власти. Разве такие фантазии не обречены на поражение?
Бытует мнение, что популистские партии – это изначально партии протеста, а партия у власти не может быть протестной, поскольку против себя самого протестовать не будешь (поэтому, когда политические акторы становятся властной элитой, они попросту уже не могут сохранять свои антиэлитистские позиции)[76]. Наконец, существует представление, что как только популисты приходят к власти, они теряют свой харизматический ореол – которому суждено померкнуть в повседневной парламентской рутине. Обратимся к первому (на мой взгляд, неверному) определению популизма: в самом деле, кажется, что упрощенческие рецепты популистов неизбежно должны обнаружить свою несостоятельность. Антиполитика не в состоянии порождать реальную политику.
Представление о том, что популисты во власти так или иначе обречены на поражение, очень приятно. Но это иллюзия. Если популистские партии строят свою политику на протесте против элит, это не значит, что популизм в правительстве – это само по себе противоречие. Прежде всего, все неудачи популистов, пришедших к власти, всегда можно сваливать на элиты с их закулисными интригами – и не только на местные элиты, но и зарубежные (отсюда опять-таки отнюдь не случайная связь между популизмом и теориями заговора). Многие популисты-победители продолжают вести себя как жертвы; большинство ведет себя как угнетаемое меньшинство. Чавес постоянно указывал на темные делишки оппозиции – формально низложенной «олигархии», – которая пытается саботировать его «социализм XXI века». (А когда это выглядело не слишком убедительно, он всегда мог обвинить США в любых неудачах «боливарианской революции».) Реджеп Тайип Эрдоган тоже всегда позиционировал себя как отважного изгоя, который навсегда останется хулиганом из неблагополучного стамбульского района Касымпаша, сражающимся против старой кемалистской элиты Турецкой республики, – даже когда он давно уже сосредоточил в своих руках всю политическую, экономическую и культурную власть.
Популисты во власти продолжают настаивать на этой поляризации и готовить народ ни много ни мало как к своего рода апокалиптическому противостоянию. Они стремятся изо всех сил морализировать политический конфликт (для Чавеса Джордж Буш-младший был самим дьяволом, как он заявил во всеуслышание как-то раз на очередной сессии ООН). Во врагах никогда не бывает недостатка – и все они обычно являются врагами народа как целого. Чавес заявлял в самый разгар всеобщей забастовки, объявленной оппозицией в 2002 г.: «Тут дело не в “за Чавеса” или “против Чавеса”… это противостояние патриотов и врагов отечества»[77]. «Кризис» – это не объективное положение, а вопрос интерпретации. Популист часто с готовностью объявляет текущее положение дел критическим и угрожающим в глобальном смысле слова, потому что такой кризис служит делу легитимизации популистского правительства. Другими словами, «кризис» может быть показным, а политика подается как существование на непрерывном осадном положении[78]. Такие фигуры, как Чавес или Рафаэль Корреа в Эквадоре, рассматривают правление как непрерывную политическую кампанию – строго говоря, сходная установка может быть присуща и непопулистским политикам. Но Корреа идет дальше: он считает, что его задача как президента состоит в том, чтобы служить постоянным «мотивирующим фактором»[79].
Популисты постоянно воспроизводят это сочетание давления враждебных обстоятельств с эстетикой «близости к народу». Виктор Орбан каждую пятницу дает интервью на венгерском радио; Чавес вел знаменитую программу Aid Presidente, куда могли позвонить обычные граждане и поделиться с президентом своими заботами и тревогами. В ответ президент время от времени отдавал членам своего правительства якобы спонтанные распоряжения. (Однажды Чавес в прямом эфире отдал приказ министру обороны перебросить на границу с Колумбией десять танковых дивизий.) Меры, направленные на повышение благосостояния, периодически провозглашались прямо перед камерами; программа иногда могла продолжаться шесть часов подряд. Корреа и боливийский президент Эво Моралес тоже сейчас принимают участие в подобных телепрограммах[80].
Можно, конечно, относиться к подобным практикам как к своего рода политическому фольклору или же пиару, который стал обязательным для всех политиков в условиях того, что сейчас называется «медиадемократией», или «аудиторной демократией» (участие граждан в политической деятельности состоит главным образом в том, что они наблюдают за властными фигурами)[81]. Но, с другой стороны, верно и то, что популисты используют особый набор управленческих методов – и эти методы содержат в себе моральный компонент, вытекающий из самой логики популизма. Популисты во власти всегда прибегают к тому аргументу, что они являются единственными морально легитимными представителями народа и что только определенная часть населения является подлинным народом, заслуживающим поддержки и хорошего управления. Эта логика разворачивается в трех направлениях: своего рода колонизация государства; массовый клиентелизм, а также то, что политологи иногда называют «дискриминационным легализмом»; и, наконец, систематическое подавление гражданского общества. Такого рода практики свойственны не только популистам, но разница в том, что популисты делают это в открытую. Они утверждают, что их действия морально оправданны; на международной арене им нередко удается сохранять репутацию демократов. Разоблачение этих политических практик далеко не так опасно для популистов, как можно было бы подумать, потому что они в таком случае просто заявляют, что их вариант демократии – самый правильный. Я попробую подробнее проанализировать эти, на первый взгляд, нереалистические притязания.
Три популистских управленческих метода и их моральное оправдание
Прежде всего, популисты стремятся колонизовать, или «захватить», государство. Вспомним Венгрию или Польшу как свежие примеры. Первым фундаментальным изменением, которого добились Виктор Орбан и его партия «Фидес», стала переработка закона о государственной службе, позволившая партии назначать лояльных ей людей на должности, обычно политически нейтральные. И «Фидес», и «Право и справедливость» Ярослава Качиньского немедленно начали наступление на независимость судов. Были внесены изменения в существующие судебные процедуры и назначены новые судьи. Когда выяснилось, что полная перестройка системы невозможна (так дело обстоит сейчас в Польше), паралич судебной власти оказался для правящей партии неплохим запасным вариантом. Также были немедленно «взяты в плен» ведущие СМИ: им был послан четкий сигнал, что их репортажи не должны вредить интересам нации (которые, понятное дело, совпадали с интересами правящей партии). Качиньскому, который всегда был уверен в том, что теневые силы пытаются разрушить его партию, было также необходимо взять под свой контроль спецслужбы. Всех, кто выступал с критикой любой из этих мер, клеймили как пособников старых элит (которые популистам как истинным представителям народа наконец-то удалось сместить) или попросту как предателей (Качиньский говорил о «поляках худшего сорта», у которых «измена в генах»). В результате эти политические партии создают государство по своему вкусу, а также по своему собственному политическому образу и подобию.
Подобная стратегия, направленная на консолидацию или даже на вечное удержание власти, не является, разумеется, исключительно прерогативой популистов. Популистов отличает то, что они предпринимают свою колонизацию государства в открытую, утверждая, что обладают моральным правом выступать от лица истинного народа. Разве народ не вправе, с негодованием вопрошают популисты, вернуть себе власть над государством, в лице своих единственных законных представителей? Разве не следует провести чистки, изгнав тех, кто чинит препятствия подлинной народной воле под предлогом сохранения принципа политической нейтральности госслужащих? Государство по праву принадлежит народу, оно не должно быть каким-то чуждым людям аппаратом – наоборот, люди должны брать управление в свои руки.
Во-вторых, популисты тяготеют к массовому клиентелизму: в обмен на массовую политическую поддержку элиты предоставляют материальные и нематериальные блага. Опять-таки подобное поведение свойственно не только популистам: многие партии вознаграждают свою клиентелу за то, что те приходят на избирательные участки, хотя мало кто заходил так далеко, как австрийский архипопулист Йорг Хайдер, который раздавал купюры в сто евро «своим людям» на улицах Каринтии. Некоторые обозреватели указывают на то, что с исторической точки зрения массовый клиентелизм и ранние формы демократии – это примерно одно и то же, поскольку клиентилизм приводит к созданию осмысленных уз взаимозависимости, что позволяет рассчитывать на определенную подотчетность[82]. Популисты отличаются тем, что практикуют подобный подход в открытую, находя ему нравственное оправдание, поскольку только определенные группы людей являются для них подлинным народом и поэтому заслуживают поддержки со стороны по праву принадлежащего им государства.
Сходным образом только определенные группы могут рассчитывать на полную защиту со стороны закона; с теми же, кто не принадлежит к народу, или подозревается в активной подрывной работе против народа, следует поступать со всей суровостью. (Это и есть «дискриминационный легализм» – принцип «друзьям – все, врагам – закон»[83].)
Некоторым популистам повезло, что у них в распоряжении оказались ресурсы, позволившие им нарастить массовую клиентелу и даже привлечь на сторону своих режимов целые социальные прослойки. Для Чавеса решающим фактором успеха оказался нефтяной бум[84]. Для режимов в Центральной и особенно Восточной Европе финансовые вливания от Евросоюза оказались тем же, что нефть для некоторых арабских авторитарных государств: правительства стратегически используют субсидии, чтобы заручиться поддержкой граждан или по крайней мере заставить их молчать. Более того, они могут формировать социальные страты, которые соответствуют их образу идеального народа и хранят верность режиму. Чавес создал «Boliburguesia», «болибуржуазию», которая действительно добилась процветания после «боливарианской революции». Эрдоган продолжает пользоваться неизменной поддержкой анатолийского среднего класса, который возник в результате экономического бума в годы правления его «Партии справедливости и развития». (Этот средний класс – воплощение образа идеального благочестивого турка-мусульманина, в отличие от светской, живущей на западный манер, элиты, с одной стороны, и меньшинств, вроде курдов, – с другой.) Венгерская «Фидес» сформировала новую социальную группу, в которой экономический успех, семейные ценности (рождение детей дает льготы и социальные бонусы) и религиозное благочестие образуют единство, отвечающее представлениям Орбана о «христианско-национальной» культуре[85].
Колонизацию государства, массовый клиентелизм и дискриминационный легализм можно обнаружить во множестве исторических обстоятельств. Однако в популистских режимах их практикуют в открытую и, судя по всему, с чистой совестью. Отсюда любопытный феномен: разоблачения коррупции не причиняют такого ущерба репутации популистских лидеров, как можно было бы ожидать. «Партия свободы» Хайдера и итальянская «Лига Севера» оказались гораздо более коррумпированными, нежели те самые традиционные элиты, которые они так долго критиковали; но обе эти партии по-прежнему процветают (а «Лига Севера» вообще пришла на смену партии Берлускони в качестве основного ядра правой оппозиции в Италии). Эрдоган, провозгласивший себя «человеком из народа» (Milletin Adami), неуязвим для коррупционных скандалов. Очевидно, что сторонники популистов не считают коррупцию и кумовство серьезными проблемами, пока это делается во имя морали, во имя «нас», «трудового народа», а не в интересах «их» – безнравственных иностранных агентов. Либералы свято уверены, что достаточно просто разоблачить коррупцию, чтобы подорвать доверие к популистам. Но они также должны показать, что популистская коррупция не приносит никаких выгод большинству граждан и что отсутствие демократической подотчетности, неработающая бюрократическая машина и упадок закона в долгосрочной перспективе нанесут ущерб всем гражданам без исключения.
Важно понять еще один элемент популистского государственного строительства. Популисты во власти обычно сурово (мягко говоря) обходятся с неправительственными организациями (НКО), которые их критикуют. Атаки на гражданское общество и ущемление его прав не являются исключительно популистской практикой. Но только для популистов оппозиция внутри гражданского общества представляет особую нравственную и символическую проблему: она грозит подорвать притязания популиста быть исключительным моральным представителем народа. Поэтому им так важно «доказать», что гражданское общество – это вовсе не гражданское общество и что оппозиция не имеет никакого отношения к настоящему народу. Вот почему такие правители, как Владимир Путин в России, Виктор Орбан в Венгрии и «Право и справедливость» в Польше, всеми силами стремятся дискредитировать НКО, доказать, что их контролируют извне, и объявить их «иностранными агентами». В определенном смысле они пытаются воплотить в жизнь идею единого (и пассивного) народа, от имени которого они говорят, заставляя замолчать и дискредитируя тех, кто не разделяет представлений популистского лидера о народе (вынуждая их покинуть страну и тем самым отделиться от народа)[86]. Иными словами, правительство «Права и справедливости» или правительство партии «Фидес» не просто создают свое государство, ориентированное на определенную партию, – они также стремятся создать народ «Права и справедливости» или «Фидес» (часто путем создания «заместительного», лояльного к правительству гражданского общества). Популисты стремятся создать тот самый однородный, внутренне непротиворечивый народ, от лица которого они постоянно выступают.
И в этом заключается самая большая ирония. Популизм во власти порождает, укрепляет и всеми способами поощряет те самые изоляцию и узурпацию государства, которые он вменяет в вину правящим элитам, пока борется с ними, чтобы прийти им на смену[87]. Популисты в конце концов начинают делать ровно то самое, что, по их же утверждению, делали прежние «развращенные безнравственные элиты», – только не испытывая никакого чувства вины и находя всему этому «демократическое» оправдание.
Популизм во власти – это «нелиберальная демократия»?
Если вы следили за нитью моих рассуждений, у вас может возникнуть вопрос: почему популисты не идут до конца, не пытаются сменить режим? Если они верят в то, что говорят – что они являются единственными законными представителями народа, – почему бы просто не отменить выборы? Если остальные претенденты на власть стоят вне закона, почему бы просто не исключить их полностью из политического расклада?
Ответ на эту загадку поневоле будет отчасти умозрительным. Мы знаем, что многие популисты, придя к власти, постоянно раздвигают ее границы: изменения в избирательном законе, давление на непокорные СМИ, внеочередной визит налоговой инспекции в какую-нибудь назойливую НКО – но это никогда не выглядит как окончательный разрыв с демократией. Разумеется, мы не знаем, что именно они думают и каковы их расчеты. Но похоже, что издержки открытого авторитаризма представляются им слишком высокими. Официальный отказ от демократии влечет за собой массивную утрату международной репутации (и вернее всего утрату материальной поддержки со стороны международного сообщества, хотя, как показали недавние примеры Египта и Таиланда, даже то, что выглядит как старая добрая военно-бюрократическая диктатура, не обязательно сопровождается полным разрывом отношений с международным сообществом).
Учитывая такое уклонение от откровенного авторитаризма, многие обозреватели склонны называть режимы вроде турецкого или венгерского «нелиберальными демократиями». Но такое обозначение глубоко ошибочно и сводит к нулю попытки хоть как-то обуздать популистских политических деятелей. Ярлык «нелиберальная демократия» позволяет правительствам Качиньского, Орбана или Мадуро настаивать на том, что их страны являются демократическими, хоть и нелиберальными. И это не просто вопрос семантики: внешние наблюдатели должны отдавать себе отчет в том, что популизм наносит вред именно демократии. Широкое распространение термина «нелиберальная демократия» среди политологов и аналитиков вынуждает меня попытаться объяснить, что с ним не так.
Термин «нелиберальная демократия» стал популярным у западных политологов в середине 1990-х годов. С его помощью описывались режимы, которые сохраняли институт выборов, но не соблюдали законы и разрушали систему сдержек и противовесов. Американский журналист Фарид Закария в своей, ставшей программной, статье утверждал, что правительства, пользовавшиеся массовой поддержкой, систематически нарушали принципы того, что он называл «конституционным либерализмом», включающим в себя политические права, гражданские свободы и право частной собственности. Диагноз «нелиберальная демократия» был симптомом всеобщего философского и политического похмелья после 1989 года. В первые пьянящие дни падения коммунизма, когда весь мир упивался демократией, казалось, что правление большинства и верховенство закона будут всегда идти рука об руку. Но вскоре в результате выборов появились такие большинства, которые использовали всю доступную им власть, для того чтобы подавить меньшинства и растоптать базовые права человека. Из этого следовало, что необходимо укреплять либерализм, чтобы обуздать опасности демократии в тех странах, где политические соперники демонстрировали психологию «победитель получает все».
Концептуальный разрыв между либерализмом и демократией – это не новость. Критики «буржуазной демократии» справа и слева уже давно имеют с ним дело. Марксисты утверждают, что при капитализме либерализм – это «формальные свободы» и лишь видимость политического участия, при этом ревностно оберегается «частная автономия» граждан (т. е. они участники рынка, а государство играет роль того, кто гарантирует исполнение контрактов). Со стороны правых Карл Шмитт в 1920-х годах утверждал, что либерализм – устаревшая идеология: в XIX в. он служил элитам, которые вели рациональные политические дебаты в парламентах, но в век массовой демократии парламент стал просто фасадом, прикрывающим грязные делишки и частные интересы. Подлинная же народная воля должна иметь такого представителя, как Муссолини. Единодушное одобрение со стороны внутренне цельного и непротиворечивого народа – это визитная карточка истинной демократии, которую Шмитт определял как «тождество управляемых и правящих»; невыборные институты, такие как конституционные суды, можно рассматривать как оплоты либерализма, но они по сути своей недемократичны.
Шмитт произвел роковой концептуальный разрыв между «настоящим» народом и эмпирическими результатами выборов или соцопросов: это тот самый разрыв, которым постоянно пользуются популисты, как я показал в предыдущей главе. Здесь уместно будет процитировать самого Шмитта, поскольку его взгляды помогают понять происходящие в последнее время многочисленные сдвиги к авторитаризму под прикрытием демократической риторики:
Единодушное мнение ста миллионов человек как частных лиц не есть ни воля народа, ни общественное мнение (offentliche Meinung). Воля народа точно так же и даже лучше может быть выражена возгласами, acclamatio, с очевидностью не встречающего противоречий существования, чем статистическим аппаратом, который вот уже полвека разрабатывается с таким мелочным тщанием. Чем сильнее демократическое чувство, тем яснее, что демократия есть нечто иное, нежели система регистрации отданных в тайне голосов. Перед лицом (не только в техническом, но и в витальном смысле) непосредственной демократии, парламент, возникший из либеральных размышлений, кажется искусственным механизмом, тогда как диктаторские и цезаристские методы не только могут поддерживаться acclamatio народа, но и быть непосредственным выражением демократической субстанции и силы[88].
Критики предполагаемой гегемонии либерализма в мире после 1989 г. – и, прежде всего, левый теоретик Шанталь Муфф – утверждают, что «рационалистическое» либеральное мышление отрицает внутренне присущие демократии конфликт и разногласия. А социал-демократические партии отказались от идеи создать реальную альтернативу неолиберализму; их приверженность «Третьему пути» усиливает у избирателей чувство, что им предлагают «выборы без выбора» (или, как выразилась Муфф в одном интервью, выбор между «Кокой» и «Пепси»). Как утверждает Муфф, такое сходство политических партий и их навязчивое стремление к консенсусу – якобы обнаруживаемое в демократических теориях Джона Ролза и Юргена Хабермаса – привели к появлению сильных антилиберальных движений, прежде всего, правого популизма.
Помимо таких дебатов в политической теории, «либерализм» – во всяком случае в Европе, в США это не так – стал синонимом ничем не сдерживаемого капитализма; так же как и в США, он превратился в обозначение максимальной свободы частной жизни. После финансового кризиса новая волна самопровозглашенных анти либералов использовала двусмысленное звучание слова «на букву “Л”», чтобы обосновать иное представление о демократии. Эрдоган, опираясь на традиционную исламскую нравственность, стал позиционировать себя как «консервативного демократа». Орбан в провокационной речи 2014 г. заявил о проекте создания «нелиберального государства». Недавно, во время кризиса с беженцами, венгерский лидер заявил, что эпоха того, что он назвал «либеральной болтовней», в Европе закончилась и что остальной континент в конце концов придет к такому же, как у него, «христианскому и национальному» видению политики[89]. «Нелиберализм» здесь одновременно противостоит как неограниченному капитализму, где всегда побеждает сильнейший, так и правам меньшинств, таких как гомосексуалы. Нелиберализм – это ограничения как в сфере рынка, так и в сфере нравственности.
«Нелиберальная демократия» – это не обязательно противоречие в определении. В XIX и XX вв. многие европейские христианские демократы называли себя «нелиберальными» и очень оскорбились бы, если бы кто-то вздумал поставить под сомнение их стойкий антилиберализм. Но это не значит, что они не понимали, насколько важны права политических меньшинств в нормально функционирующей демократии (в конце концов, меньшинства могут стать большинством на следующих выборах); напротив, они не понаслышке знали, каково приходится меньшинствам, не огражденным от произвола власть имущих, поскольку католики стали жертвами агрессивных культурных кампаний, проводимых светскими государствами (вспомним Kulturkampf Бисмарка в Германии конца XIX в.). Они также не считали, что невыборные институты, такие как суды, не являются недемократическими; опять-таки идея сдержек и противовесов была им отнюдь не чужда, потому что они на собственном опыте знали, как сказывается ничем не сдерживаемое народовластие на религиозных меньшинствах. Дело было просто в том, что «либерализм» у них ассоциировался с индивидуализмом, материализмом и очень часто – с атеизмом. (Вспомним, например, Жака Маритэна, ведущего французского католического философа, одного из авторов Всеобщей декларации прав человека. Он утверждал, что демократия должна строиться на принципах католицизма, а либерализм необходимо отвергнуть.) Для такого рода мыслителей быть «антилибералом» не означало не уважать основополагающие политические права, но зато подразумевало критику капитализма – даже если христианские демократы не оспаривали законность права на частную собственность, – а также опору на традиционное патриархальное понимание семьи.
У демократии могут быть нелиберальные философские основания, как показывает случай Маритэна. А еще бывают традиционные общества, в которых на права на аборт и брак накладываются строгие ограничения. Я считаю, что таким ограничениям нужно противиться, но было бы странно утверждать, что такого рода ограничения прав доказывают отсутствие демократии. Тут можно говорить об относительно нетерпимых – ив этом смысле нелиберальных – обществах, но это не то же самое, что нелиберальная демократия. Необходимо отличать нелиберальные общества от мест, где под ударом находятся свобода слова и собраний, плюрализм СМИ и защита меньшинств. Эти политические права – не просто либерализм (или верховенство права); они образуют самые основы демократии. Например, даже если в день выборов не произошли массовые вбросы бюллетеней со стороны правящей партии, выборы все равно будут недемократическими, если к ним не была допущена оппозиция, а журналистам не позволяют сообщать об ошибках правительства. Для демократии даже в самом элементарном ее понимании – как механизма, обеспечивающего мирную смену власти в результате процедуры народного волеизъявления, – жизненно важно, чтобы граждане были хорошо информированы о состоянии дел в государстве; в противном случае правительства попросту будут неподотчетны народу. Не случайно многие демократии после 1989 г. создали конституционные суды, чтобы обеспечить защиту основополагающих политических прав и сохранить плюрализм в политике и обществе, на том основании, что подобные суды были ключевым фактором в процветании демократии как таковой (а не просто либерализма).
Если критики будут настаивать на использовании термина «нелиберальная демократия», то лидеры вроде Орбана скажут им «большое спасибо». Такая критика дает венгерскому премьер-министру моральное право быть именно тем, кем он и хочет быть: оппонентом либерализма. И при этом он, Качиньский, и все прочие популистские лидеры получают возможность сохранять «демократию», которая, несмотря на все разочарования последней четверти века, все же продолжает оставаться «входным билетом», обеспечивающим признание на мировой арене. Так даже еще лучше, с точки зрения подобных лидеров: выражение «нелиберальная демократия» создает нормальное разделение труда, при котором национальное государство заботится о демократии, а либерализм находится в ведении образований вроде Европейского союза (ЕС). ЕС в этом случае выглядит как агент неукротимого капитализма и либертарианской нравственности («Гейропа» – прозвище, придуманное российскими гомофобами, враждебно настроенными по отношению к ЕС). Популистские правительства могут позиционировать себя как противников гегемонии либерализма во имя разнообразия и даже прав меньшинств, как бы говоря: «Мы – венгры, поляки и т. д. – представляем в ЕС меньшинство, которое верит в традиционную нравственность и не хочет подчиняться навязываемому западными либеральными элитами либеральному универсализму, якобы пригодному на все размеры». Польский министр иностранных дел Витольд Ващиковский в интервью немецкому таблоиду (январь 2016 г.) негодует по поводу «нового смешения культур и рас, мира велосипедистов и вегетарианцев, которые… противостоят религии в любой ее форме». Создается впечатление, будто уязвимое и даже, возможно, преследуемое меньшинство пытается защищаться от несправедливости – но на самом-то деле перед нами министр, выступающий от лица правительства, у которого парламентское большинство.
Все это означает, что нам нужно отказаться от этой бессмысленной мантры «нелиберальной демократии». Популисты наносят вред демократии как таковой, а то обстоятельство, что им случается выиграть выборы, никоим образом не обеспечивает автоматической демократической легитимности их проектам (особенно потому, что в своих избирательных кампаниях они обычно не удосуживаются упомянуть о том, что в их планы входят далеко идущие конституционные изменения). Если даже они честно выиграли первоначальные выборы, они тут же начинают мошенничать с демократическими институциональными механизмами во имя так называемого подлинного народа (противопоставляемого их политическим оппонентам, которые автоматически записываются во враги народа). Этот «настоящий народ» описывается как внутренне целостный и непротиворечивый, истинными представителями которого объявляют себя популисты. По Карлу Шмитту, символическая сущность одерживает верх над сухими цифрами (голосами), которые выдает «статистический аппарат»; подлинное народное волеизъявление отметает все процедуры и делегитимизирует любую оппозицию – или, как выразился представитель парламентской фракции «Права и справедливости», «благо народа превыше закона».
Одним словом, популизм искажает демократический процесс. Если правящая партия располагает достаточным большинством, она может позволить себе создать новую конституцию, оправдывая свои действия попыткой адаптировать государство под «настоящих венгров» или «настоящих поляков», противопоставляемых посткоммунистическим или либеральным элитам, которые хотят отнять у людей их страну. И конечно, им только на руку играет то, что эти элиты часто отстаивают одновременно экономический либерализм, плюралистическое и толерантное «открытое общество» и необходимость защиты основополагающих прав (в том числе прав, конституирующих демократию как таковую). Орбану тогда предоставляется возможность критиковать открытое общество и говорить, что «у нас больше нет родины, только инвестиционная площадка». В Польше в одну кучу сваливаются экономические интересы Германии, порочная «гендерная идеология» и общественные организации, защищающие конституцию, и, таким образом, их можно атаковать все вместе, одним скопом. Короче говоря, антикапитализм, культурный национализм и авторитарная политика становятся неразрывно связанными между собой.
Точно так же, как слишком широкое представление о демократии не позволяет правильно видеть политическую реальность, так и слишком широкое представление об авторитаризме может создавать проблемы и непредвиденные политические последствия. В первом случае венгерское и польское правительства могут радостно считать себя демократиями; во втором – высокорепрессивные режимы рады оказаться в одной категории с Венгрией и Польшей. В этих двух последних странах все еще отлично можно проводить уличные демонстрации, вести блоги с критикой режима или создавать новые политические партии. Игра ведется нечестная, но все-таки – пока – еще возможно выиграть выборы, критикуя популистов у власти. Возможно, в таком случае больше подошло бы определение «дефективная демократия»[90]. То есть демократия была повреждена и нуждается в серьезной «починке», но о диктатуре говорить преждевременно. Европейскому союзу важно отдавать себе ясный отчет в своих действиях, когда он вовлекает в свою орбиту такие «нелиберальные демократии», как Венгрия и Польша. Деятельность ЕС проходит под знаком «защиты верховенства закона». Новый курс Европейской комиссии, принятый в 2014 г., известен как «верховенство механизмов закона». Комиссия стремится всегда начинать с диалога о верховенстве закона с государством-членом, которое подозревают в противодействии ценностям, декларируемым в статье 2 Договора о Европейском союзе (верховенство закона – одна из этих ценностей), в надежде, что именно диалог, а не санкции, поможет государству-члену исправиться. Во множестве опубликованных ею текстах Комиссия всегда утверждала, что верховенство закона и демократия тесно связаны между собой: не бывает одного без другого. Но в действительности этот акцент на верховенстве закона, по-видимому, только усилил впечатление, что Европа сосредоточена исключительно на либерализме, в то время как демократия становится заботой национальных государств. Европейским чиновникам следовало бы всячески подчеркивать, что о демократии они заботятся ничуть не меньше, чем о верховенстве закона. Критикам пути развития в Венгрии и Польше придется смириться с тем фактом, что «либерализм» часто воспринимается не просто как безжалостная рыночная конкуренция, но и как продвижение интересов могущественных (западноевропейских) игроков. Когда в Венгрии беспощадно урезались социальные расходы, выдвижение Орбана в качестве сильного лидера, готового национализировать компании и защищать от имени государства простой народ от международных корпораций, было воспринято с огромным энтузиазмом. Прежде чем остановиться на идеологии «нелиберального государства», он пел дифирамбы «плебейской демократии». Это была пропаганда, но она находила отклик из-за кажущегося слияния политического, экономического и морального либерализма после 1989 г. Если кажется, что нечто, называемое «либерализмом», приносит пользу только победителям, то либералам следует заново осмыслить свои принципы. Как сказал в 2009 г. бывший венгерский диссидент Г.М. Тамаш, «мы, пивная пена, праздновали победу свободы, открытости, плюрализма, фантазии, наслаждения. Это было очень легкомысленно, и теперь я глубоко стыжусь этого».
Те, кто защищает демократию от популизма, должны честно признать, что с демократиями в Западной Европе и Северной Америке не все в порядке. Это, конечно, не просто «фасадные демократии», как недавно назвал их немецкий социолог Вольфганг Штрик. Их не захватывали партии, пытающиеся переделать всю политическую систему под себя, как это произошло в Венгрии. Но они все больше страдают из-за дефекта, который выражается в том, что более слабые социально-экономические группы не участвуют в политическом процессе, а их интересы не представлены должным образом. Опять-таки было бы неправильно сводить эту проблему к сознательному урезанию прав, составляющих основу демократии, и к исключению оппозиции – и то и другое, как я уже показал, характерно для популистских режимов. В этих демократиях могут происходить значительные перемены во власти, в отличие от такого положения дел, какого, очевидно, добиваются «Фидес» и «Право и справедливость». Но несмотря на то что различия между партиями, борющимися за власть, все же несколько больше, чем между «Кокой» и «Пепси», у таких критиков, как Муфф, есть свои резоны, и тут нужны ответы. Как жестко выразился Дэвид Ост в своем анализе победы «Права и справедливости» в 2015 г., «проблема… не в том, что люди не поддерживают демократию. Да, очень многие сегодня действительно ее не поддерживают, но это происходит потому, что они чувствуют, что демократия в неолиберальной оболочке не поддерживает их». Сегодня защите демократии брошен вызов: выводить на чистую воду ложные оправдания «плебейской демократии» и «нелиберального государства».
Популистские конституции: противоречие в определении?
Несмотря на огромное разнообразие подходов к пониманию популизма, многие обозреватели сходятся в одном: популизм, чем бы он ни был, по природе своей враждебен механизмам и в конечном счете ценностям, которые обычно ассоциируются с конституционализмом: ограничениям, накладываемым на волю большинства; системе сдержек и противовесов; защите меньшинств и даже основополагающим правам[91]. Популисты терпеть не могут всякие процедуры: про них говорят, что они «вообще против институтов» и что они предпочитают прямые, неопосредованные отношения между харизматическим лидером и народом. К антиинституционализму прибавляется еще утверждение, что популистам не по душе идея представительства и они предпочитают прямую демократию (например, референдумы): эту идею мы уже рассматривали и отчасти ее опровергли в гл. I. Поэтому складывается впечатление – распространенное как среди политологов, так и социологов, – что популизм, несмотря на серьезные недостатки, может при определенных условиях «скорректировать» либеральную демократию, которая слишком оторвалась от народа.
Этим надеждам не суждено сбыться, но можно понять, откуда они берутся, если принять во внимание, какое неудачное направление принимают споры о либеральном конституционализме и популизме. Во-первых, этот спор часто перерастает в дебаты по поводу достоинств мажоритаризма (и, наоборот, судебного надзора). Во-вторых, нет ясного или даже хоть сколько-нибудь заметного различия между популярным конституционализмом и популистским[92]. В-третьих (и это самое важное), «популизм» используют как очень неточный синоним понятия «гражданского участия», или «социальной мобилизации» (и, наоборот, ослабления власти судей и других элит)[93].
Несмотря на расплывчатость этих понятий (а может быть, именно в силу этой расплывчатости), дебаты по поводу популизма и конституционализма – особенно в Соединенных Штатах – быстро перерастают в исключительно эмоциональный обмен обвинениями в элитизме или, наоборот, «демофобии», причем одну сторону обвиняют в «пренебрежительном отношении к политической энергии простых людей», а другую – в продвижении «охлократии»[94].
Я надеюсь, мне уже удалось показать, что популисты не «против институтов» и они вовсе не обречены на ликвидацию, когда те приходят к власти. Популисты противостоят только тем институтам, которые, по их мнению, не в состоянии производить правильные в моральном (а не эмпирическом) смысле слова политические результаты. И противостоят они им, только пока находятся в оппозиции. Популисты у власти не имеют ничего против институтов – против своих институтов.
Те из них, у кого достаточно для этого власти, будут стремиться создать свою популистскую конституцию – как в качестве нового общественно-политического договора, так и в качестве нового свода правил политической игры (некоторые исследователи конституционализма называют их политическим «руководством пользователя»). Возникает соблазн решить, что таким образом они пытаются создать систему, которая дает возможность свободного, ничем не сдерживаемого выражения народной воли или каким-то образом укрепляет прямые, не опосредованные институтами, отношения между лидером и настоящим pueblo. В конце концов, популистов часто считают наследниками якобинцев.
Но не все так просто. Притязания на свободное выражение народной воли релевантны для популистов, пока они находятся в оппозиции; ведь они стремятся развести по разные стороны подлинное волеизъявление populusa как неинституционализированного, не подвластного бюрократическим процедурам «мистического тела» – и реальные результаты, производимые существующей политической системой. Они утверждают, что vox populi един и что система сдержек и противовесов, разделение полномочий и т. п. не позволяют свободно и недвусмысленно проявляться единой, непротиворечивой воле единого, однородного народа.
Однако, придя к власти, популисты обычно куда менее скептически настроены по отношению к конституционализму как средству ограничения того, что они называют народным волеизъявлением, – но эта народная воля (которая никогда не бывает дана в опыте, существуя только в виде морального конструкта) сначала должна быть установлена в тех рамках, которые определяют для нее популисты, а потом ее нужно правильным образом конституционализировать. Или, если следовать определению Мартина Лофлина, позитивный, или конструктивный, конституционализм сменяется негативным, или ограничительным, конституционализмом[95]. Популисты будут стремиться закрепить «истинный образ» нравственно безупречного народа (если угодно, истинную конституциональную идентичность) и затем конституционально закрепить политику, которая соответствует этому образу народа. Популистский конституционализм вовсе не обязательно приоритизирует народное участие, и популисты далеко не всегда пытаются «конституционализировать харизму» лидера, как это предполагает Брюс Акерман[96].
Помимо этих особенностей (которые объясняются моральными притязаниями популизма) есть еще и более практическая, приземленная цель: конституции должны работать на популистов, помогая им удерживать власть. Конечно, можно сказать, что и в этой цели присутствует моральное измерение, отсылающее к популистской картине мира: как единственные законные представители народа популисты должны вечно пребывать у власти. И если целью становится удерживание власти, тогда возникает вероятность, что популисты будут использовать конституцию как фасад, в действительности осуществляя совсем другую политику[97]. И они даже будут готовы пожертвовать конституцией, если она перестанет служить их целям. В этом отношении якобинцы действительно очень подходящий пример. Как показал Дэн Эдельстейн, популистов куда меньше заботит неукоснительное следование народному волеизъявлению, чем обычно думают историки[98]. Якобинцев волновало то, что народная воля может подвергаться моральному разложению, и они все свои надежды возлагали на некую форму естественного права, которая была бы совершенно независимой от реальной воли людей (и от присущих ей изъянов). Когда их же собственная конституция – и проведенные благодаря ей выборы – поставили под угрозу пребывание якобинцев у власти, они без колебаний тут же приостановили действие конституции и развязали террор против тех, кого они объявили вне закона.
Не все примеры популистского конституционализма так драматичны (не говоря уже о терроре). Недавний пример – конституция (под официальным названием «Основной закон») Венгрии, вступившая в силу с начала 2012 г. Ее принятию предшествовало рекомендательное «совещание с народом», в котором, согласно данным правительства, приняли участие 920 тыс. граждан[99]. Результаты этого совещания создатели конституции могли свободно интерпретировать таким образом, чтобы подогнать их под свою концепцию, заключающуюся в том, что парламентские выборы 2010 г. произвели «революцию в кабинках для голосования», по выражению победившей партии, получившей большинство (две трети) в парламенте (при том что по результатам реального голосования она получила 53 %, т. е. 2,7 млн голосов из общего числа избирателей в 8 млн). Плодом этой «революции» стал императивный мандат на установление того, что правительство обозначило как новую «систему национального сотрудничества», а также на принятие новой конституции. Виктор Орбан объяснил это так: «Люди… дали нам хороший совет, хороший наказ венгерскому правительству [по поводу принятия основного закона страны], и правительство его исполнило. Поэтому, когда критикуют венгерскую конституцию… критикуют не правительство, а венгерский народ… У Европейского союза проблемы не с правительством, как они хотят заставить нас поверить, на самом деле они нападают на Венгрию»[100]. Это уравнение – тот, кто нападает на правительство, нападает на венгерский народ – просто сногсшибательно. И к тому же оно очень поучительно, поскольку с редкой наглядностью демонстрирует логику популизма.
Преамбула новой конституции, или «национальный символ веры», выстраивает весьма специфический образ венгерского народа как нации, обреченной на выживание во враждебном мире, как добрых христиан и как этнической группы, которая четко отличается от меньшинств, «живущих рядом» с настоящими венграми. Что касается создания формальных конституционных механизмов, то они явно нацелены главным образом на то, чтобы популисты могли удерживаться у власти[101]. Ограничения по возрасту и квалификационные требования для судей были введены, чтобы отсеять профессионалов, отклоняющихся от линии правящей популистской партии, структура и круг полномочий конституционного суда (ключевая проверка властных возможностей правительства перед введением основного закона) были перестроены, а сроки пребывания в должности лиц, назначенных правящей партией, необычайно увеличились (во многих случаях до девяти лет), видимо, для того чтобы держать в узде будущие правительства.
Таким образом, венгерское правительство создало, по сути, то, что бывший судья Конституционного суда Германии Дитер Гримм назвал «эксклюзивной конституцией» (ее еще можно назвать узкопартийной): такая конституция высекает в камне ряд весьма специфических политических преференций, в то время как в непопулистских демократиях дискуссии вокруг такого рода преференций являются неотъемлемым элементом повседневной политической борьбы[102]. Более того, эта конституция исключила оппозиционные партии в двойном смысле: они не принимали участия в написании и принятии конституции, а их политические цели не могут быть реализованы в будущем, поскольку конституция резко сузила коридор политического выбора. Иными словам, при новом режиме создатели конституции могут удерживать власть, даже если проиграют выборы.
Венгерский «основной закон», который якобы был вдохновлен мнениями, прозвучавшими во время консультации с народом, так и не был проведен через референдум. Для сравнения, ряд новых конституций в Латинской Америке был подготовлен избранными конституционными ассамблеями и проведен через всенародное голосование: хорошо известные примеры – Венесуэла, Эквадор и Боливия[103]. В процессе формирования конституционной ассамблеи прежние конституции были благополучно выведены из обращения и затем заменены документами, которые должны были закрепить основополагающую «народную волю». Эта самая основополагающая народная воля всегда была под контролем популистов и формировалась ими. Например, Чавес контролировал процесс избрания «своего» учредительного собрания и позаботился о том, чтобы большинство в 60 % голосов, которые получила его партия на избирательных участках, превратились в более чем 90 % мест в конституционной ассамблее.
Популистская идея стала реальностью в форме укрепления исполнительной власти при уменьшении власти судебной и/или назначении на судебные должности представителей собственной партии. Таким образом, новые конституции сыграли ключевую роль в продвижении популистского проекта по «захвату государства», поскольку переход к новой конституции позволил сместить прежних должностных лиц[104]. В целом выборы стали менее свободными и честными, а исполнительной власти стало проще контролировать СМИ. Как и в случае с Венгрией, этот nuevo constitucionalismo использовал конституции, чтобы создать условия для укрепления власти популистов, и все это во имя идеи, что они – и только они – являются представителями la voluntad constituyente – единой конституционной воли.
Но все это не означает, что популистские конституции всегда работают именно так, как задумали популисты. Они создавались с целью исключить плюрализм, но пока при популистских режимах сохраняется институт выборов и тем самым существует некоторая вероятность того, что оппозиция может победить, плюрализм не может исчезнуть полностью. Подобные популистские конституции могут привести к серьезным конституционным конфликтам. Возьмем, к примеру, ситуацию в Венесуэле после того как там на выборах в декабре 2015 г. одержал победу оппозиционный альянс Mesa de la Unidad Democratica (MUD), заполучив большинство, имеющее право изменить конституцию. Президент Мадуро вначале пригрозил, что будет править без парламента (но с помощью военных); он также сделал все возможное, чтобы оспорить легитимность трех избранных депутатов от оппозиции (чтобы не дать оппозиции преодолеть барьер, позволяющий менять конституцию). Полномочия исполнительной власти – и без того невероятно расширенные Чавесом в «его» конституции – расширились еще больше, что позволило Мадуро назначать или смещать директоров Центробанка по собственному усмотрению без всяких консультаций с парламентом[105]. Но и этого было недостаточно: Мадуро вдобавок хотел создать своего рода контрпарламент в виде «парламента коммун». (Подобный проект по созданию легитимности, параллельной официальному парламенту, посредством формирования так называемых боливарианских кружков уже пытался провести Чавес – эта попытка в основном провалилась[106].) MUD, в свою очередь, выступил за проведение референдума, чтобы низвергнуть Мадуро.
Смысл вот в чем: популистские конституции создаются с целью ограничить власть непопулистов, даже когда эти последние формируют правительство. Конфликт в этом случае неизбежен. Конституция перестает быть основной структурой, определяющей государственную политику, и становится просто узкопартийным инструментом, с помощью которого осуществляется правление.
Так что же: народу никогда нельзя говорить «Мы, народ»?
Может сложиться впечатление, что наш анализ до сих пор был глубоко консервативным: политика должна быть сведена к взаимодействию официальных политических институтов, всякий практический результат, производимый этими институтами, должен считаться легитимным, а все выступления во имя и тем более от лица народа должны быть под запретом. Но это не более чем недоразумение. При демократии любой может выступить от лица какой-то общности и понять, откликнутся ли на этот призыв какие-то избиратели – точнее, согласятся ли какие-либо избиратели отождествить себя с символической групповой идентичностью, о которой они ранее и не подозревали. На самом деле, можно даже сказать, что демократия как раз и существует ровно для того, чтобы таких притязаний было как можно больше: у официальных представителей должны быть соперники, и это соперничество может включать в себя утверждение, что представители не справились с представительской ролью, т. е. что они не сумели подобающим образом представить своих избирателей или даже пошли наперекор символической идентичности политического сообщества[107].
Уличные протесты, электронные петиции и т. д. – все это обладает подлинным демократическим смыслом, но не подлинной демократической формой, и они не могут разыграть демократический козырь против представительных институтов[108]. Как бы то ни было, такого рода соперничество в корне отличается от попыток выступать от имени народа как целого – и при этом морально обесценивать и лишать легитимности тех, кто, в свою очередь, оспаривает эти притязания.
Но как быть с теми, кто вступает в политическую борьбу во имя «власти народа» в различных частях света? Недавний пример – протестующие на площади Тахрир против режима Мубарака использовали такие выражения, как «одна рука», «одно общество», «одно требование». (Были и другие, более изобретательные лозунги, например: «Народу нужен президент, который не красит волосы!»[109]) Надо ли им прочесть лекцию о том, что, к сожалению, они ничего не понимают в демократии и обречены на построение неправильного конституционализма?
Анализ, представленный в этой книге, ни в коей мере не исключает исключений, если можно так выразиться. Кто угодно может критиковать существующие процедуры, вменять им в вину моральные слепые пятна и предлагать критерии и средства достижения большей включенности. Проблема не в утверждении, что нынешнее положение дел неудовлетворительно, а в утверждении, что сам критик – и только он один – говорит от лица «народа». Проблема также заключается в допущении – очень распространенном, но не подтверждающемся эмпирически, – выдвигаемом многими самопровозглашенными теоретиками радикальной демократии, которое заключается в том, что только с помощью принципа pars pro toto можно осуществить чаяния всех исключенных из политики и что все остальное всего лишь администрирование или кооптация в существующий общественно-политический порядок[110]. Такой подход упускает из виду, что утверждение «мы и только мы – истинные представители народа» может иногда помочь политическим акторам прийти к власти, но сильно затрудняет сохранение долгосрочной стабильности государственного устройства. Когда ставки подняты до уровня необсуждаемой идентичности, возрастает вероятность неутихающего конфликта.
Стало уже общим местом указывать на то, что многие конституции возникли в результате борьбы за включение в политический процесс, потому что «простые граждане», обладающие своим пониманием конституции, хотели активизировать прежде нереализованный моральный потенциал, содержащийся в основном документе[111]. Менее очевиден другой момент: те, кто боролся за политическую включенность, очень редко провозглашали: «Мы и только мы – народ» (наряду с соответствующими притязаниями различных лидеров на то, что они «представляют народ»). Конституции, построенные на демократических принципах, создают возможность для постоянного оспаривания того, что эти самые принципы могут означать в тот или иной период времени; они создают возможность для появления новых политических групп, претендующих на то, чтобы быть представленными в политическом пространстве. Граждане, которые раньше никогда не думали о том, что у них есть что-то общее, могут отреагировать на неожиданный призыв получить политическое представительство и внезапно увидеть в себе коллективного актора – т. е. индивидов, способных действовать совместно (если воспользоваться выражением Ханны Арендт). Вспомним, например, «Нацию Форда», вызванную к жизни неповторимым мэром Торонто Робом Фордом. Или сторонников Трампа, которые настаивают, что они не Trumpenproletariat, как окрестили их ехидные критики из верхушки общества, а группа людей с законными жалобами и идеалами, которые Республиканская партия отказывается принимать всерьез. Это напоминает прозорливую идею Джона Дьюи о том, что общественные группы не просто существуют «где-то там», а создаются (можно еще вспомнить марксистские представления о том, что класс должен стать классом для самого себя, т. е. осознающим себя как коллективного актора). Хорошо функционирующая демократия должна работать на создание множества требований представительства, но также и на то, чтобы подвергать их эмпирической проверке[112]. Разумеется, нет никаких гарантий, что подобное оспаривание существующего порядка вообще возникнет или что борьба за включенность окажется успешной. (Или же что это будет именно борьба за включенность, а не борьба против конституционного порядка как такового. И конечно же, борьба может вестись также и за исключение.)
В идеале конституции облегчают то, что можно назвать «цепочкой требований включенности». Изначальное «мы, народ» никогда полностью не растворяется в повседневном политическом процессе, но также и не пребывает в качестве реального, эмпирически осязаемого, единого агента – своего рода макросубъекта – по ту сторону конституционного порядка. К кому относится это «мы, народ» – открытый вопрос: собственно, демократия во многом вращается именно вокруг него. Как выразился Клод Лефор, «демократия знаменует собой опыт неуловимого, неконтролируемого общества, в котором сувереном, разумеется, является народ, но идентичность этого народа – всегда открытый вопрос, она навсегда останется невыявленной»[113].
Это также означает, что «народ» – неустойчивое, рискованное и даже попросту опасное обозначение. Во всяком случае, так считали многие французские и американские революционеры. Адриан Дюкенуа в издании 1791 г. «L’Ami des patriotes» рекомендует жестко ограничивать использование гражданами слова «народ»[114]. А Джон Адамс даже не пытался скрыть своего беспокойства по поводу возможных последствий неконтролируемого употребления слова «народ»: «Опасно открывать столь обильный плодами источник раздоров и распрей… Этому конца не будет. Возникнут новые притязания. Женщины потребуют права голоса. Юнцы от двенадцати до двадцати одного года будут думать, что их права недостаточно соблюдаются, и всякий, у кого за душой ни гроша, будет требовать равного права голоса со всеми остальными во всех делах государства. Это приведет к смешению и разрушению всех различий, вся общественная иерархия будет низведена на один общий уровень»[115].
Концепт «народа» подчас использовался (к их собственной выгоде) даже весьма консервативными элитами, которые «народная власть», по идее, должна была сметать с лица земли во время демократических революций. Бисмарк провозгласил в рейхстаге в 1873 г.: «Мы все – часть народа, у меня тоже есть общие со всеми права [Volksrechte], Его Величество император также принадлежит к народу; мы все – народ, а не просто благородное сословие, которое будто бы придерживается взглядов, считающихся свободными, но не всегда являющихся таковыми. Я протестую против тех, кто узурпирует само это имя – народ – и пытается отлучить меня от народа!»[116]
Демократия дает возможность постоянно обновлять и даже создавать совершенно иные условия для определения понятия «народ». И она дает возможность для критики существующего демократического порядка во имя демократических идеалов. Как однажды высказался Шелдон Волин, «демократия была и остается единственным политическим идеалом, который осуждает свое собственное отрицание равенства и включенности»[117]. В этом смысле можно сказать еще, что демократия переживает перманентный кризис представительства[118]. А еще важно отметить, что этот кризис касается не только того, кто получает представительство, но и того, какое именно представительство получают граждане; а требование включенности может повлечь за собой изменение всей социально-политической системы в целом (в отличие от просто включения новых групп в структуры, которые остаются неизменными)[119]. Демократия как политический принцип могла бы взять своим девизом: «Пытался. Проиграл. Неважно. Попытайся еще раз. Проиграй снова. Проиграй лучше».
Именно популисты разрывают эту «цепочку требований», заявляя, что идентичность народа может быть установлена четко и окончательно: отныне народ – это реальность, уже не скрытая, а явная. Это своего рода окончательное требование включенности, на котором цепочка обрывается. В этом смысле популисты de facto стремятся к полной завершенности (в особенности конституциональной завершенности), в отличие от тех, кто, требуя включенности, отстаивает саму идею непрерывного процесса включенности, т. е. стремится к тому, чтобы цепочка требований включенности никогда не прерывалась. «Чайная партия» – такой пример отстаивания идеи конституциональной завершенности.
А как же тогда лозунги, звучавшие на площади Тахрир, или, если вернуться примерно на четверть века назад, лозунги на улицах Восточной Германии, где люди в 1989 г. скандировали «Мы – народ»? Это – совершенно законный лозунг в условиях режима, который претендует на исключительное представительство народа, но на самом деле исключает из политического процесса обширные сегменты этого народа. Можно пойти еще дальше и сказать – то, что на первый взгляд кажется архипопулистским лозунгом, на самом деле было антипопулистским требованием: режим претендует на исключительное право представлять народ и отстаивать его истинные интересы в долгосрочной перспективе (во всяком случае, так обычно обосновывали свою «лидирующую роль» государственные социалистические партии); но на самом деле das Volk – это что-то совсем другое и хочет он чего-то совсем другого. В недемократических режимах «Мы – народ» – справедливое революционное требование; оно ни в коей мере не является популистским. При популистских режимах, которые испытывают на прочность границы представительной демократии, но все же сохраняют остатки уважения к процедурам (и практической реальности), даже минимальный протест против режима может иметь огромные последствия. Вспомним «стоящего человека» на стамбульской площади Таксим после разгона протестующих в парке Гези. Демонстрации были запрещены. Но этот человек ничего не демонстрировал. Он просто стоял там, как одинокий безмолвный свидетель, как напоминание о республиканских ценностях Ататюрка (он стоял лицом к статуе Ататюрка), – но также и как живой упрек в адрес правительства, претендующего на исключительное представительство всех турок без остатка. В конце концов к нему присоединились и другие мужчины и женщины: никто ничего не говорил и не держал в руках никаких транспарантов с обращениями к правительству. Эрдоган, в свою очередь, остался верен правительственным методам, о которых речь шла выше в этой главе. Его правительство попыталось доказать, что Эрдем Гюндюз – так звали «стоящего человека» – иностранный агент. В интервью немецкой газете Гюндюз рассказал: «Близкий к правительственным кругам журналист, который позже стал советником Эрдогана, обвинил меня в том, что я агент или член сербского гражданского движения “Отпор”, которое способствовало падению Милошевича. А министр по европейским делам Эгемен Багыш написал твит о том, что перед своим выступлением я три дня пробыл в немецком посольстве. Но я никогда в жизни не был в немецком посольстве»[120].
Конечно, нам никогда не удастся до конца, со всей уверенностью определить, является ли то или иное требование демократическим или популистским. Например, в Египте в период между первоначальными протестами на площади Тахрир и началом очень напряженного процесса работы над новой конституцией нелегко было отличить демократические требования от популистских. (Формальный факт вовлечения «народа» в политический процесс еще ничего не объясняет.) Но в 2012 и 2013 гг. стало очевидно, что «Братья-мусульмане» стремились создать популистскую, узкопартийную конституцию, в которой содержится идея о том, что такое «истинный народ», и установить ограничения, основанные на их специфических представлениях о том, что такое «хороший египтянин»[121]. Конфронтация, тем самым, стала неизбежной[122].
III. Как быть с популистами
На этом этапе мы можем задаться вопросом: а как вообще можно поддерживать популистов, этих заведомо протоавторитарных лидеров, которые, скорее всего, нанесут серьезный вред демократической системе? Свидетельствует ли тот факт, что во многих странах популисты пользуются поддержкой миллионов, о том, что эти самые миллионы – люди с авторитарным типом личности (вспомним психологические диагнозы, разбиравшиеся в гл. I)? Означает ли это, что множество наших граждан готовы лишить нас прав, если, по их мнению, мы не подходим под определение «настоящих американцев»? В этой главе я хочу немного затруднить жизнь либеральным демократам, которые, кажется, склонны полагать, что популизм можно списать со счетов как чисто умозрительную задачу (в отличие от эмпирической задачи, с которой придется разбираться так или иначе). Я напомню, что привлекательность популизма зиждется на том, что итальянский демократический теоретик Норберто Боббио в свое время назвал «нарушенными обещаниями демократии». Я также хочу продемонстрировать, что популизм предлагает решение проблемы, на которую у либеральной демократии нет ответа: как можно определить границы того, что составляет «народ»? Наконец, я попытаюсь объяснить, какие конкретные исторические обстоятельства в США и Европе привели к подъему популизма в наши дни. В заключение я предлагаю некоторые идеи относительно того, как лучше всего разговаривать с популистами (а не только о них), при этом не уподобляясь им.
Популисты и обещания, которые нарушила демократия
Чем объясняется привлекательность популизма? Бенефициары клиентелизма и дискриминационного легализма, безусловно, найдут в нем свою прелесть. Но я хотел бы также обратить внимание на то, что успех популизма может объясняться несбывшимися – ив определенном смысле даже и несбыточными! – обещаниями демократии в нашем обществе. Эти обещания никогда не озвучивались на формальном уровне. Они, скорее, что-то вроде «народной теории демократии»[123] – ряда интуитивных представлений, которые объясняют не только привлекательность, но и неудачи демократии в современном мире.
Грубо говоря, основное обещание состоит в том, что власть принадлежит народу. Популисты, по крайне мере в теории, утверждают, что народ как целое не только обладает единой волей, но и может осуществлять правление посредством правильных представителей, которые исполняют народную волю в силу данного им императивного мандата. Из ряда интуитивных представлений о демократии, таким образом, складывается следующая картина: демократия – это самоуправление, и идеальное самоуправление осуществляется не большинством, а единым целым. Даже в демократических Афинах этот идеал не получил полного воплощения, но Афины наиболее близко подошли к идее демократии как коллективной деятельности и непосредственного участия в общих действиях (правда, – и это ключевой момент – эта демократия покоилась на принципе сменяемости власти: не может быть настоящей демократии без ротации должностных лиц)[124]. Конечно, трудно устоять перед привлекательностью такой идеи коллективного управления собственной судьбой, и меланхолия по поводу отсутствия подобной практики вполне простительна.
Так вот, популисты высказываются и ведут себя так, как если бы эти обещания были осуществимы. Как если бы народ мог выносить единое непреложное суждение, выражать единую волю и тем самым выдавать однозначный мандат на выполнение этой воли. Популисты говорят и действуют так, как если бы народ был един – и поэтому всякая оппозиция, если вообще признавать ее существование, вскоре исчезнет сама собой. Как если бы народ – при условии, конечно, что он наделит полномочиями правильных представителей, – мог полностью управлять собственной судьбой. Конечно же, речь у них при этом не идет о коллективной дееспособности народа как такового и о том, что люди из народа могли бы, вообще-то, сами занять государственные должности. Как я уже не раз подчеркивал, популизм можно понять только в контексте представительной демократии.
Основное отличие демократии от популизма теперь уже должно быть совершенно понятным: демократия дает большинству возможность наделить властными полномочиями представителей, чьи действия будут (или не будут) соответствовать ожиданиям и пожеланиям граждан; популизм же утверждает, что никакие действия популистского правительства не могут оспариваться, поскольку за ними стоит «воля народа». Первая предполагает возможность ошибочных, оспариваемых суждений большинства (причем сегодня большинство может быть одним, а завтра другим); второй изобретает однородную целостность вне всяких институций, чья идентичность и идеи могут быть полностью представлены. Первая предполагает, что народ состоит из индивидов – поэтому на выборах в конечном счете имеют значение только цифры;
второй принимает как данность некую загадочную «сущность», «суть народа» – и поэтому, с точки зрения популистов, даже большое число индивидов (даже большинство) не может по-настоящему отразить истинную волю и суть народа. Первая предполагает, что решения, выносимые на основе демократических процедур, не носят абсолютного «морального» характера – в том смысле, что всякая оппозиция автоматически оказывается безнравственной; второй настаивает на единственном подлинном нравственном решении даже в условиях глубоких разногласий относительно нравственности (и политики). Наконец, – и это самый важный пункт – демократия исходит из того, что «народ» может быть представлен только институционально и что большинство (и даже «подавляющее большинство», как любит говорить Владимир Путин) в парламенте – это не «народ» и не может говорить от имени народа; популизм же высказывается с точностью до наоборот.
Может показаться, что представительная демократия могла бы вообще обойтись без апелляций к «народу». Но так ли это? Можно ли сказать, что в такой картине чего-то не хватает? Можно ли все законные демократические задачи – расширение политического участия, необходимость дискуссий, недопустимость обмана в отношении широких масс в условиях современного западного финансового капитализма – переформулировать таким образом, чтобы полностью устранить потребность в «народе»?
Я полагаю, что их действительно можно переформулировать, – но это вряд ли принесет им популярность, не потому что исчез «народ», а потому что прямо на наших глазах исчезает кое-что другое – партийная демократия[125]. Когда-то партии были посредниками между плюралистическим обществом и политической системой, которой рано или поздно приходится принимать властные решения, радующие не всех. «Проигравшие» вынуждены смириться, но при этом они знают, что у них всегда сохраняется какой-то шанс выиграть в будущем. Проще говоря, демократия – это такая система, при которой вы знаете, что можете проиграть, но вы также знаете, что проигрывать вы будете не всегда. Партии создавали правительства и законную оппозицию; само их существование в качестве законных «частей» (в отличие от «целого») носит отчетливый антипопулистский характер. Это верно даже в отношении больших, «всеохватных», партий, называвших себя «партиями народа», или Volksparteien; несмотря на такое, казалось бы, популистское название, они никогда не претендовали на то, чтобы представлять народ как целое. Они, скорее, предлагали новые альтернативные представления о «народности», заостряли противоречия между различными концепциями «народности», но всегда признавали законность противоположной точки зрения. (Такой подход особенно был привлекателен в странах, переживших гражданскую войну, но в конце концов признавших необходимость мирного сосуществования. Вспомним Австрию, где социалистическим «красным» и консервативным католическим «черным» пришлось пойти на честный компромисс, чтобы ужиться в одном политическом пространстве.) Партии были выражением политического разнообразия; партийные системы символизировали единство.
Сегодня многое указывает на то, что ни партии, ни партийные системы уже больше не выполняют своих функций. Исследователи показали, что популизм усиливается там, где партийные системы слабы. Шансы популизма очевидным образом возрастают там, где разрушены некогда хорошо выстроенные, крепкие партийные системы: так, крушение партийной системы в послевоенной Италии в конце концов привело в начале 1990-х к появлению Сильвио Берлускони. Если Кельзен был прав, что демократия в современных условиях может быть только партийной демократией, то это означает, что постепенный распад партий и партийных систем – вовсе не мелкий незначительный факт. Он оказывает воздействие на жизнеспособность демократии как таковой, в том числе на жизнеспособность идеала демократии как политической системы, благодаря которой политические сообщества могут ощущать свое единство и действовать сообща.
Либерально-демократическая критика популизма: три проблемы
До сих пор я исходил из того, казалось бы, само собой разумеющегося факта, что популисты поступают неправильно, извлекая «истинный народ» из всего эмпирического множества людей, живущих в данном государстве, и затем исключая из политической жизни тех, кто не согласен с генеральной линией популистов. Возьмем, например, непрестанные разглагольствования Джорджа Уоллеса о «настоящих американцах» или заявления правых, что Барак Обама – «не американский» или даже «антиамериканский» президент. Но, когда мы упрекаем популистов за политику исключения, возникает закономерный вопрос: а кто или что определяет принадлежность к народу? Разве это не просто историческая случайность: человек родился в определенном месте или является сыном или дочерью определенных родителей? Проще говоря, обвинения в адрес популистов в том, что они проводят политику исключения, носят нормативный характер, но ведь либеральные демократы – если только они не выступают за мировое государство, где все граждане были бы равны, – тоже, по сути, оправдывают исключение из политической жизни тех, кто не является частью того или иного государства. В политологии эта проблема известна как «проблема границ». И у нее нет очевидного демократического решения: если мы говорим, что решать должен народ, это означает, что мы уже как бы заранее знаем, что такое народ, – но это-то как раз и есть вопрос, требующий ответа.
На самом деле, тут мы сталкиваемся с любопытным перевертышем. Популисты всегда проводят нравственные различия между теми, кто по праву принадлежит к народу, и теми, кто не принадлежит (даже если этот моральный критерий на поверку оказывается не более чем просто формой политики идентичности)[126]. Либеральные демократы же, похоже, способны апеллировать лишь к голым фактам или, иначе говоря, к историческим случайностям. Они могут сказать, что de facto определенные люди тоже «настоящие американцы», потому что у них ведь есть американское гражданство. Но это и в самом деле просто факт: сам по себе он не является нормативным утверждением.
Можно ли найти ответ получше? У меня есть два варианта. Во-первых, критика популистов за то, что они исключают из политической жизни часть народа, не подразумевает, что мы должны с точностью установить, кто является частью государства, а кто – нет. Никто не давал права на массовое лишение гражданских прав, к которому, по крайней мере символически, тяготеют популисты. Победа 51 % проголосовавших не значит, что из поля зрения автоматически исключаются голоса оставшихся 49 %; это значит, что многие граждане, столкнувшись с притязаниями популистов, могут ответить им следующим образом: «Я могу критиковать определенных людей самыми разными способами, не отказывая им при этом в статусе свободных и равных сограждан». Во-вторых, «проблему границ» ни одна высоколобая политическая теория не способна решить раз и навсегда. Обсуждение этой проблемы – процесс, в котором и действующие члены, и члены-кандидаты должны иметь право голоса; он должен быть предметом демократических дебатов, а не непреложным решением, основанным на неизменных критериях[127].
Разумеется, ошибкой было бы думать, что этот процесс автоматически подразумевает прогресс, т. е. достижение большей включенности; возможно, определение народа, выработанное в результате подлинных, добросовестных демократических дебатов окажется более строгим, нежели исходное.
Но и на этом проблемы для либерально-демократической критики популизма не кончаются. До сих пор мы были свято убеждены, что антиплюрализм по определению антидемократичен. Так ли это? Плюрализм – так же, как и один из его вариантов, мультикультурализм, – часто подается одновременно и как факт, и как ценность. Так же, как и в случае с проблемой границ, возникает вопрос: почему простому факту автоматически должна приписываться какая-то моральная ценность? К тому же плюрализм и разнообразие – это все же не настолько первостепенно значимые ценности, как, например, свобода. Нельзя сказать, что во всех случаях чем больше плюрализма, тем лучше. В то время как в сознании либералов плюрализм всегда ассоциировался с либерализмом, многие мыслители вполне справедливо утверждали, что при ближайшем рассмотрении переход от наличия плюрализма (в особенности плюрализма ценностей и жизненных укладов) к принципиальному поощрению свобод на самом деле крайне непрост[128]. Поэтому нам нужны гораздо более точные и строгие формулировки в ответе на вопрос, что не так с антиплюрализмом. Мы могли бы сказать, что главная проблема с популизмом состоит в том, что, отрицая многообразие, он тем самым отказывает некоторым гражданам в равенстве с остальными и свободе. Формально эти граждане могут не быть исключенными, но их законное право на индивидуальные ценности, представления о том, что такое правильная жизнь, и даже на материальные интересы может оказаться под вопросом и даже сброшено со счетов. Как утверждал Джон Ролз, принять плюрализм – не значит просто признать эмпирический факт того, что мы живем в разных сообществах; скорее речь идет о принятии обязательства найти справедливые основания для того, чтобы делить общее политическое пространство с другими людьми, которых мы уважаем как свободных и равных, но в то же время принципиально иных по своей идентичности и интересам. В этом смысле отрицание плюрализма означает: «Я могу жить только в таком политическом мире, где мои представления об обществе или мои личные взгляды на то, что такое настоящий американец, обладают преимуществом перед всеми остальными»[129]. Это не имеет ничего общего с демократическим подходом к политике.
Наконец, озабоченность вызывает то, как демократы иногда реагируют на популистских лидеров и популистские партии. В ряде стран непопулистские партии – а также иногда и государственные СМИ – реагировали тем, что возводили вокруг популистов «санитарный кордон»: никакого сотрудничества с ними, разумеется, никаких политических коалиций, никаких телевизионных дебатов и никаких уступок ни по одному из их требований. В некоторых случаях проблемы с такого рода стратегиями исключения были очевидны с самого начала. Например, Николя Саркози утверждал, что Национальный фронт не разделяет основные французские республиканские ценности, а сам в то же время скопировал иммиграционную политику Национального фронта, превратив свою партию в некое подобие «облегченного варианта» НФ. Такое очевидное лицемерие в корне подорвало любую стратегию, направленную против НФ. Менее очевиден тот факт, что сговор всех политических акторов, кроме популистов, с целью исключить этих последних из политического процесса, немедленно повышает доверие к утверждению популистов, что властные партии создали «картель»: популисты получают большое удовольствие, показывая, что все их соперники одним миром мазаны, несмотря на заявленные идеологические различия, – отсюда стремление даже названия этих партий соединять в одно, чтобы усилить впечатление, что только у популистов есть подлинное альтернативное решение. (Например, во Франции Марин Ле Пен использовала акроним UMPS, соединяя в одно целое названия правой партии Саркози и партии социалистов.)
Помимо всех этих практических задач – которые в основном связаны с выработкой политических стратегий, способных обуздать аппетиты популистов, – есть и еще одна важная проблема. Я утверждал, что проблема с популистами заключается в том, что они исключают. Так что же мы можем сделать в ответ? Исключить их! Я также неоднократно показывал, что популисты – убежденные антиплюралисты. Так чего же мы добиваемся, исключая их? Накладываем ограничения на плюрализм. Что-то здесь явно не так. Можно вспомнить, что придавало нападкам Уоллеса на либералов такую силу и убедительность: он утверждал, что «самые большие мракобесы те… кто называет мракобесами других»[130].
Я полагаю, что пока популисты остаются в рамках закона – например, не разжигают ненависть и не подстрекают к насилию, – другие политические акторы (и представители СМИ) обязаны вступать с ними во взаимодействие. Когда они получают места в парламенте, они являются представителями своих избирателей; игнорировать популистов – только усиливать у их электората впечатление, что «правящие элиты» бросили их на произвол судьбы, да и вообще никогда ими не интересовались. Но разговаривать с популистами – не значит говорить, как популисты. Можно серьезно отнестись к их политическим заявлениям, не принимая их при этом за чистую монету. В частности, вовсе не обязательно соглашаться с тем, как популисты преподносят те или иные проблемы. Вспомним пример, который мы приводили выше: были ли во Франции 1980-х миллионы безработных? Да. Были ли все рабочие места захвачены «иммигрантами», как пытался убедить свой электорат Национальный фронт? Разумеется, нет.
Смысл не в том, что правильные аргументы и неоспоримые доказательства гарантированно помогут разгромить популистов в парламентах, в публичных дебатах и в конце концов на избирательных участках. Если правда, что популисты всегда взывают к некоему символическому образу «истинного народа», привлекательность этого образа не исчезнет автоматически только потому, что избирателям будет предоставлена достоверная статистика относительно той или иной сферы общественной жизни. Но это и не означает, что правильные аргументы и факты вообще не имеют значения. Например, многие из тех, кто поддерживал Уоллеса во время президентской избирательной компании 1968 г., отвернулись от него после того, как профсоюзы стали забрасывать своих членов информацией о реальном положении «рабочего человека» в Алабаме и о том, как мало сделал Уоллес на посту губернатора, чтобы облегчить это положение[131].
Еще важнее то, что с популистами можно взаимодействовать и на символическом уровне. Это взаимодействие может принять форму дебатов о том, в чем на самом деле состоят фундаментальные обязательства государства. Но оно также может выражаться и в символическом признании тех частей населения, которые прежде были исключены. Необходимо понимать, что фигуры вроде Эво Моралеса или Эрдогана не просто злобные авторитарные лидеры, взявшиеся из ниоткуда: Моралес отстаивал права коренного населения Боливии, которое в массе своей не было допущено к участию в политической жизни; а Эрдоган занимался вполне демократической деятельностью, когда добивался политического присутствия тех, кого обычно игнорировали, – «черных турок», бедного религиозного населения Анатолии, – противопоставляя их одностороннему вестернизированному образу Турецкой республики, лелеемому кемалистами. Борьба за включение не обязательно должна была принимать популистскую форму pars pro toto; по-видимому, ущерб демократии можно было бы предотвратить, если бы правящие элиты готовы были предпринять шаги как к практическому, так и к символическому включению.
Кризис представительства? Случай Америки
В результате нашего анализа можно утверждать, что, как это ни парадоксально, единственная партия в истории США, открыто называвшая себя «популистской», на самом деле популистской не была. Как известно, популизм – это изначально движение фермеров в 1890-х годах. Какое-то непродолжительное время он угрожал монополии демократов и республиканцев на американскую политическую систему. На самом деле это не первый пример того, что историки считают популизмом в истории Америки. Сами отцы-основатели явно с опасением относились к бесконтрольному народовластию. Они как раз и пытались избежать ситуации, при которой воображаемое коллективное целое противопоставлялось бы новым политическим институтам. В этом смысл знаменитого высказывания в «Федералисте» (№ 63): «Совершенно ясно, что принцип представительства отнюдь не был неизвестен древним и вовсе не чужд их политическим структурам. Истинное различие между древними формами республиканского правления и принятой в Америке в другом: в полном исключении народа, который представляется общенародным собранием, из участия в правлении в Америке, а не в полном исключении представителей народа из правления в древних республиках» (выделено в оригинале. – Я.-В. М.)[132].
И все же фермеры пробудили «гений народа»[133], и в Конституцию вошло множество «популярных» элементов, от присяжных до ополчения[134]. Томас Джефферсон с самого начала вырабатывал республиканский и продюсеристский язык, который будет использоваться всеми политическими ораторами, отстаивающими права рабочего большинства; практически все протестантские деноминации подчеркивают, что люди сами, без всякой помощи духовенства, могут найти духовную истину; Эндрю Джексона, центральную фигуру «эры простого человека» с его компанией против «власти денег», рисуют то человеком, укрепившим демократию, то «популистом» (не случайно прозванным Королем-Толпой), создавшим целый новый политический стиль, когда общественные деятели то и дело толковали о «бревенчатых хижинах» и «крепком сидре», чтобы подчеркнуть свою близость к «простому народу». В 1850-х годах возникло нативистское (в частности, антикатолическое) движение «незнаек» (Know Nothing). Изначально оно называлось Нативистской американской партией, а потом стало просто Американской партией (тем самым претендуя на исключительное представительство в самом своем названии). Членство в ней было доступно только протестантам, и организация исповедовала принцип секретности (поэтому о делах организации ее члены должны были отвечать: «Не знаю ничего, кроме своей страны!»). В 1892 г. возникла Народная партия, члены которой, в конце концов, стали называться «популистами». Как часто бывает с политическими прозвищами, это тоже изначально было издевательским и лишь позднее его демонстративно присвоили и успешно использовали те, кого это прозвище призвано было унижать. (Схожую судьбу претерпело в 1970-х слово «неоконсервативный»[135].)
Эти самопровозглашенные популисты возникли из движения фермеров, которые уже не хотели довольствоваться выращиванием кукурузы, а хотели устроить политическую бучу. Долги, зависимое положение, а также экономический кризис в начале 1890-х годов побудили их к тому, чтобы сплотиться и выдвинуть требования, которые сделали их противниками как демократов, так и республиканцев. В частности, фермерам нужны были дешевый кредит и транспорт, чтобы доставлять свою продукцию на восток. Поэтому они ощущали свою постоянную зависимость от банков и владельцев железных дорог. В конце концов их конфликт с тем, что обычно называлось просто «интересами», привел к выдвижению двух требований, которые стали определяющими в программе популистов: во-первых, создание независимого казначейства (subtreasury) – свободная чеканка серебра (вопреки тому, что отстаивали «золотые жуки»); во-вторых, национализация железных дорог[136].
Популисты сформулировали свои требования на политическом языке, в котором «народ» отчетливо противопоставлялся пекущимся только о своих интересах элитам. Мэри Элизабет Лиз принадлежат знаменитые слова: «Уолл-стрит владеет страной. Уже не народ правит от имени народа и в интересах народа, а Уолл-стрит правит от имени Уолл-стрит и в интересах Уолл-стрит. Великий простой народ этой страны превратился в рабов, а монополисты стали господами»[137]. Дискурс популистов был пронизан вполне отчетливыми моральными заявлениями; говорили о «плутократах, аристократах и прочих скотах»[138]; а некоторые лозунги (и стихи) напоминают своей образностью лозунги движения «Захвати Уолл-стрит!» (например, «девяносто девять в лачугах средь вшей, а один во дворце посреди роскошей»)[139].
Как уже говорилось, историки, а также политологи и социологи 1950-х и 1960-х часто описывали популистов как движимых гневом и обидой, склонных к теориям заговора и повинных (в том числе) в расизме. Ричард Хофстедтер, как известно, говорил о «параноидальном стиле в американской политике»[140]. Доказательства этому найти нетрудно. Популистский лидер из Джорджии Том Уотсон заявлял: «Джефферсону и в страшном сне не могло присниться, что меньше чем через 100 лет его партия будет проституироваться в угоду грязнейшим интересам монополистов; что красноглазые еврейские миллионеры станут во главе Партии и что свобода и благополучие этой страны будет <…> постоянно и вероломно приноситься в жертву алчности плутократов, прикрывающихся именем джефферсоновской демократии»[141]. Но в ретроспективе становится понятно, что историки и политологи времен холодной войны имели в виду скорее маккартизм и всплеск радикального консервативного движения (в том числе и такие его откровенно расистские ответвления, как Общество Джона Бёрча), нежели реальных популистов 1890-х.
Популисты и их деятельность были примером политики в интересах простых людей – при этом они, на мой взгляд, не претендовали на то, чтобы выступать от лица народа как целого. Разумеется, иногда проскальзывали двусмысленности и (возможно, сознательные) оговорки, даже в знаменитой политической платформе, принятой в Омахе и положившей начало Народной партии:
Уже более четверти века мы являемся свидетелями борьбы между двумя крупными партиями за власть и наживу, в то время как на страдающий народ обрушиваются тягчайшие несправедливости. Мы заявляем, что преобладающие в обеих партиях силы ответственны за развитие нынешнего ужасающего положения дел и что они не приложили ни малейших стараний, чтобы его предотвратить или облегчить. Они также не предлагают нам никаких серьезных реформ. Они договорились игнорировать в будущей кампании все проблемы, кроме одной. Они намерены заглушить возмущение обкрадываемого народа показной шумихой по поводу тарифов, так чтобы за ней затерялись капиталисты, корпорации, госбанки, фондовые биржи, трасты, разводненный капитал, изъятие из оборота серебра и гнет ростовщиков. Они намерены бросить на алтарь мамоны наши дома, жизни и детей; уничтожить множество людей, чтобы обеспечить себе нечестный доход, поступающий от миллионеров.
Собравшись здесь в годовщину рождения нации, исполненные духа великого полководца и вождя, который подарил нам независимость, мы хотим вернуть власть в Республике «простым людям», создавшим эту страну. Наши цели тождественны целям Конституции: поддерживать единство, установить справедливость, обеспечить внутреннюю безопасность, крепить внешнюю оборону, заботиться об общем благе и сохранить дар свободы для нас и наших потомков.
Популисты отстаивали демократические реформы, такие как прямые выборы сенаторов и тайное голосование, – и они выступали за прогрессивное налогообложение и за расширение того, что мы сейчас назвали бы государственным регулированием. Но все это они делали, ссылаясь на «простых людей». Если бы их идеал «кооперативного содружества» был воплощен в жизнь, то, вероятно, могло бы выйти что-то вроде того, что получило название «социал-демократии»[142]. В программе, принятой в Омахе, четко видно, что ее авторы питают уважение к Конституции, хотя в американском контексте (в отличие от контекста европейского) антиконституционализм вряд ли может служить релевантным критерием для идентификации популистов в том смысле, в каком они определяются в этой книге. Ведь Конституция всегда была в почете практически у всех.
Американские популисты редко заявляли о себе как о народе – хотя в той степени, в какой они сплотили мужчин и женщин, белых и черных, это не удалось сделать тогда ни одной из ведущих партий. Они добились бы гораздо большего успеха, если бы не подверглись яростной атаке, особенно со стороны демократов из южных штатов: фальсификации на выборах и подкупы, а также насилие были обычным явлением. Если бы демократы и республиканцы не присвоили себе их требования; если бы они не совершили ряд стратегических и тактических ошибок (по поводу которых историки продолжают ожесточенно спорить до сих пор); если бы Уильям Дженнингс Брайан, «Великий простолюдин», представитель популистского крыла Демократической партии, выиграл выборы 1896 г. – политическая история США могла бы пойти совсем по-другому[143]. И все-таки популистское движение не осталось без последствий. В конце 1890-х некоторые популисты вступили в Социалистическую партию; некоторые из основных требований популистов были реализованы в эру прогрессивизма; и, как отмечал К. Ванн Вудворд, жестко критикуя неверную трактовку популизма либералами времен холодной войны в 1950-х, «Новый курс» 1930-х тоже можно назвать разновидностью «неопопулизма»[144].
Все это не значит, что в истории Америки XX в. не было примеров популизма в моем смысле этого слова: среди очевидных «кандидатов» – маккартизм, а также Джордж Уоллес и его сторонники. Джимми Картер сам называл себя популистом, но, конечно же, он подразумевал популистов конца XIX в. (а также «популистские» объединения протестантов-евангелистов и сельско-республиканское – одним словом, джефферсоновское – понимание демократии). В каком-то смысле путь ему проложил Уоллес: стало возможным рассматривать губернатора-южанина в качестве источника нравственного возрождения Соединенных Штатов. (Спустя почти два десятилетия подобные ассоциации все еще отлично работали для Билла Клинтона.)
С появлением «Чайной партии» и оглушительным успехом Дональда Трампа в 2015–2016 гг. популизм в том смысле, в каком он рассматривается в этой книге, приобрел в американской политике действительно огромное значение. Очевидно, что «гнев» сыграл тут свою роль, но, как уже говорилось выше, «гнев» сам по себе ничего не объясняет. Причины этого гнева как-то связаны с тем, что изменения, происходящие в культуре страны, вызывают резкое отторжение у определенного процента американских граждан[145]: растущее влияние социально-сексуальных либеральных ценностей (однополые браки и т. п.) и опасения, что США становятся страной с «меньшинством в большинстве» и традиционный образ «настоящего народа» – т. е. белых протестантов – постепенно исчезает из социальной реальности. В дополнение к культурным есть еще и весьма существенные материальные проблемы; есть острое ощущение того, что экономические интересы значительной части американцев совершенно не представлены в Вашингтоне, – и это впечатление действительно в высшей степени подтверждается объективными социологическими научными данными[146].
Как утверждает Ханспетер Кризи, за последние десятилетия в западных странах возникли новые рубежи конфликта: политологи их называют «расколом» между теми гражданами, которые стремятся к открытости, и теми, кто предпочитает закрытость[147]. Этот конфликт может разыгрываться главным образом на экономическом уровне, а может перерастать в проблему преимущественно культурную. Популисты процветают там, где преобладает политика идентичности. Проблема заключается не в экономике, которая все меньше согласуется с самооправданием капитализма с точки зрения благотворных для всех конкуренции и героического предпринимательства. (Даже «The Economist», совсем не марксистское издание, начинает критиковать власть монополий в США.) Вместо этого проблемой объявляется то, что мексиканцы крадут рабочие места (а также, по-видимому, делают и другие нехорошие вещи). Но не стоит думать, будто все проблемы идентичности можно с легкостью переформулировать как проблемы экономического порядка; к индивидуальным ценностным убеждениям нужно относиться со всей серьезностью. Необходимо, однако, помнить одно важное различие между культурными и экономическими переменами: первые, как правило, не затрагивают напрямую большое число людей. Людям может не нравиться путь развития страны, но кого, кроме свадебных фотографов с очень традиционными представлениями о браке, всерьез касается в повседневной жизни легализация однополых браков? Соединенные Штаты не впервые в своей истории создают более инклюзивное, толерантное и великодушное представление об американском народе, несмотря на возражения небольшой, но решительно настроенной группы избирателей. К сожалению, куда меньше перспектив у мужского населения с образованием не выше среднего и навыками, которые попросту не востребованы в современной американской экономике.
Сегодня Соединенным Штатам требуется глубокая структурная реформа в этом отношении, и такой человек, как Берни Сандерс, безусловно, прав, привлекая общественное внимание к этой проблеме. Если критерии популизма, изложенные в этой книге, выглядят для читателя убедительно, он уже должен понимать, что Сандерс – не популист левого толка. Причина не в том, что левого популизма не может быть по определению, как иногда заявляют левые политики за пределами США. Популизм не связан с содержанием политической доктрины; поэтому не имеет значения, что Сандерс иногда напоминает Хьюи Лонга с его требованием «раздела богатств». Главное в популизме – это определенные нравственные требования, а содержание доктрины, сопутствующей этим требованиям, вполне может быть взято, например, у социалистов (очевидный пример – Чавес).
Европа между популизмом и технократией
Из анализа, представленного в этой книге, в частности, следует, что национал-социализм и итальянский фашизм нужно понимать как популистские движения – даже если, оговоримся, они были не просто популистскими движениями, но еще и демонстрировали черты, которые не обязательно присущи популизму как таковому: расизм, прославление насилия и радикальный «принцип лидерства». Западную Европу, только что пережившую пик тоталитарной политики в 1930-1940-х годах, отличала важная черта: послевоенное политическое мышление и послевоенные политические институты были глубоко пронизаны духом антитоталитаризма. Политические лидеры, правоведы, философы стремились создать порядок, который прежде всего должен был гарантировать невозможность возвращения к тоталитарному прошлому. Они исходили из образа прошлого как эпохи хаоса: неконтролируемое политическое брожение, ничем не сдерживаемые «массы», попытки создать абсолютно неподотчетный политический субъект, такой как Volksgemeinschaft у немцев или «советский народ» (созданный по образу и подобию Сталина и получивший официальный статус в «сталинской Конституции» 1936 г.).
В результате все политическое развитие в послевоенной Европе шло в сторону дробления политической власти (в смысле сдержек и противовесов или даже смешанной конституции), а также усиления неизбираемых институтов или институтов, неподотчетных избирателям, таких как конституционные суды, – и все это во имя укрепления демократии[148]. Такое развитие опиралось на специфические уроки, которые европейская элита – верно или ошибочно – извлекла из политических катастроф середины века: архитекторы послевоенного западноевропейского порядка с большим недоверием относились к идеалу народовластия; в конце концов, как можно доверять людям, которые привели к власти фашистов или широко сотрудничали с фашистскими оккупационными силами? Не столь очевидно, что элиты питали также глубокие сомнения по поводу парламентской власти и, в частности, по поводу того, что парламенты наделяли властью политических деятелей, претендующих на то, чтобы говорить и действовать от лица народа как целого (тем самым поддаваясь метаполитической иллюзии, критикуемой Кельзеном). Разве не законно избранные представительные собрания вручили всю власть Гитлеру и маршалу Петену, лидеру Вишистской Франции, в 1933 и 1940 гг. соответственно? Поэтому парламенты в послевоенной Европе систематически ослаблялись, укреплялась система сдержек и противовесов, а неизбираемые институты (конституционные суды – самый яркий пример) наделялись полномочиями не только защищать индивидуальные права, но и оберегать всю демократию в целом[149]. Недоверие к неограниченной власти народа или даже к неограниченной власти парламента (которую один немецкий специалист по конституционному праву однажды назвал «парламентским абсолютизмом») было, так сказать, встроено в ДНК послевоенной европейской политики. Эти базовые принципы того, что я называю «ограниченной демократией», почти всегда применялись в последней трети XX в. в странах, которым удалось сбросить ярмо диктатуры и вернуться к либеральной демократии, – сначала на Иберийском полуострове в 1970-х, а затем в Центральной и Восточной Европе после 1989 г.
Нужно отметить, что европейская интеграция была неотъемлемой частью этого всеобщего стремления ограничить волю народа: помимо государственных ограничений, она накладывала еще и надгосударственные[150]. (Это не значит, что весь процесс кем-то режиссировался или же протекал без проблем. Разумеется, результаты были непредсказуемыми и зависели от того, кто выигрывал на тот или иной момент в политической борьбе, – это особенно отчетливо видно в случае с защитой прав личности: за эту роль национальные суды соревновались с Европейским судом.) Эта логика хорошо просматривается в случае с такими институтами, как Совет Европы и Европейская конвенция по правам человека. Но желание «окружить себя со всех сторон» либерально-демократическими обязательствами проявилось особенно отчетливо в ситуации перехода к демократии в Южной Европе в 1970-х годах в контексте Европейского союза (ЕС, или, как он назывался до 1993 г., Европейского экономического сообщества, ЕЭС).
Итак, итог этого краткого исторического экскурса заключается в том, что политический порядок, построенный на недоверии к народовластию, – открыто антитоталитарный и, если угодно, неявно антипопулистский порядок – всегда будет особенно уязвимым для политических акторов, выступающих от лица народа как целого против системы, которая представляется специально созданной для того, чтобы минимизировать участие народа в политике. Как мы уже поняли из этой книги, популизм на самом деле не призывает к расширению политического участия и тем более к прямой демократии. Но он может подражать движениям с подобными призывами и добиться определенного признания своей правомочности, так как послевоенный европейский порядок действительно основан на идее держать «народ» на расстоянии.
Почему же Европа стала такой уязвимой перед лицом популистских политических деятелей, начиная с середины 1970-х и особенно в последние годы? Некоторые ответы могут показаться очевидными: отступление социального государства, иммиграция, а также, особенно в последние годы, еврокризис. Но кризис – будь то экономический, социальный или политический – сам по себе не порождает автоматически популизма в том смысле, в каком он разбирается в этой книге (за исключением, возможно, случая, когда разваливаются старые партийные системы). Напротив, можно сказать, что демократии постоянно порождают кризисы и в то же время располагают ресурсами и механизмами для самокоррекции[151]. Скорее (по крайней мере, если говорить о нынешней волне популизма в Европе), я бы сказал, что ключом для понимания расцвета популизма в наши дни становится специфический подход к решению еврокризиса – технократия.
Любопытно, что оба они отражают друг друга, как в зеркале. Технократия считает, что есть только одно правильное политическое решение; популизм же утверждает, что есть только одна подлинная народная воля[152]. А с недавних пор они еще и стали обмениваться атрибутами: технократия стала морализировать-ся («вы, греки, должны покаяться в своих грехах!»), а популизм стал больше ориентироваться на бизнес (вспомним Берлускони; а в Чешской Республике Ба-биш обещает, что будет управлять государством как одной из своих компаний). Ведь ни для технократов, ни для популистов необходимости в демократических дебатах не существует. В каком-то смысле и те и другие на редкость аполитичны. Поэтому не так уж неправдоподобно предположение, что они прокладывают путь друг другу, потому что и технократия, и популизм утверждают, что несогласию места быть не может: для технократии существует только одно политическое решение, а для популизма – только одна подлинная народная воля.
Отметив эти параллели, мы теперь яснее видим, что на самом деле отличает популистские партии и движения от политических акторов, которые могут, скажем, выступать против режима строгой экономии и либертарианских экономических рецептов и при этом совершенно не напоминать популистов ничем другим. Финская партия «Настоящих финнов» (или просто «Финнов») – популистская не потому, что она критикует ЕС, а потому, что она претендует на исключительное представительство от лица настоящих финнов. Беппе Грилло является популистом не потому, что жалуется на засилье la casta в Италии, а потому, что утверждает, что его движение желает (и заслуживает) получить не меньше 100 % мест в парламенте, поскольку все его соперники развращены и безнравственны. По этой логике выходит, что grillini и есть подлинный итальянский народ во всей его первозданной чистоте – что к тому же оправдывает своего рода диктатуру добродетели в движении «Пять звезд», о чем я уже говорил выше.
Важнейшая задача теории популизма в современной Европе состоит в том, чтобы уметь отличать настоящих популистов от политических деятелей, которые критикуют элиты, но при этом не используют логику pars pro toto (например, indignados в Испании).
«Демократические активисты» (как называют их некоторые исследователи, чтобы отличать от популистов) отстаивают конкретную политическую программу; но при этом, даже если они и заговаривают о «народе», то не в контексте «мы, и только мы, являемся народом», а скорее с позиций «мы тоже часть народа»[153].
Также важно посеять сомнения относительно некоторых стратегий левого политического крыла, состоящих в том, чтобы использовать соблазнительную популистскую образность в противовес гегемонии неолиберализма. Речь не о том, что критика неолиберализма сама по себе автоматически является популистской (в соответствии с пониманием популизма как «безответственной политики»). Проблема, скорее, в попытках – судя по всему, в высшей степени вдохновляемых максимой Эрнесто Лаклау: «конструирование народа – важнейшая задача радикальной политики», – изобразить основной политический конфликт наших дней как противостояние между народом (теми, кем «правят»), с одной стороны, и «рыночниками», т. е. фактическими правителями в обличии инвестиционных менеджеров – с другой[154]. Может ли такая оппозиция в действительности сплотить «народ»? Маловероятно. Может ли она повлечь за собой проблемы, связанные с настоящей популистской политической концепцией? Возможно.
Поэтому призывы противопоставить «левый популизм» политике жесткой экономии (или, если уж на то пошло, правому популизму) во многих частях Европы либо бессмысленны, либо опасны. Они бессмысленны, если речь идет просто о левой альтернативе или обновленной социал-демократии. Зачем в таком случае рассуждать о «конструировании народа», а не о создании нового большинства? Какого именно народа? Однако если левый популизм действительно является популизмом в том смысле, в каком он рассматривается в этой книге, то он очевидным образом опасен.
Какова же альтернатива? Подход, который стремится вовлечь в политический процесс тех, кто в настоящий момент из него исключен, – тех, кого некоторые социологи называют «лишними людьми», – в то же время не выталкивая из системы тех, кто обладает властью и богатством. Иными словами, речь идет о необходимости нового общественного договора. Для такого нового общественного договора требуется широкая поддержка в странах Южной Европы, а такой поддержки можно добиться, только если призывать к справедливости, а не просто фискальной честности. Конечно, одних только возвышенных призывов недостаточно, должен быть еще и механизм реализации нового договора. Например, таким механизмом может быть большая коалиция, мобилизованная во время выборов. Или же то или иное общество может начать пересматривать свои конституционные основы, как это попытались сделать Исландия и (куда менее драматическим способом) Ирландия, хотя и без особого успеха.
Заключение Семь тезисов о популизме
1. Популизм не является ни органической частью современной демократической политики, ни особым видом патологии, присущей неразумным гражданам. Он всегда, как тень, следует за представительной политикой. Всегда существует вероятность, что какой-нибудь политический деятель начнет говорить от имени «настоящего народа», чтобы противопоставить себя властным элитам. В древних Афинах популизма не было; была демагогия, но не популизм, поскольку популизм существует только в представительных системах. Популисты не выступают против принципа политической репрезентации как такового – но они настаивают, что являются единственными законными представителями.
2. Не всякий, кто критикует элиты, – популист. Популисты выступают не только против элит, но и против плюрализма. Они утверждают, что они – и только они – являются подлинными представителями народа. У их политических соперников нет никаких законных прав, и тот, кто не поддерживает популистов, не может быть частью истинного народа. Популисты в оппозиции утверждают, что правящие элиты аморальны, в отличие от народа – морального и однородного целого, которое не может заблуждаться.
3. Часто все выглядит так, будто популисты выступают за общее благо, которого желает народ. Но при ближайшем рассмотрении оказывается, что популистов заботит не столько результат подлинного процесса народного волеизъявления или общее благо с точки зрения здравого смысла, сколько символическая репрезентация «подлинного народа», из которой можно вывести «правильную политику». Таким образом, политическая позиция популиста становится неуязвимой для эмпирического опровержения. Популисты всегда могут разыграть карту «подлинного народа» или «молчаливого большинства» против избранных представителей или официальных результатов голосования.
4. Хотя популисты часто созывают референдумы, на самом деле они вовсе не стремятся инициировать открытый процесс демократического волеизъявления граждан. Популисты просто хотят получить подтверждение тому, что они уже сформулировали в качестве народной воли. Популизм – это не путь к расширению политического участия.
5. Популисты могут управлять государством, и они, скорее всего, будут править в соответствии со своей главной идеей, что только они представляют народ. Это будет выражаться в захвате государства, массовом клиентелизме и коррупции, а также подавлении критически настроенного гражданского общества. Подобные практики находят моральное оправдание в популистском политическом воображении и поэтому могут открыто признаваться популистами. Популисты могут также писать конституции; эти конституции будут узкопартийными, или «эксклюзивными», разработанными для того, чтобы популисты могли удерживаться во власти под предлогом необходимости исполнения подлинной народной воли. Подобные конституции рано или поздно приводят к серьезным конституционным конфликтам.
6. Популистов нужно критиковать за то, чем они в действительности являются, – серьезной угрозой для демократии (а не только для «либерализма»). Но это не значит, что с ними нельзя вступать в политические дебаты. Говорить с популистами – не значит говорить как популисты. Можно серьезно относиться к проблемам, о которых они говорят, не разделяя при этом популистского подхода к этим проблемам.
7. Популизм не корректива к либеральной демократии в смысле «приближения» политики «к народу» или укрепления народовластия. Но он может оказаться полезным для понимания того, какие слои населения недостаточно представлены в политическом контексте (это может касаться их интересов или идентичности или же и того и другого). Это не оправдывает притязаний популистов на то, что только их сторонники являются настоящим народом и что они – единственные законные представители этого народа. Тем самым популизм должен побуждать защитников либеральной демократии усерднее думать над тем, где именно в настоящий момент представительство терпит неудачу. Он также должен побуждать их задуматься о более общих нравственных проблемах. Каковы критерии принадлежности к политии? Почему необходимо поддерживать плюрализм в обществе? Как следует относиться к требованиям сторонников популистов, если рассматривать их как свободных и равных граждан, а не как людей с патологическими отклонениями, движимых обидой, гневом и разочарованием? Я надеюсь, что в этой книге были предложены некоторые предварительные ответы на подобные вопросы.
Благодарности
Я благодарен Институту гуманитарных наук (Institut fur die Wissenschaften vom Menschen, IWM) в Вене за приглашение прочитать в ноябре 2013 г. курс лекций, которые и легли в основу этой книги. Клаус Неллен и его коллеги превосходно проявили себя в роли принимающей стороны: беседы с ними и публикой дождливыми осенними вечерами оказались чрезвычайно полезными для меня. Мои идеи получили дальнейшее развитие благодаря очередному визиту в IWM летом 2014 г.
Я благодарю всех членов кафедры политологии Принстонского университета, а также сотрудников Центра ценностей человека (и в особенности его директора Чака Бейтца), которые позволили мне провести семинар, посвященный популизму, в 2012 г.
Я также признателен всем тем, кто во время этого семинара и после других лекций и семинаров беседовал со мной на эту тему, которая сейчас, в начале XXI в., все больше беспокоит множество людей в Европе, США и Латинской Америке, – даже если нельзя сказать с уверенностью, что все мы говорим об одном и том же. (Ричард Хофстедтер однажды выступил с докладом с красноречивым названием «Все говорят о популизме, но никто не знает, что это такое» – это утверждение в наши дни звучит по-прежнему убедительно.)
Мой подход к демократии и популизму сформировался в беседах с друзьями и коллегами (я, правда, не утверждаю, что сумел убедить их в своей теории). Среди них – Эндрю Арато, Дэвид Сайпли, Паула Дьель, Шолт Эниеди, Габор Халмаи, Дик Ховард, Карло Инверницци Ачетти, Тюркюлер Исиксель, Дэн Келемен, Сьюнчол Ким, Алекс Киршнер, Матиас Кумм, Кас Мюдде, Кристобаль Ровира Кальтвассер, Иван Крастев, Ральф Майкле, Паулина Очоа Эспехо, Ким Лэйн Шеппели и Надя Урбинати. Моя особая признательность – Кристобалю, за приглашение в Сантьяго и беседы с ним и его коллегами в Университете им. Диего Порталеса, и Балашу Тренченьи за чрезвычайно продуктивные беседы, которые помогли мне завершить книгу в апреле 2016 г. Я выражаю благодарность Куну Воссену и Рене Куперусу за сведения о голландской политике.
Эта книга основывается на следующих публикациях: «Populismus: Theorie und Praxis» (Merkur. 2015. Vol. 69), «Parsing Populism: Who Is and Who Is Not a Populist These Days?» (Juncture. 2015. Vol. 22), «“The People Must Be Extracted from within the People”: Reflections on Populism» (Constellations. 2014. Vol. 21), «Anlaufe zu einer politischen Theorie des Populismus» (Transit. 2013. No. 44), «Towards a Political Theory of Populism» (Notizie di Politeia. 2012. No. 107), а также на ряде статей в «Dissent», «The New York Review of Books Daily», «The Guardian», «Le Monde», «Die Zeit», «Siiddeutsche Zeitung», «Neue Ziircher Zeitung».
Я приношу свою благодарность двум издателям, терпеливым и расторопным именно тогда, когда это было необходимо: Генриху Гейзельбергу, который помог издать книгу в Германии, и Дэймону Линкеру, оказавшему горячую поддержку американскому изданию.
Наконец, я всем обязан моей семье. Особая признательность – Хайдрун Мюллер за всяческую поддержку и помощь во время работы над книгой.
Эту работу я посвящаю своим детям, которые переживают опыт своих первых президентских выборов: перед ними открываются разнообразные «демократические дали». Я не смею равняться с Уитменом, но позволю себе смиренно позаимствовать у него посвящение «тому или той, в чьем сознании бушует битва, где побеждает то одна сторона, то другая, между убеждениями и чаяниями Демократии и грубостью, изъянами, непостоянством Народа»[155].
Примечания
1
Krastev I. The Populist Moment, <-cles/2007-09-18-krastev-en.html> (дата обращения 01.03.2012).
(обратно)2
Bell D.A. The China Model: Political Meritocracy and the Limits of Democracy. Princeton, NJ: Princeton University Press, 2015.
(обратно)3
Ionescu G., Gellner Е. Introduction // Populism: Its Meaning and National Character / G. Ionescu, E. Gellner (eds). L.: Weidenfeld &Nicolson, 1969. P. 1.
(обратно)4
Систематический обзор дилеммы ответственного и безответственного правительства см. в: Mair Р. Ruling the Void: The Hollowing of Western Democracy. N.Y.: Verso, 2013.
(обратно)5
Populism in Europe and the Americas: Threat or Corrective for Democracy? / C. Mudde, C. Rovira Kaltwasser (eds). N.Y.: Cambridge University Press, 2013.
(обратно)6
Arditi B. Populism as an Internal Periphery of Democratic Politics // Populism and the Mirror of Democracy / F. Panizza (ed.). L.: Verso, 2005. P. 72–98.
(обратно)7
В последние годы в ряде европейских стран набрал силу популизм определенного толка – во имя либеральных ценностей. Тут можно вспомнить Пима Фортёйна и Герта Вилдерса в Нидерландах. Но это все равно популизм, который просто использует понятия «свобода» и «терпимость» в качестве нравственных маркеров, позволяющих отличать настоящий народ от тех, кто к нему не принадлежит; это не либерализм.
(обратно)8
Мы не хотим этим сказать, что все относительно. Демократия тоже в высшей степени неоднозначное понятие, вокруг которого ведутся споры, но это не повод отказаться от попыток создания теории демократии.
(обратно)9
С формальной точки зрения я пытаюсь сконструировать идеальный тип в духе Макса Вебера. Отчасти я делаю это для того, чтобы продемонстрировать принципиальные, на мой взгляд, отличия популизма от демократии. Очевидная опасность тут заключается в хождении по кругу: популизму приписывают характеристики, которые представляются неприемлемыми с политической, нравственной и даже эстетической точки зрения, и в результате находят подтверждение тому, что популизм и демократия отличаются друг от друга: дело заметно упрощается, если исходить из того, что демократия – непротиворечивый и бесспорный концепт, смысл которого всем очевиден. Иными словами, опасность состоит в том, что мы получаем очень четкую картинку, только потому очень предвзято описываем противоречия. У исследователей в области сравнительной политологии, изучающих популизм, другая проблема: их, наоборот, беспокоит нечеткость, размытость определений. См.: Sartori G. Concept Misformation in Comparative Politics // American Political Science Review. 1970. Vol. 64. P. 1033–1053.
(обратно)10
Я разделяю озабоченность по поводу того, что можно было бы назвать «теорией теории», – политической теории, которая занята главным образом другими теориями, а не современной историей во всей ее сложности и зачастую полной непроницаемости. Но я не думаю, что подобную озабоченность нужно проявлять в виде драматических призывов к «реализму», что в результате приведет всего лишь к очередному витку теоретизирования по поводу теории, на этот раз по поводу «реализма». Пора бы уже теоретикам переходить к действиям, вместо того чтобы бесконечно обсуждать правомочность вопроса «что делать?»
(обратно)11
Dahrendorf R. Acht Anmerkungen zum Populismus // Transit: Europaische Revue. 2003. No. 25. P. 156–163.
(обратно)12
Неолиберальная политика и популизм как логика политических притязаний могут отлично уживаться друг с другом. См.: Weyland К. Neopopulism and Neoliberalism in Latin America: Unexpected Affinities // Studies in Comparative International Development. 1996. Vol. 31. Р. 3–31; Rovira Kaltwass-er C. From Right Populism in the 1990s to Left Populism in the 2000s – And Back Again? // The Resilience of the Latin American Right / J.P. Luna, C. Rovira Kaltwasser (eds). Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2014. P. 143–166.
(обратно)13
Вопрос, которым немедленно задался бы всякий прилежный и ответственный читатель Макса Вебера.
(обратно)14
Priester К. Rechter und linker Populismus: Annaherung an ein Chamaleon. Frankfurt a/M.: Campus, 2012. P. 17.
(обратно)15
По поводу этого «гендерного разрыва» см.: Mudde С., Rovira Kaltwasser С. Populism // The Oxford Handbook of Political Ideologies / M. Freeden et al. (eds). N.Y.: Oxford University Press, 2013. P. 493–512.
(обратно)16
Williamson V, Skocpol T, Coggin J. The Tea Party and the Remaking of Republican Conservatism // Perspectives on Politics. 2011. Vol. 9. P.33.
(обратно)17
Elchardus M., Spruyt B. Populism, Persistent Republicanism and Declinism: An Empirical Analysis of Populism as a Thin Ideology// Government and Opposition. 2016. Vol. 51. P. 111–133.
(обратно)18
Kemmers R., van der Waal /., Aupers S. Becoming Politically Discontented: Anti-Establishment Careers of Dutch Nonvoters and PVV Voters // Current Sociology. 2015. Vol 64. No. 5. P. 757–774.
(обратно)19
Тут можно заметить, что невозможно гневаться и таить обиду в одно и то же время: гнев тут же выходит наружу, в то время как обида и жажда мести «нагнаиваются» и постепенно разрастаются.
(обратно)20
Scheler М. Ressentiment / L.A. Coser (ed.), W.W. Holdheim (transl.). N.Y.: Free Press, 1961 (рус. изд.: Шелер M. Ресенти-мент в структуре моралей. СПб.: Наука; Университетская книга, 1999).
(обратно)21
Bakker B.N., Rooduijn М., Schumacher G. The Psychological Roots of Populist Voting: Evidence from the United States, the Netherlands and Germany // European Journal of Political Research. 2016. Vol. 55. P. 302–320. Авторы этого исследования без тени сомнений заключают: «Популисты вроде Марин Ле Пен, Герта Вилдерса, Сары Пэйлин и Найджела Фараджа овладели искусством привлекать на свою сторону избирателей с низким уровнем доброжелательности, неуживчивым характером. Это как раз то, что объединяет их поверх различных политических контекстов и ситуаций; и то, что отделяет их от существующих партий внутри данного политического контекста; и то, что лежит в основе их, по-видимому, неожиданного успеха» (р. 317).
(обратно)22
О «когнитивных антецедентах» эмоций см.: Elster /. А1-chemies of the Mind: Rationality and the Emotions. Cambridge: Cambridge University Press, 1999.
(обратно)23
Из этого, впрочем, не следует, что всякого, кого сейчас критикуют за «популизм», следует считать настоящим радикальным демократом, как, похоже, думает Марко Д’Эрамо. См.: D’Eramo М. Populism and the New Oligarchy //New Left Review. July-August. 2013. No. 82. P. 5–28.
(обратно)24
Lipset S.M. Political Man: The Social Bases of Politics. Garden City, NY: Doubleday, 1963. P. 178 (рус. изд.: Липсет CM. Политический человек: социальные основания политики. М.: Мысль, 2016. С. 211).
(обратно)25
Ferkiss V.C. Populist Influences on American Fascism // The Western Political Quarterly. 1957. Vol. 10. P. 352.
(обратно)26
Попытка выйти за рамки слишком упрощающего положение дел диагноза рессентимента в случае с «Чайной партией» представлена в: Disch L. The Tea Party: A “White Citizenship Movement?” // Steep: The Precipitous Rise of the Tea Party / L. Rosenthal, C. Trost (eds). Berkeley: University of California Press, 2012. P. 133–151.
(обратно)27
Dubiel Н. Das Gespenst des Populismus // Populismus und Aufklarung / H. Dubiel (ed.). Frankfurt a/M.: Suhrkamp, 1986. P. 35.
(обратно)28
Как я покажу дальше, популисты не выступают против принципа представительства; поэтому я не могу согласиться с теми, кто противопоставляет «популистскую демократию» «репрезентативной демократии», см., например, во всех прочих отношениях превосходную статью: Abts К., Rummens S. Populism versus Democracy // Political Studies. 2007. Vol. 55. P. 405–424.
(обратно)29
Существует ряд эмпирических подтверждений тому, что люди, голосующие за популистские партии, разделяют отчетливо нетолерантные и антиплюралистские убеждения. См.: Akkerman A., Mudde С., Zaslove A. How Populist Are the People? Measuring Populist Attitudes in Voters // Comparative Political Studies. 2013. P. 1–30.
(обратно)30
Lefort C. Democracy and Political Theory / D. Macey (transl.) Cambridge, UK: Polity, 1988. P. 79 (рус. изд.: Лефор К. Политические очерки (XIX–XX века). М.: РОССПЭН, 2000. С. 106).
(обратно)31
Rosenblum N.L. On the Side of the Angels: An Appreciation of Parties and Partisanship. Princeton, NJ: Princeton University Press, 2008.
(обратно)32
См. также: Vann Woodward C. The Populist Heritage and the Intellectual // The American Scholar. 1959–1960. Vol. 29. P. 55–72.
(обратно)33
Arato A. Political Theology and Populism // Social Research. 2013. Vol. 80. P. 143–172.
(обратно)34
The Inaugural Address of Governor George C. Wallace. January 14. 1963. Montgomery, Alabama, <; (дата обращения 28.04.2016).
(обратно)35
Уоллес откровенно приравнял Соединенные Штаты к «Югу»: «Услышьте меня, южане! Сыновья и дочери Юга, двинувшиеся на север и на запад, <…> с вашей родной земли мы призываем вас присоединиться к нам и поддержать нас повсюду в этой стране… и мы знаем… что, где бы вы ни были… вдали от самого сердца Юга… вы откликнетесь на наш призыв, ведь, пусть вы и живете в самых отдаленных уголках нашей бескрайней страны, <…> ваше сердце никогда не покидало Диксиленда» (The Inaugural Address of Governor…).
(обратно)36
Ibid.
(обратно)37
Я выражаю благодарность Дэймону Линкеру, подсказавшему мне эту цитату. См.: CBS Weekend News // Internet Archive. May 7. 2016. < CBS_Weekend_News#start/540/end/600>.
(обратно)38
Canovan M. The People. Cambridge, UK: Polity, 2005.
(обратно)39
Продюсеризм не может быть чисто экономическим понятием – это моральный концепт, придающий особую ценность производителям. Яркий пример – политическое мышление Жоржа Сореля.
(обратно)40
Kazin М. The Populist Persuasion: An American History. Ithaca, NY: Cornell University Press, 1998.
(обратно)41
Мы теперь располагаем обширной академической литературой, посвященной значению понятия «прирожденный гражданин». См., например: Clement R, Katyal N. On the Meaning of “Natural Born Citizen” // Harvard Law Review. March 11. 2016. <-the-meaning-of-natural-born-citizen>.
(обратно)42
Приношу свою благодарность Ивану Крастеву и Шолту Эниеди.
(обратно)43
Здесь популисты внезапно оказываются чуть ли не выразителями и защитниками эпистемологических оснований демократии.
(обратно)44
Mudde С., Rovira Kaltwasser С. Populism. Р. 493–512.
(обратно)45
Пьер Розанваллон утверждает, что популизм подразумевает тройное упрощение: во-первых, политико-социологическое – единый, внутренне целостный народ versus развращенные элиты; во-вторых, процедурное и институциональное упрощение, направленное против неупорядоченного мира международных сил и влияний; в-третьих, упрощение понятия социальной связи, которая сводится к однородной идентичности. См.: Rosanvallon R Penser le populisme // La Vie des idees. September 27. 2011. <http://www. laviedesidees.fr/Penser-le-populisme.html> (дата обращения 18.02.2016).
(обратно)46
Цит. по: Enyedi Zs. Plebeians, Citoyens and Aristocrats, or Where Is the Bottom of the Bottom-up? The Case of Hungary // European Populism in the Shadow of the Great Recession / H. Kriesi, T.S. Pappas (eds). Colchester, UK: ECPR Press, 2015. P. 239–240.
(обратно)47
Как отмечает Джил Лепор, этот термин когда-то был эвфемистическим названием мертвых, пока Никсон не использовал его для обозначения большинства, которое предположительно поддерживало войну во Вьетнаме. См.: Lepore /. The Whites of Their Eyes: The Tea Party’s Revolution and the Battle over American History. Princeton, NJ: Princeton University Press, 2010. P. 4–5.
(обратно)48
См., например: Gentile G. The Philosophic Basis of Fascism // Foreign Affairs. 1927–1928. Vol. 6. P. 290–304.
(обратно)49
Kelsen H. Vom Wesen und Wert der Demokratie. Aalen: Sci-entia, 1981 (1929; repr.). P. 22. Кельсен также приходит к выводу, что современная демократия неизбежно должна быть демократией партийной.
(обратно)50
Символический образ народа, предлагаемый популистами, не так уж и нов. Средневековый мыслитель Бальдус придерживался концепции, аналогичной теории о двух телах короля, согласно которой народ представлен в двух ипостасях: народ в его повседневном, эмпирическом, изменчивом состоянии как группа индивидов – и народ как вечный populus в качестве corpus mysticum. См.: Kantorowicz Е.Н. The Kings Two Bodies: A Study in Medieval Political Theology. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1997 (1957; repr.). P. 209 (рус. изд.: Канторович Э.Х. Два тела короля. Исследование по средневековой политической теологии. М.: Изд-во Института Гайдара, 2013. С. 307). Corpus mysticum обладал особым корпоративным характером, обозначая воображаемое (или юридическое) коллективное лицо; поэтому этот термин употребляли в качестве синонима к таким понятиям, как corpus fictum, corpus imaginatum и corpus repraesen-tatum. Так же, как политическое тело короля отличалось от его естественного тела, политическое тело народа (то, что Бальдус называл hominum collectio in unum corpus mysticum) следует отличать от народа, представленного и опосредованного в институтах. Подобно тому как оппонентам Карла I не казалось парадоксальным «сражаться с королем, чтобы защитить короля», так и популистам кажется закономерным бороться с избранными демократическим путем элитами, чтобы защитить истинный народ и таким образом – демократию. Идея двух тел короля живет и побеждает, когда сторонник Чавеса объясняет: «Говорить нам, чавистам, что Чавес умер, – это все равно что говорить христианам, что Христос умер». См.: Moses С. Bildersturm in Caracas // Frankfurter Allgemeine Zeitung. January 8. 2016. </ aktuell/politik/ausland/amerika/venezuela-bildersturm-in-cara-cas-14004250-p2.html?printPagedArticle=true#pageIndex_2> (дата обращения 15.01.2016).
(обратно)51
Rosanvallon Р. Revolutionary Democracy // Rosanvallon R Democracy Past and Future / S. Moyn (ed.). N.Y.: Columbia University Press, 2006. P 79–82. Джон Квинси Адамс однажды заметил: «Демократия не воздвигает себе памятников, не выпускает медалей, не чеканит профилей на монетах. Иконоборчество ей свойственно по определению». Цит. по: Frank /. The Living Image of the People // Theory & Event. 2015. Vol. 18. No. 1. <;. На самом деле в додемократические времена статуи демократии все же воздвигались, часто в простой одежде и со змеями в руках (символ того, что народ приближен к земле – а также, надо полагать, потенциально ядовит). См.: Politische Ikonographie: Ein Handbuch / U. Fleckner et al. (eds). Munich: С. H. Beck, 2011.
(обратно)52
См., например, «договор с народом» Швейцарской народной партии: </ vertrag/Vertrag.pdf> (дата обращения 13.02.2015).
(обратно)53
Achen С.Н., Bartels L.M. Democracy for Realists: Why Elections Do Not Produce Responsive Government. Princeton, NJ: Princeton University Press, 2016.
(обратно)54
Цит. по: Diehl R The Populist Twist (в рукописи у автора).
(обратно)55
Bruhn К. “То Hell with Your Corrupt Institutions!”: AMLO and Populism in Mexico // Populism in Europe and the Americas: Threat or Corrective for Democracy? / C. Mudde, C. Rovira Kaltwasser (eds). N.Y.: Cambridge University Press, 2012. P. 88–112.
(обратно)56
Meckler M., Martin J.B. Tea Party Patriots: The Second American Revolution. N.Y.: Holt, 2012. P. 14.
(обратно)57
Martin В. The Principles of Representative Government. N.Y.: Cambridge University Press, 1997; Манен Б. Принципы представительного правления. СПб.: Европейский университет в Санкт-Петербурге, 2008.
(обратно)58
Ibid.; Там же.
(обратно)59
Ibid.; Там же. «Идентичность» была одним из обещаний национал-социализма: Карл Шмитт придал ей юридический статус, чтобы подчеркнуть ключевую роль Artgleichheit, расовой однородности, тождества между фюрером и народом. См.: Schmitt С. Staat, Bewegung, Volk: Die Dreigliederung der politischen Einheit. Hamburg: Hanseatische Verlagsgesellschaft, 1935.
(обратно)60
Urbinati N. A Revolt against Intermediary Bodies // Constellations. 2015. Vol. 22. R 477–486; Urbinati N. Zwischen allgemein-er Anerkennung und Misstrauen // Transit: Europaische Revue. 2013. No. 44.
(обратно)61
Цит. no: Diehl P. Populist Twist.
(обратно)62
Grillo B., Casaleggio G., Fo D. 5 Sterne: Uber Demokratie, Ital-ien und die Zukunft Europas / C. Ammann, A. Peter, W. Kogler (transl.). Stuttgart: Klett-Cotta, 2013. P. 107.
(обратно)63
White /., Ypi L. On Partisan Political Justification // American Political Science Review. 2011. Vol. 105. P. 381–396.
(обратно)64
Lucardie R, Voerman G. Geert Wilders and the Party for Freedom in the Netherlands: A Political Entrepreneur in the Polder // Exposing the Demagogues: Right-Wing and National Populist Parties in Europe / K. Grabow, E Hartleb (eds). P. 187–203. <-544-2-30. pdf?140519123322> (дата обращения 15.01.2016). По правде говоря, у Вилдерса были причины для такого тотального контроля: он видел, как партия Пима Фортёйна полностью развалилась после убийства Фортёйна в мае 2002 г. См.: De Lange S.L., Art D. Fortuyn versus Wilders: An Agency-Based Approach to Radical Right Party Building // West European Politics. 2011. Vol. 34. P. 1229–1249.
(обратно)65
Ibid. P. 1229–1249.
(обратно)66
Diehl P. Populist Twist.
(обратно)67
«Lega Nord» («Лига Севера») организована как клан, а Национальный фронт возглавляет одна семья (преемницей Жана-Мари Ле Пена стала его дочь Марин; Марин, в свою очередь, готовит себе на смену свою племянницу Марион. В настоящее время шесть представителей семьи Ле Пенов являются кандидатами в члены партии). См.: Guerot U. Marine Le Pen und die Metmorphose der franzosischen Republik // Leviathan. 2015. Vol. 43. P. 139–174.
(обратно)68
Saward М. The Representative Claim // Contemporary Political Theory 2006. Vol. 5. P. 297–318.
(обратно)69
Ibid. P. 298.
(обратно)70
Ochoa-Espejo Р Power to Whom? The People between Procedure and Populism // The Promise and Perils of Populism: Global Perspectives / C. de la Torre (ed.). Lexington: University Press of Kentucky, 2015. P. 59–90.
(обратно)71
Rosenblum N.L. On the Side of the Angels…
(обратно)72
Habermas /. Faktizitat und Geltung: Beitrage zur Diskusthe-orie des Rechts und des demokratischen Rechtsstaats. Frankfurt a/M.: Suhrkamp, 1994. S. 607.
(обратно)73
Moffitt B., Tormey S. Rethinking Populism: Politics, Mediatisation and Political Style // Political Studies. 2014. Vol. 62. P. 381–397.
(обратно)74
Jansen R.S. Populist Mobilization: A New Theoretical Approach to Populism // Sociological Theory. 2011. Vol. 29. P. 75–96.
(обратно)75
См.: Hawkins K. Is Chavez Populist? Measuring Populist Discourse in Comparative Perspective // Comparative Political Studies. 2009. Vol. 42. Р. 1040–1067; а также работу исследователей, входящих в группу «Team Populism». <. byu.edu> (дата обращения 22.04.2016).
(обратно)76
Полезное исключение – работа Albertazzi D., McDonnell D. Populists in Power. N.Y.: Routledge, 2015.
(обратно)77
Zuquete J.P. The Missionary Politics of Hugo Chavez // Latin American Politics and Society 2008. Vol. 50. P. 105.
(обратно)78
Moffitt В. How to Perform Crisis: A Model for Understanding the Key Role of Crisis in Contemporary Populism // Government and Opposition. 2015. Vol. 50. P. 189–217.
(обратно)79
De la Torre C. Populist Seduction in Latin America. Athens: Ohio University Press, 2010. P. 188.
(обратно)80
Это не значит, что все эти лидеры в точности похожи друг на друга по стилю и по сути. Моралес предпринял инклюзивный подход, в том числе разработав проект новой конституции для Боливии. Будучи «убежденным конституционалистом», предложил ряд новых основных прав (право на хорошую жизнь, право на природу); Моралес также добивался признания прежде исключенных меньшинств, объявив Боливию «многонациональным» государством.
(обратно)81
Martin В. The Principles of Representative Government. N.Y.: Cambridge University Press, 1997 (рус. изд.: Манен Б. Принципы представительного правления. СПб.: Европейский университет в Санкт-Петербурге, 2008); Green J.E. The Eyes of the People: Democracy in an Age of Spectatorship. N.Y.: Oxford University Press, 2010.
(обратно)82
По поводу массового клиентелизма как ранней формы демократии см.: Fukuyama F. Political Order and Political Decay. N.Y.: FSG, 2014 (рус. изд.: Фукуяма Ф. Угасание государственного порядка. М.: ACT, 2017).
(обратно)83
См.: Weyland К. The Threat from the Populist Left // Journal of Democracy. 2013. Vol. 24. P. 18–32.
(обратно)84
По поводу Венесуэлы см.: Mazzuca S.L. The Rise of Rentier Populism // Journal of Democracy. 2013. Vol. 24. P. 108–122.
(обратно)85
См.: Valery Y. Boliburguesia: Nueva clase venezolana. <http:// -ela_boliburguesia_wbm.shtml> (дата обращения 15.01.2016).
(обратно)86
Популистские режимы неустанно работают над тем, чтобы придать обществу определенный формат. Орбан создал модель с оруэлловским названием «Система национального сотрудничества»; Эрдоган постоянно внушает туркам, что всякий в обществе должен знать свое место (и свои ограничения). См:. Tombuş H.E. Erdogans Turkey: Beyond Legitimacy and Legality, <-turkey-be-yond-legitimacy-andlegality> (дата обращения 15.01.2016).
(обратно)87
Priester К. Rechter und linker Populismus: Annaherung an ein Chamaleon. Frankfurt a/M.: Campus, 2012. P. 20.
(обратно)88
Schmitt С. The Crisis of Parliamentary Democracy / E. Kennedy (transl.). Cambridge, MA: MIT Press, 1988. P. 16–17 (рус. изд.: Шмитт К. Духовно-историческое состояние современного парламентаризма. Предварительные замечания (О противоположности парламентаризма и демократии) // Социологическое обозрение. 2009. Т. 8. № 2. С. 15–16. <. hse.ru/data/2011/03/30/1211853314/8_2_2.pdf>).
(обратно)89
См.: Viktor Orbans Speech at the 14th Kotcse Civil Picnic. <-prime-minister/the-prime-minister-s-speeches/viktor-orban-s-speech-at-the-14th-kotcse-civil-picnic> (дата обращения 15.01.2016).
(обратно)90
Defekte Demokratien: 2 vols / W. Merkel et al. (eds). Opladen: Leske + Budrich, 2003.
(обратно)91
Интересное исключение: Cristobal Rovira Kaltwasser. Populism vs. Constitutionalism? </ publications/Kaltwasser.pdf> (дата обращения 16.06.2015).
(обратно)92
См. также: Brettschneider С. Popular Constitutionalism Contra Populism // Constitutional Commentary. 2015. Vol. 30. P. 81–88. Основной работой по теме дебатов вокруг популярного конституционализма в США остается книга Ларри Крамера: Kramer L. The People Themselves. N.Y.: Oxford University Press, 2004.
(обратно)93
Так, например, Элизабет Бомонт пишет: «Я беру на себя смелость использовать слова “гражданский” и “популярный” в нестрогом смысле, как взаимозаменяемые непрофессиональные термины, обозначающие в широком смысле обычных людей, граждан, неофициальных лиц» (Beaumont Е. The Civic Constitution: Civic Visions and Struggles in the Path toward Constitutional Democracy. N.Y.: Oxford University Press, 2014. P. 4). А Том Доннелли утверждает, что, при всех своих различиях, сторонники популярного конституционализма обладают «популистским чутьем», которое представляет собой не что иное, как «убежденность в том, что американский народ (и его избранные представители) должны постоянно участвовать в наполнении Конституции новым смыслом» СDonnelly I Making Popular Constitutionalism Work // Wisconsin Law Review. 2012. P. 161–162).
(обратно)94
Parker R.D. “Here the People Rule”: A Constitutional Populist Manifesto // Valparaiso University Law Review. 1993. Vol. 27. P. 532.
(обратно)95
Loughlin М. The Constitutional Imagination // Modern Law Review. 2015. Vol. 78. P. 1–25.
(обратно)96
Ackerman В. Three Paths to Constitutionalism – And the Crisis of the European Union // British Journal of Political Science. 2015. Vol. 45. P. 705–714.
(обратно)97
О понятии «фасадной конституции» (a facade constitution) см.: Sartori G. Constitutionalism: A Preliminary Discussion // American Political Science Review. 1962. Vol. 56. P. 853–864.
(обратно)98
Edelstein D. The Terror of Natural Right: Republicanism, the Cult of Nature, and the French Revolution. Chicago: University of Chicago Press, 2009.
(обратно)99
Uitz R. Can You Tell When an Illiberal Democracy Is in the Making? An Appeal to Comparative Constitutional Scholarship from Hungary // International Journal of Constitutional Law. 2015. Vol. 13. P. 286. О новой венгерской конституции см. специальный раздел, посвященный венгерскому повороту в сторону нелиберализма, в «Journal of Democracy» (2012. Vol. 23), а также сборник под редакцией Габора Атиллы Тота: Constitution for a Disunited Nation: On Hungary’s 2011 Fundamental Law / G.A. Toth (ed.). Budapest: CEU Press, 2012.
(обратно)100
Цит. по: Batory A. Populists in Government? Hungary’s “System of National Cooperation” // Democratization. 2016. Vol. 23. P. 283–303.
(обратно)101
Uitz R. Can You Tell..?
(обратно)102
Grimm D. Types of Constitutions // The Oxford Handbook of Comparative Constitutional Law / M. Rosenfeld, A. Sajo (eds). N.Y.: Oxford University Press, 2012. P. 98–132.
(обратно)103
См. в особенности работы Роберто Висиано Пастора (Roberto Viciano Pastor) и Рубена Мартинеса Далмау (Ruben Martinez Dalmau). Колумбия – менее очевидный случай того, что сочувствующие обозреватели называют nuevo constitucionalismo latinoamericano.
(обратно)104
Landau D. Abusive Constitutionalism // University of California Davis Law Review. 2013. Vol. 47. R 213.
(обратно)105
Ein Schritt in Richtung Demokratie // Frankfurter Allgemeine Zeitung. January 5. 2016. </ ausland/amerika/parlament-in-venezuela-tritt-mit-oppositio-neller-mehrheit-zusammen-13999306.html> (дата обращения 15.01.2016).
(обратно)106
Ibid.
(обратно)107
Garsten В. Representative Government and Popular Sovereignty // Political Representation / I. Shapiro, S.C. Stokes, E.J. Wood, A.S. Kirshner (eds). N.Y.: Cambridge University Press, 2009. P. 91.
(обратно)108
Mollers C. Demokratie: Zumutungen und Versprechen. Berlin: Wagenbach, 2008. S. 33–34.
(обратно)109
Achcar G. The People Want: A Radical Exploration of the Arab Uprising. Berkeley: University of California Press, 2013. P. 1.
(обратно)110
Laclau E. On Populist Reason. L.: Verso, 2005. Как утверждает Лаклау, «легко увидеть, что… условия возможности политического и условия возможности популизма – одни и те же: и те и другие предполагают общественный раскол; и там и там мы обнаруживаем неоднозначный demos, который, с одной стороны, является одним из слоев общества (класс обездоленных, социальных изгоев), а с другой – агентом, который антагонистически преподносит себя в качестве общества в его целостности» (Laclau Е. Populism: Whats in a Name? // Populism and the Mirror of Democracy / F. Panizza (ed.). L.: Verso, 2005. P. 48).
(обратно)111
См.: Frank /. Constituent Moments: Enacting the People in Postrevolutionary America. Durham: Duke University Press, 2010.
(обратно)112
Garsten В. Representative Government…
(обратно)113
Lefort С. The Political Forms of Modern Society: Bureaucracy, Democracy, Totalitarianism / J.B. Thompson (ed.). Cambridge, MA: MIT Press, 1986. P. 303–304.
(обратно)114
Rosanvallon Р. Revolutionary Democracy // Rosanvallon Р. Democracy Past and Future / S. Moyn (ed.). N.Y.: Columbia University Press, 2006. P. 83–84.
(обратно)115
Цит. no: Frank /. Constituent Moments… P. 2. Историк Дэниэл Роджерс справедливо отмечает: «Прослеживая историю термина “Народ”, мы видим, как люди нагружают его исключительным смыслом, а потом, уступив его другим претендентам, боязливо сбегают от последствий» (цит.: Ibid. Р. 3).
(обратно)116
Цит. по: Koselleck R. Volk, Nation, Nationalismus, Masse // Geschichtliche Grundbegriffe. Vol. 7/0. Brunner, W. Conze, R. Koselleck (eds). Stuttgart: Klett-Cotta,1992. P. 48. Как лаконично выразился Козеллек, «Бисмарк сформулировал критику идеологии, выведя ее непосредственно из понятия народа».
(обратно)117
Wolin S. Transgression, Equality, Voice // Demokratia: A Conversation on Democracies, Ancient and Modern / J. Ober, C. Hedrick (eds). Princeton, NJ: Princeton University Press, 1996. P.80.
(обратно)118
Rosanvallon P. Revolutionary Democracy. P. 91.
(обратно)119
Тут можно вспомнить о разнице между первой и второй волной феминизма.
(обратно)120
Mir geht es um Respekt // Die tageszeitung. September 7. 2013. <; (дата обращения январь 2016).
(обратно)121
Очень поучительное сопоставление случаев Венгрии и Египта см. в: Halmai G. Guys with Guns versus Guys with Reports: Egyptian and Hungarian Comparisons // Verfassungsblog. July 15. 2013. <-hunga-ryhalmaiconstitution-coup> (дата обращения 13.11.2013).
(обратно)122
Нечто похожее произошло и на Украине, как только протесты на Майдане переросли в споры по поводу идентичности – какой должна быть настоящая Украина. Я благодарен Балашу Тренченьи за беседы по этому вопросу.
(обратно)123
Achen С.Н., Bartels L.M. Democracy for Realists. Princeton, NJ: Princeton University Press, 2016.
(обратно)124
Ober /. The Original Meaning of Democracy // Constellations. 2008. Vol. 15. P. 3–9. Я не буду напоминать о таких общеизвестных вещах, как исключение из политического процесса женщин, рабов и метеков.
(обратно)125
Mair Р Ruling the Void: The Hollowing of Western Democracy. N.Y.: Verso, 2013.
(обратно)126
Rovira Kaltwasser С. The Responses of Populism to Dahls Democratic Dilemmas // Political Studies. 2014. Vol. 62. P. 470–487.
(обратно)127
Ochoa Espejo R The Time of Popular Sovereignty: Process and the Democratic State. University Park: Penn State University Press, 2011.
(обратно)128
См., например: Talisse R.B. Does Value Pluralism Entail Liberalism? // Journal of Moral Philosophy. 2010. Vol. 7. P. 302–320.
(обратно)129
Я не буду вдаваться в специфику теории Ролза о практическом (общественном) разуме с ее ограничительным моментом (необходимость разумного плюрализма). Rawls J. The Idea of Public Reason Revisited // Rawls J. The Law of Peoples. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1999. P. 129–180.
(обратно)130
Цит. по: Kazin М. The Populist Persuasion: An American History. Ithaca, NY: Cornell University Press, 1998. P. 233.
(обратно)131
Kazin М. The Populist Persuasion. Р. 241.
(обратно)132
Федералист: Политические эссе А. Гамильтона, Дж. Мэдисона и Дж. Джея. М.: Издательская группа «Прогресс» – «Литера», 1994. С. 420. – Примеч. пер.
(обратно)133
Keane /. The Life and Death of Democracy. N.Y.: Norton, 2009. P. 277.
(обратно)134
Эти популярные элементы оказываются в фокусе рассмотрения в кн.: Amar A.R. Americas Constitution: A Biography. N.Y.: Random House, 2006.
(обратно)135
Согласно Тиму Хауэну, термин «популистский» впервые возник в 1896 г. в статье в журнале «The Nation». См.: Houwen Т. The Non-European Roots of the Concept of Populism. Working paper No. 120. Sussex European Institute, 2011.
(обратно)136
Keane J. The Life and Death… P. 340.
(обратно)137
Цит. по: Canovan М. Populism. N.Y.: Harcourt Brace Jova-novich, 1981. P. 33.
(обратно)138
Игра слов в оригинале: the plutocrats, the aristocrats, and all the other rats. – Примеч. пер.
(обратно)139
Ibid. P. 51, 52.
(обратно)140
Hofstadter R. The Paranoid Style in American Politics. N.Y.: Vintage, 2008.
(обратно)141
Цит. no: Kazin M. The Populist Persuasion… P. 10.
(обратно)142
Postel С. The Populist Vision. N.Y.: Oxford University Press, 2007.
(обратно)143
Об этом упущенном моменте см.: Ackerman В. We the People: Foundations. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1993. P. 83–84.
(обратно)144
Vann Woodward C. The Populist Heritage and the Intellectual // The American Scholar. 1959–1960. Vol. 29. P. 55.
(обратно)145
Norris Р. Its Not Just Trump // Washington Post. March 11. 2016. <-cage/ wp/2016/03/11 /its-not-just-trump-authoritarian-populism-is-ris-ing-across-the-west-heres-why> (дата обращения 22.04.2016).
(обратно)146
Gilens M. Affluence and Influence: Economic Inequality and Political Power in America. Princeton, NJ: Princeton University Press, 2014.
(обратно)147
Kriesi H., Grande E., Lachat R., Dolezal M., Bornschier S., Frey I Globalization and the Transformation of the National Political Space: Six European Countries Compared // European Journal of Political Research. 2006. Vol. 45. P. 921–956.
(обратно)148
Подробнее об этом я размышляю в: Muller J.-W. Contesting Democracy: Political Ideas in Twentieth-Century Europe. L.: Yale University Press, 2011 (рус. изд.: Мюллер Я.-В. Споры о демократии: Политические идеи в Европе XX века. М.: Изд-во Института Гайдара, 2013).
(обратно)149
Можно еще добавить, что важнейшая ценность, заявленная в послевоенных конституциях, – это достоинство, а не свобода.
(обратно)150
Можно было бы задаться вопросом, чем «ограниченная демократия» отличается от «направляемой» или «дефектной». Разница в том, что в условиях «ограниченной демократии» возможны реальные изменения в поведении тех, в чьих руках находится власть, и все ограничения в конце концов оправдывают себя, поскольку помогают укрепить демократию. В последних двух вариантах реальные изменения невозможны.
(обратно)151
Urbinati N. Zwischen allgemeiner Anerkennung und Misstrauen // Transit: Europaische Revue. 2013. No. 44.
(обратно)152
Bickerton C., Invernizzi C. Populism and Technocracy: Opposites or Complements? // Critical Review of International Social and Political Philosophy. 2015. < 080/13698230.2014.995504> (дата обращения 28.04.2016).
(обратно)153
См., например: Fieschi С. A Plague on Both Your Populisms! // Open Democracy. April 19. 2012. <-mocracy.net/catherine-fieschi/plague-on-both-your-populisms> (дата обращения 13.03.2014).
(обратно)154
Streeck W. Gekaufte Zeit. Berlin: Suhrkamp, 2013 (рус. изд.: Штрик В. Купленное время. M.: Изд. дом ВШЭ, 2017).
(обратно)155
Уолт Уитмен. Демократические дали. – Примеч. пер.
(обратно)


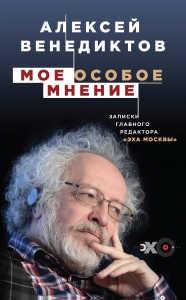


Комментарии к книге «Что такое популизм?», Ян-Вернер Мюллер
Всего 0 комментариев