Либеральный фашизм
Отзывы о «Либеральном фашизме»
«“Либеральный фашизм” Джоны Голдберга приведет в ярость многих представителей левого лагеря, однако его неприятный тезис заслуживает серьезного внимания. Начиная со времен евгеники возникла некоторая элитарная моральная тенденция, позволяющая определенной группе людей считать, что они имеют право распоряжаться жизнями других людей. Мы заменили божественное право королей божественным правом самоуверенных групп. Демократия и права личности противостоят обеим системам власти. Голдберг приведет вас к новому пониманию и заставит вас глубоко задуматься».
Ньют Гингрич, бывший спикер Палаты представителей, автор книги «Завоевывая будущее» (Winning the Future)
«В величайшей мистификации современной истории правившая в России Социалистическая рабочая партия, коммунисты, зарекомендовали себя как полная противоположность двух своих социалистических клонов, Национал-социалистической немецкой рабочей партии (также известной как нацисты) и вдохновленных марксизмом итальянских фашистов, называя “фашистами” представителей обеих этих партий. Джона Голдберг стал первым историком, внесшим ясность в хаос, который этот ловкий маневр породил в западной мысли семьдесят пять лет назад и который существует по сей день. Какие бы чувства у вас ни вызвал “Либеральный фашизм”, эта книга, посвященная интеллектуальной истории, не оставит вас равнодушным».
Том Вулф, автор книг «Человек в полной мере» (A Man in Full) и «Меня зовут Шарлотта Симмонс» (I Am Charlotte Simmons)
«“Я считаю, что американский либерализм является тоталитарной политической религией”, — заявляет Джона Голдберг в начале “Либерального фашизма”. Сначала я подумал, что речь идет о партийной гиперболе. Это оказалось не так. “Либеральный фашизм” представляет собой портрет политической истории XX века, которая рассматривается под новым углом. Эта книга всегда будет влиять на мое осмысление этой истории и траектории сегодняшней политики».
Чарльз Мюррей, автор книги «Достижения человечества» (Human Accomplishment) и соавтор (вместе с Ричардом Дж. Хернштейном) книги «Гауссова кривая» (The Bell Curve)
«Джона Голдберг утверждает, что доктринальным и эмоциональным источником современного либерализма является европейский фашизм XX века. Многих людей способна потрясти сама мысль о том, что давно дискредитированный фашизм может, изменившись, найти воплощение в духе другой эпохи. Всегда радостно видеть, как кто-то бросает вызов общепринятому мнению, однако данная работа не является памфлетом. Догадка Голдберга, которой предшествовало изучение огромного количества материала, оказывается верной».
Дэвид Прайс-Джонс, автор книги «Странная смерть Советского Союза» (The Strange Death of the Soviet Union)
«В 1930-е годы интеллектуал-социалист Герберт Уэллс призывал к созданию “либерального фашизма”, который он представлял как тоталитарное государство под управлением могущественной группы благожелательных экспертов. В "Либеральном фашизме” Джона Голдберг блестяще раскрывает интеллектуальные истоки фашизма, показывая, что не только идеи, лежащие в основе фашизма, порождены левыми политическими силами, но и либерально-фашистский импульс продолжает жить в воззрениях современных прогрессивистов и даже является искушением для сострадательных консерваторов».
Рональд Бейли, автор книги «Биология освобождения» (Liberation Biology)
«Один из лучших и самых ярких представителей своего поколения. Здесь есть с чем поспорить, но, имея дело с Джоной, вы столкнетесь со сметливым умом, необычайным остроумием и редкостной человечностью».
Уильям Дж. Беннетт, научный сотрудник Института Клермонт и автор книги «Америка: Последняя надежда» (America: The Last Best Hope)
«Обилие сложных идей, подкрепленных тщательными исследованиями и блестящим анализом. Это книга, которая бросает вызов основополагающим предположениям своего времени. Возьмите ее и начните переосмысливать свое понимание того, кто находится “слева”, а кто “справа”».
Томас Соуэлл
«“Либеральный фашизм” следует прочесть целиком за его красочные цитаты и убедительную аргументацию. Автор, до сих пор известный как проницательный и колкий полемист, показал себя крупным политическим мыслителем».
Дэниэл Пайпс
«Это совершенно замечательная книга одного из самых ярких политических обозревателей. Джона Голдберг пишет превосходно и обладает необычайно развитым мозгом. Читая его труд, просто получаешь наслаждение. Прекрасная книга во всех отношениях».
Кристофер Бакли, автор книги «Спасибо за то, что курите» (Thank You for Smoking)
«Призыв к правильному пониманию консерватизма, запятнанного клеветой либералов и собственными партийными компромиссами. Эта значимая книга Голдберга является хорошим первым шагом на пути к оживлению консервативной традиции».
Брюс Торнтон, соавтор книги «Костер гуманитарных наук» (Bonfire of the Humanities)
«Необычайно приятно обнаружить, что самую значительную с идеологической точки зрения работу в области политической публицистики со времени выхода в свет книги Аллана Блума «Закрытие американского ума» (The Closing of the American Mind) написал не кто иной, как веселый шутник из числа консервативных политических обозревателей».
Воке Дэй, World Net Daily
«“Либеральный фашизм” представляет собой основательное и стильное исследование политической истории».
Ник Коэн, The Guardian
«“Либеральный фашизм” непременно следует прочитать в наш век наступающего этатизма».
Рич Карлгард, издатель журнала Forbes
«Сочинения Голдберга всегда производили на меня сильное впечатление. Эта книга только добавляет к моему высокому мнению о нем».
Давид Хартлайн, The Catholic Report
«Послесловие Голдберга является настолько сильным, что хочется увидеть книгу этого прекрасного писателя, посвященную проблеме консервативного этатизма. Для того чтобы победить либеральный фашизм, американские консерваторы должны пробудить собственные ряды от чар прогрессивизма. В своей новой книге Джона Голдберг привлекает внимание консерваторов и всех сторонников конституционной формы правления к чрезвычайно важной проблеме, которой суждено стать предметом грядущих политических баталий».
Рональд Дж. Пестритто, Claremont Review of Books
Введение. Все, что вы знаете о фашизме, неверно
Джордж Карлин[1]: ...А бедных в этой стране постоянно грабили. Богатые становились еще богаче под руководством этого преступного президента-фашиста и его правительства. [Аплодисменты. Одобрительные возгласы.]
Билл Мар[2]: Да, да.
Джеймс Глассман[3]: Вы знаете, Джордж... Джордж, я думаю, что вы знаете... Знаете ли вы, что такое фашизм?
Карлин: Фашизм, когда он придет в Америку...
Глассман: Вы знаете, кто такие нацисты?
Карлин: Когда фашизм придет в Америку, он не будет одет в коричневые и черные рубахи. Сапог на нем тоже не будет. Будут кроссовки Nike и футболки со «смайликами». Очень добрыми «смайликами». Фашизм... Германия потерпела поражение во Второй мировой войне. А фашизм победил. Поверьте мне, мой друг.
Мар: По сути, фашизм — это когда корпорации начинают управлять страной.
Карлин: Да[4].
За исключением некоторых суждений, которые можно услышать лишь на научных конференциях, приведенные высказывания о фашизме типичны для большинства дискуссий на эту тему, ведущихся в Америке. Воинственно настроенные представители левых партий кричат о том, что все те, кто находится по правую сторону, в особенности «жирные корпоративные коты» и поощряющие их политики, являются фашистами. Тем временем консерваторы просто теряют дар речи, потрясенные этим несправедливым оговором.
В отличие от Билла Мара Джордж Карлин считает, что фашизм наступает вовсе не тогда, когда корпорации начинают управлять страной. Как это ни парадоксально, верны его выводы, но не доказательства. Он говорит, что если фашизм действительно придет в Америку, то примет форму «фашизма с улыбающимся лицом», хорошего фашизма. Это так. Но дело в том, что фашизм по большому счету не просто уже пришел, он здесь уже почти целый век. То подновленное здание американского прогрессивизма, которое мы называем либерализмом, фактически стоит на фундаменте фашизма и является одним из его проявлений. При этом он вовсе не то же самое, что нацизм. И близнецом итальянского фашизма его считать тоже нельзя. Тем не менее прогрессивизм как политическое движение — родной брат фашизма, а сегодняшний либерализм — сын прогрессивизма. Можно продолжить аналогии и заявить, что либерализм — по сути, исполненный благих намерений племянник фашизма. Он вряд ли может полностью отождествляться со своими более неприглядными «родственниками», но, тем не менее, обладает удивительным фамильным сходством с ними, которое немногие согласятся признать.
Фашизм... В английском языке трудно найти другое слово, которое люди употребляли бы настолько же часто, не зная его истинного значения. И в самом деле, чем чаще кто-либо произносит слово «фашист» в повседневной речи, тем меньше вероятность того, что он знает, о чем говорит. Вы думаете, что ученые, изучающие фашизм, исключение из этого правила? Но если что-то действительно отличает научное сообщество, так это честность. Они признают, что даже им как профессионалам не удалось выяснить, что же такое фашизм. Бесчисленные научные исследования начинаются с этого формального оправдания. «Относительно данного термина существует такое огромное количество различных мнений, — пишет Роджер Гриффин во введении к работе «Природа фашизма» (The Nature of Fascism), — что стало почти нормой открывать любую дискуссию о фашизме подобным заявлением».
Те определения, которые немногие ученые отважились дать этому феномену, позволяют нам приблизиться к пониманию того, почему так трудно прийти к консенсусу. Роджер Гриффин, ведущий специалист в данной области, определяет фашизм как «разновидность политической идеологии, мифическое ядро которой во всем многообразии его разновидностей представляет собой палингенетическую форму популистского ультранационализма». Роджер Итвелл заявляет, что сущностью фашизма является «форма мысли, которая проповедует необходимость социального перерождения, для того чтобы создать хопистически-националъныйрадикальный “третий путь”». Эмилио Джентиле предполагает, что «объединяющее различные классы, но включающее преимущественно представителей среднего класса массовое движение, которое объявляет своей целью национальную регенерацию, находится в состоянии войны со своими противниками и стремится к монополизации власти посредством террора, применения парламентских тактик и компромисса для создания нового режима, разрушающего демократию»[5].
Эти определения совершенно приемлемы и выгодно отличаются от других формулировок краткостью, что позволяет воспроизвести их здесь. Так, например, социолог Эрнст Нольте, ключевая фигура в знаменитом «споре историков», проходившем в Германии в 1980-х годах, предлагает дефиницию из шести пунктов, известную как «фашистский минимум». В ней фашизм определяется посредством тех идеологий, которым он противостоит. По Нольте фашизм — это одновременно «антилиберализм» и «антиконсерватизм». Другие логические построения еще более сложны и требуют учитывать контраргументы в качестве исключений, подтверждающих правило.
Научный вариант принципа неопределенности Карла Гейзенберга формулируется следующим образом: «Чем тщательнее вы изучаете предмет, тем менее определенным он становится». Американский ученый Р. А. Н. Робинсон написал 20 лет назад: «Несмотря на невообразимое количество времени и мыслительных усилий исследователей, вложенных в его изучение, фашизм остается великой загадкой для студентов XX столетия». В то же время авторы «Исторического словаря фашистских режимов и нацизма» (Dictionnaire Historique des Fascismes et du Nazisme) утверждают, что «не существует общепринятого определения феномена фашизма и даже минимального согласия относительно его границ, идеологических основ или характеризующих его деятельностных модальностей». Стэнли Г. Пейн, которого многие считают главным из живущих ныне исследователей фашизма, писал в 1995 году: «В конце XX века фашизм остается, пожалуй, самым неопределенным из основных политических терминов». Есть даже такие серьезные ученые, которые заявляют, что нацизм не был фашистским по сути, что фашизм вообще не существует, или же, что он главным образом является светской религией (это моя точка зрения). «Попросту говоря, — пишет Гилберт Аллардайс, — мы договорились использовать это слово, не условившись о том, как его следует определять»[6].
И все же, даже несмотря на признание учеными того, что природа фашизма является неопределенной, сложной и трактуется чрезвычайно противоречиво, многие современные либералы и сторонники левых сил ведут себя так, словно точно знают, что такое фашизм. Более того, они видят его всюду, но только не тогда, когда смотрят в зеркало. Действительно, левые орудуют этим термином, как дубиной, подобно мятежным памфлетистам обрушиваясь на своих политических оппонентов. В конце концов никто не обязан воспринимать фашиста всерьез. Никто не заставляет вас прислушиваться к аргументам фашиста или заботиться о его чувствах или правах. Именно поэтому Альберт Гор и многие другие экологи с готовностью приравнивают скептиков глобального потепления к отрицателям холокоста. Такого сравнения оказывается достаточно, для того чтобы не давать таким людям права голоса.
Короче говоря, слово «фашист» — современный вариант слова «еретик» — обозначает личностей, достойных отлучения от государства. Левые употребляют другие слова — «расист», «сексист», «гомофоб», «христианский фундаменталист» — с той же целью, но значения данных слов не так многообразны. А вот понятие «фашизм» поистине универсально. Джордж Оруэлл отметил этот факт еще в 1946 году в своем знаменитом эссе «Политика и английский язык» (Politics and the English Language): «Слово “фашизм” ныне не употребляется ни в каком другом смысле, кроме как для обозначения “чего-либо нежелательного”»[7].
Голливудские авторы называют в своих сценариях «фашистами», «коричневорубашечниками» и «нацистами» «тех, кто не нравится либералам». Поддержку права родителей выбирать школу для своих детей, которая прозвучала в популярном сериале компании NBC «Западное крыло», почему-то сочли «фашистской» (хотя право выбора школы является, пожалуй, самым нефашистским решением в области государственной политики из когда-либо принятых после разрешения надомного обучения). Крэш Дэвис, которого играет Кевин Костнер в фильме «Дархэмский бык» (Bull Durham), объясняет своему протеже: «Перестань пытаться выбить всех в аут. Выбивания в аут скучны и, кроме того, они фашистские. Отбивай мяч так, чтобы он катился или прыгал по земле. Такие мячи более демократичны». Грубый повар в комедийном сериале «Сайнфельд» (Seinfeld) получает прозвище Нацистский Суп.
Реальный мир лишь в незначительной степени менее абсурден. Член Палаты представителей Чарли Рэйнджел заявил, что предложенный Республиканской партией в 1994 году «контракт с Америкой» был более экстремистским, чем нацизм, «Гитлер даже не предлагал делать такие вещи» (это замечание является формально точным в том плане, что Гитлер на самом деле не пытался законодательно ограничить срок полномочий для председателей комитетов или провести закон об учете и обосновании всех затрат и потребностей при составлении бюджета). В 2000 году Билл Клинтон назвал политическую платформу Республиканской партии Техаса «фашистским трактатом». В газете New York Times вышло большое количество публикаций в русле господствующей идеологии в поддержку ведущих ученых, которые утверждают, что Великая Старая Партия[8] является фашистской, а христианские консерваторы — новыми нацистами[9].
Совсем недавно лауреат Пулитцеровской премии репортер New York Times Крис Хеджес написал книгу под названием «Американские фашисты: Правые христиане и война в Америке» (American Fascists: The Christian Right and the War on America The Christian Right and the War on America), пополнившую внушительный список современных работ, в которых утверждается, что консервативные христиане, или христиане-фундаменталисты, являются фашистами (достаточно негативная критическая статья Рика Перлстайна в New York Times начинается с заявления: «В Америке, конечно же, есть христианские фашисты»). Преподобный Джесси Джексон относит к проявлениям фашизма любое несогласие со своей политической программой, основанной на расовом признаке. В 2000 году при пересчете голосов в штате Флорида он заявил, что те, кто пережил холокост, снова стали мишенью, потому что голосование во Флориде является «слишком сложным для нескольких тысяч пожилых избирателей». На шоу Ларри Кинга Джексон сделал абсурдное заявление: «Христианская коалиция была мощной силой в Германии». Затем он продолжил: «Она сформулировала подобающее научное богословское объяснение трагедии в Германии. Христианская коалиция была там очень заметной»[10].
Спросите среднестатистического, достаточно образованного человека, что приходит ему на ум, когда он слышит слово «фашизм», и он вам сразу же ответит: «диктатура», «геноцид», «антисемитизм», «расизм» и (конечно же) «правое крыло». Копните немного глубже и сместитесь чуть дальше налево, и вы услышите о «евгенике», «социальном дарвинизме», «государственном капитализме» или зловещей «власти большого бизнеса». Слова «война», «милитаризм» и «национализм» также будут упоминаться довольно часто. Некоторые из перечисленных признаков действительно составляли основу так называемого классического фашизма: фашизма Бенито Муссолини и нацизма Адольфа Гитлера. Другие, такие как часто неверно понимаемый термин «социальный дарвинизм», имеют мало общего с фашизмом[11]. Но очень немногие из этих понятий применимы только к фашизму, и почти ни одно из них нельзя определенно считать правым или консервативным. По крайней мере в понимании американцев.
Во-первых, надо уметь отличать симптомы недуга от самой болезни. Взять хотя бы милитаризм. О нем мы еще не раз вспомним йДтой книге. Милитаризм, безусловно, был основной составляющей фашизма (и коммунизма) в большинстве стран. Но его связь с фашизмом является более сложной, чем можно было бы предположить. Для некоторых мыслителей в Германии и Соединенных Штатах (таких, как Тедди Рузвельт и Оливер Уэнделл Холмс) война была поистине источником важных моральных ценностей. Они рассматривали милитаризм как социальную философию в чистом виде. Но гораздо больше идеологов воспринимали милитаризм исключительно утилитарно: как самое лучшее средство для того, чтобы направить и общество по пути экономического развития. Милитаризм с приписанными ему достоинствами, наподобие тех, которыми изобилует знаменитое эссе Уильяма Джеймса «Моральный эквивалент войны» (The Moral Equivalent of War), представлялся реальной и разумной моделью для достижения желаемых целей. Муссолини, который открыто восхищался Джеймсом и охотно его цитировал, использовал эту логику в своей знаменитой «Битве за хлеб» (Battle of the Grains) и других радикальных социальных инициативах. Идеи такого рода приобрели огромное количество сторонников в Соединенных Штатах благодаря тому, что многие ведущие «прогрессивисты» ратовали за использование «промышленных армий» для создания идеальной демократии трудящихся. Они нашли применение в Гражданском корпусе охраны природных ресурсов Франклина Рузвельта, исключительно милитаристской социальной программе, а позднее и в Корпусе мира Джона Ф. Кеннеди.
Этот штамп прочно обосновался в языке современного либерализма. Каждый день мы слышим о «войне с раком», «войне с наркотиками», «войне с бедностью» и сталкиваемся с призывами сделать ту или иную социальную проблему «моральным эквивалентом войны». Начиная от вопросов здравоохранения и контроля над огнестрельным оружием и заканчивая глобальным потеплением, либералы настаивают на том, что нам необходимо «выйти за пределы политики» и «оставить идеологические разногласия позади» ради «общего блага». Нам говорят, что эксперты и ученые знают, что нужно делать, поэтому никаких обсуждений не будет. Это логика фашизма, хоть и в несколько приглаженном, смягченном виде, и она четко прослеживается в правлении Вудро Вильсона, Франклина Рузвельта и даже Джона Ф. Кеннеди.
Кроме того, конечно же, существует расизм. Вне всякого сомнения, расизм был краеугольным камнем нацистской идеологии. Сегодня мы совершенно спокойно ставим знак равенства между расизмом и нацизмом. И во многих отношениях это совершенно уместно. Но почему бы не уравнять нацизм и, скажем, афроцентризм? Многие ранние афроцентристы, такие как Маркус Гарви, были апологетами фашизма или открыто называли себя фашистами. Организация «Нация ислама»[12], как это ни удивительно, связана с нацизмом, и ее теология имеет сходство с концепцией Гиммлера. «Черные пантеры» — милитаристская группировка молодых мужчин, исповедующих насилие, сепаратизм и расовое превосходство, — по своей сути являются такими же фашистами, как коричневорубашечники Гитлера или боевые отряды Муссолини. Писатель-афроцентрист Леонард Джеффрис, который считал, что чернокожие — это «солнечные люди», а белокожие — «ледяные люди», может, на первый взгляд, показаться нацистским теоретиком.
Некоторые представители левых кругов утверждают, что «сионизм тождествен расизму» и что израильтяне — это те же нацисты. Такие сравнения, безусловно, несправедливы и необоснованны, однако почему мы не слышим подобных обвинений, например, в адрес Национального совета «Ла Раса» («Нация»)[13], или радикальной испанской группы MEChA, девиз которой Рог la raza todo. Fuera de la Raza nada означает: «Все для расы, ничего вне расы»? Почему в тех случаях, когда белый человек высказывается таким образом, он «объективно» считается фашистом, но когда то же самое говорит представитель неевропеоидной расы, то это воспринимается всего лишь как выражение модного мультикультурализма?
Представители левых сил стремятся всеми возможными способами оставлять такие вопросы без ответа. Они предпочли бы определять фашизм по Оруэллу, т. е. как «все нежелательное», скрывая таким образом собственную фашистскую сущность. Когда же их вынуждают ответить, ответы их обычно бывают в большей степени интуитивными или пренебрежительно-насмешливыми, чем рациональными или принципиальными. Из их логики следует, что мультикультурализм, Корпус мира и тому подобное — это «хорошие вещи», к которым либералы относятся одобрительно, а «хорошие вещи» не могут быть фашистскими уже хотя бы потому, что либералы одобряют их. И в самом деле это мнение становится решающим аргументом для огромного числа писателей, которые с готовностью используют слово «фашист» применительно к «плохим парням», основываясь только на том, что либералы считают их плохими. Например, можно утверждать, что Фидель Кастро — это типичный хрестоматийный фашист. Но в силу того, что левые одобряют его противостояние американскому «империализму», а также потому, что он использует привычные формулы марксизма, было бы не просто неверно, но объективно глупо называть его фашистом. В то же время достаточно разумные, искушенные в политике люди сплошь и рядом называют фашистами Рональда Рейгана, Джорджа Буша, Руди Джулиани и других консерваторов.
Главный недостаток такого понимания фашизма заключается в том, что ему придается правый уклон, в то время как он всегда был и остается левым явлением. Этот факт (неудобная правда, если она вообще была) в наше время прикрывается также ошибочным утверждением, что фашизм, и коммунизм противоположны. В действительности они тесно связаны между собой как исторические конкуренты, борющиеся за одни и те же ценности и стремящиеся доминировать и контролировать одно и то же социальное пространство. То, что они воспринимаются как противоположности, объясняется превратностями интеллектуальной истории и (что гораздо существеннее) результатом согласованных пропагандистских усилий «красных», нацеленных на то, чтобы «коричневые» представлялись злонамеренными и «иными» (по иронии судьбы демонизация «инаковости» считается одной из определяющих черт фашизма). Однако с точки зрения теории и практики их различия минимальны.
Сейчас из-за очевидности массовых преступлений и провалов и тех, и других трудно помнить о том, что и фашизм, и коммунизм были в свое время утопическими концепциями, внушавшими большие надежды. Более того, фашизм, как и коммунизм, был международным движением, которое приобрело сторонников в каждом западном государстве, особенно после Первой мировой войны (но начавшись гораздо раньше). Фашизм возник на пепелище старого европейского миропорядка. Он связал воедино различные нити европейской политики и культуры: рост этнического национализма, бисмарковское государство всеобщего благосостояния, а также крах христианства как источника социального и политического единства и всеобщих упований. Вместо христианства он предложил новую религию обожествленного государства и нации как органического сообщества.
Это международное движение имело много разновидностей и ответвлений и было известно в разных странах под разными именами. Оно меняло свою личину в зависимости от национальной культуры различных обществ. Вот одна из причин, осложняющих определение данного явления. На самом же деле международный фашизм восходит к тем же истокам, что и американский прогрессивизм. И действительно, американский «прогрессивизм» (моралистический социальный крестовый поход, последователями которого гордо считают себя современные либералы) в некоторых отношениях является главным источником фашистских идей, реализованных в Европе Муссолини и Гитлером.
Американцы часто заявляют, что у них стойкий иммунитет к фашизму, но в то же время они постоянно ощущают его угрозу. Принято считать, что «это не может случиться здесь». Но фашизм, безусловно, имеет свою историю в этой стране, что и является центральной темой данной книги, и она тесно связана с усилиями по «европеизации» Америки и стремлением придать ей «современный» облик; при этом могли преследоваться весьма утопические цели. Этот американский фашизм кажется очень непохожим на свои европейские разновидности, поскольку формировался под влиянием множества специфических факторов — географических размеров, этнического разнообразия, джефферсоновского индивидуализма, сильной либеральной традиции и так далее. В результате американский фашизм получился более мягким, более дружелюбным, более «материнским», чем его зарубежные аналоги. По выражению Джорджа Карлина, это «фашизм с улыбающимся лицом», «хороший фашизм». Для его характеристики больше всего подходит термин «либеральный фашизм», и он по существу был и остается левым.
В данной книге представлена альтернативная история американского либерализма, которая не только раскрывает его связь и сходство с классическим фашизмом, но также показывает, как при помощи хитрых уловок клеймо фашизма переносится на представителей правых сил. Консерваторы являются более аутентичными классическими либералами, тогда как многие из так называемых «либералов» — это «дружелюбные» фашисты.
Я не говорю о том, что все либералы являются фашистами. Я также не утверждаю, что человек, верящий в социальную медицину или лозунги о вреде курения, — скрытый нацист. Главным образом я пытаюсь развенчать прочно укоренившийся в нашей политической культуре миф о том, что американский консерватизм появился на свет как ответвление или двоюродный брат фашизма. Скорее наоборот, многие идеи либерализма заимствованы из интеллектуальной традиции, которая привела непосредственно к фашизму. Они активно эксплуатировались фашизмом и остаются во многих отношениях фашистскими.
Однако в настоящее время непросто выявить эти черты сходства и преемственности, тем более говорить о них, потому что эта область исторического анализа стала запретной после холокоста. До войны фашизм рассматривался как прогрессивное общественное движение с массой либеральных и левых сторонников в Европе и Соединенных Штатах. Холокост полностью изменил наш взгляд на фашизм. Он стал восприниматься как нечто зловещее и неизбежно связанное с крайним национализмом, паранойей, расизмом и геноцидом. После войны американские прогрессивисты, хвалившие Муссолини и даже симпатизировавшие Гитлеру в 1920-е и 1930-е годы, были вынуждены дистанцироваться от ужасов нацизма. Соответственно левые мыслители стали определять фашизм как принадлежность правых и переносить свои собственные грехи на консерваторов, хотя сами продолжали активно черпать идеи из фашистской и дофашистской идеологии.
Большую часть этой альтернативной истории при желании довольно легко найти. Проблема заключается в том, что либерально-прогрессивное направление исторической мысли, в русле которого воспитана большая часть американцев, стремится не высвечивать эти неуместные факты и представить значимые моменты как несущественные.
Начнем с того, что огромная популярность фашизма и фашистских идей у представителей американских левых сил в 1920-е годы — факт, не подлежащий сомнению. «То, что фашизм источал омерзительный для издания New Masses запах, — пишет историк Джон Патрик Диггинс о легендарном радикальном левом журнале, — могло соответствовать действительности после 1930 года. Для радикалов 1920-х дуновение из Италии не было зловонным с идеологической точки зрения»[14]. И на то была причина. Отцам-основателям современного либерализма, тем мужчинам и женщинам, которые заложили интеллектуальные основы «Нового курса» и государства всеобщего благосостояния, фашизм во многих отношениях казался очень хорошей идеей. Справедливости ради надо сказать: многие просто считали (в духе прагматизма Дьюи), что это весьма полезный «эксперимент». В итоге запах итальянского фашизма стал тошнотворным для американцев, придерживавшихся как левых, так и правых политических взглядов (кстати, значительно позже 1930 года), однако причины их отвращения не были связаны с глубокими идеологическими разногласиями. Скорее, большинство представителей левых политических сил Америки сделали ставку на команду «красных» и стали смотреть на фашизм с точки зрения коммунистов. Либеральное же левое крыло, не разделявшее коммунистических воззрений, продолжало следовать многим фашистским догматам, несмотря на то, что слово «фашизм» приобрело дурную славу.
Примерно в это же время Сталин открыл для себя превосходную тактику, провозгласив все чуждые ему идеи и движения фашистскими. Так, социалисты и прогрессивисты, лояльные советскому режиму, именовались «социалистами» или «прогрессивистами», а отклонявшиеся от курса Москвы — «фашистами». В соответствии со сталинской теорией социал-фашизма и согласно воззрениям сторонников коммунизма фашистом становился даже Франклин Рузвельт. Лев Троцкий был приговорен к смерти по обвинению в заговоре с целью «фашистского переворота». Впоследствии многие здравомыслящие американцы, придерживавшиеся левых взглядов, осудили эту тактику. Но все же удивляет огромное число «полезных идиотов»[15], взявших ее на вооружение, и исключительно долгий период ее «интеллектуального полураспада».
До холокоста и сталинской доктрины социал-фашизма либералы могли быть более честными в своей приверженности фашизму. Во время «прагматической» эпохи 1920-х и начала 1930-х годов достаточно большая часть западной либеральной интеллигенции и журналистов находилась под сильным впечатлением от «эксперимента» Муссолини[16], В рядах Прогрессивной партии были и те, кто интересовался нацизмом. Так, например, Дюбуа испытывал весьма непростые и противоречивые чувства в связи с ростом популярности Гитлера и бедственным положением евреев, считая, что национал-социализм может служить примером образцовой организации экономики. Формирование нацистской диктатуры, по его словам, было «абсолютно необходимым для того, чтобы привести государство в порядок». Основываясь на прогрессивистском определении демократии как эгалитарного этатизма[17], в 1937 году Дюбуа выступил с речью в Гарлеме, провозгласив, что «на сегодняшний день в Германии в некотором смысле больше демократии, чем было в прошлые годы»[18].
В течение многих лет некоторые представители так называемых старых правых заявляли, что «Новый курс» является фашистским и/или что в нем прослеживается влияние фашистов. «В этом утверждении есть немалая доля истины», — с неохотой признают многие традиционные и либеральные историки[19]. Однако в 1930-е годы обвинения в фашистской направленности «Нового курса» слышались отнюдь не только из лагеря правых. Все те, кто выступали с подобной критикой, в том числе такая героическая фигура в стане демократов, как Эл Смит, а также прогрессивный республиканец Герберт Гувер, сами подверглись нападкам как «“сумасшедшие правые” и настоящие фашисты». Норман Томас, глава американской социалистической партии, часто критиковал «Новый курс» за его фашистскую суть. Только преданные Москве коммунисты (или «полезные идиоты» в плену сталинских догм) могли сказать, что Томас является консерватором или фашистом. Но именно так они и заявляли.
Более того, защитники Рузвельта не скрывали своего восхищения фашизмом. Рексфорд Гай Тагуэлл, влиятельный член «мозгового треста» Рузвельта, сказал об итальянском фашизме: «Это самый чистый, самый аккуратный и наиболее эффективный социальный механизм из тех, что я когда-либо видел. Он вызывает у меня зависть». Редактор New Republic Джордж Соул, бывший активным сторонником администрации Франко Рузвельта, провозглашал: «Мы применяем экономику фашизма, не страдая при этом от всех его социальных или политических разрушительных действий»[20].
Но во всех этих рассуждениях не учитывается один важный момент, который часто упускают из виду. «Новый курс» действительно имитировал фашистский режим, но при этом Италия и Германия не были основными образцами для подражания, а только служили подтверждением тому, что либералы на правильном пути. На самом деле хорошо известно, что прообразом «Нового курса» стало правление Вильсона во время Второй мировой войны. Рузвельт построил свою кампанию на обещании воссоздать военный социализм эпохи Вильсона, а сотрудники его администрации стали претворять эту цель в жизнь под бурные аплодисменты либерального истеблишмента 1930-х годов. Бесчисленные редакционные коллегии, политики и эксперты, в том числе и уважаемый Уолтер Липпман, призывали президента Рузвельта стать «диктатором» (в начале 1930-х годов это слово не было ругательным) и расправиться с Великой депрессией так же, как в свое время Вильсон и члены Прогрессивной партии расправились с Первой мировой войной.
Я убежден, что во время Первой мировой войны Америка стала фашистской страной, хоть и временно. Современный тоталитаризм впервые появился на Западе не в Италии или Германии, а в Соединенных Штатах Америки. Как еще можно описать страну, где было создано первое в мире современное министерство пропаганды; тысячи противников режима подвергались преследованиям, их избивали, выслеживали и бросали в тюрьмы лишь за высказывание собственного мнения; глава нации обвинял иностранцев и иммигрантов в том, что они «впрыскивают яд измены и предательства в кровь Америки»; газеты и журналы закрывались за критику правительства, почти 100 тысяч агентов правительственной пропаганды были посланы в народ, чтобы обеспечить поддержку режима и военной политики государства; университетские профессора заставляли своих коллег давать клятву верности правительству; почти четверть миллиона головорезов получили юридические полномочия для запугивания и физической расправы с «бездельниками» и инакомыслящими; а ведущие художники и писатели занимались популяризацией правительственной идеологии?
Причина, по которой так много сторонников Прогрессивной партии были заинтригованы «экспериментами» Муссолини и Ленина, проста: они видели свое отражение в европейском зеркале. Философски, организационно и политически представители прогрессивных сил были настолько же близки к настоящим отечественным фашистам, как и любое другое движение из когда-либо существовавших в Америке[21]. Склонные к милитаризму, ярые поборники национализма империалисты, расисты, активно пропагандирующие дарвиновскую евгенику, очарованные идеей государства всеобщего благосостояния в духе воззрений Отто Бисмарка, апологеты тотального огосударствления — прогрессивисты стали воплощением расцвета трансатлантического движения в Америке, которое ориентировалось на гегелевский и дарвиновский коллективизм, импортированный из Европы в конце XIX века.
В этом смысле политические системы Вильсона и Рузвельта являются потомками (хотя и далекими) первого фашистского движения — Великой французской революции 1848 года.
В ретроспективе трудно понять, как можно сомневаться в фашистском характере Великой французской революции. Мало кто станет оспаривать, что она была тоталитарной, террористической, националистической, конспиративной и популистской. Она породила первых современных диктаторов, Робеспьера и Наполеона, и основывалась на принципе, согласно которому страной должен управлять просвещенный политический лидер, призванный стать подлинным выразителем «общей воли». Параноидальное якобинское мышление революционеров сделало их еще более необузданными и жестокими, чем король, на смену которому они пришли. В конечном счете волна террора унесла жизни 50 тысяч человек, многие из которых стали жертвами показательных политических процессов, определяемых известным историком Саймоном Шама как «устав тоталитарного правосудия». Робеспьер обобщил тоталитарную логику революции следующим образом: «Во Франции есть только две партии: народ и его враги. Мы должны уничтожить этих несчастных злодеев, преступные замыслы которых всегда направлены против прав человека... [Мы] должны уничтожить всех наших врагов»[22].
Однако Великая французская революция может считаться первой фашистской революцией именно благодаря стремлению ее лидеров превратить политику в религию. (В этом плане вдохновителем революционеров стал Жан Жак Руссо, согласно концепции «общей воли» которого ведущая роль в государстве отводилась народу.) Соответственно, они объявили войну христианству, пытаясь убрать его из жизни общества и заменить «светской» верой, принципы которой соответствовали программе якобинцев. По всей стране стали отмечать сотни языческих по своей сути праздников, прославляющих разум, нацию, братство, свободу и другие абстрактные понятия, для того чтобы придать государству и общей воле ореол святости. Как мы увидим далее, нацисты подражали якобинцам до мелочей.
Можно с полным основанием заявить, что Великая французская революция была катастрофической и жестокой. А вот мысль о том, что она была фашисткой, наверняка вызовет возражения, потому что Французская революция является первоисточником левой и «революционной традиции». Представители правых сил и классические либералы в США трепетно относятся к американской революции, которая была по существу консервативной, и содрогаются от ужасов и глупостей якобинства. Но если Французская революция была фашистской, то ее наследников следовало бы считать плодом этого отравленного дерева, а сам фашизм наконец занял бы подобающее ему место в истории левого движения. Это привело бы к значительным подвижкам в левом мировоззрении; поэтому левые готовы мириться с когнитивным диссонансом и выходят из положения благодаря ловкой манипуляции терминологией.
В то же время следует отметить, что ученым пришлось столкнуться с такими значительными трудностями при определении фашизма потому, что разновидности фашизма весьма сильно отличаются друг от друга. Например, нацисты были склонными к геноциду антисемитами. Итальянские фашисты были защитниками евреев до тех пор, пока нацисты не захватили Италию. Фашисты сражались на стороне стран «Оси»[23], тогда как Испания не вступала в войну (и тоже защищала евреев). Нацисты ненавидели христианство, итальянцы заключили мир с католической церковью (хотя сам Муссолини презирал христианство с неуемной страстью), а члены румынского Легиона Архангела Михаила называли себя христианскими крестоносцами. Некоторые фашисты выступали за «государственный капитализм», а другие, такие как «синие рубашки» в гоминьдановском Китае, требовали немедленного захвата средств производства. Нацисты были официальными противниками большевиков, однако «национал-большевизм» имел место и в нацистских рядах.
Эти движения объединяет лишь то, что все они были тоталитарными, но каждое на свой манер. Что мы имеем в виду, когда называем что-то «тоталитарным»? За последние полвека это слово, без сомнения, приобрело выраженный негативный оттенок. Благодаря работам Ханны Арендт, Збигнева Бжезинского и других оно стало обозначать любые жестокие, убивающие душу, «оруэлловские» режимы. Однако изначально значение этого слова было иным. Муссолини сам придумал данный термин для описания общества, где каждый ощущает себя на своем месте, где каждый окружен вниманием, где все находится внутри государства и ничто вовне, где ни один ребенок не брошен на произвол судьбы.
Я также считаю, что американский либерализм является тоталитарной политической религией, но не обязательно оруэлловского толка. Он хороший, а не жестокий. Заботливый, а не запугивающий. Но он все же является тоталитарным (или «всеобъемлющим», если этот вариант вам больше нравится), поскольку для либерализма на сегодняшний день не существует таких областей человеческой жизни, которые не были бы политически значимыми, начиная с того, что каждый член общества ест и курит, и заканчивая тем, что он говорит. Секс относится к политике. Пища относится к политике. Спорт, развлечения, внутренние мотивы индивидуума и его внешний вид — для либеральных фашистов все имеет политическое значение. Либералы безоговорочно верят подобным священникам, всеведущим ученым, которые планируют, увещевают, просят и ругают. Они пытаются использовать науку для дискредитации традиционных представлений о религии и вере, но при этом, защищая «нетрадиционные» верования, говорят языком плюрализма и духовности. Как и представители классического фашизма, либеральные фашисты рассуждают о «третьем пути» между правым и левым направлениями, где все, что имеет положительный смысл, осуществляется беспрепятственно, а решения, требующие усилий, принимаются в результате «неверного выбора».
Идея, согласно которой не существует сложного выбора (т. е. выбора между конкурирующими понятиями), в своей основе религиозна и тоталитарна, поскольку предполагает, что все положительные начала совместимы в принципе. В соответствии с консервативным, или классическим либеральным мировоззрением, жизнь несправедлива, человек несовершенен, а совершенное общество, единственная реальная утопия, ждет нас только в следующей жизни.
Либеральный фашизм отличается от классического фашизма во многих отношениях. Я не отрицаю этого. Это утверждение лежит в основе моей концепции. Существующие разновидности фашизма отличаются друг от друга потому, что произрастают на разной почве. Объединяют их эмоциональные или инстинктивные импульсы их последователей, проявляющиеся в поисках общности, желании «выйти за пределы» политики, вере в совершенство человека и авторитет специалистов, а также в одержимости эстетикой молодости, культе действия и необходимости построения сильного государства, координирующего развитие общества на национальном или глобальном уровне. Чаще всего приверженцы обоих направлений разделяют убеждение (я называю это тоталитарным искушением), согласно которому можно реализовать утопическую мечту «о создании лучшего мира», если приложить некоторые усилия.
Но для всех исторических событий время и место имеют особое значение, так что различия между теми или иными разновидностями фашизма порой оказываются очень значительными. Нацизм был продуктом немецкой культуры, который возник в немецком контексте. Холокост не мог случиться в Италии, потому что итальянцы не немцы. И в Америке, где враждебность к сильному правительству является главной составляющей национального характера, аргументация в пользу этатизма должна основываться на «прагматизме» и порядочности, иными словами, наш фашизм должен быть хорошим и для нашего же блага.
Американский прогрессивизм, от которого произошел современный либерализм, был особой разновидностью христианского фашизма (многие называли его «христианским социализмом»). Данная концепция трудна для понимания современных либералов, потому что представители прогрессивного движения для них — это те люди, которые обеспечили строгий контроль качества пищевых продуктов, узаконили восьмичасовой рабочий день и запретили детский труд. При этом либералы часто забывают, что сторонники Прогрессивной партии также были империалистами как во внутренней, так и во внешней политике. Они были авторами «сухого закона», «рейдов Палмера»[24], евгеники, клятвы верности и того, что сейчас принято называть «государственным капитализмом».
Многие либералы также упускают из виду религиозную составляющую прогрессивизма, потому что они склонны рассматривать религию и прогрессивную политику как диаметрально противоположные явления. Несмотря на то, что либералы, вспоминая движение за гражданские права, признают, что церковь сыграла в нем свою роль, они не считают его таким же значимым событием, как другие возникшие на религиозной почве прогрессивные «крестовые походы», например, отмена рабства и борьба за трезвость. Сегодняшний либеральный фашизм упоминает о христианстве лишь для того, чтобы всячески приуменьшить его влияние (хотя его правая разновидность, которую нередко называют «сострадательным консерватизмом», проникла в ряды Республиканской партии). Но хотя разговоры о Боге и ушли на второй план, религиозный дух крестоносцев, подпитывавший Прогрессивную партию, ныне силен как никогда. Однако сегодня либералы не говорят на языке религии. Они предпочитают выстраивать исключительно духовные философские концепции, наподобие «политики значимости» Хиллари Клинтон.
Аналогичным образом отвратительный расизм, который подпитывался прогрессивистскими евгенетическими концепциями Маргарет Сэнгер и других деятелей, по большей части канул в лету. Но либеральные фашисты по-прежнему остаются расистами на свой особый манер, веря в присущую черным особую приближенность к Богу и постоянство греха белых людей, а следовательно, и в вечное оправдание вины белой расы. Хотя, с моей точки зрения, это плохо и нежелательно, я никогда бы не осмелился заявить, что нынешним либералам свойственны склонность к геноциду или расистские убеждения, сближающие их с нацистами. Тем не менее следует отметить, что представители левого движения эпохи постмодернизма употребляют такие термины, которые были бы понятны нацистам. На самом деле понятия «белая логика» и «постоянство расы» были не только близки нацистам, но в некоторых случаях активно проповедовались ими. Историк Энн Харрингтон отмечает, что «ключевые слова из словаря постмодернизма (деконструктивизма, логоцентризма) на самом деле были заимствованы из антинаучных трактатов, написанных такими нацистскими и профашистскими писателями, как Эрнст Крик и Людвиг Клагес». Так, например, слово «деконструкция» впервые было употреблено в нацистском журнале по психиатрии, которым руководил двоюродный брат Германа Геринга[25]. Многие представители левого движения говорят о необходимости уничтожения «белизны» способом, который в определенной степени напоминает усилия национал-социалистов по «деиудаизации» немецкого общества. Достойным внимания является тот факт, что Карл Шмитт, человек, который курировал правовые аспекты данного проекта, чрезвычайно популярен среди «левых» ученых. Либеральное большинство не всегда разделяет их мнение, однако относится к ним с почтением и уважением, которые нередко граничат с молчаливым одобрением.
Однако факт остается фактом: прогрессивисты делали многие вещи, которые сегодня мы назвали бы объективно фашистскими, а фашисты делали многие вещи, которые мы бы назвали сегодня объективно прогрессивными. Раскрыть это кажущееся противоречие и показать, почему на самом деле оно таковым не является, — вот основная цель данной книги. Но это не значит, что я называю либералов нацистами.
Давайте сформулируем это следующим образом: ни один серьезный человек не станет отрицать, что марксистские идеи оказали глубокое влияние на движение, которое сегодня мы называем либерализмом. Но это вовсе не значит, что, к примеру, Барак Обама может считаться сталинистом или коммунистом. Можно пойти еще дальше и заметить, что многие из самых известных либералов и левых политиков XX века старательно преуменьшали негативные проявления советского коммунизма; однако это совсем не значит, что было бы справедливо обвинять их в потворстве сталинскому геноциду. Называть кого-либо нацистом жестоко, потому что это понятие предполагает согласие с холокостом. В равной степени неверно считать фашизм идеологией геноцида еврейского народа. Ради справедливости давайте назовем его «гитлеризмом», так как Гитлер не был бы Гитлером без расизма и склонности к геноциду. И хотя Гитлер был фашистом, «фашизм» не должен быть синонимом «гитлеризма».
Например, достойным внимания является тот факт, что с начала 1920-х годов и вплоть до 1938 года евреи составляли значительную часть итальянской фашистской партии. В фашистской Италии не было йичего подобного системе лагерей смерти. Ни один еврей любого национального происхождения в какой бы то ни было стране, находящейся под протекторатом Италии, не был передан Германии до 1943 года, когда Италия была захвачена нацистами. Евреи в Италии пережили войну в большей степени благополучно, чем в каких-либо иных странах гитлеровского блока, за исключением Дании, а евреям в тех частях Европы, которые контролировала Италия, жилось почти так же хорошо. Муссолини даже посылал итальянские войска в кровопролитные сражения ради спасения жизни евреев. Франсиско Франко, который считается типичным фашистским диктатором, также отказался передать в руки нацистов испанских евреев по приказу Гитлера и спас тем самым десятки тысяч евреев от истребления. Именно Франко подписал документ об отмене изданного в 1492 году указа о высылке евреев из Испании. Между тем «либеральные» французы и голландцы с готовностью участвовали в нацистской программе депортации.
Здесь мне следует сделать несколько заявлений, которые, несмотря на свою очевидность, необходимы для того, чтобы предотвратить любую возможность превратного истолкования или искажения моих идей враждебно настроенными критиками. Я люблю эту страну и искренне верю в ее доброту и порядочность; я даже в мыслях своих не допускаю возможности прихода к власти в Америке фашистского режима, подобного нацистскому, не говоря уж о таком событии, как холокост. Это потому, что американцы, все американцы — либералы, консерваторы и те, кто не принадлежат к каким-либо политическим течениям, черные, белые, латиноамериканцы и азиаты — все являются порождением либеральной, демократической и эгалитарной культуры, достаточно сильной, чтобы противостоять любым тоталитарным соблазнам такого рода. Соответственно я не подозреваю либералов в злонамеренности или фанатизме, подразумеваемых типичными сравнениями с нацистами. Распространенная в правых кругах острота по отношению к Хиллари Клинтон, в которой ее имя произносят как «Хитлери», кажется не менее нелепой, чем навязший в зубах каламбур «Бушитлер», придуманный левыми. Американцев, которые приветствовали Муссолини в 1920-х годах, нельзя обвинять в том, что творил Гитлер почти два десятилетия спустя. И нынешние либералы не несут ответственности за убеждения своих предшественников, однако должны принимать их во внимание.
Но в то же время преступления Гитлера не могут не приниматься во внимание, когда речь идет о сходстве между прогрессивизмом (который теперь именуется либерализмом) и идеологическими установками, которые привели Муссолини и Гитлера к власти.
Например, известно, что нацисты были экономическими популистами, а также находились под сильным влиянием тех же идей, на которые опирались американские и британские популисты. И хотя значение этого факта довольно часто преуменьшается либеральными историками, нельзя не признать, что американский популизм имел достаточно выраженный уклон в сторону антисемитизма и политических сговоров. На типичной карикатуре в популистском издании земной шар находился в щупальцах осьминога, сидящего на Британских островах. Под изображением осьминога была подпись «Ротшильд». Репортер Associated Press отметил в популистской конвенции 1896 года выставленную напоказ «чрезвычайную ненависть к еврейской расе»[26]. Отец Чарльз Кофлин, «радиопроповедник», был левым популистским подстрекателем и сторонником теории заговора. Его антисемитизм приобрел широкую известность во влиятельных либеральных кругах, где этого прорузвельтовского демагога все же защищали за его «приверженность благим делам».
Сегодня популистские теории заговора неистовствуют в левых рядах (и также не понаслышке знакомы правым). Треть американцев считают, что «весьма» или «в некоторой степени» вероятно, что за террористическими атаками 11 сентября стоит правительство. Особая паранойя по поводу влияния «еврейского лобби» поразила многих представителей американских и европейских левых сил, не говоря уже о ядовитом и по-настоящему гитлеровском антисемитском популизме арабской «улицы», порожденном режимами, которые, по мнению большинства, являются фашистскими. Я не хочу сказать, что левые силы тяготеют к гитлеровскому антисемитизму. Они, скорее, являются приверженцами популизма и при этом настолько потакают антисемитам, что это становится тревожным и опасным. Кроме того, стоит напомнить, что успех нацизма в Веймарской Германии в некоторой степени был обусловлен нежеланием достойных людей принимать его всерьез.
Есть и другие черты сходства между немецкими и итальянскими фашистскими идеями и современным американским либерализмом. Например, корпоративизм, являющийся краеугольным камнем либеральной экономики, в современном мире рассматривается как защита от правых и отчасти фашистских корпоративных правящих классов. И все же экономические идеи Билла и Хиллари Клинтон, Джона Керри, Альберта Гора и Роберта Райха очень похожи на корпоративистские идеологические концепции «третьего пути», которые легли в основу фашистских моделей экономики в 1920-1930-е годы. Действительно, культ «Нового курса» у сторонников современного либерализма позволяет отвести ему место на родословном древе фашизма.
Или взять, например, стремительно набравшие силу за последние годы «крестовые походы» в области здравоохранения и движение «Новая эра», сторонники которого то объявляют войну курению, то одержимы борьбой за права животных, то превозносят пользу натуральных продуктов питания. Никто не спорит, что эти перегибы порождаются культурной и политической «левизной». Но немногие станут отрицать, что мы уже видели такие примеры раньше. Генрих Гиммлер был дипломированным защитником прав животных и ярым апологетом «естественного исцеления». Рудольф Гесс, заместитель Гитлера по партии, был приверженцем гомеопатии и лечебных средств из трав. Гитлер и его советники проводили долгие часы за обсуждением необходимости перехода всей страны на вегетарианство в ответ на нездоровый образ жизни, которому способствовал капитализм. В Дахау находилась крупнейшая исследовательская лаборатория альтернативной и натуральной медицины, которая производила свой собственный органический мед.
Нацистские кампании против курения и инициативы в области здравоохранения в значительной степени предвосхитили современные движения против неполезной пищи, жиров, содержащих трансизомеры жирных кислот и тому подобного. В одном из пособий для гитлерюгенда сказано: «Питание — не частное дело!» Это, по сути, мантра, воспроизводимая государственными органами здравоохранения в настоящее время. Зацикленность нацистов на натуральных продуктах питания и личном здоровье вполне соответствует их модели миропонимания. Многие нацисты были убеждены, что христианство, призывающее человека покорить природу, а не жить в гармонии с ней, и капитализм, способствующий отходу людей от их естественной среды обитания, являются заговором, нацеленным на подрыв здоровья немецкой нации. В популярной книге по вопросам питания Гуго Кляйне винил «особые интересы капитализма» (и «мужеподобных еврейских полуженщин») в снижении качества немецких продуктов, что в свою очередь способствовало увеличению числа больных раком (еще одна навязчивая идея нацистов). Натуральные продукты питания неразрывно связывались с тем, что нацисты (так же, как и сегодняшние правые) называли вопросами «социальной справедливости»[27].
Так что же получается: тот, кто заботится о здоровье, питании и окружающей среде, автоматически становится фашистом? Конечно, нет. Фашисткой является сама концепция, согласно которой в органическом национальном сообществе человек не имеет права не быть здоровыми, и поэтому государство берет на себя обязательство заставить его стать таким для его же блага. Современные движения за здоровый образ жизни заигрывают с классическим фашизмом в той мере, насколько они стремятся использовать власть государства для достижения своих целей. Даже с точки зрения культуры движение в защиту окружающей среды выступает за моральное давление и вторжение в частную жизнь, которые либералы немедленно осудили бы как фашистские, если представить их в терминах традиционной морали.
Когда я писал эту книгу, один из законодателей в Нью-Йорке предложил запретить использование цифровых аудиоплееров iPod при переходе через дорогу[28]. Во многих частях страны курение в автомобиле или даже на улице считается незаконным, если рядом с вами могут находиться другие люди. Мы много слышим о том, что консерваторы желают «проникнуть в наши спальни», но во время выхода этой книги в печать «Гринпис» и другие объединения организовывали масштабную кампанию по «обучению» людей тому, как заниматься сексом, не нанося при этом ущерба окружающей среде. «Гринпис» предлагает целый список стратегий, позволяющих «получать удовольствие на благо планеты»[29]. Возможно, вы считаете, что экологи не стремятся превратить эти добровольные предложения в закон, а вот я в этом не уверен, учитывая количество проводившихся ранее подобных кампаний. Свобода слова также постоянно находится под угрозой там, где это важнее всего — применительно к выборам, однако она оказывается священной в тех случаях, где она нужна меньше всего: в отношении стриптизерских шестов и террористических веб-сайтов.
В своей работе «Демократия в Америке» (Democracy in America) известный исследователь демократии и капитализма Алекс де Токвилль предупреждал: «Не следует забывать, что наибольшую опасность представляет порабощение людей в мелких составляющих их жизни. Что касается меня, то я склонен полагать, что в большом свобода необходима меньше, чем в малом»[30]. Складывается такое впечатление, что в этой стране иерархию Токвилля выстроили в обратном порядке. Мы все должны потерять нашу свободу в мелочах для того, чтобы горстка людей могла пользоваться своей свободой в полной мере.
Из поколения в поколение главным источником представлений человечества о мрачном будущем была книга Джорджа Оруэлла «1984». Это был исключительно «мужской» кошмар фашистской жестокости. Но с распадом Советского Союза и уходом со сцены великих фашистских и коммунистических диктатур XX века кошмарный образ будущего в духе «1984» постепенно рассеивается. Вместе с тем статус главной пророческой книги приобретает произведение Олдоса Хаксли «О дивный новый мир» (Brave New World). По мере того как мы расшифровываем геном человека и совершенствуем способы делать людей счастливыми при помощи развлекательных телепередач и психотропных препаратов, политика все больше становится средством для доставки расфасованной радости. Политическая система Америки раньше была нацелена на поиски счастья. Сейчас все больше и больше людей не хотят искать счастье самостоятельно, но предпочли бы, чтобы его им доставили. И хотя в течение многих поколений этот вопрос был темой школьных сочинений по английскому языку, мы до сих пор не стали ближе к ответу: чем на самом деле так плох «дивный новый мир»?
А вот чем: это «золото для дураков». Мысль о том, что мы сможем получить рай на земле благодаря фармакологии и нейробиологии, настолько же утопична по своей сути, как и надежда марксистов на то, что идеальный мир можно построить за счет перераспределения средств производства. История тоталитаризма — это история попыток преодолеть природу человека и создать общество, в котором наше важнейшее предназначение и судьба реализуются просто в силу того, что мы живем в нем. Однако это невозможно. Даже если данное стремление облекается в очень гуманную и достойную форму (как часто бывает в либеральном фашизме), оно в любом случае окажется разновидностью «благой» тирании, когда некоторые люди пытаются навязать свои идеи добра и счастья тем, кто вполне может их не разделять.
Введение такого нового термина, как «либеральный фашизм», конечно же, требует объяснения. Многие критики, несомненно, увидят в нем неуклюжий оксюморон[31]. Однако на самом деле первым этот термин использовал не я. Эта честь выпала на долю Герберта Уэллса, который относится к числу тех, кто оказал наибольшее влияние на развитие прогрессивного движения в XX веке (и вдохновил Хаксли на создание романа «О дивный новый мир»). Уэллс использовал эту фразу не как обвинительное заключение, а как знак уважения. «Прогрессивисты должны стать “либеральными фашистами” и “просвещенными нацистами”», — сказал он в своей речи, обращенной к молодым либералам в Оксфорде в июле 1932 года[32].
Уэллс был ведущим голосом в тот период истории, который я называю «фашистским моментом». Тогда многие западные элиты горели желанием сменить церковь и королевскую власть на логарифмические линейки и промышленные армии. На протяжении всей своей деятельности он отстаивал идею, согласно которой особые люди, называемые учеными, священниками, воинами и даже самураями, должны навязывать прогресс массам для создания «новой республики» или «мировой теократии». Только благодаря воинствующему прогрессивизму, под какой бы личиной он ни выступал, человечество могло достигнуть царства Божьего. Попросту говоря, Уэллс поддался тоталитарному искушению. «Мне никогда не удавалось полностью освободиться из плена его беспощадной логики», — заявлял он[33].
Фашизм, так же как прогрессивизм и коммунизм, является экспансионистским по своей сути в силу того, что не видит никаких естественных преград для своих амбиций. Применительно к самым жестким его разновидностям, наподобие так называемого исламофашизма, это абсолютно очевидно. Но прогрессивизм тоже предусматривает создание нового мирового порядка. По словам Вудро Вильсона, Первая мировая война была «крестовым походом» с целью освобождения всего мира. Даже мирно настроенный госсекретарь при Вильсоне Уильям Дженнингс Брайан не мог отделаться от его концепции христианского мирового порядка с глобальным запретом алкоголя в придачу.
Однако в ответ на все это можно возразить: «Ну и что?» Конечно, интересно узнать, что некоторые давно почившие либералы и прогрессисты придерживались тех или иных взглядов, но каким образом это относится к современным либералам? На ум приходят два ответа. Правда, первый из них не является ответом в полной мере. Американские консерваторы должны нести историю своего движения (как реальную, так и предполагаемую), как тяжкую ношу. В рядах элитных либеральных журналистов и ученых не переводятся бесстрашные писаки, которые указывают на «тайные истории» и «будоражащие отголоски» в анналах истории консервативного направления. Связи с покойными ныне представителями правых сил, даже самые незначительные и неопределенные, предъявляются в качестве доказательства того, что консерваторы сегодняшнего дня продолжают их гнусное дело. Почему же тогда считается тривиальным указывать на наличие на чердаках либералов собственных призраков, особенно в тех случаях, когда те оказываются создателями современного государства всеобщего благосостояния?
Что закладывает основу для второго ответа. Либерализм, в отличие от консерватизма, не проявляет интереса к своей интеллектуальной истории. Однако это не делает его менее обязанным своим предшественникам. Либерализм опирается на плечи собственных гигантов и при этом полагает, что его ноги прочно стоят на земле. Его предположения и устремления восходят непосредственно к «Прогрессивной эре»[34], причем данный факт подтверждается тенденцией либералов к использованию слова «прогрессивный» при любом упоминании своих основополагающих убеждений и учреждений, формирующих идеологию данного движения («Прогрессивный журнал», Институт прогрессивной политики, Центр за американский прогресс и т. д.). Я просто сражаюсь за выбор либералов. Именно либералы всегда настаивали на том, что консерватизм имеет связи с фашизмом. Они утверждают, что модели свободной рыночной экономики по сути фашистские и что по этой причине их собственные экономические теории следует считать более добродетельными, даже если на самом деле все наоборот.
Сегодня либерализм не стремится завоевать мир силой оружия. Это не националистический проект, и он не предполагает геноцида. Наоборот, это идеология добрых намерений. Однако все мы прекрасно знаем, куда нас могут привести даже самые благие намерения. Я написал книгу не о том, что все либералы являются нацистами или фашистами. Скорее я попытался написать книгу, предупреждающую о том, что даже лучшие из нас склонны к тоталитарному искушению.
Это касается и некоторых людей, которые причисляют себя к консерваторам. Сострадательный консерватизм во многих отношениях можно считать одной из форм прогрессивизма, потомком христианского социализма. Большая часть риторики Джорджа Буша о том, что брошенных детей быть не должно и «если кому-то плохо, то правительство должно принимать меры», соответствует тоталитарной по своим намерениям и не особенно консервативной по смыслу модели государства. Стоит еще раз уточнить, что это «хороший тоталитаризм», без сомнения, движимый истинной христианской любовью (который, по счастью, сдерживается откровенно слабыми попытками реализовать эти устремления). Однако любовь тоже может быть удушающей. Подтверждением тому служит резкое недовольство со стороны многочисленных критиков за время его пребывания в должности. Намерения Буша благородны, но противникам его политической линии они кажутся угнетающими. Тот же принцип работает и в обратном направлении. Либералы согласны с намерениями Хиллари Клинтон; они убеждены, что любой, кто считает их подавляющими, является фашистом.
Наконец, в виду того, что нам нужно найти рабочее определение фашизма, я предлагаю свое: фашизм — это религия государства. Он предполагает органическое единство политического пространства и нуждается в национальном лидере, поддерживающем волю народа. Тоталитарность фашизма состоит в политизации всего и убежденности в том, что любые действия государства оправданы для достижения общею блага. Он берет на себя ответственность за все аспекты жизни, включая здоровье и благосостояние всех членов общества, и стремится навязать им единство мышления и действия либо силой, либо посредством регулирования и социального давления. Все, в том числе экономика и религия, должно соответствовать его целям. Любые конкурирующие воззрения становятся частью «проблемы» и, следовательно, определяются как враждебные. Я исхожу из того, что современный американский либерализм воплощает в себе все эти аспекты фашизма.
* * *
Завершая вводную часть, я хотел бы остановиться на некоторых вопросах организационного характера.
В тексте книги я следую устоявшейся практике англоязычных историков писать слово «фашизм» со строчной буквы (если оно не в начале предложения), когда имеется в виду фашизм в целом, и с прописной, когда речь идет об итальянском фашизме[35]. Я также старался разграничить те случаи, когда веду речь о либерализме в его современном понимании и о классическом либерализме, так как значения этих понятий диаметрально противоположны.
Фашизм как предмет обсуждения необычайно многогранен: написаны тысячи книг, в которых рассматриваются те или иные его аспекты. Я старался уделить должное внимание научным источникам, хотя это не научная книга. На самом деле в литературе представлено огромное количество противоречащих друг другу точек зрения, поэтому не только не существует общепринятого определения фашизма, но и нет единства даже относительно родства итальянского фашизма и нацизма. У меня не было намерений вступать в дискуссию на эту тему. Тем не менее я глубоко убежден, что, несмотря на глубокие доктринальные различия, итальянский и немецкий фашизм являются сходными социологическими явлениями.
Я не преследовал цель останавливаться здесь на всех разновидностях фашизма, которые существуют в мире. Я вполне допускаю появление критических замечаний в мой адрес по поводу того, что я делаю это сознательно, потому что та или иная разновидность фашизма вполне может оказаться «правой», консервативной или непрогрессивной, и я готов ответить на любое из них. Но я также должен заметить, что, выбрав такой путь, я вовсе не облегчил свою задачу. Например, обойдя вниманием Британский союз фашистов Освальда Мосли, я тем самым лишил себя прекрасного источника левой профашистской риторики и аргументов.
Я старался не загромождать книгу цитатами, но включил в нее немало пояснительных примечаний. Читателям, занятым поиском других источников и дополнительной литературы по этой теме, следует обратиться к веб-сайту книги -fascism.com, где они также могут оставлять комментарии или запросы. Я постараюсь привлечь к обсуждению как можно большее число добросовестных участников.
Глава 1. Муссолини: Отец фашизма
Ты выше всех!
Ты великий Гудини!
Ты выше всех!
Ты Муссолини!
Ранняя версия песни Коула Портера «Ты выше всех» (You ’re the Top)[36]Если бы вы черпали информацию исключительно из New York Times, New York Review of Books или из голливудских фильмов, то могли бы подумать, что Бенито Муссолини пришел к власти примерно в то же время, что и Адольф Гитлер (или даже немного позже) и что итальянский фашизм был просто запоздавшим, «разбавленным» вариантом нацизма. Германия начала проводить свою отвратительную расовую политику, приняв в 1935 году антиеврейские Нюрнбергские законы, а возглавляемая Муссолини Италия последовала за ней в 1938 году. Немецких евреев стали преследовать в 1942 году, а в Италии евреи подверглись гонениям в 1943 году. Некоторые писатели мимоходом упоминают о том, что пока в Италии не были приняты расовые законы, евреев можно было увидеть даже в итальянском правительстве и фашистской партии. Также можно встретить претендующие на историческую достоверность замечания в том, что евреев стали преследовать лишь после того, как нацисты вторглись в Северную Италию и создали марионеточное правительство в Сало. Но на подобных фактах обычно стараются не заострять внимания либо упоминают о них вскользь. Более вероятно, что информация на эту тему черпается из таких источников, как оскароносный фильм «Жизнь прекрасна» (Life Is Beautiful)[37]. Вот его краткое содержание: фашизм пришел в Италию, а несколько месяцев спустя там появились нацисты, которые изгнали евреев. Что касается Муссолини, то он представлен напыщенным, глуповатым с виду, но очень эффективным диктатором, которому удалось организовать движение поездов точно по расписанию.
Действие фильма возвращает нас в то время, когда Италии пришлось принять постыдные расовые законы. Это случилось после того, как фашисты пробыли у власти уже более двух третей периода своего правления, причем в отличие от нацистской Германии, они проводились в жизнь с гораздо меньшей жестокостью. От начала «похода на Рим» до принятия расовых законов в Италии прошло полных 16 лет. Начать разговор о Муссолини с «еврейского вопроса» — это то же самое, что начать разговор о Рузвельте с интернирования японцев. В этом случае значительная часть истории окажется на полу монтажной комнаты. На протяжении 1920-х и до начала 1930-х годов фашизм еще был очень далек от того образа, который он приобрел в Освенциме и Нюрнберге. Собственно, до прихода Гитлера никому и в голову не приходило, что фашизм может иметь что-то общее с антисемитизмом. На самом деле Муссолини получил поддержку не только главного раввина Рима, но и значительной части итальянской еврейской общины (и мирового еврейского сообщества). Кроме того, весьма большое количество евреев участвовали в итальянском фашистском движении со времени его основания в 1919 году и вплоть до их изгнания в 1938 году.
Расовый вопрос стал поворотным моментом в восприятии фашизма американским обществом. Однако евреи здесь абсолютно ни при чем. Когда Муссолини вторгся в Эфиопию, американцы наконец стали выступать против него. В 1934 году слова «Ты Муссолини!» в песне Коула Портера «Ты выше всех» (You’re the Тор) не вызвали споров. Когда в следующем году Муссолини оккупировал бедное, но благородное африканское королевство, его образ окончательно потускнел и американцы решили, что с них довольно. Это была первая за более чем 10 лет завоевательная война, начатая западноевропейским государством, что совсем не забавляло американцев, в особенности либералов и негров. Тем не менее это был медленный процесс. Редакция Chicago Tribune сначала приветствовала это вторжение, как и репортеры, подобные Герберту Мэтьюзу из New York Times. Другие утверждали, что осуждать его было бы лицемерием. В газете New Republic, которая была в тот период исключительно просоветской, считали, что было бы «наивно» обвинять Муссолини, когда истинным виновником является международный капитализм. При этом немало знаменитых американцев продолжали поддерживать его, хоть и негласно. Так, например, поэт Уоллес Стивенс был на стороне фашистов: «Лично я за Муссолини», — писал он другу. «Итальянцы, — пояснял он, — имеют такое же право забрать Эфиопию у чернокожих, какое имели те, отнимая ее у боа-констрикторов[38]»[39]. Но с течением времени, в основном благодаря его последующему союзу с Гитлером, репутация Муссолини не улучшилась.
Но это вовсе не значит, что ему не везло.
В 1923 году журналист Исаак Ф. Маркоссон с восхищением писал в New York Times, что «Муссолини — это латинский [Тедди] Рузвельт, который сначала действует, а затем спрашивает, законно ли это. У себя в Италии он сделал очень много полезного»[40]. Американский легион, который на протяжении почти всего своего существования считался благородной и выдающейся американской организацией, был основан в том же году, когда Муссолини пришел к власти, и в первые годы своего существования видел в итальянском фашистском движении источник вдохновения. «Не забывайте, — заявил командир национального легиона в том же году, — что фашисты для Италии то же, что и Американский легион для Соединенных Штатов»[41].
В 1926 году американский сатирик Уилл Роджерс посетил Италию и взял интервью у Муссолини. Он охарактеризовал Муссолини в New York Times как «довольно колоритного итальяшку». «Я весьма высокого мнения об этой птице», — признавался сатирик. Роджерс, которого Национальный пресс-клуб неофициально называл «послом по особым поручениям Соединенных Штатов», подробно описал свое интервью с Муссолини в выпуске Saturday Everting Post. Он пришел к выводу, что «диктатура — наиболее совершенная форма правления в том случае, если у вас есть правильный диктатор»[42]. В 1927 году редакция Literary Digest предложила своим читателям ответить на вопрос: «Правда ли, что современный мир испытывает недостаток в великих людях?». Человеком, имя которого чаще всего называли, опровергая это утверждение, стал Бенито Муссолини. За ним следовали Ленин, Эдисон, Маркони и Орвилл Райт, а затем Генри Форд и Джордж Бернард Шоу. В 1928 году Муссолини приобрел еще большую популярность благодаря газете Saturday Evening Post, в которой была опубликована написанная самим дуче автобиография из восьми частей. Затем эти статьи были объединены в книгу, ставшую одним из самых успешных проектов в истории американского книгоиздательства.
А почему средний американец не должен был считать Муссолини великим человеком? Уинстон Черчилль назвал его величайшим в мире законодателем. Зигмунд Фрейд послал Муссолини копию книги, которую он написал в соавторстве с Альбертом Эйнштейном, с надписью: «Для Бенито Муссолини от старика, который приветствует Правителя, Героя Культуры». Оперные титаны Джакомо Пуччини и Артуро Тосканини были ярыми приверженцами фашиста Муссолини. Тосканини одним из первых вступил в миланский фашистский кружок. Его члены ощущали себя почти такими же «избранными», как и члены нацистской партии в дни «пивного путча»[43]. Тосканини баллотировался в итальянский парламент как кандидат от Фашистской партии в 1919 году и вышел из нее только 12 лет спустя[44].
В особой чести Муссолини был у «разгребателей грязи»[45], тех прогрессивных либеральных журналистов, которые, как известно, довольно живо им интересовались. Когда Ида Тарбелл, знаменитый репортер, работа которой помогла разрушить нефтяную компанию Standard Oil, была послана в Италию в 1926 году редакцией журнала McCall's для подготовки серии статей о фашистской нации, государственный департамент США опасался, что эта радикальная сторонница «красных» будет писать статьи исключительно «с резкой критикой Муссолини». Их опасения оказались напрасными, так как Тарбелл была просто очарована этим мужчиной, которого она называла «деспот с ямочкой», хваля его за прогрессивное отношение к труду. Не скрывал своего восхищения и Линкольн Стеффене, еще один известный «разгребатель», которого кое-кто и по сей день помнит как человека, вернувшегося из Советского Союза со словами: «Я побывал в будущем; эта система действительно работает». Вскоре после этого заявления он высказался о Муссолини: «Бог создал Муссолини из ребра Италии». Как станет ясно, Стеффене не видел никакого противоречия в своей любви к фашизму и в восхищении Советским Союзом. Даже Сэмюэль МакКлюр, основатель журнала McClure s Magazine, ставшего пристанищем для многих известных «разгребателей», выступил в поддержку фашизма после посещения Италии. Он высоко оценил фашизм как «большой шаг вперед и первый новый идеал в области управления государством с момента основания американской республики»[46].
Между тем почти все наиболее известные и уважаемые молодые интеллектуалы и люди искусства в Италии были фашистами или сторонниками фашизма (самым заметным исключением стал литературный критик Бенедетто Кроче). Джованни Папини, «магический прагматик», которым так восхищался Уильям Джеймс, активно участвовал в различных интеллектуальных движениях, заложивших основу фашизма. Роман «Жизнь Христа» (Life of Christ) Джованни Папини, представлявший бурное, почти надрывное, подробное описание принятия христианства автором, вызвал сенсацию в США в начале 1920-х годов. Джузеппе Преццолини, который часто публиковался в New Republic и в один прекрасный день стал уважаемым профессором Колумбийского университета, был одним из самых ранних литературных и идеологических архитекторов фашизма. Ф. Т. Маринетти, основатель футуристического движения, которое в Америке считалось аналогом кубизма и экспрессионизма, много сделал для того, чтобы итальянский фашизм стал первым в мире успешным «молодежным движением». Академический истеблишмент Америки живо интересовался «выдающимися успехами» Италии под руководством прославленного «учителя» Бенито Муссолини, который действительно когда-то был учителем.
Пожалуй, ни одно из элитных образовательных учреждений в Америке не было настолько расположено к фашизму, как Колумбийский университет. В 1926 году там был учрежден Центр по изучению итальянской культуры Casa Italiana[47], в котором читали лекции видные итальянские ученые. По словам профессора истории Нью-Йоркского университета Джона Патрика Диггинса, он стал «настоящим домом» для фашизма в Америке и «школой для подающих надежды фашистских идеологов». Сам Муссолини подарил «итальянскому дому» богато украшенную барочную мебель и направил главе Колумбийского университета Николасу Мюррею Батлеру фото с личной подписью в благодарность за «большой вклад» в развитие взаимопонимания между фашистской Италией и Соединенными Штатами[48]. Батлер не был сторонником фашизма в Америке, однако он считал, что этот строй максимально отвечает интересам итальянского народа и служит примером реального успеха, достойным изучения. Тонкое различие, выраженное фразой «фашизм хорош для итальянцев, но, возможно, не для Америки», в то время проводили многие видные либеральные мыслители. Точно так же сегодня некоторые либералы защищают «коммунистический эксперимент» Кастро, подчеркивая его положительные черты.
В 1920-е годы, когда ученые обсуждали особенности корпоративистского государства Муссолини, основную часть американцев тот интересовал гораздо больше, чем любой другой международный общественный деятель. С 1925 по 1928 год в американских изданиях вышло более сотни статей о Муссолини и только 15 о Сталине[49]. В течение 10 с лишним лет иностранный корреспондент New York Times Анна Маккормик О’Хара создавала сияющий образ Муссолини, на фоне которого последующее восхваление Сталина в Times выглядит почти критикой. В New York Tribune развернулась острая полемика в поисках ответа на вопрос: Муссолини — это Гарибальди или Цезарь? Тем временем Джеймс А. Фаррелл, глава корпорации U.S. Steel, назвал итальянского диктатора «величайшим из живущих ныне людей» в мире.
Голливудские магнаты, заметив очевидные актерские способности Муссолини, надеялись сделать его звездой большого экрана, и он дебютировал в 1923 году в фильме «Вечный город» (The Eternal City) с Лайонелом Бэрримором в главной роли. Картина повествует о сражениях между коммунистами и фашистами за контроль над Италией. И, как ни удивительно, Голливуд принимает сторону фашистов. Поведение Муссолини на экране, по словам одного из рецензентов, «заставляет поверить, что он там на своем месте»[50]. В 1933 году кинокомпания Columbia Pictures выпустила документальный фильм под названием «Говорит Муссолини» (Mussolini Speaks) при активном участии дуче. Лоуэлл Томас, легендарный американский журналист, благодаря которому документальная лента «Лоуренс Аравийский» (Lowrence of Arabia) получила признание у зрителей США и Европы, тесно сотрудничал с создателями фильма и повсюду выступал с льстивыми комментариями. Муссолини предстал в фильме в образе героического лидера и национального спасителя. Перед выступлением Муссолини с речью в Неаполе Томас восторженно заявлял: «Это его звездный час. Он подобен современному Цезарю!» Премьера фильма состоялась во дворце RKO в Нью-Йорке и произвела настоящий фурор. Columbia Pictures поместила в еженедельнике Variety напечатанный гигантскими буквами рекламный текст, в котором фильм провозглашался хитом, потому что «он обращен ко всем АМЕРИКАНЦАМ С КРАСНОЙ КРОВЬЮ» и «может отвечать ПОТРЕБНОСТЯМ АМЕРИКИ».
Конечно же, были и те, кто критиковал фашизм в 1920-е и 1930-е годы. Так, Эрнест Хемингуэй почти с самого начала не скрывал своего скептического отношения к Муссолини. Один из величайших американских писателей XX века Генри Миллер не принимал программу фашизма, однако восхищался волей и силой Муссолини. Некоторые из «старых правых», например член Либертарианской партии США Альберт Дж. Нок, понимали фашизм как одну из разновидностей этатизма. Представители нативистского Ку-клукс-клана, которых по иронии судьбы либералы часто называли «американскими фашистами», по большей части презирали Муссолини и его американских последователей (в основном потому, что они были иммигрантами). Примечательно, что левые радикалы на протяжении почти 10 лет, вплоть до наступления Великой депрессии, практически не высказывали своего отношения к итальянскому фашизму. Когда же они, наконец, начали всерьез нападать на Муссолини (в основном по приказу из Москвы), то отнесли его к той же категории, что и Франклина Рузвельта, социалиста Нормана Томаса и прогрессивиста Роберта Лафоллета[51].
В последующих главах мы еще вернемся к тому, как американские либералы и левые воспринимали фашизм. Но сначала, кажется, стоит задать вопрос, как вообще его появление стало возможным в США? Принимая во внимание все то, что нам сегодня известно об ужасах фашизма, как случилось, что за более чем 10 лет эта страна стала во многих отношениях профашистской? Большинство либералов и левых считают, что они пришли на эту землю, чтобы всеми силами противостоять фашизму. Тем более возмутительным кажется факт, что многие из них либо восхищались Муссолини и его политикой, либо попросту не обращали на него внимания.
Для того чтобы ответить на эти вопросы, важно знать, что зарождение фашизма в западной цивилизации было обусловлено появлением там так называемого фашистского момента. Он был подготовлен группировками представителей интеллегенции, выступавших под знаменами прогрессивистов, коммунистов, социалистов и т. д. Они посчитали, что эпоха либеральной демократии подходит к концу, пришло время отказаться от таких пережитков, как естественное право, традиционная религия, конституционные свободы, капитализм и т. п., и, взяв на себя ответственность, переделать мир по своему понятию. Бог давно умер, и людям было давно пора занять его место. Социалист-интеллектуал Муссолини был воином в этом крестовом походе, а его фашизм воспринимался как учение, созданное им из того же материала, из которого Ленин и Троцкий выстраивали свое движение; фашизм был гигантским скачком в эпоху «экспериментов», рывком, которому предстояло смести старые догмы и возвестить о начале новой эры. Этот проект был по своей сути «левым» в современном понимании этого термина, и это осознавали и сам Муссолини, и его поклонники, и его хулители. Муссолини часто заявлял о том, что XIX век был веком либерализма, тогда как XX веку суждено стать «веком фашизма». Только изучив его жизнь и наследие, мы сможем убедиться, насколько «правым» или «левым» он был в своих убеждениях.
* * *
Бенито Муссолини Амилькаре Андреа был назван в честь трех революционных героев. Испанское имя Бенито (в отличие от его итальянского эквивалента Бенедетто) было выбрано в память о Бенито Хуаресе, ставшем президентом мексиканском революционере, который не только сверг императора Максимилиана, но и казнил его. Два других имени напоминали о забытых ныне героях анархического социализма Амилькаре Чиприани и Андреа Коста.
Отец Муссолини Алессандро был кузнецом и ярым социалистом с анархистским уклоном, а также членом Первого интернационала наряду с Марксом и Энгельсом. Кроме того, он входил в состав местного социалистического совета. «Сердце и ум Алессандро всегда переполняли социалистические теории, — вспоминал Муссолини. — Его глубокие симпатии смешивались с [социалистическими] доктринами и идеями. На исходе дня он обсуждал их со своими друзьями, и его глаза наполнялись светом»[52]. Иногда по вечерам отец читал юному Муссолини отрывки из «Капитала». Когда жители приводили своих лошадей в мастерскую Алессандро, чтобы подковать их, часть платы за свой труд кузнец получал в виде внимания, с которым им приходилось выслушивать в его изложении социалистические теории. Бенито Муссолини был прирожденным смутьяном. В возрасте 10 лет он возглавил акцию протеста учеников, недовольных качеством пищи в школьной столовой. В средней школе он называл себя социалистом, а в 18 лет, работая внештатным преподавателем, стал секретарем социалистической организации и начал свою карьеру как левый журналист.
Муссолини, несомненно, унаследовал ненависть отца к традиционной религии, в частности к католической церкви. (Его брат Арнальдо был назван в честь казненного в 1155 году средневекового монаха Арнальдо да Брешиа, который почитался как местный герой за свои выступления против стяжательства и злоупотреблений церкви.) В детстве священникам приходилось силком тащить его, кричащего и брыкающегося, на мессу. Позднее, будучи студентом-активистом в Швейцарии, он приобрел известность благодаря постоянным выпадам против набожных христиан. Он особенно любил высмеивать Иисуса, называя его «невежественным евреем» и утверждая, что тот был просто карликом по сравнению с Буддой. Один из любимых трюков юного Муссолини заключался в публичных призывах к Богу, чтобы тот поразил его насмерть, если он существует. После возвращения в Италию в качестве начинающего журналиста социалистического толка он неоднократно обвинял священников в нравственной распущенности, всячески осуждал церковь и даже написал любовный роман под названием «Клаудиа Партичелла, любовница кардинала» (Claudia Particella, the Cardinal’s Mistress), изобиловавший намеками сексуального характера.
Ницшеанское презрение Муссолини к христианству как к «морали рабов» было настолько сильным, что он стремился очистить ряды итальянского социализма от христиан всех видов. Так, например, в 1910 году на социалистическом конгрессе в Форли он внес и утвердил резолюцию, в соответствии с которой католическая религия, равно как и другие массовые монотеистические религии, объявлялась несовместимой с социализмом, и всехдюциалистов, исповедовавших ту или иную веру или терпимо относящихся к религиозным воззрениям своих детей, необходимо было исключить из партии. Муссолини потребовал, чтобы члены партии отказались от венчания, крещения и прочих христианских обрядов. В 1913 году он написал еще одну антиклерикальную книгу «Ян Гус Правдивый» (Jan Hus the Truthful) об известном чешском еретике и националисте. Можно утверждать, что в этой книге были заложены основы будущего фашизма Муссолини.
Другой важной темой в жизни Муссолини был секс. В возрасте 17 лет, как раз тогда, когда он вступил в Социалистическую партию, Муссолини потерял девственность с пожилой проституткой, у которой, по его словам, «отовсюду тек жир». Она взяла с него 50 чентезимо. В 18 лет он завел роман с женщиной, муж которой в это время служил в армии. Он приучил ее к своей единовластной и тиранической любви. «Она повиновалась мне слепо и позволяла мне обладать ею так, как я хотел», — писал он позже. «Послужной список» Муссолини за время его сексуальной карьеры состоял из 169 любовниц. По современным меркам его можно считать в некотором роде сексуальным маньяком[53].
Муссолини был одним из первых секс-символов своего времени, подготовив почву для сексуального обожествления Че Гевары. Восхваления итальянским режимом его «мужественности» стали поводом для множества академических дискуссий. Представители интеллигенции наперебой кричали о том, что Муссолини «идеальный мужчина новой эпохи». Джузеппе Преццолини писал о нем: «Этот человек — мужчина, что еще больше выделяет его в мире полулюдей с укороченной совестью, которые подобны изношенным резинкам». Леда Рафанелли, сторонница анархизма (которая впоследствии была одной из любовниц Муссолини), в первый раз услышав его выступление, написала: «Бенито Муссолини — социалист героических времен. Он чувствует, он продолжает верить с неиссякаемым энтузиазмом, он полон мужества и силы. Он Мужчина»[54].
Муссолини пытался создать впечатление, что он женат на всех итальянских женщинах. Эти старания не пропали даром. Когда к Италии были применены санкции за вторжение в Эфиопию, Муссолини попросил итальянцев пожертвовать свое золото государству, и миллионы женщин откликнулись на этот призыв. В одном только Риме более 250 тысяч женщин отдали свои обручальные кольца. Дамы высшего общества также не смогли устоять перед его обаянием. Клементина Черчилль, встретив его в 1926 году, был сражена наповал его «красивыми пронзительными глазами золотисто-коричневого цвета». Она очень обрадовалась возможности увезти домой его фотографию с автографом на память. В свою очередь леди Айви Чемберлен бережно хранила как сувенир свой значок Фашистской партии.
Вследствие того, что Муссолини заводил романы с чужими женами, задолжал деньги, навлек на себя гнев местных органов власти, в 1902 году, почти достигнув призывного возраста, он счел разумным бежать из Италии в Швейцарию, которая в то время была европейской Касабланкой для радикальных социалистов и агитаторов. Когда он приехал туда, все его состояние равнялось двум лирам, и, как он писал своему другу, в его кармане «нечему было звенеть, кроме медальона Карла Маркса». Вполне естественно, что там он примкнул к большевикам, социалистам и анархистам. В эту компанию также входила и Анжелика Балабанофф, дочь украинских аристократов и соратница Ленина с давних пор. Муссолини и Балабанофф оставались друзьями в течение 20 лет, пока она не стала секретарем Коминтерна, а он изменившим социализму отступником, т. е. фашистом.
Вопрос о том, встречались ли Муссолини и Ленин на самом деле, спорный. Однако мы точно знаем, что они относились друг к другу с симпатией. Ленин позднее заявит, что Муссолини был единственным настоящим революционером в Италии, и, по словам первого биографа Муссолини Маргариты Сарфатти (еврейки по происхождению и его любовницы), впоследствии В. И. Ленин также говорил: «Муссолини? Очень жаль, что мы его потеряли! Он сильный человек, который привел бы нашу партию к победе»[55].
За время своего пребывания в Швейцарии Муссолини быстро заслужил признание в кругах местной интеллигенции. Не упуская ни одну возможность писать социалистические трактаты, дуче использовал жаргон представителей международного «Левого фронта». В Швейцарии он также написал первую из своих многочисленных книг «Человек и божество» (Man and Divinity), в которой выступал против церкви и прославлял атеизм, заявляя, что религия — одна из форм безумия. Швейцарцев этот молодой радикал радовал ничуть не больше, чем итальянцев. Власти различных кантонов постоянно его арестовывали и часто высылали за скандальное поведение. В 1904 году он был официально назван «врагом общества». Он даже стал подумывать о том, чтобы поработать на Мадагаскаре, устроиться в социалистическую газету в Нью-Йорке или же присоединиться к другим высланным социалистам в ставшем пристанищем для левых штате Вермонт (который и ныне выполняет эту функцию).
Хотя из Муссолини не получился успешный военный лидер, он все же не был неуклюжим олухом, каким его стремились представить многие англоамериканские историки. Он был удивительно начитанным (даже более эрудированным, чем молодой Адольф Гитлер, который также слыл библиофилом). Его подкованность в теории социализма была если не легендарной, то в любом случае способной впечатлить всех, кто его знал. Из биографических статей и его собственных произведений мы знаем, что он читал Маркса, Энгельса, Шопенгауэра, Канта, Ницше, Сореля и других философов. С 1902 по 1914 год Муссолини написал бесчисленное количество статей, изучал и переводил социалистическую и философскую литературу Франции, Германии и Италии. Особую известность он снискал благодаря способности предметно и глубоко обсуждать сложные темы, не пользуясь заранее подготовленными тезисами. Действительно, он был единственным из крупных лидеров Европы 1930-1940-х годов, кто мог грамотно говорить, читать и писать на нескольких языках. Франклин Рузвельт и Адольф Гитлер, несомненно, были лучшими политиками и главнокомандующими в основном благодаря необычайно развитой интуиции, но по стандартам современных либеральных интеллектуалов Муссолини был самым умным из троих[56].
После возвращения Муссолини в Италию (и некоторого времени, проведенного в Австрии) его известность как радикала росла медленно, но неуклонно до 1911 года. Он стал редактором в газете La lotta di classe («Классовая борьба»), которая была рупором экстремистского крыла Итальянской социалистической партии. «Национальный флаг для нас тряпка, место которой на навозной куче», — заявлял он. Муссолини открыто выступал против войны правительства с Турцией за контроль над Ливией, и в своей речи в Форли он призвал итальянский народ объявить всеобщую забастовку, заблокировать улицы и взорвать поезда. «Своим красноречием в тот день он был подобен Марату», — писал лидер социалистов Пьетро Ненни[57]. Однако красноречие не спасло его от обвинения в бунтарской деятельности по восьми пунктам. Но он умело использовал судебный процесс (так же, как Гитлер сделал это в свое время), выступив с речью как пламенный патриот, мученик, ведущий борьбу с представителями господствующих классов.
Муссолини был приговорен к году лишения свободы, но после подачи апелляции срок сократили до пяти месяцев. Он вышел из тюрьмы героем социализма. На устроенном в его честь банкете ведущий социалист Олиндо Вернокки заявил: «С сегодняшнего дня вы, Бенито, являетесь не только представителем социалистов Романьи, но дуче всех революционных социалистов Италии»[58]. Впервые его назвали «дуче» (предводитель), так что вождем социализма он был провозглашен прежде, чем стал предводителем фашизма.
Пользуясь своим новым статусом, в 1912 году Муссолини принял участие в социалистическом конгрессе в тот период, когда Национальная партия была расколота на два враждебных лагеря: умеренных, которые были сторонниками постепенных реформ, и радикалов, выступавших за более жесткие меры. Встав на сторону радикалов, Муссолини обвинил двух ведущих представителей умеренной линии в ереси. За что? За то, что они поздравили со спасением короля, на жизнь которого покушался анархист. Муссолини не желал мириться с такой глупостью. Да и вообще, «какой толк в короле, который по определению является бесполезным гражданином?». Муссолини принял формальное руководство партией и спустя четыре месяца стал главным редактором национальной социалистической газеты Avanti!, получив одну из самых влиятельных должностей в движении европейского радикализма. Ленин, который издалека внимательно следил за успехами Муссолини, с одобрением отозвался о нем в «Правде».
Если бы Муссолини умер в 1914 году, нет никаких сомнений, что теоретики марксизма нарекли бы его «героическим мучеником, павшим в борьбе за свободу пролетариата». Он был одним из ведущих радикальных социалистов Европы, пожалуй, в самой радикальной социалистической партии за пределами России. Под его руководством Avanti! стала подобием Евангелия для целого поколения социалистической интеллигенции, в том числе и для Антонио Грамши. Он также основал теоретический журнал Utopia («Утопия»), названный так в честь одноименного произведения английского гуманиста Томаса Мора, которого Муссолини считал первым социалистом. По содержанию журнала Utopia можно четко проследить влияние синдикализма Жоржа Сореля на мышление Муссолини[59].
Понимание роли Ж. Сореля и его мировоззрения в период работы Муссолини над формированием идеи фашизма чрезвычайно важно. Без синдикализма фашизм был бы невозможен. Теория синдикализма достаточно сложна. Это не совсем социализм и не совсем фашизм. Джошуа Муравчик называет его «плохо определенным вариантом социализма, который был ориентирован на прямые насильственные действия и основывался на принципах элитарности и отрицания государства». По существу синдикалисты верили в правление революционных профсоюзов (это слово происходит от французского слова syndicat, в то время как итальянское слово fascio означает «связка» и обычно используется в качестве синонима для обозначения объединений). Синдикализм оживил теорию корпоративизма, утверждая, что общество может быть разделено по профессиональным секторам экономики — мысль, которая оказала глубокое влияние на «новые курсы» Рузвельта и Гитлера. Но наибольшее влияние Сореля на левое движение (и на Муссолини, в частности) проявилось в его концепции «мифов», определяемых как «искусственные комбинации, созданные для того, чтобы придать видимость реальности надеждам, которые вдохновляют людей в их нынешней деятельности». Для Сореля второе пришествие Христа было типичным мифом, потому что его глубинный смысл — Иисус грядет, нужно выглядеть занятыми — был ключевым для организации деятельности людей желательным образом[60].
Для синдикалистов того времени и в конечном счете для левых революционеров всех мастей миф Сореля о всеобщей забастовке был эквивалентом второго пришествия. Согласно этому мифу, если бы все рабочие объявили всеобщую забастовку, это сокрушило бы капитализм и сделало наследниками земли не кротких, а пролетариат. По Сорелю, не имеет значения, привела бы всеобщая забастовка к такому результату или нет. По-настоящему важной была возможность Мобилизовать массы, чтобы они осознали свою власть над капиталистическими правящими классами. Как Муссолини заявил в интервью в 1932 году, «горами движет вера, а не разум; разум — инструмент, но он ни в коем случае не может быть движущей силой толпы». С тех пор данный тип мышления стал обычным в лагере «левых». Сегодня известный в Америке правозащитник, преподобный Аль Шарптон, узнав о том, что нашумевшее дело об «изнасиловании» 15-летней чернокожей девочки белым мужчиной оказалось обманом, сказал: «Это не имеет никакого значения. Мы создаем движение»[61].
Еще более впечатляющим было применение Сорелем идеи мифа к самому марксизму. Сорель и в этом случае считал, что пророчества марксизма не обязательно должны сбываться. Достаточно того, чтобы люди поверили в их истинность. Уже в начале прошлого века стало очевидно, что марксизм как социальная наука во многом противоречит здравому смыслу. По словам Сореля, от «Капитала» Маркса, если понимать его буквально, пользы немного. «Однако, — вопрошает Сорель, — что если отсутствие здравого смысла у Маркса было преднамеренным? Если посмотреть на этот апокалиптический текст... как на продукт духа, на образ, созданный для формирования сознания, он... представится хорошей иллюстрацией принципа, на котором, как полагал Маркс, ему следовало основывать законы социалистического движения пролетариата»[62]. Другими словами, Маркса следует рассматривать как пророка, а не эксперта в вопросах политики. При таком подходе массы будут поглощать марксизм беспрекословно как религиозные догмы.
Большое влияние на Сореля оказал прагматизм Уильяма Джеймса, который впервые заговорил о том, что не нужно ничего другого, кроме «желания поверить». Утверждая, что любую религию, которая приносит благо верующим, можно считать действительно «истинной», Джеймс уповал на то, что в век быстрого развития науки удастся оставить для нее место в общественном устройстве. Будучи иррационалистом, Сорель довел эту мысль до ее логического завершения, провозгласив: «Любая идея, которую можно успешно внедрить (даже с применением насилия, если это необходимо), становится истинной и доброй». Объединив желание верить Джеймса с волей к власти Ницше, Сорель переделал «левую» революционную политику, превратив ее из научного социализма в революционное религиозное движение, основанное на вере в полезность мифа научного социализма. Чтобы подчинить массы своему влиянию во имя их же блага, просвещенным революционерам надлежало действовать так, словно марксизм был для них Евангелием. Сегодня мы назвали бы такой способ достижения целей «ложью во имя справедливости».
Конечно же, ложь не может стать «истинной» (т. е. приносить желаемые плоды) при отсутствии толковых лжецов. Здесь приходит черед еще одной важной идеи Сореля: необходимости формирования «революционной элиты», способной навязать свою волю массам. Неоднократно отмечалось, что взгляды Муссолини и Ленина по этому вопросу почти совпадали. В основе мировоззрений обоих политиков лежало сорелевское убеждение в том, что непременным условием для любой успешной революционной борьбы должно быть наличие небольшой группы радикально настроенных интеллигентов, готовых отказаться от компромиссов, парламентской политики и всего, что имеет черты постепенного реформирования. Этот авангард был призван сформировать «революционное сознание» путем разжигания насилия и подрыва либеральных институтов. «Мы должны создать пролетарское меньшинство, достаточно многочисленное, достаточно осведомленное, достаточно смелое, чтобы в подходящий момент заменить собой буржуазное меньшинство, — говорил Муссолини, с поразительной точностью воспроизводя установку Ленина. — Массы просто последуют за ним и подчинятся»[63].
Якобинский фашизм
Если Муссолини «стоял на плечах» Сореля, то сам Сорель в значительной степени опирался на Руссо и Робеспьера. Краткий обзор интеллектуальных истоков фашистского учения следует начать с романтического национализма XVIII века, а также обратиться к философии Жана Жака Руссо, который вполне обоснованно может считаться отцом современного фашизма.
На протяжении нескольких веков историки ведут спор о значении Великой французской революции. Во многих отношениях их разногласия по поводу данного события отражают фундаментальное различие между либерализмом и консерватизмом (сравните, например, точки зрения Уильяма Вордсворта и Эдмунда Бёрка). Даже принятое в наше время различие между левыми и правыми основано на расположении мест в революционном собрании.
Как бы то ни было, но один момент не вызывает возражений: Французская революция была первой тоталитарной революцией, матерью современного тоталитаризма и духовной основой итальянской фашистской, немецкой нацистской и русской коммунистической революций. Это ограничившее права личности национально-популистское восстание возглавил и осуществил авангард, состоявший из прогрессивно настроенной части интеллигенции, полный решимости заменить христианство политической «религией», которая прославляла народ, а в роли «священников» выступили представители революционного авангарда. Как говорил Робеспьер, «народ всегда важнее, чем отдельные личности... народ безупречен, а человек слаб». В любом случае отдельными личностями всегда можно пожертвовать[64].
Идеи Робеспьера были результатом тщательного изучения трудов Руссо, теория «общей воли» которого стала интеллектуальной основой всех современных разновидностей тоталитаризма. Согласно Руссо, люди, живущие в соответствии с общей волей, являются «свободными» и «добродетельными», а те, кто противится ей, — преступники, дураки или еретики. Этих врагов общего блага необходимо заставить покориться общей воле. Он описал это санкционированное государством насилие словами Джорджа Оруэлла как «принуждение людей к свободе». Именно Руссо изначально одобрил суверенную волю масс, отвергнув принципы демократии как порочные и бесчестные. Такие демократические механизмы, как голосование на выборах, создание представительных органов и так далее, «вряд ли необходимы, когда правительство исполнено благих намерений», по глубокомысленному замечанию Руссо. «Правители прекрасно знают, что общая воля всегда принимает ту сторону, которая наиболее благоприятна для интересов общества, то есть наиболее справедлива; поэтому чтобы следовать общей воле, достаточно поступать справедливо»[65].
Стремление представлять фашизм и коммунизм как движения более демократичные, чем сама демократия, было аксиомой для их апологетов XX века в Европе и Америке. «Движение» выражало интересы народа, истинной нации и являлось проявлением провиденциальной исторической миссии этой нации, в то время как парламентская демократия была коррумпированной, фальшивой, противоестественной[66]. Но суть общей воли гораздо глубже, чем тривиальная рационализация легитимности посредством популистской риторики. Идея «общей воли» привела к возникновению истинно светской религии из мистических аккордов национализма, религии, в которой «народ» фактически поклоняется самому себе[67]. В силу того, что отдельные личности не могли быть «свободными», не являясь частью группы, их существование оказывалось лишенным смысла и цели в отрыве от коллектива.
Отсюда также следовало, что если новым богом был народ, то для самого Господа места не оставалось. В «Общественном договоре» Руссо говорит нам о том, что из-за разделения в христианстве Бога и Цезаря «люди никогда не знали, следует ли им подчиняться государственной власти или священнику». Вместо этой модели Руссо предложил общество, в котором религия и политика прекрасно дополняют друг друга. Лояльность по отношению к государству и лояльность по отношению к божеству должны пониматься одинаково.
Немецкий философ и богослов Иоганн Готфрид фон Гердер, которого не совсем обоснованно считают основоположником нацизма, заимствовал политические аргументы Руссо и приложил их к культуре. Общая воля была уникальной для каждого народа, по мнению Гердера, вследствие Исторической и духовной самобытности любой нации. Благодаря этому романтическому акценту многие представители интеллигенции и люди творческих профессий стали говорить о самобытности или превосходстве рас, наций и культур. Но тоталитарные режимы XX века прежде всего обязаны именно обожествляемому Руссо объединению граждан под руководствам самого мощного из когда-либо предложенных в политической философий государства. Народ в концепции Руссо определяется не по этнической принадлежности, не по географическому положению и не по традициям. Это объединение в большей степени происходит благодаря насаждаемой всесильным богом-государством общей воли, которая находит выражение в догмах «гражданской религии», как назвал ее сам Руссо. Те, кто отрицает коллективный дух сообщества, живут за пределами государства и не имеют права претендовать на его защиту. И в самом деле, государство не просто не обязано защищать антисоциальные личности или их группы, оно вынуждено покончить с ними[68].
Французские революционеры применили эти принципы на практике. Например, Руссо предложил, чтобы Польша создала националистические праздники и символы как основу для новой светской веры. Поэтому якобинцы, которые знали все работы Руссо почти наизусть, немедленно приступили к созданию новой массовой тоталитарной религии. Робеспьер утверждал, что только «религиозный инстинкт» может защитить революцию от «кислоты скептицизма». Но революционеры также знали, что прежде, чем государство сможет претендовать на такой уровень веры, они должны будут уничтожить все следы «лживого» христианства. Поэтому они приступили к широкой кампании, нацеленной на свержение христианства. Они заменили почитаемые праздники языческими, националистическими празднествами. Собор Парижской Богоматери был переименован в Храм Разума. По всей стране стали отмечать сотни языческих по своей сути праздников, прославляющих такие абстрактные понятия, как «разум», «нация» и «братство».
Италия Муссолини просто скопировала данную стратегию. Итальянские фашисты устраивали пышные зрелища и проводили сложные языческие обряды, чтобы убедить массы и мир, что «фашизм — это религия» (как часто заявлял Муссолини). «Две религии борются сегодня за... власть над миром — черная и красная, — писал Муссолини в 1919 году. — Мы объявляем себя еретиками». В 1920 году он объяснял: «Мы усердно работали, чтобы... дать итальянцам “религиозную концепцию нации” <...> чтобы заложить основы итальянского величия. Религиозное понятие итальянизма... должно стать побудительным мотивом и основным направлением нашей жизни»[69].
Конечно, Италии пришлось столкнуться с проблемой, суть которой состояла в том, что столица государства также была столицей всемирной католической церкви. По существу борьба между светской и традиционной религиями осложнялась политикой местных властей и уникальностью итальянской культуры (как мы увидим далее, в Германии таких препятствий не было). Католическая церковь быстро осознала, что задумал Муссолини. В своей энциклике 1931 года Non abbiamo bisogno[70] Ватикан обвинил фашистов в «поклонении государству» и осудил их стремление «монополизировать молодых людей, чтобы использовать их исключительно в нуждах партии и режима, основанного на идеологии, которая сводится к истинно языческому поклонению перед государством»[71].
Мысль о священниках и лидерах, олицетворяющих дух или общую волю народа, настолько современна, что ниспровергает традиционную религию. Но желание наделить некоторые слои общества или отдельных правителей религиозной властью возникало еще в глубокой древности и может даже корениться в самой человеческой природе. Заявление (возможно, вымышленное) Людовика XIV «государство — это я» воплощает идею, согласно которой правитель и государство являются одним целым. Революционерам удалось не просто сохранить это учение, но сделать источником легитимности не Бога, а народ, нацию либо саму идею прогресса. Наполеон, революционный генерал, подчинил себе Францию при помощи именно такого распоряжения. Он был светским диктатором и стремился к дальнейшему революционному освобождению народов Европы. Его победы над Австро-Венгерской империей дали повод порабощенным Габсбургами народам приветствовать его как «великого освободителя». Он пытался подорвать авторитет католической церкви, провозгласив себя императором Священной Римской империи и приказав своим войскам превращать соборы в конюшни. Наполеоновские войска несли с собой бациллу обожествленного национализма в духе Руссо.
Таким образом, оказываются развенчанными как славный миф левых, так и главное обвинение правых, состоящие в том, что Французская революция была источником рационализма. На самом деле это не так. Революция была романтическим духовным протестом, попыткой заменить христианского Бога якобинским. Обращения к разуму были плохо завуалированными призывами к новому персонифицированному богу революции. Робеспьер презирал атеизм и атеистов, считая и то и другое признаками морального разложения монархии, и верил в «Вечное Существо, которое оказывает значительное влияние на судьбы народов и которое... наблюдает за Французской революцией совершенно особым образом»[72]. Чтобы революция была успешной, Робеспьеру пришлось заставить народ признать этого бога, который говорил через него и Посредством общей воли.
Только таким образом Робеспьер мог реализовать мечту, которая позднее увлечет нацистов, коммунистов и прогрессивистов: создание «новых людей». «Я убежден, — провозглашал он, — в необходимости проведения полного обновления и, если так можно выразиться, в необходимости создания новых людей». (С этой целью он провел закон, предписывающий забирать детей у их родителей и обучать их в школах-интернатах.) Как писал Алексис Токвиль, революционным деятелям «была присуща фанатичная вера в свое призвание, которое они видели в трансформации социальной системы сверху донизу и перерождении всего человеческого рода». Позднее он признал, что Французская революция стала «религиозным возрождением» и идеологией, давшей начало такой «разновидности религии», которая, «подобно исламу с его апостолами, боевиками и мучениками, захватила весь мир»[73].
Фашизм остался в долгу перед Французской революцией и по ряду других причин. Робеспьер, как Сорель и его наследники, считал насилие средством, обеспечивающим верность масс идеалам революции: «Если источник народного правления в мирное время — это добродетель, то во время революции этими источниками одновременно становятся и добродетель, и террор: добродетель, без которой террор становится фатальным, и террор, без которого добродетель бессильна. Террор есть не что иное, как справедливость, быстрая, тяжелая, негибкая; поэтому она и есть проявление добродетели; это не столько особый принцип, сколько результат общего принципа демократии применительно к наиболее насущным потребностям нашей страны»[74].
«Впервые в истории, — пишет историк Мариса Линтон, — террор стал официальной политикой правительства, нацеленной на применение насилия для достижения некоторой более значимой политической цели». Ирония пропала даром для большевиков, самопровозглашенных наследников Великой французской революции, которые определили фашизм, а не свою собственную систему, как «откровенно террористическую диктатуру»[75].
Полезность террора была многогранной, но одним из главных преимуществ была его способность поддерживать постоянное ощущение кризиса. Кризис принято считать основным механизмом фашизма, так как он мгновенно прекращает полемику и демократическое обсуждение. Вот почему все фашистские движения прилагают значительные усилия, для того чтобы поддерживать характерную для чрезвычайного положения напряженную обстановку. В странах Запада этому способствовала Первая мировая война.
Война: зачем она нужна
Известно, что Муссолини и Ленин совершенно одинаково отреагировали на известие о войне: «Социалистический Интернационал мертв». И они были правы. По всей Европе (а затем и в Америке) социалисты и представители других левых партий голосовали за войну, отказываясь от доктрин международной солидарности и от догмы, согласно которой эта война была капиталистической и империалистической. После двух месяцев следования данной партийной линии Муссолини начал склоняться в сторону так называемого интервенционизма. В октябре 1914 года он написал редакционную статью в Avanti!, где объяснял свою новую провоенную позицию, сводя воедино марксизм, прагматизм и авантюризм. Партия, «которая хочет войти в историю, а также творить историю в той мере, насколько это допустимо, не может ценой самоубийства придерживаться линии, опирающейся на некоторую, не подлежащую сомнению догму или вечный закон в отрыве от железной необходимости [изменения]». Он процитировал предостережение Маркса, согласно которому «тот, кто разрабатывает постоянную программу на будущее, является реакционером». Он заявил, что если партия будет следовать букве, то это уничтожит ее дух[76].
Историк Дэвид Рэмси Стил полагает, что переход Муссолини в лагерь сторонников войны «вызвал такой же резонанс, как и сделанное 50 лет спустя заявление [Че] Гевары о том, что он отправляется во Вьетнам, чтобы помочь населению Юга защититься от агрессии Северного Вьетнама»[77]. Это хорошая позиция, но она обходит вниманием тот факт, что социалисты в Европе и Америке сплоченно выступали в поддержку войны главным образом потому, что это отвечало стремлениям народных масс. Наиболее шокирующий пример продемонстрировали социалисты в парламенте Германии, проголосовав за предоставление кредитов для финансирования войны. Даже в Соединенных Штатах подавляющее большинство социалистов и прогрессивистов поддержали американскую интервенцию с такой кровожадностью, которая должна была бы смутить их наследников сегодня, если те посчитают нужным потратить время на изучение истории их же собственного движения.
Это важный момент. Безусловно, Первая мировая война произвела на свет фашизм, она также породила антифашистскую пропаганду. С того момента, когда Муссолини выступил в поддержку войны, итальянские социалисты стали стыдить его за ересь. Вопрос «СМpages?»[78] стал главным в негласной кампании против Муссолини. Его обвиняли в получении денег от оружейных баронов, а также мрачно намекали на финансовую поддержку из Франции. Обе эти точки зрения ничем не подкреплены. С самого начала фашизм назвали «правым» не потому, что он на самом деле был таковым, а потому что коммунисты посчитали, что это лучший вариант наказания за отступничество (и даже если фашизм действительно обладал правым уклоном в некотором давно забытом доктринальном смысле, он продолжал оставаться социализмом правого толка). Он всегда был таким. В конце концов если поддержка войны считается объективным признаком правого уклона, то Мамаша Джонс[79] тоже была ярой сторонницей правых взглядов. Такая динамика актуальна и сегодня, так как, для того чтобы прослыть «правым» в определенных кругах, достаточно поддерживать войну в Ираке.
Муссолини признавал, что фашизм воспринимается как «правое движение», однако он всегда давал понять, что источником вдохновения и духовной родиной для него был социализм. «Я в ваших рядах сегодня, потому что все вы еще любите меня, — говорил он итальянским социалистам. — Что бы ни случилось, вы не потеряете меня. Двенадцать лет моей жизни в партии должны быть достаточной гарантией моей веры в социализм. Социализм в моей крови». Муссолини ушел из редакции Avanti!, однако он никогда не отрекался от любви к своему делу. «Вы думаете, что можете выгнать меня, но увидите, что я еще вернусь, — предупреждал он. — Я социалист и останусь им, и мои убеждения никогда не изменятся! Они укоренились очень глубоко»[80].
Тем не менее Муссолини был вынужден выйти из партийной организации. Он присоединился к группе радикалов под названием Fascio Autonomo d’Azione Rivoluzionaria[81], выступавших в поддержку войны, и быстро стал их лидером. Опять же Муссолини не перешел на сторону правых. Приводимые им аргументы за вступление в войну были левыми по своей сути и в значительной степени перекликались с аргументами либеральных и левых американских интервентов, таких как Вудро Вильсон, Джон Дьюи и Уолтер Липпман. Он и принявшие его сторону «отступники» настаивали на том, что война ведется против реакционных немцев и Австро-Венгерской империи за освобождение других народов от ига империализма, а также способствует делу социалистической революции в Италии, истинно «пролетарском государстве».
Муссолини основал новую газету Il Popolo d’Italia («Народ Италии»), Само ее название символично, поскольку отражает некоторые изменения в мышлении Муссолини и проясняет главное различие между социализмом и фашизмом. Социализм основывался на марксистском утверждении, что общие интересы объединяют «рабочих» как класс в большей степени, чем какие-либо иные критерии. В лозунге «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» была заложена мысль о приоритете класса, класс становился важнее, чем раса, национальность, религия, язык, культура или любой другой «опиум» для народа. Муссолини было ясно не только то, что это предположение неверно по своей сути, но и что не стоит пытаться его опровергнуть. Если Сорель учил, что марксизм представляет собой совокупность полезных мифов, а не научный факт, почему бы не использовать еще больше полезных мифов при наличии таковых? «Я видел, что интернационализм начинает рушиться», — признался Муссолини позднее. Было «крайне глупо» полагать, что классовое сознание когда-либо сможет стать для людей сильнее зова нации и культуры[82]. «Национальное чувство существует, и отрицать его нельзя», — говорил Муссолини. Тогда то, что называли социализмом, на самом деле было всего лишь его разновидностью, т. е. международным социализмом. Муссолини стремился создать новый социализм, социализм в границах одного государства, национал-социализм, дополнительным преимуществом которого была реальная возможность его создания. Старая социалистическая партия препятствовала движению в данном направлении, а, значит, это было «необходимым». Муссолини писал в II Popolo d’Italia: «Надо убить партию ради спасения социализма». В другом номере своей газеты он призывал : «Пролетарии, выходите на улицы и площади с нами и кричите: “Долой коррумпированную меркантильную политику итальянской буржуазии! Да здравствует освободительная война народов!”»[83].
В 1915 году Муссолини был призван на службу в армию. Он смело сражался и даже был ранен осколком снаряда в ногу. Война послужила катализатором его мышления. Солдаты сражались как итальянцы, а не как «рабочие». Они жертвовали собой не во имя классовой борьбы, а во имя Италии. Он начал формулировать идею, известную как тринчерокрация[84]. Суть ее сводится к тому, что ветераны заслужили право управлять страной, потому что они многим пожертвовали и обладали дисциплиной, способной улучшить бедственное положение Италии (в наши дни отголоски этого убеждения можно обнаружить в эпитете chicken hawk[85]). «Окопный социализм» казался гораздо более правдоподобным, чем социализм заводского цеха, потому что Муссолини знал о нем не понаслышке. 23 марта 1919 года с целью сформировать народный фронт левых сторонников войны Муссолини и несколько его соратников основали движение Fasci di Combattimento[86] в Милане. В него вошли не только ветераны-социалисты, но и футуристы, анархисты, националисты и синдикалисты.
Вот некоторые выдержки из их программы:
• снижение возрастного ценза до 18 лет, минимального возраста для избрания в органы власти до 25 лет, а также всеобщее избирательное право, в том числе и для женщин;
• упразднение Сената и создание Национального технического совета по вопросам интеллектуального и физического труда, промышленности, торговли и культуры;
• окончание призыва;
• отмена дворянских титулов;
• внешняя политика, направленная на расширение волеизъявления и власти Италии, в противоположность всем иностранным империалистическим державам;
• незамедлительное принятие государственного закона, устанавливающего нормированный 8-часовой рабочий день для всех работников;
• установление минимального размера заработной платы;
• создание различных органов власти, управляемых представителями рабочих;
• реформирование пенсионной системы и узаконивание возрастных ограничений работников при использовании их труда на опасных работах;
• принуждение землевладельцев обрабатывать свои земли либо экспроприация земель с последующей передачей ветеранам и кооперативам фермеров;
• обязательство государства создать «исключительно светские» школы для улучшения «морального и культурного состояния пролетариата»;
• установление прогрессивного налога на капитал, эквивалентного одноразовой частичной экспроприации всех богатств;
• конфискация всего имущества, принадлежащего религиозным общинам, и отмена доходов епископов;
• «пересмотр» всех военных контрактов и «изъятие 85 процентов всей военной прибыли»;
• национализация всех предприятий в сфере производства оружия и взрывчатых веществ[87].
Ах, эти светские правые, выступающие против элиты, отменяющие фондовый рынок, запрещающие детский труд, содействующие развитию здравоохранения, изымающие богатства, прекращающие призыв!
В ноябре получившие новое имя и явно левые фашисты выдвинули своих кандидатов для участия во всеобщих выборах. Они проиграли выборы социалистам. Большая часть историков утверждают, что именно этот урок заставил Муссолини двигаться «вправо». По словам Роберта О. Пакстона, Муссолини понял, что «в итальянской политике нет места для партии, которая может быть националистической и левой одновременно»[88].
Я считаю, что это утверждение искажает реальную картину. Муссолини не двигал фашизм слева направо, он превратил его из социалистического в популистский. Несмотря на свою заметность, популизм ранее никогда не имел консервативного или правого уклона. И только в силу того, что слишком многие относили фашизм к числу правых течений, популизм при Муссолини также стали считать правым. В конце концов мысль о том, что политическая власть народна по сути и должна принадлежать народу, соответствовала классической либеральной позиции. Популизм был более радикальной версией этой позиции. Он по-прежнему остается идеологией «народовластия», но скептически относится к парламентской системе традиционного либерализма (например, к системе сдержек и противовесов). В Соединенных Штатах популисты, которые всегда были левой силой в XIX и начале XX века, выступали за проведение таких реформ, как прямые выборы сенаторов и национализация промышленности и банковского сектора. Прямая демократия и национализация были двумя основными пунктами фашистской программы. Также Муссолини стал называть Il Popolo d'Italia «газетой производителей», а не «социалистической газетой», как раньше.
Популисты от экономики и политики всегда делали акцент на «производителей». В их концепции, которую также называли producerism[89], проводилось различие между теми, кто создал богатство своими собственными руками, и теми, кто просто извлек из этого выгоду. Уильям Дженнингс Брайан, например, был большим охотником отличать «хороших и честных людей» от «праздных владельцев мертвого капитала». Популисты стремились расширить сферу деятельности правительства, для того чтобы разгромить «экономических роялистов» и помочь простым людям. Такова была сущность подхода Муссолини (который во многом напоминает позицию популярных современных представителей левого направления, таких, например, как Уго Чавес в Венесуэле). В числе фашистских лозунгов были: «Земля тому, кто ее обрабатывает!» и «Каждому крестьянину все плоды его священного труда!». Подобно другим популистам, Муссолини при каждом удобном случае использовал обновленную марксистскую теорию, чтобы объяснить свою любовь к мелкому землевладельцу. По его словам, Италия оставалась «пролетарской нацией», поэтому ей требовалось экономическое развитие, прежде чем она сможет достичь социализма, пусть даже за счет принятия целесообразности капиталистического способа товарных отношений. Ленин применил такую же тактику, реализуя свою новую экономическую политику в 1921 году, в ходе которой крестьянам предлагалось производить больше продуктов питания для собственного потребления и ради получения прибыли.
Сказанное не означает, что Муссолини был исключительно последовательным идеологом или политическим теоретиком. Будучи прагматиком, он с готовностью отбрасывал догмы, теории и альянсы, когда это было удобно. В течение нескольких лет после формирования партии Fasci di Combattimento лейтмотивами политической линии Муссолини были целесообразность и оппортунизм. В конце концов это была эпоха «экспериментов». Франклин Делано Рузвельт позже станет проповедовать те же самые принципы, исходя из того, что у него нет готовой политической программы, но есть желание заставить американцев взяться за дело и проводить в жизнь «смелые эксперименты». «Мы с уверенностью смотрим в будущее», — заявлял Франклин Делано Рузвельт. — Люди... не сдались. Перед лицом нужды у них... возникла потребность в дисциплине и руководстве. Они поручили мне помочь им в исполнении своих желаний. Таково мое призвание». «Fasci di Combattimento, — писал Муссолини в мае 1920 года, — не ощущает себя привязанной к какой-либо конкретной доктринальной форме». И во многом действуя так же, как это позднее будет делать Рузвельт, Муссолини просил итальянский народ довериться ему сейчас, отложив заботу о конкретной программе на будущее. Незадолго до получения поста премьер-министра Муссолини ответил тем, кто хотел от него конкретики, знаменитым высказыванием: «Демократы из Il Mondo хотят знать нашу программу? Наша программа сводится к тому, чтобы переломать кости демократам из Il Mondo. И чем скорее, тем лучше»[90].
С 1919 по 1922 год, когда Муссолини в результате успешного «похода на Рим» стал премьер-министром, его главными целями были власть и борьба. Здесь надо понимать следующее. Многие фашисты были бандитами, настоящими головорезами, готовыми калечить и убивать, особенно члены ОВРА, тайной полиции фашистского государства, которая создавалась по образцу тайной полиции Ленина и соответственно получила название «ЧК». Потери, понесенные в инициированной фашистами «гражданской войне», составили около двух тысяч человек, при этом 35 процентов из числа убитых были сторонниками левых и 15 процентов — фашистами. Оценивать эти цифры можно по-разному, однако следует иметь в виду, что за этот период куда больше итальянцев погибло в ходе традиционных для этой страны мафиозных войн. В то же время многие фашисты на самом деле были представительными, респектабельными людьми, которым симпатизировали не только полицейские и судьи, но и обычные граждане. В общенациональной борьбе двух наиболее представительных фракций итальянский народ (рабочие, крестьяне, мелкие торговцы, ремесленники, а также состоятельные граждане) выбрал фашистов, а не признанных международной общественностью социалистов и коммунистов.
Стиль Муссолини был удивительно похож на стратегию Ясира Арафата (хотя Арафат, несомненно, пролил гораздо больше крови). Он вел политическую игру, утверждая, что занят поиском мирных соглашений и союзов, и в то же время пытался сдерживать ту часть представителей своего движения, которая в большей степени склонна к насилию. «Мои руки связаны», — заявил он, когда отряды фашистских чернорубашечников ломали кости своим противникам. Снова, как Ленин и Арафат, Муссолини проводил в жизнь философию «чем хуже, тем лучше». Он радовался насилию со стороны социалистов, потому что это давало ему возможность применить в ответ еще большее насилие. Скандалист, успевший поучаствовать в бесчисленных потасовках и драках с применением оружия, Муссолини считал физическое насилие искуплением и естественным продолжением интеллектуальной борьбы. В этом он был очень похож на Тедди Рузвельта. Нет необходимости защищать Муссолини от обвинений в том, что он практиковал организованное политическое насилие, как это пытаются делать некоторые из симпатизирующих ему биографов. Гораздо интереснее понять, чем мотивировали свое отношение к Муссолини его защитники и критики. Да, социалисты и коммунисты, с которыми он боролся, нередко были не лучше самих фашистов. А в некоторых случаях фашисты были гораздо хуже. Однако решающее значение имеет тот факт, что в стране, охваченной экономическим и социальным хаосом, а также испытывавшей унижение в результате подписания Версальского договора, позиция и тактика Муссолини привели его к победе. Кроме того, его успех был в большей степени обеспечен эмоциональными воззваниями популистского толка, а не идеологией и насилием. Муссолини обещал итальянцам восстановить их гордость и порядок в стране.
Роль событий, ускоривших его политический взлет, довольно спорна, и нет смысла их подробно обсуждать. Достаточно сказать, что «поход на Рим» был не спонтанным революционным событием, а спланированным политическим представлением, нацеленным на продвижение сорелевского мифа. Вражда между расистскими и другими левыми партиями достигла своего апогея летом 1922 года, когда коммунисты и социалисты выступили с призывом к всеобщей забастовке в знак протеста против отказа правительства взять деятельность фашистов под жесткий контроль. Муссолини заявил, что если правительство не подавит забастовку, то это сделают его фашисты. И начал действовать, не дожидаясь ответа. Когда «красные» начали забастовку 31 июля, сквадристы Муссолини, состоявшие в основном из квалифицированных бывших военнослужащих, подавили ее в течение дня. Они возобновили движение трамваев, обеспечили бесперебойную работу транспорта и, что важнее всего, наладили движение поездов «точно по расписанию».
«Штрейкбрехерская» тактика Муссолини оказала глубокое влияние на итальянскую общественность. В то время, когда интеллигенция по всему миру стала все циничнее отзываться о парламентской демократии и либеральной политике, военная эффективность Муссолини оказалась результативнее узкопартийного подхода. Подобно тому, как сегодня многие говорят о необходимости «отказаться от ярлыков» во имя общего дела, Муссолини стали рассматривать как политика, пытавшегося выйти за рамки «избитых разграничений на правых и левых». Аналогичным образом (как и некоторые современные либералы) он предлагал так называемый третий путь, который не был ни левым, ни правым. Он просто хотел добиться поставленных целей. При поддержке общественности, которая по большей части приняла его сторону, Муссолини планировал справиться с забастовкой иного рода — неразрешимыми разногласиями в парламенте, которые парализовали работу правительства, а следовательно, и «прогресс». Он пригрозил, что он и его чернорубашечники, получившие такое название потому, что итальянские спецслужбы носили быстро завоевавшие популярность в рядах фашистов черные водолазки, пойдут на Рим и возьмут бразды правления государством в свои руки. За кулисами король Витторио Эмануэле уже попросил его сформировать новое правительство. Но дуче все равно совершил марш, повторив поход Юлия Цезаря на Рим и предоставив новому фашистскому правительству полезный «революционный миф», который он станет искусно использовать впоследствии. Муссолини стал премьер-министром новорожденной фашистской Италии.
Как же правил Муссолини? Как в старом анекдоте про гориллу: так, как хотел[91]. Муссолини стал диктатором менее жестоким, чем большинство, и более жестоким, чем некоторые. Однако он был очень популярным. В 1924 году он провел достаточно справедливые выборы, на которых фашисты одержали полную победу. В числе его достижений в 1920-е годы были принятие закона о равных избирательных правах для женщин (в New York Times это событие было подано как акт солидарности с американскими феминистками), конкордат с Ватиканом, а также оживление итальянской экономики. Преодоление длительного раскола между Италией и папой стало монументальным достижением с точки зрения внутренней политики Италии. Муссолини преуспел там, где многие другие оказались бессильными.
В последующих главах мы уделим внимание многим идеологическим и политическим аспектам, имеющим отношение к итальянскому фашизму. Но есть некоторые моменты, о которых следует упомянуть прямо сейчас. Например, Муссолини успешно позиционировал себя в качестве лидера будущего. На самом деле своему приходу к власти он в некоторой степени обязан такому направлению в искусстве, как футуризм. На протяжении 1920-х годов его стратегия управления воспринималась как исключительно современная, даже когда он и принимал такие политические меры, которые были не по нраву западной интеллигенции, например, законы, ограничивающие свободу СМИ. В то время как многие молодые представители интеллигенции отказывались от «догмы» классического либерализма, Муссолини казался лидером, возглавившим движение за отказ от старого образа мышления. В конце концов это была заря «фашистского века». Фашизм не случайно оказался первым политически успешным самопровозглашенным современным молодежным движением и получил широкое признание. «Вчерашней Италии не узнать в Италии сегодняшней, — заявил Муссолини в 1926 году. — Всей нации 20 лет, и поэтому она полна мужества, воодушевления, бесстрашия»[92]. В 1920-е годы ни один из политических лидеров во всем мире не ассоциировался в такой степени с культом технологии, в частности авиации, как Муссолини. К началу 1930-х годов руководители ведущих держав стали пытаться соответствовать созданному Муссолини образу «современного» государственного деятеля.
В некоторой степени репутация Муссолини как политического лидера нового типа стала результатом принятия им «современных» идей, в том числе американского прагматизма. В многочисленных интервью он утверждал, что считает Уильяма Джеймса одним из трех или четырех наиболее значимых в его жизни философов. Конечно же, это было сказано, чтобы произвести впечатление на американскую аудиторию. Однако Муссолини действительно был поклонником Уильяма Джеймса (находившегося под влиянием Жоржа Сореля), который считал, что прагматизм подтверждал и объяснял его философию управления, и руководил в русле прагматизма. Он на самом деле был «пророком эры прагматизма в политике», по выражению автора статьи, опубликованной в 1926 году в журнале Political Science Qarterly (и последовавшей за ней книги)[93].
И если бы даже он иногда проводил политику, скажем, в духе свободного рынка, курс, которому он действительно отчасти следовал в начале 1920-х годов, не сделал бы его капиталистом. Муссолини никогда не отказывался от идеи абсолютной власти государства при выборе направления экономического развития. К началу 1930-х годов он счел необходимым сформулировать теоретические основы фашистской идеологии в письменном виде. До того времени идеология фашизма была значительно более произвольной. Но когда он наконец начал излагать эти принципы на бумаге, доктрина фашистской экономики стала вполне узнаваемой. Она оказалась всего лишь очередной «левой» кампанией по национализации промышленности или принятию такой формы ее регулирования, которая делала ее фактически национализированной. Этот политический маневр в действительности был лишь частным случаем так называемого корпоративизма, но он вызывал восхищение в Америке в то время и по сей день является образцом для зачастую неосознанного подражания.
Прагматизм — это единственное философское направление, которое привело к появлению в языке общеупотребительного слова с преимущественно положительной коннотацией. Когда мы называем руководителя прагматиком, то, как правило, рисуем образ реалиста, практика и, прежде всего, непредвзятого в идеологическом отношении человека. Тем не менее при использовании этого слова в обиходе его значение не всегда раскрывается достаточно полно. Грубо говоря, прагматизм — это одна из форм релятивизма, согласно которому любое полезное убеждение обязательно верно. С другой стороны, любая неудобная или неполезная правда ни в коем случае не может быть верной. Полезной правдой Муссолини была концепция «тоталитарного» общества (именно он придумал это слово), суть которой раскрывает его знаменитый девиз: «Все в государстве, ничего вне государства, ничего против государства». Практическим следствием этой идеи стала убежденность, что «честной игрой» будет все то, что идет на благо государству. Следует отметить, что, по утверждению многих антифашистов, милитаризация общества имеет ключевое значение при организации атаки фашизма на либеральное государство. Только она была не целью, а средством. Страстное желание сделать государство объектом религиозного пыла было порождено Французской революцией, и Муссолини как наследник якобинцев стремился вновь разжечь этот огонь. Никакой политический проект не мог быть в меньшей степени консервативным или правым.
В этом и во многих других отношениях Муссолини оставался социалистом до последнего вздоха, как он и предсказывал. Его правление фактически закончилось в 1943 году, когда он превратился в марионеточного правителя при нацистском режиме со штаб-квартирой в Сало, где он патетически планировал свое возвращение. Он проводил дни, издавая прокламации, осуждая буржуазию, обещая национализацию всех предприятий со штатом более сотни сотрудников и реализацию конституции Николы Бомбаччи, коммуниста и давнего друга Ленина. Он выбрал журналиста из числа социалистов для описания последней главы своей жизни в качестве дуче. По его словам, Муссолини заявил: «Я завещаю республику республиканцам, а не монархистам, а задачи социального реформирования — социалистам, а не среднему классу». В апреле 1945 года Муссолини бежал, чтобы спасти свою жизнь (по иронии судьбы снова в Швейцарию) с колонной немецких солдат (он был переодет в одного из них), а также в сопровождении своих помощников, любовницы и соратника Бомбаччи. Они были захвачены группой коммунистических партизан, которым на следующее утро было приказано казнить его. Как утверждают, любовница Муссолини упала на колени перед своим возлюбленным. А Бомбаччи восклицал: «Да здравствует Муссолини! Да здравствует социализм!»[94]
Глава 2. Адольф Гитлер: Человек из стана левых
Была ли гитлеровская Германия фашистской? Многие из ведущих исследователей фашизма и нацизма, такие как Юджин Вебер, А. Джеймс Грегор, Ренцо де Феличе, Джордж Мосс и другие, в основном отвечают на этот вопрос отрицательно. Эти ученые, которым по разным причинам пришлось иметь дело с различными интерпретациями фашизма, пришли к выводу, что итальянский фашизм и нацизм, несмотря на внешнее сходство и историческую взаимосвязь, на самом деле очень сильно отличаются друг от друга. Во всяком случае, довольно сложно провести четкую границу между нацизмом и фашизмом. Однако сам факт, что такую позицию разделяют некоторые маститые ученые, свидетельствует о том, насколько искажено представление об этих явлениях в обществе, а также объясняет, почему рефлекторное отторжение понятия «либеральный фашизм» может оказаться ошибочным.
Слова «фашист» и «фашизм» встречаются в книге Адольфа Гитлера Mein Kampf («Моя борьба») исключительно редко. На протяжении семисот с лишним страниц то или иное из этих слов упоминается только в двух абзацах. Однако читатель все-таки имеет возможность получить определенное представление о том, что Гитлер думал об итальянском эксперименте и чем тот мог быть полезным для Германии. «Секрет успеха Французской революции кроется в появлении новой и очень значимой идеи, — писал он. — Русская революция обязана своим триумфом идее. И только идея позволила фашизму победоносно вовлечь всю нацию в процесс тотального обновления»[95].
Этот отрывок многое проясняет. Гитлер признает, что фашизм был изобретен Муссолини. Возможно, он был открыт заново, переосмыслен, видоизменен или дополнен, но его авторство (и, в меньшей степени, его новизна) никогда не подвергались сомнению. Также в течение первых 15 лет существования фашизма почти никто не сомневался в том, что это преимущественно итальянское движение.
Национал-социализм также возник до Гитлера. Он существовал в различных формах во многих странах[96]. Идеологические различия между фашизмом и национал-социализмом в данный момент для нас несущественны. Важно лишь то, что Гитлер не заимствовал идею нацизма из итальянского фашизма и что поначалу Муссолини не считал себя родоначальником нацизма. Он даже отказался направить Гитлеру свою фотографию с автографом, когда нацисты запросили ее в итальянском посольстве. Тем не менее ни один нацистский идеолог никогда всерьез не утверждал, что нацизм представляет собой ответвление итальянского фашизма. А в период зарождения нацизма теоретики фашизма и нацизма часто открыто враждовали. На самом деле именно Муссолини угрожал военной конфронтацией с Гитлером ради спасения фашистской Австрии от нацистского вторжения в 1934 году.
Ни для кого не секрет, что Муссолини относился к Гитлеру неприязненно. Муссолини рассказывал: «При первой встрече Гитлер цитировал мне по памяти большие отрывки из Mein Kampf, этого “кирпича”, чтение которого мне всегда давалось с трудом». Фюрер, по словам Муссолини, был «граммофоном с семью мелодиями, который, доиграв последнюю из них, снова принимался за первую». Но различия между ними касались не только личностной сферы. Идеологи итальянского фашизма всеми силами старались дистанцироваться от присущих нацизму расизма и антисемитизма. Даже такие «ультрафашисты экстремистского толка», как Роберто Фариначчи и Джованни Прециози (который сначала был ярым антисемитом, а затем стал преданным сторонником нацистов) писали, что нацизм с его акцентом на ограниченном и ограничивающем расизме “оскорбителен для совести человечества”. В мае 1934 года в журнале Gerarchia вышла одобренная Муссолини (а возможно, и написанная им) статья, обличающая нацизм как «стопроцентный расизм против всех и вся». «Вчера — против христианской цивилизации, сегодня — против латинской цивилизации, а завтра, быть может, — и против цивилизации всего мира», — говорилось в статье о нацизме. Муссолини на самом деле сомневался в том, что немцы являются единой расой. Он считал, что это смесь из шести различных народов. (Он также утверждал, что до семи процентов баварцев тупы.) В сентябре того же года Муссолини продолжал говорить о своем «чрезвычайном презрении» к расистской политике Германии. «Тридцать веков истории позволяют нам с глубочайшим сожалением взирать на некоторые доктрины, — писал он, — которые даже за пределами Альп разделяют потомки людей, по причине неграмотности не сумевших передать свои жизнеописания следующим поколениям в то время, когда в Риме были Цезарь, Вергилий и Август»[97]. А нацистские идеологи в свою очередь высмеивали итальянцев, практикующих «кошерный фашизм».
Главной мыслью, почерпнутой Гитлером из итальянского фашизма (и, как говорилось выше, из Французской и русской революций), было осознание важности выбора идеи, которая найдет отклик у масс. Конкретное содержание такой идеи, несомненно, являлось второстепенным. Конечная польза идей зависит не от того, насколько они истинны, а от того, в какой степени они делают возможным свершение нужных действий. Для Гитлера таковыми являлись уничтожение его врагов ради достижения славы и торжества немецкой расы. Это важно иметь в виду, потому что логическая выдержанность идеологии Гитлера явно оставляла желать лучшего. Его оппортунизм, прагматизм и мания величия часто превосходили любые его намерения, направленные на создание последовательной идеологической концепции.
Герман Раушнинг, вначале ярый нацист, порвавший впоследствии с Гитлером, точно подметил этот момент в своем известном высказывании, где он называет движение Гитлера «революцией нигилизма». По Раушнингу, Гитлер был оппортунистом чистой воды, не знавшим, что такое быть верным людям или идеям (если не считать идеей ненависть к евреям), и готовым нарушать клятвы, ликвидировать людей, а также говорить и делать что угодно ради достижения и удержания власти. «Это движение начисто лишено идеалов и не имеет даже подобия программы. Оно целиком сосредоточено на действии... Лидеры выбирают действие, руководствуясь холодным расчетом и хитростью. Для национал-социалистов не было и нет такой цели, которую они не могли бы поставить перед собой или отринуть в любой момент, так как для них единственный критерий — это укрепление движения». Здесь Раушнинг явно преувеличивает, однако он совершенно прав в том, что нацистскую идеологию невозможно кратко изложить в виде программы или платформы. Ее гораздо проще представить как водоворот предрассудков, страстей, ненависти, эмоций, обид, предубеждений, надежд и взглядов, которые, будучи сведенными воедино, чаще всего напоминали религиозный крестовый поход под маской политической идеологии[98].
Вопреки многочисленным заявлениям в Mein Kampf у Гитлера не было глобальных идей или идеологической системы. Его гениальность заключалась в понимании того, что идеи и символы позволяют сплотить людей. И поэтому залогом его успеха стали наиболее типичные методы, технологии и символы XX века: маркетинг, реклама, радио, самолеты, телевизор (он транслировал Олимпийские игры в Мюнхене), кино (вспомним хотя бы Лени Рифеншталь[99]) и прежде всего выступления перед большими скоплениями людей. Снова и снова в Mein Kampf Гитлер объясняет, что, по его мнению, наибольшую пользу партии принесли не его идеи, а его ораторское искусство. И напротив, самой резкой критикой в его устах было утверждение, что некто является плохим оратором. Это было больше, чем просто тщеславие. В 1930-е годы как в Германии, так и в Америке способность увлекать массы красноречивыми выступлениями часто открывала прямой путь к власти. «Без громкоговорителя, — как однажды заметил Гитлер, — нам никогда бы не удалось завоевать Германию»[100]. Обратите внимание на слово «завоевать».
Однако из того, что Гитлер относился к идеологии прагматично, не следует, что он ее не использовал. У Гитлера было множество идеологий. По сути, он являлся распространителем идеологии. Немногие из «великих людей» были более искусными в применении и смешении различных идеологических установок для различных аудиторий. Ведь речь идет о человеке, который сначала пылко выступал против большевиков, затем подписал договор со Сталиным и сумел убедить Невилла Чемберлена, а также западных пацифистов в своей приверженности миру, при этом усердно (и открыто) готовясь к войне[101].
Тем не менее мы можем с уверенностью назвать четыре значимых «идеи», которые имели для Гитлера особую ценность: власть, сосредоточенная в нем самом, ненависть и страх по отношению к евреям, вера в расовое превосходство немецкого народа и в конечном счете война как средство их реализации.
Общепринятое мнение о том, что Гитлер был представителем правых сил, зиждется на совокупности предположений и заблуждений относительно того, что понимается под терминами «левый» и «правый». Чем больше усилий прикладывается, чтобы их объяснить, тем менее понятными они становятся. К этой проблеме мы будем еще не раз возвращаться, здесь же рассмотрим ее применительно к Гитлеру и нацизму.
История прихода Гитлера к власти, как известно, выглядит следующим образом: Гитлер и нацисты использовали возмущение народа по поводу представлявшегося незаконным поражения Германии в Первой мировой войне (которая получила «удар ножом в спину» от коммунистов, евреев и малодушных политиков) и навязанного ей в Версале «мира». В сговоре с капиталистами и промышленниками, жаждущими победы над «красной угрозой» (в числе которых было и семейство Буша, если верить сторонникам наиболее «пылких» версий), нацисты устроили реакционный переворот, используя патриотические чувства народа и опираясь на «консервативные» (под которыми часто подразумеваются расистские и религиозные) элементы в немецком обществе. Придя к власти, нацисты основали «государственный капитализм» в награду промышленникам, дальнейшему обогащению которых способствовало стремление нацистов уничтожить евреев.
Очевидно, что в данных утверждениях немало правды. Но это не только правда и не вся правда. Как известно, наиболее эффективна та ложь, в некоторой части которой заложена не подлежащая сомнению истина. На протяжении десятилетий левые тщательно отбирали факты для создания карикатурного образа Третьего рейха. Карикатурный образ, как правило, во многом схож с реальным, но некоторые черты намеренно преувеличиваются для достижения желаемого эффекта. Применительно к Третьему рейху «желаемый эффект» заключался в том, чтобы представить нацизм противоположностью коммунизма. Так, например, роли промышленников и консерваторов были сильно преувеличены, а очень значительные и значимые левые и социалистические аспекты нацизма превратились в мелочи, достойные внимания только чудаков и апологетов Гитлера.
Обратимся к классической работе Уильяма Ширера «Взлет и падение Третьего рейха» (The Rise and Fall of the Third Reich), которая внесла огромный вклад в создание «официальной» истории нацистов. Ширер пишет о непростой проблеме, которая встала перед Гитлером, когда радикалы внутри его собственной партии во главе с основателем штурмовых отрядов Эрнстом Ремом захотели произвести «вторую революцию», чтобы избавиться от «традиционных элементов» в немецкой армии: аристократов, капиталистов и т. д. «Нацисты уничтожили левых, — пишет Ширер, — но остались правые: крупный бизнес и финансисты, аристократия, юнкеры и прусские генералы, которые держали армию под жестким контролем»[102].
В определенном смысле это вполне правдоподобная версия событий. Нацисты действительно уничтожили левых, а правые остались. Но спросите себя, что обычно мы имеем в виду, когда говорим об этом. Например, правые силы в Америке некогда ассоциировались с так называемыми country-club Republicans[103]. В 1950-е годы, когда был основан журнал National Review, представители нового поколения, которые называли себя консерваторами и либертарианцами, медленно, но верно стали занимать места в Республиканской партии. С одной стороны, вполне можно утверждать, что консервативное движение «уничтожило» «старых правых» в Америке. Но более точно описать эти события можно следующим образом: «новые правые» заменили «старых», пополнив ряды движения многими из своих членов. Аналогичным образом объясняется упрочение позиций «новых правых» в 1970-х и начале 1980-х годов. Когда новое поколение левых сил заявило о себе в 1960-х годах, создав такие организации, как «Студенты за демократическое общество», мы называли этих активистов «новыми левыми», потому что они вытеснили «старых левых», которые стояли у истоков движения и часто были даже отцами многих из них. Со временем «новые левые» и «новые правые» стали преемниками своих предшественников: демократы в 1972 году, республиканцы в 1980 году. И сегодня мы их называем просто «левыми» и «правыми». Нацисты также заменили собой (а не просто уничтожили) немецкие левые силы.
В последнее время историки пересмотрели однажды уже «решенный» вопрос о том, кто поддерживал нацистов. Ранее идеология предполагала, что «правящие классы» и «буржуазия» должны считаться злодеями, а низшие классы, «пролетариат» и безработные — опорой коммунистов и/или либеральных социал-демократов. Если левые выражают чаяния бедных, бесправных и эксплуатируемых, то поддержка этими слоями общества фашистов и правых становится чрезвычайно неудобным моментом. Ведь марксистская теория требует, чтобы угнетенные являлись сторонниками левых сил.
Теперь эти взгляды по большей части устарели. Хотя вопрос о том, какая часть рабочих и представителей низших классов поддерживала нацистов, остается открытым, в настоящее время установлено, что обе эти группы в значительной степени были опорой нацистов. Как нацизм, так и фашизм были народными движениями, которые находили поддержку во всех слоях общества. Между тем утверждение, согласно которому промышленные магнаты и другие «жирные коты», подобно опытным кукловодам, управляли Гитлером из-за кулис, также стало уделом стареющих марксистов, ностальгирующих по утраченному влиянию. Гитлер действительно получил поддержку от немецких промышленников, но эта помощь пришла поздно и по сути была не финансовым вложением в его успешные начинания, а их следствием. Однако основанная на марксистских догматах уверенность в том, что фашизм или нацизм является оружием капиталистов-реакционеров, рухнула вместе с Берлинской стеной. (Мнение о том, что корпорации всегда представляют интересы правых сил, в действительности лишь осколок идеологии прежних времен. Об этом пойдет речь в следующей главе, посвященной экономике.)
Большинство представителей аристократии и деловых кругов в Германии относились к Гитлеру и нацистам с неприязнью. Но когда Гитлер показал, что он не собирается уходить, они решили, что будет разумно вложить некоторую часть своих капиталов в создаваемые новым режимом компании. Такое поведение достойно осуждения, однако данные решения не были следствием идеологического союза между капитализмом и нацизмом. Корпорации в Германии, как, впрочем, и современные корпорации, руководствовались не идеологическими соображениями, а принципом оппортунизма.
Нацисты пришли к власти, используя в своих целях риторику отрицания капитализма, в которую они безоговорочно верили. Даже если Гитлер на самом деле был ничтожным нигилистом, каким его часто изображают, то невозможно отрицать искренность рядовых нацистов, которые считали, что они ведут революционную борьбу с капиталистическими силами. Кроме того, нацизм также взял на вооружение многие установки «новых левых», которые появятся в другое время и в других местах: расовое превосходство, отказ от рационализма, акцент на естественности и целостности, включая защиту окружающей среды, здоровое питание и физические упражнения и, самое главное, необходимость «преодолеть» принцип классовости.
По этим причинам Гитлер может вполне обоснованно считаться представителем левых сил, поскольку в первую очередь он был революционером. В широком смысле левая партия выступает за изменения, а правая партия стремится сохранить сложившееся положение. Если принять это во внимание, то Гитлер ни в каком смысле, никоим образом и ни при каких условиях не может выглядеть как представитель правых сил. Он был искренне убежден, что он революционер. Его последователи соглашались с этим. Тем не менее в течение целой эпохи те, кто провозглашали Гитлера революционером, считались еретиками; особенно это касалось марксистских и немецких историков, так как для левого движения любая революция расценивается как положительный момент, неизбежное движение в авангарде гегелевского «колеса истории». Даже если их кровавые методы (иногда) достойны сожаления, революционеры двигают историю вперед. (Консерваторы, напротив, относятся к революциям преимущественно негативно, за исключением тех случаев, как, например, в Соединенных Штатах, когда налицо стремление сохранить победы и наследие прежней революции.)
Вы наверняка понимаете, почему верные постулатам Маркса сторонники левых будут отвергать мысль о том, что Гитлер был революционером. Потому что если признать это, то получится, что либо Гитлер действовал правильно, либо революция может быть плохой. И все же, как можно утверждать, что Гитлер не был революционером левого толка? Гитлер презирал буржуазию, традиционалистов, аристократов, монархистов и всех, кто верил в установленный порядок. В начале его политической карьеры, ему «стали претить традиционные ценности немецкой буржуазии», как пишет Джон Лукач в книге «Гитлер в истории» (The Hitler of History). Центральным действующим лицом пьесы «Король» (Der Konig) нацистского писателя Ганса Йоста стал героический революционер, жизнь которого заканчивается трагически из-за предательства реакционеров и буржуазии. Главный герой пьесы предпочитает умереть, но не изменить своим революционным принципам. Когда Гитлер встретился с Йостом (которого он позже удостоил звания поэта — лауреата Третьего рейха) в 1923 году, то сказал ему, что посмотрел его пьесу 17 раз и полагает, что его собственная жизнь может закончиться так же[104].
Как отмечает Дэвид Шенбаум, Гитлер отзывался о буржуазии почти в тех же выражениях, что и Ленин. «Давайте не будем обманывать себя, — заявлял Гитлер. — Наша буржуазия уже бесполезна для любой благородной человеческой деятельности». Пробыв несколько лет у власти, он пояснил: «В то время мы не защищали Германию от большевизма, потому что абсолютно не стремились сохранить буржуазный мир и не собирались прикладывать усилий к его обновлению. Если бы целью коммунистов действительно была только некоторая чистка общества за счет устранения отдельных гнилых элементов в его высших слоях или избавления от наших настолько же бесполезных обывателей, можно было бы спокойно откинуться на спинку стула и наблюдать в течение некоторого времени»[105].
Традиционное определение правых сводится к тому, что они не только выступают за сохранение существующего положения вещей, но также являются реакционерами в своем стремлении к восстановлению старого порядка. Такая точка зрения не выдерживает критики, так как, например, большую часть либертарианцев относят к представителям правых сил, и в то же время почти никто не считает таких активистов реакционерами. Как мы увидим далее, Гитлера можно считать реакционером за то, что он пытался свергнуть весь иудейско-христианский порядок ради восстановления язычества. Цель, которая в настоящее время находит поддержку у некоторых представителей левого крыла, но не в стане правых.
Слово «реакционер» заимствовано из терминологии марксизма и сегодня воспринимается некритически. В речи марксистов и сторонников прогрессивного движения в начале XX столетия этим термином обозначались те, кто хотел вернуться либо к монархии, либо, например, к манчестерскому либерализму XIX века. Они желали восстановить власть Бога, монархию, патриотизм или рынок, но не Одина и Валгаллу[106]. Именно по этой причине Гитлер объявлял себя непримиримым борцом с реакционными силами. «Мы не стремились воскресить умерших из старого Рейха, который стал жертвой собственных ошибок, мы хотели построить новое государство», — писал он в Mein Kampf. И в другом месте: «Немецкая молодежь или создаст в один прекрасный день новое государство, основанное на расовой идее, или же станет последним свидетелем полного краха и гибели буржуазного мира»[107].
Такой радикализм (добиться успеха или уничтожить все это!) объясняет, почему Гитлер, будучи противником большевиков, пусть с неохотой, но все же восхищался Сталиным и коммунистами, тогда как «реакционеры», стремившиеся просто «повернуть время вспять», чтобы вновь оказаться в XIX веке, не вызывали у него ничего, кроме насмешек. Кроме того, он действительно считал уничтожение монархии в 1918 году самым значительным достижением социал-демократической партии Германии.
Рассмотрим, к примеру, символику Хорста Весселя, самого известного мученика партии, история которого была преобразована в гимн нацистской борьбы, исполнявшийся вместе с песней «Германия превыше всего» (Deutschland uber alles) на всех официальных мероприятиях. В «Песне Хорста Весселя» упоминаются нацистские «товарищи», в которых стреляли «красный фронт» и реакционеры.
Если отвлечься на время от вопроса о том, был ли гитлеризм правым по своей сути, бесспорно лишь то, что Гитлер ни в коей мере не был консерватором. На этом моменте всегда делают акцент ученые, осторожные в выборе слов. И в самом деле, предположение о том, что Гитлер был консерватором, если рассматривать этот термин в русле американского консерватизма, лишено всякого смысла. Американские консерваторы стремятся сохранить как традиционные ценности, так и закрепленные в конституции классические либеральные убеждения. Американский консерватизм зиждется на этих двух различных, но частично пересекающихся составляющих — либертарианской и традиционалистской, тогда как Гитлер презирал их обе.
Путь национал-социалиста к славе
То, что Гитлер и нацизм воспринимаются как явления правого толка, обусловлено не только историографическими выкладками или враждебным отношением Гитлера к традиционалистам. Представители левых сил также использовали расизм Гитлера, его предполагаемый статус капиталиста и ненависть к большевизму, для того чтобы отнести к консервативному лагерю не только его самого и нацизм, но и фашизм в целом. Наилучшим образом оценить справедливость или абсурдность этих утверждений нам поможет обращение к основным моментам истории прихода Гитлера к власти. Биография Гитлера настолько подробно освещена историками и Голливудом, что нет смысла воспроизводить ее здесь во всех подробностях. Однако некоторые факты и темы заслуживают большего внимания, чем им уделялось до сих пор.
Гитлер родился в Австрии, недалеко от границы с Баварией. Как и другие его ровесники-нацисты, в юности он испытывал зависть к «настоящим» немцам, которые жили совсем неподалеку. Многие из первых нацистов, как правило, люди незнатного происхождения, из глубинки, были полны решимости «доказать» свою принадлежность к немецкой расе, стремились «быть немцами» в большей степени, чем кто-либо другой. А от таких настроений был шаг до антисемитизма. Кого следовало ненавидеть, как не евреев, особенно тех, которые успешно ассимилировались и стали немцами? Кто они были такие, чтобы притворяться немцами? Тем не менее неизвестно, когда именно и почему Гитлер стал антисемитом. Сам Гитлер утверждал, что не испытывал ненависти к евреям, когда был ребенком; однако те, кто знали его с детских лет, утверждают, что он уже тогда был антисемитом. Единственным доказательством, что антисемитизм появился у него гораздо позже, могли быть только его неоднократные заявления о том, что выводы о злой сущности этой нации он сделал в результате тщательного изучения и зрелых наблюдений.
В этом состоит одно из самых значительных различий между Муссолини и Гитлером. На протяжении большей части своей карьеры Муссолини считал антисемитизм глупым отклонением от основной цели, а впоследствии также обязательной данью своему властолюбивому немецкому покровителю. Евреи могут быть хорошими социалистами или фашистами, если они думают и ведут себя как хорошие социалисты или фашисты. В силу того, что Гитлер явно мыслил категориями того направления, которое сегодня известно нам как политика идентичности, евреи в любом случае оставались евреями, как бы хорошо они ни говорили по-немецки. Как и все те. кто исповедуют принципы политики идентичности, он был предан «железной клетке» неизменной идентичности.
В Mein Kampf Гитлер заявляет, что он националист, но не патриот (очень значимое различие). Патриоты почитают идеи, институты и традиции определенной страны и ее правительство. Девизом националистов являются такие слова, как «кровь», «почва», «раса», «нация» и т. д. Будучи революционным националистом, Гитлер полагал, что все буржуазное здание современной немецкой культуры изъедено изнутри политической коррупцией или духовным разложением. Он считал, что Германии необходимо вновь открыть для себя свою дохристианскую истинную сущность. Эта мысль о применимости для всего общества опыта личных поисков смысла в расовых концепциях аутентичности была логическим продолжением политики идентичности.
Именно этот образ мысли сделал пангерманизм[108] столь привлекательным для молодого Гитлера. Пангерманизм принимал различные формы, но в Австрии основной его движущей силой была абсолютно противная консервативному духу антипатия по отношению к либеральному многонациональному плюрализму Австро-Венгерской империи, которая принимала евреев, чехов и представителей других негерманских народов как равноправных граждан. Некоторые пангерманские «националисты» ратовали за полное отделение от империи. Другие просто считали, что немцы должны быть первыми среди равных.
Конечно же, комплекс национальной неполноценности молодого Гитлера дополнялся множеством иных обид, отражавшихся на его психике. Истории не известно ни одного человека, состояние психики которого подвергалось бы столь доскональному изучению с целью выявления патологий, оказавших существенное влияние на развитие личности. Кроме того, найдется немного субъектов с таким же внушительным списком отклонений. «В результате тщательных исследований личности Гитлера, — пишет журналист Рон Розенбаум в своем труде «Объясняя Гитлера» (Explaining Hitler), — получился не целостный, единый образ Гитлера, но целый ряд различных, конкурирующих Гитлеров, являющихся воплощением противоборствующих точек зрения». Психологи и историки утверждают, что в наибольшей степени на формирование личности Гитлера повлияли насилие со стороны отца, наличие инцеста в семейной истории, а также то, что он был садомазохистом, копрофилом, гомосексуалистом или отчасти евреем (или были такие опасения). Не все из этих теорий являются в равной степени достоверными. Однако не подлежит сомнению тот факт, что мания величия Гитлера была обусловлена сложным комплексом психологических проблем и импульсов. Если свести все это воедино, мы получим человека, которому приходилось бороться со многими проблемами и который был при этом крайним индивидуалистом. «Я должен достичь бессмертия, — признался Гитлер однажды, — даже если это будет стоить жизни всему немецкому народу»[109].
Гитлер страдал от необычайно сильного комплекса интеллектуальной неполноценности. Школьная программа всегда давалась ему с трудом, и он постоянно переживал из-за плохих оценок. Хотя, пожалуй, еще более значимыми являются его обиды на любые замечания отца... Алоиз Гитлер, урожденный Алоиз Шикльгрубер, работал на австрийской государственной службе, т. е. на империю, а не в «интересах Германии». Алоиз хотел, чтобы Адольф стал не художником, а гражданским служащим, как и он сам. Вероятность того, что в роду Алоиза могли быть евреи, стала причиной, побудившей Гитлера сделать историю своего происхождения государственной тайной, когда он стал диктатором.
Гитлер бросил вызов своему отцу, перебравшись в Вену в надежде поступить в Академию изящных искусств, но его заявление не приняли. При второй попытке поступления его рисунки сочли настолько плохими, что ему даже не позволили участвовать в конкурсе. В определенной степени благодаря некоторой денежной сумме, оставленной ему в наследство тетей, Гитлер медленно и трудно осваивал художественное ремесло (вопреки заявлениям его врагов он никогда не был маляром). Он главным образом делал копии со старых картин и рисунков и продавал их купцам в виде репродукций, дешевых картинок и открыток. Постоянно читая, в основном немецкую мифологию и псевдоисторию, Гитлер игнорировал светскую жизнь венского общества, отказываясь пить, курить и даже танцевать (женщин он воспринимал преимущественно как устрашающих носителей сифилиса). В одном из немногих сдержанных воспоминаний об этом периоде в Mein Kampf он пишет: «Я думаю, что тем, кто знал меня в те дни, я казался эксцентричным человеком».
Именно в Вене Гитлер впервые познакомился с национал-социализмом. Вена на рубеже веков была центром Вселенной для тех, кто желал побольше узнать о малопонятной арийской теории, мистических возможностях индийской свастики и тонкостях «учения о мировом льде»[110]. Гитлер купался в этих богемных водах, часто проводя ночи за сочинением пьес о язычниках-баварцах, которые мужественно отбивались от наступающих христианских священников, пытавшихся навязать германской цивилизации свои чужеродные верования. Кроме того, часто целыми днями он блуждал по беднейшим кварталам, чтобы по возвращении домой взяться за построение грандиозных планов города с более комфортным жильем для рабочего класса. Конечно же, он осуждал городских аристократов, которые не заработали своего богатства трудом, и говорил о необходимости социальной справедливости.
Но больше всего Гитлера занимала бурно развивающаяся отрасль «научного» антисемитизма. «Однажды, проходя через центральную часть города, — писал он в Mein Kampf, — я неожиданно встретил удивительное создание в длинном плаще и с черными пейсами. Моей первой мыслью было: “Это еврей”. Евреи, жившие в Линце, выглядели совсем иначе. Я внимательно разглядывал этого человека, стараясь не привлекать к себе внимания, но чем дольше я смотрел на это странное лицо, изучая каждую черту, тем настойчивее звучал вопрос в моей голове: “Или это немец?” Гитлер-исследователь продолжает: «Как всегда в таких случаях, чтобы развеять свои сомнения, я обратился к книгам. Впервые в жизни я купил себе несколько антисемитских брошюр на несколько пенсов».
После тщательного изучения данного вопроса он подвел итог в Mein Kampf: «У меня больше не было сомнений в том, что речь шла не о немцах, исповедующих какую-то другую религию, но о совершенно ином народе. Ибо как только я начал исследовать этот вопрос и наблюдать за евреями, то Вена представилась мне в другом свете. Куда бы я ни шел, я всюду видел евреев, и чем больше я их видел, тем поразительнее и четче они выделялись среди прочих граждан как совершенно особый народ».
Ведущим интеллектуалом Вены, активно пропагандировавшим «тевтономанию» (неоромантическое «открытие» немецкой исключительности, напоминающее некоторые современные разновидности афроцентризма) был Георг Риттер фон Шёнерер, которого Гитлер с интересом слушал и позже назвал «глубоким мыслителем». Пьяница и скандалист, а также совершенно неотесанный антисемит и противник католической церкви, Шёнерер, являясь своеобразным продуктом «борьбы за культуру» Бисмарка, настаивал на том, что католиков необходимо обратить в немецкое лютеранство, и даже предлагал немецким родителям отказаться от христианских имен в пользу исключительно германских, а также призывал запретить межрасовые браки, чтобы славянская или еврейская кровь не портила генофонд нации. И если было невозможно, объединив немцев, создать единое, чистое с расовой точки зрения немецкое отечество, то следовало как минимум проводить политику предпочтений по расовому признаку и позитивной дискриминации в интересах немцев.
Но истинным героем Гитлера в те дни был бургомистр Вены доктор Карл Люгер. Глава Христианской социалистической партии Люгер был опытным политиком-демагогом, своего рода венским Хьюи Лонгом. Его, как правило, неистовые речи представляли собой смесь из «муниципального социализма», популизма и антисемитизма. О его печально известных призывах к бойкотированию евреев и обращенных к венским евреям предупреждениях о том, что если они не будут вести себя хорошо, то закончат так же, как их единоверцы в России, писали газеты по всему миру. Император даже дважды отменял победу Люгера на выборах, понимая, что тем, кто выступал за сохранение сложившегося порядка, его кандидатура не сулила ничего, кроме головной боли.
В 1913 году Гитлер унаследовал оставшуюся часть имущества своего отца и переехал в Мюнхен, осуществляя мечту о жизни в «настоящем» немецком городе и уклоняясь от военной службы в армии Габсбургов. Это были его самые счастливые дни. Большую часть времени он проводил, изучая архитектуру и углубляясь в псевдоисторические арийские теории и антисемитские труды (в частности, работы Хьюстона Стюарта Чемберлена). Он также снова взялся за изучение марксизма, который одновременно притягивал и отталкивал его. С одной стороны, Гитлер высоко ценил идеи Маркса, но с другой — считал его основоположником еврейского заговора. С началом Первой мировой войны Гитлер сразу же обратился к королю Баварии Людвигу III с просьбой разрешить ему служить в баварской армии, которая была удовлетворена после переговоров с австрийскими властями. Гитлер честно служил во время войны. Он получил звание капрала и был награжден Железным крестом.
Как известно, Первая мировая война породила все ужасы XX века. Множество банши[111] заполонили западный мир, разрушая старые догмы религии, демократии, капитализма, монархии и человеческие ценности. Война подпитывалась всеобщей параноидальной подозрительностью по отношению к элитам и элитарным институтам. В этой обстановке доверие населения каждой из воюющих сторон к политике военного социализма своего государства, выражавшейся в экономическом планировании, было единственным выбором. И это не могло не привести к приходу к власти революционеров во всей Европе: Ленина в России, Муссолини в Италии и Гитлера в Германии.
Не удивительно, что опыт Гитлера во время войны был очень похож на опыт Муссолини. Гитлер видел, как простые люди и представители знати сражаются бок о бок в окопах. Им пришлось столкнуться с коррупцией и двуличием (реальными и предполагаемыми) их собственного правительства.
Ненависть Гитлера к коммунистам также значительно усилилась во время войны, в основном благодаря антивоенной агитации на внутреннем фронте. Немецкое гражданское население голодало наряду с войсками. Люди делали хлеб из опилок и даже ели домашних животных. Кошек называли «кроликами, живущими на крышах». Немецкие «красные» использовали тяжелое положение населения в своих целях: они организовывали забастовки против правительства и требовали мира с Советским Союзом, а также призывали немцев строить социализм. Гитлер, который, как окажется, не имел ничего против немецкого социализма, расценивал антивоенные акции коммунистов как двойное предательство: во-первых, оно совершалось по отношению к своим войскам, сражавшимся на фронте, а во-вторых, оно совершалось с подстрекательства иностранного государства. Разъяренный действиями «пятой колонны», он негодовал: «Ради чего сражается армия, если сама Родина больше не хочет победы? Для кого эти огромные жертвы и лишения? Солдаты призваны бороться за победу, а Родина препятствует этому!»[112]
Когда Веймарский режим признал свое поражение, Гитлер и бесчисленное множество других солдат бурно протестовали, говоря о том, что они «получили нож в спину» от коррумпированного демократического правительства, «ноябрьских преступников», которые больше не представляли истинные интересы и чаяния немецкого народа. Гитлер лечился в госпитале от временной потери зрения, когда было объявлено о прекращении военных действий. Это событие стало для него поворотным моментом, моментом религиозного прозрения и осознания своего божественного призвания. «В те ночи моя ненависть росла, ненависть к тем, кто стоял за этим подлым преступлением», — пишет он.
Виновниками, по его мнению, были объединившиеся ради общей цели капиталисты, коммунисты и трусы, служившие прикрытием для еврейской угрозы. Ненависть Гитлера к коммунизму, как утверждают сами коммунисты, не была связана с отрицанием социалистической политики или идей эгалитаризма, прогресса и социальной солидарности. Она было неразрывно связана с ощущением предательства немецкой чести и патологическим антисемитизмом. Именно эта ненависть положила начало политической карьере Гитлера.
Оправившись от ран, капрал Гитлер получил должность в Мюнхене. В его задачу входило наблюдение за организациями, проповедующими «опасные идеи»: пацифизм, социализм, коммунизм и т. д. В сентябре 1919 года ему было приказано присутствовать на заседании одной из бесчисленных новых «рабочих партий», которые в то время имели преимущественно социалистическую или коммунистическую направленность.
Молодой Гитлер появился на заседании Немецкой рабочей партии в уверенности, что речь пойдет об очередном маргинальном политическом объединении левого толка. Однако в числе выступавших оказался Готфрид Федер, речи которого Гитлеру уже доводилось слышать ранее, и они произвели на него впечатление. В тот вечер выступление Федера было озаглавлено следующим образом: «Как и с помощью чего можно ликвидировать капитализм?». Федер был популистским идеологом, стремившимся снискать расположение революционеров-социалистов, которые за один 1919 год сумели превратить Мюнхен в коммуну советского образца. Как и все популисты, Федер уделял особое внимание разделению финансовых ресурсов на «эксплуатационные» и «производительные». Гитлер сразу же сообразил, что идеи Федера могут оказаться привлекательными для «маленького человека» как в крупных, так и в небольших городах. Гитлер понимал, что, как и в Америке, стремительное развитие крупных банков, корпораций и дорогих магазинов порождало чувство беспомощности у рабочих, мелких фермеров и владельцев малого бизнеса. Хотя экономическая составляющая программы Федера была вполне бессмысленной (как это почти всегда бывает с популистскими экономическими концепциями), она идеально подходила для партии, желающей использовать недовольство по отношению к национальным элитам и евреям. К тому же Федер постоянно называл евреев «паразитами».
На Гитлера произвела впечатление речь Федера, но не сама Немецкая рабочая партия, которую он отнес к числу объединений, «внезапно появлявшихся из-под земли, чтобы также незаметно исчезнуть через некоторое время». Он воспользовался моментом и набросился с обвинениями на оратора, который осмелился выступить с предложением об отделении Баварии от Германии и ее присоединении к Австрии. Это была чудовищная крамола для такого пангерманиста, как Гитлер. Тирада Гитлера настолько впечатлила присутствовавших на заседании официальных представителей партии, что один из них, кроткий с виду парень по имени Антон Дрекслер, остановил его, когда тот выходил, и дал ему партийную брошюру.
На следующий день в пять часов утра Гитлер лежал на своей койке в казарме и наблюдал за мышами, поедавшими крошки хлеба, которые он обычно оставлял для них. Заснуть не удавалось, поэтому он взял брошюру и прочел ее от корки до корки. Из этой написанной самим Дрекслером автобиографической прокламации под названием «Мое политическое пробуждение» (Му Political Awakening) Гитлер узнал о том, что есть и другие люди, которые думают так же, как он, что его история не уникальна и что существует готовая идеология, которую можно использовать.
Даже если национализм, популизм, антисемитизм и немарксистский социализм Гитлера вызревали еще некоторое время, нужно понимать, что те явления, которые позже стали известны как гитлеризм и нацизм, уже существовали в Германии и в других странах Центральной Европы (особенно в Чехословакии). Гитлер дал этим веяниям имя и направление. В отличие от фашизма Муссолини, который в значительной степени был плодом его собственного мышления, Гитлер получил свою идеологию в готовом виде. Кроме того, фашизм Муссолини не играл заметной роли в формировании ранней нацистской идеологии или основ политической концепции Гитлера. Позже Гитлер признается, что у него вызывали восхищение успех дуче, его тактика, умение использовать политический миф в своих целях, способность заинтересовать. Эти идеи и движения будоражили Европу, в том числе Германию. Массы не нуждались в новом учении. Им не хватало того, кто побудил бы их к действию. Слово «действие» стало лозунгом для всего западного мира. Действие лежало в основе всех свершений. Лежа на койке и читая брошюру в предрассветные часы, Гитлер понял: его время пришло. Он станет самым успешным «продавцом» национал-социализма, а не его создателем.
Пока Гитлер раздумывал, следует ли ему присоединиться к Немецкой рабочей партии, он получил членский билет по почте. Его приняли! Он стал членом партии под номером 555. Излишне говорить, что вскоре он встал во главе партии. Этот замкнутый самоучка и мизантроп оказался непревзойденным партийцем. Он обладал всеми достоинствами, необходимыми культовой революционной партии: ораторским искусством, пропагандистскими способностями, умением плести интриги и безошибочным инстинктом популистской демагогии. Когда он вступил в партию, все ее богатство составляла коробка из-под сигар, в которой было менее 20 марок. В зените своего успеха партия контролировала большую часть Европы и была готова к мировому господству.
В 1920 году нацистская партия опубликовала сформулированную Гитлером и Антоном Дрекслером «неизменную» и «вечную» партийную платформу, в основе которой лежал принцип «общее благо важнее личной выгоды». Помимо уже знакомых нам призывов в духе «Германия для немцев» и требований денонсации Версальского договора, самым поразительным в данном документе выглядит обращение к таким принципам социалистической и популистской экономики, как выплата гражданам социальных пособий, отмена дохода от процентов, тотальная конфискация военных прибылей, национализация трестов, распределение прибыли сообразно труду, увеличение пенсий по старости, «национализация крупных магазинов», физическое уничтожение ростовщиков вне зависимости от расовой принадлежности и запрещение детского труда. (Полный текст платформы можно найти в приложении.)
Предполагается, что партия, ратующая за всеобщее образование, гарантированные рабочие места, увеличение пособий для пожилых людей, экспроприацию земель без компенсации, национализацию промышленности, отмену рыночного кредитования, также известного как процентное рабство, расширение спектра услуг в области здравоохранения и упразднение детского труда, должна считаться объективно и очевидно правой.
Нацисты стремились создать разновидность антикапиталистического, антилиберального и антиконсервативного коммунитаризма, суть которого отражает концепция Volksgemeinschaft, или концепция «национальной общности». Ее главной целью было преодоление классовых различий, но только в рамках сообщества. «Мы постарались, — объяснял Гитлер, — отойти от внешнего, поверхностного, постарались забыть о социальном происхождении, классе, профессии, состоянии, образовании, капитале и всех иных вещах, которые разделяют людей, ради того, что их объединяет»[113]. В нацистской пропагандистской и правовой литературе постоянно встречались напоминания о том, что ни один из «консервативных» или «буржуазных» принципов не должен препятствовать полному раскрытию потенциала каждого немца в новом Рейхе. По злой иронии, нацистские идеологические клише часто создавались в том же духе, что и высказывания либералов, например, «ум — это такая вещь, которую страшнее всего потерять» или «особенности характера». Это звучит глупо в американском контексте, поскольку для нас расовые вопросы всегда представляли большее препятствие, чем классовые. Но в Германии классовая принадлежность всегда была важнейшим критерием разделения общества, тогда как антисемитизм нацистов стал одной из объединяющих идей, способных сплотить всех «истинных» немцев, богатых и бедных. Ключевое различие между национал-социалистами и коммунистами не было связано с экономикой (хотя доктринальные различия существовали и в этой сфере, но относились к национальному вопросу). Для Гитлера самой неприемлемой была мысль Маркса о том, что «у рабочих нет отечества».
Нацисты, возможно, не называли себя левыми, но это почти не имеет значения. С одной стороны, сегодня, как и вчера, левые постоянно высмеивают идеологические ярлыки, заявляя, что такие слова, как «либеральный» и «левый», в действительности лишены смысла. Сколько раз нам приходилось слышать, как какой-нибудь видный представитель левых сил настаивает на том, что он действительно «прогрессивный» или «не верит ярлыкам»? С другой стороны, «социальное пространство», за которое боролись нацисты, находилось на левом фланге. Не только представители традиционного подхода, ставшего стандартом благодаря Ширеру, но и большая часть марксистов признают, что нацисты стремились «уничтожить левых», прежде чем взяться за склоняющихся к традиционализму правых. Нацистам просто было легче победить противников из левого крыла, так как они были ориентированы на одну и ту же социальную базу, использовали один и тот же язык и мыслили одинаковыми категориями. Аналогичное явление имело место в 1960-х годах, когда «новые левые» в США и в Европе обрушились на либеральный центр, игнорируя при этом традиционалистски настроенных правых. Например, в американских университетах консервативную часть профессуры не трогали, тогда как либеральные преподаватели постоянно подвергались гонениям.
Конечной целью нацистов было преодоление как левого, так и правого уклона для реализации «третьего пути», который отметал обе эти категории. Но в реальности нацистам удалось захватить власть в стране, потому что они постепенно разделяли, завоевывали, а затем заняли место левых.
Важнейший факт, связанный с приходом нацистов к власти, который постепенно стирается из нашей коллективной памяти: нацисты вышли на выборы как социалисты. Да, они были националистами, которых в 1930-е годы относили к крайне правым. Но это было в то время, когда «интернационализм» Советского Союза определял все виды национализма как правые. Конечно же, после всех ужасов XX века мы сделали вывод, что национализм не может быть правым по своей сути. Ведь мы не готовы назвать «правыми» Иосифа Сталина, Фиделя Кастро, Ясера Арафата, Уго Чавеса, Че Гевару, Пола Пота и, если на то пошло, Вудро Вильсона, Франклина Рузвельта и Джона Ф. Кеннеди. Сам Сталин правил как националист, говоря о «матери-РоСсии» и называя Вторую мировую войну «Великой Отечественной». К 1943 году он даже заменил старый коммунистический гимн («Интернационал») истинно русским гимном. Кроме того, с исторической точки зрения национализм был леволиберальным явлением. Французская революция была национальной революцией, но при этом она также считалась леволиберальной вследствие разрыва с католической церковью и расширения прав и возможностей народа. Немецкий романтизм в духе Готфрида Гердера рассматривался как националистический и либеральный одновременно. Национал-социалистическое движение было частью этой революционной традиции.
Но даже если нацистский национализм в некотором неопределенном, но основополагающем смысле и был правым, это означает только то, что нацизм был социализмом правого толка. И правые социалисты — это все еще социалисты. Уничтоженные Сталиным большевики-революционеры по большей части обвинялись не в том, что они были консерваторами и монархистами, а в том, что они были правыми, т. е. правыми социалистами. Любое отклонение от линии Коммунистической партии автоматически становилось доказательством правого уклона. С тех самых пор мы на Западе слепо используем эти термины так, как они употреблялись в Советском Союзе, не задумываясь о их пропагандистской составляющей.
Нацистский идеолог и соперник Гитлера Грегор Штрассер выразился весьма лаконично: «Мы социалисты. Мы враги, смертельные враги сложившейся капиталистической экономической системы с присущими ей эксплуатацией бедных, несправедливой оплатой труда, аморальным способом определять значимость людей по их материальному состоянию, а не по таким качествам, как ответственность и эффективность, и мы полны решимости уничтожить эту систему во что бы то ни стало!»[114]
Гитлер в Mein Kampf выражается так же прямолинейно. Он посвящает целую главу преднамеренному использованию нацистами социалистической и коммунистической символики, риторики и идей, а также тому, как этот ловкий маркетинговый ход привел в замешательство и либералов, и коммунистов. Наиболее простым примером может служить использование нацистами красного цвета, который прочно ассоциируется с большевизмом и социализмом. «Мы выбрали красный цвет для наших плакатов после предметного и тщательного обсуждения... для того, — писал Гитлер, — чтобы привлечь их (людей) внимание и убедить прийти на наши митинги... с тем чтобы у нас была возможность поговорить с этими людьми». Нацистский флаг — черная свастика в белом диске на красном фоне — явно был нацелен на привлечение коммунистов. «В красном мы видим социальную идею движения, в белом — националистическую идею, в свастике — миссию борьбы за победу арийского человека», — отмечал он[115].
Нацисты заимствовали целые разделы из программы коммунистов. Члены партии, мужчины и женщины, называли друг друга «товарищами». Гитлер вспоминает о том, насколько успешными оказались его призывы к «сознательным пролетариям», которые хотели нанести удар по «монархистской, реакционной агитации пролетарскими кулаками», и как ему удавалось в результате привлекать огромное число коммунистов на партийные митинги[116]. Иногда коммунисты приходили, получив приказ сорвать мероприятие и устроить погром. Однако часто в ходе митингов «красные» отказывались бунтовать и переходили на сторону национал-социалистов. Короче говоря, борьба между нацистами и коммунистами, по сути, напоминала драку двух собак за одну кость.
Нацистская политика одной нации, по определению, была обращена ко всем слоям общества. Профессора, студенты и государственные служащие поддерживали нацистов в разной степени. Но важно получить представление о тех людях, которые были рядовыми нацистами. Молодые, нередко склонные к бандитизму, истово верящие члены партии сражались на улицах и посвятили себя делу революции. Патрик Ли Фермор, молодой британец, путешествовавший по Германии вскоре после прихода Гитлера к власти, встретил некоторых из этих людей, которые еще не успели снять спецодежду после ночной смены, в рейнландской пивной для рабочих. Один из его новых приятелей предложил Фермору переночевать у него дома. Когда Фермор поднялся по лестнице на чердак, чтобы улечься спать на гостевой кровати, то обнаружил там настоящий «храм учения Гитлера»:
«Стены были увешаны флагами, фотографиями, плакатами, лозунгами и эмблемами. Его аккуратно выглаженная форма бойца штурмового отряда висела на вешалке... Когда я предположил, что такое количество разных вещей на стенах способно вызвать клаустрофобию, он засмеялся, сел на кровать, и сказал: “Дружище! Если бы ты видел эту комнату в прошлом году! Вот бы ты посмеялся! Тогда здесь повсюду были красные флаги, звезды, молотки, серпы, фотографии Ленина и Сталина и лозунг “Пролетарии всех стран, соединяйтесь!” <...> И вдруг, когда Гитлер пришел к власти, я понял, что все это чепуха и ложь. Я понял, что Адольф — это близкий мне человек. Совершенно неожиданно! — Он щелкнул пальцами в воздухе. — И вот я здесь!.. Много ли еще людей поступили так же, как я? Миллионы! Говорю тебе, я сам был поражен, с какой легкостью все они перешли на другую сторону!”»[117].
Даже после того как Гитлер захватил власть и стал более восприимчивым к просьбам предпринимателей, как того требовали нужды его военной машины, партийная пропаганда по-прежнему была направлена на рабочих. Гитлер всегда подчеркивал (и сильно преувеличивал) свой статус «бывшего рабочего». Он регулярно появлялся на публике в рубашке и неофициально обращался к немецким рабочим: «В юности я был таким же рабочим, как и вы, медленно поднимаясь вверх по социальной лестнице благодаря усердию, учебе, и еще, я думаю, вполне можно так сказать, благодаря голоду». Называя себя Volkskanzler, т. е. «народным канцлером», Гитлер использовал все популистские приемы. Одним из первых его официальных действий был отказ от титула почетного доктора. Вопрос из нацистского опросника: «Кем работал Адольф Гитлер?» Ожидаемый ответ: «Адольф Гитлер был строителем, художником и студентом». В 1939 году, когда было построено новое здание Канцелярии, Гитлер первым делом поприветствовал строителей и вручил каменщикам свои фотографии и корзины с фруктами. Он обещал «народный автомобиль» каждому рабочему. Хотя он и не смог выполнить обещанное вовремя, в конце концов эта идея нашла свое воплощение во всем нам известных фольксвагенах. Блестящим тактическим ходом нацистов было проведение так называемой политики «единой нации», когда статус фермера и статус бизнесмена имели равную значимость. На нацистских митингах организаторы позволяли говорить аристократу только в том случае, если с ним в паре выступал скромный фермер из глубинки[118].
От других разновидностей социализма и коммунизма нацизм отличало не большее количество правых политических аспектов (хотя таковые имели место), а включение в его политическую программу концепции политики идентичности, которая в настоящее время по большей части считается принадлежностью левых сил. Именно в этом заключалось отличие нацизма от доктринерского коммунизма. Кроме того, вряд ли кто-то станет утверждать, что в результате объединения двух левых течений может получиться правое. Если бы мир был устроен так, то нам пришлось бы считать правыми такие национал-социалистические организации, как Организация освобождения Палестины и Коммунистическая партия Кубы.
Ценнейшим источником для понимания умонастроений первых членов нацистской партии стала серия эссе, присланных на конкурс, который проводил впечатляюще умный американский социолог Теодор Абель. В 1934 году Абель разместил объявление в газете нацистской партии, попросив представителей «старой гвардии» прислать ему эссе, объясняющие, почему они решили пополнить партийные ряды. Он обратился только к «старой гвардии» потому, что после прихода Гитлера к власти в партию вступили очень многие оппортунисты. Эти эссе легли в основу увлекательной книги под названием «Почему Гитлер пришел к власти» (Why Hitler Came Into Power). Автор одного из эссе, шахтер, объяснил, что он был озадачен неявно присутствующим в марксистском учении отрицанием расовых и национальных различий. «Несмотря на заинтересованность в улучшении положения рабочих, я безоговорочно отверг [марксизм], — писал он. — Я часто спрашивал себя, почему социализм обязательно должен быть связан с интернационализмом, почему он не может работать так же хорошо или даже лучше в сочетании с национализмом». Железнодорожный рабочий высказал сходное мнение: «Я содрогнулся, представив Германию в тисках большевизма. Лозунг “Пролетарии всех стран, соединяйтесь!” был для меня бессмыслицей. А вот национал-социализм с его обещанием общности... прекращением всякой классовой борьбы показался мне очень привлекательным». Третий рабочий написал, что он выбрал нацистов из-за их «бескомпромиссного стремления к искоренению классовой борьбы, кастового снобизма и партийной ненависти. Это движение доносило истинный смысл социализма до немецкого рабочего человека»[119].
Один из величайших парадоксов истории заключается в том, что чем больше проявляется сходство любых двух групп, тем сильнее растет в них ненависть друг к другу. Складывается впечатление, что Бог с особым усердием опровергает избитый штамп о том, что «рост взаимопонимания между группами или обществами способствует укреплению мира». Израильтяне и палестинцы, греки и турки, индийцы и пакистанцы понимают друг друга очень хорошо, но все же их, вероятно, следует считать исключением из этого либерального правила. Ученые, обладающие почти тождественными мировоззрениями, доходами и интересами, печально известны своей склонностью к взаимному презрению, хотя сами же утверждают в своих научных трудах, что более глубокое уважение возникает тогда, когда растет взаимопонимание. То же самое происходило с коммунистами и нацистами между двумя мировыми войнами.
В основе тезиса о том, что коммунизм и нацизм диаметрально противоположны друг другу, лежит признание их глубинного сходства. Как пишет Ричард Пайпс, «большевизм и фашизм были ересями социализма»[120]. Все эти идеологии являются реакционными, так как они придают большое значение происхождению. Для коммунистов важна классовая принадлежность, для нацистов — расовая, а для фашистов — национальная. Все эти идеологии (на данный момент мы их можем назвать тоталитарными) привлекательны для одних и тех же типов людей.
Ненависть, которую демонстрировал Гитлер по отношению к коммунизму, удачно использовалась как доказательство существенных различий в коммунистической и нацистской идеологиях, хотя на самом деле она свидетельствует об обратном. Сегодня это «удобное» объяснение считается общепринятым. На самом же деле то, что Гитлер ненавидел в марксизме и коммунизме, не имеет почти ничего общего с такими значимыми для нас аспектами коммунизма, как экономическая теория или необходимость уничтожения капиталистов и буржуазии. Взгляды Гитлера, социалистов и коммунистов на эти вопросы в основном были схожи. Его ненависть проистекала из его параноидального убеждения в том, что люди, называющие себя коммунистами, на самом деле принимают активное участие в иностранном еврейском заговоре. Он не раз говорит об этом в Mein Kampf. Он изучал имена коммунистов и социалистов, и если они были похожи на еврейские, то этого было достаточно, чтобы вызвать его ненависть. Он считал их учение обманом, хитростью, нацеленной на уничтожение Германии. Только «истинно» немецким идеям настоящих немцев можно было доверять. И когда такие немцы, как Федер или Штрассер, предлагали социалистические идеи, взятые из трудов марксистов, у него не возникало каких-либо возражений. Гитлер никогда не уделял экономике много внимания. Он всегда считал ее «вторичной». Наибольшее значение для него имела немецкая политика идентичности.
Позвольте мне предвосхитить возможные возражения моих оппонентов. Один из их аргументов может звучать примерно так: коммунизм и фашизм являются противоположностями; соответственно, если фашизм проповедует ненависть к евреям, коммунизму должны быть чужды антисемитские настроения. Другой вариант может основываться на обратном утверждении: фашизм (или нацизм) был антисемитским по своей сути в отличие от коммунизма, поэтому они не являются подобными. Следующие версии могут выстраиваться вокруг термина «правый»: антисемитизм относится к правым взглядам; нацисты были антисемитами; отсюда следует, что нацизм тоже можно назвать «правым». В такие игры можно играть весь день.
Да, нацисты действительно были антисемитами в высшей степени, однако антисемитизм ни в коем случае нельзя считать правым. Кроме того, широко известно, например, что Сталин был антисемитом и что политика Советского Союза была, в сущности, официально антисемитской (хотя и гораздо менее склонной к геноциду, чем политика нацистской Германии, когда дело касалось евреев). Сам Карл Маркс, несмотря на свое еврейское происхождение, был убежденным ненавистником евреев, выступая в своих статьях против «грязных евреев» и уничижительно называя своих врагов «нигероподобными евреями» и т. д. Пожалуй, еще более показателен тот факт, что немецкие коммунисты часто прибегали к националистическим и антисемитским призывам, когда считали это полезным. Так, коммунисты превозносили Лео Шлагетера, молодого нациста, который был казнен французами в 1923 году и впоследствии обрел статус мученика, пострадавшего за немецкую национальную идею. Коммунистический идеолог Карл Радек выступил с речью перед Коминтерном, прославляя Шлагетера как именно такого человека, который нужен коммунистам. Радикальная сторонница коммунизма (и наполовину еврейка) Рут Фишер пыталась завоевать расположение немецкого пролетариата многословными антисемитскими рассуждениями в духе марксизма: «Тот, кто выступает против еврейских капиталистов, уже участвует в классовой борьбе, даже если он этого не знает... Бейте еврейских капиталистов, вешайте их на фонарных столбах, уничтожайте их», — призывала она. Позднее Фишер заняла высокий пост в коммунистическом правительстве Восточной Германии[121].
В начале 1920-х годов высказывания о сходстве между итальянским фашизмом и русским большевизмом не вызывали особых споров. Они также не считались оскорбительными для коммунистов или фашистов. Италия Муссолини в числе первых признала Россию Ленина. И, как мы уже видели, сходство между этими людьми едва ли можно назвать поверхностным. Советский коммунист Карл Радек еще в 1923 году заметил, что «фашизм представляет собой социализм среднего класса, и мы не сможем убедить представителей среднего класса отказаться от него, пока нам не удастся доказать им, что он только ухудшает их положение»[122].
Но большинство коммунистических теоретиков отвергали или просто не знали этой довольно точной характеристики фашизма, данной Карлом Радеком. Гораздо большую известность получила версия Льва Троцкого. По его словам, «фашизм — это последний рубеж, последнее прибежище, последний вздох издыхающего капитализма», давно предрекавшийся в марксистских сочинениях. Миллионы коммунистов и их соратников в Европе и Америке искренне верили, что фашизм — это капиталистическая реакция против сил истины и света. Вот как Майкл Гоулд в журнале New Masses ответил на высказывание поэта Эзры Паунда в поддержку фашизма: «Когда сыр портится, он становится лимбургским, и некоторым людям это нравится, в том числе и запах. Когда начинает разлагаться капиталистическое государство, оно становится фашистским»[123].
Многие коммунисты, вероятно, не поверили утверждению Троцкого, что преданные социалисты, вроде Нормана Томаса, ничем не отличаются от Адольфа Гитлера, однако вскоре им пришлось принять эту идею в приказном порядке. В 1928 году по указанию Сталина Третий Интернационал начал продвигать теорию «социал-фашизма», в которой заявлялось об отсутствии принципиальных различий между социал-демократами и фашистами или нацистами. Фашизм определялся как «боевая организация буржуазии, которая опирается на активную поддержку социал-демократии и представляет собой умеренное крыло фашизма». Согласно теории социал-фашизма, либеральный демократ и нацист «не противоречат друг другу», но, по словам Сталина, «дополняют друг друга: они не антиподы, а близнецы»[124]. Стратегия, лежавшая в основе доктрины социал-фашизма, была столь же ошибочной, как и сама теория: предполагалось, что в западных демократиях равновесие будет недолгим, а в конфликте между фашистами и коммунистами последние победят. Это убеждение наряду с общностью взглядов по большинству вопросов объединяло коммунистов и нацистов, и в Рейхстаге они голосовали обычно единодушно. Немецкие коммунисты действовали под девизами «Nach Hitler, kommen wir» («После Гитлера придем к власти мы») и «First Brown, then Red» («Сначала коричневые, потом красные»), которые они заимствовали у Москвы.
У доктрины социал-фашизма было два следствия, которые имеют непосредственное отношение к нашей дискуссии. Первое: после ее принятия все те, кто выступал против крайне левых, провозглашались союзниками фашистских крайне правых сил. На протяжении десятилетий, даже после создания Народного фронта, все, кто был против Советского Союза, рисковали быть обвиненными в принадлежности к фашизму. Даже один из основателей советского государства Лев Троцкий был назван «нацистским агентом» и лидером неудавшегося «фашистского переворота», когда Сталин решил избавиться от него. Бесчисленные жертвы сталинских репрессий обвинялись в правом уклоне, сочувствии фашизму и нацизму. В конце концов международные левые силы просто оставили за собой абсолютное право объявлять нацистами или фашистами всех, кого они хотели лишить легитимного статуса, невзирая на факты и здравый смысл. Со временем, когда нацизм стал синонимом «абсолютного зла», этот подход стал невероятно полезным оружием, которое все еще в ходу.
Второе следствие доктрины социал-фашизма заключалось в том, что она дала возможность Гитлеру победить.
Глава 3. Вудро Вильсон и рождение либерального фашизма
«У нас это невозможно».
С этого избитого политического клише начинается любая дискуссия об американском фашизме. Чаще оно используется левыми и обычно имеет саркастический оттенок, как в следующем примере: «Джордж Буш — это тайно симпатизирующая нацистам расистская марионетка в руках крупных корпораций, ведущая империалистические войны против стран третьего мира, чтобы угодить своим пропитанным нефтью казначеям, но (да, верно) “у нас это невозможно”». Хотя Джо Конасон в типичном для него нарочито серьезном стиле назвал свою недавно вышедшую книгу «У нас это возможно: Авторитарная угроза в эпоху Буша» (It Can Happen Here: Authoritarian Peril in the Age of Bush).
Эта фраза, конечно же, перекликается с названием вышедшего в 1935 году пропагандистского романа Синклера Льюиса «У нас это невозможно» (It Can’t Happen Неге). В нем описывается захват фашистами Америки, и, по мнению большинства, он представляет собой отвратительное чтиво, перенасыщенное карикатурными персонажами, произносящими пространные банальные речи и напоминающими героев советских пьес. Однако когда он вышел из печати, то получил высокую оценку журнала New Yorker как «одна из самых значительных книг, когда-либо созданных в этой стране». «Он настолько значимый, страстный, честный и жизненный, — писал журнал, — “что только догматики, раскольники и реакционеры станут выискивать в нем недостатки»[125].
Главный герой этой мрачной истории — журналист из Вермонта Доремус Джессап, который считает себя «ленивым и отчасти сентиментальным либералом». В роли злодея выступает сенатор Берзелиос Уиндрип по прозвищу Базз[126]. Образ этого харизматичного хвастуна списан с сенатора Хьюи Лонга, который был избран президентом в 1936 году. Сюжет романа довольно сложен: фашистские группировки готовят заговор против уже существующего фашистского правительства. Но он наверняка найдет живой отклик у либералов. Положительный либерал из Вермонта Джессап (который, тем не менее, сильно отличается от современных либералов типа Говарда Дина) организует подпольный заговор и восстание, терпит поражение, бежит в Канаду и собирается вместе с союзниками перейти в массированное контрнаступление. На этом книга заканчивается.
Название книги взято из слов предсказания, сделанного Джессапом незадолго до роковых выборов. Джессап предупреждает друга, что результатом победы Уиндрипа станет «настоящая фашистская диктатура».
«Глупости! Нелепость! — отвечает его друг. — Этого не может случиться здесь, в Америке! Мы страна свободных людей... У нас, в Америке, это невозможно».
«Черта с два невозможно», — отвечает Джессап. И вскоре его слова сбываются.
С тех пор выражение «у нас это невозможно», а также чувство страха, описанное в романе, являются частью нашей жизни. Недавно вышедшая книга Филиппа Рота «Заговор против Америки» (Plot Against America) представляет собой более художественное воплощение подобного сценария. По сюжету Чарльз Линдберг побеждает Франклина Рузвельта в 1940 году. Среди множества книг и фильмов на эту тему произведение Филиппа Рота выделяется только временем своего появления. Мысль о том, что люди должны постоянно быть готовы ми к отражению угрозы, исходящей от фашистского зверя, который скрывается в болотах правого политического лагеря, настойчиво муссировалась и в целом ряде голливудских фильмов.
Ирония, конечно же, заключается в том, что это случилось здесь. Все это практически соответствует описаниям Льюиса. Главный герой книги Джессап пространно рассуждает о том, что Америка созрела для фашистского переворота, опираясь на события, происходившие в стране во время и сразу после Первой мировой войны:
«Ведь нет в мире другой страны, которая так легко впадала бы в истерию или была бы более склонна к раболепству, чем Америка... Вспомните нашу военную истерию, когда мы шницель по-венски переименовали в “шницель свободы” и кто-то даже предложил называть немецкую корь[127] “корью свободы”? А цензура военного времени, от которой стонали все честные газеты? Не лучше, чем в России!.. Помните наши красные ужасы и ужасы католические?.. А “сухой закон”?.. Расстреливать людей за одно только подозрение в том, что они ввозили в страну спиртное!.. Нет, в Америке это невозможно! Да на протяжении всей истории никогда еще не было народа, более созревшего для диктатуры, чем наш!»[128]
Льюис недооценил ситуацию. Период «шницеля свободы», цензуры военного времени и пропаганды свидетельствовал не о том, что Америка однажды может созреть для фашизма, а о том, что она на самом деле переживала фашистскую диктатуру. Если события, которые произошли во время и сразу после Второй мировой войны в Америке, повторились бы сегодня в любой западной стране, многие образованные люди охарактеризовали бы их именно таким образом. Ведь смогли же они убедить себя согласиться с мнением писателя Эндрю Салливана, что Америка при Джордже У Буше уже стала «слабо завуалированной военной диктатурой». «Шницель свободы», санкционированная государством жестокость, подавление инакомыслия, клятвы верности и списки врагов — все это не только стало возможным в Америке, но и на самом деле произошло в период правления либералов. Те, кто называют себя прогрессивистами, так же как и большинство американских социалистов, были в авангарде движения за истинно тоталитарное государство. Они встречали аплодисментами жесткие меры правительства и ставили под сомнение патриотизм, интеллект и порядочность каждого пацифиста, а также всех тех, кто придерживался классических либеральных ценностей.
В основе фашизма лежит убеждение, согласно которому даже самые мелкие винтики социального механизма должны в духовном единении стремиться к общим целям под контролем государства. «Все в государстве, ничего вне государства» — таково определение Муссолини. Муссолини придумал слово «тоталитарный» для описания не тиранического, но гуманного общества, в котором каждый вносит свой вклад и получает в ответ соответствующую меру заботы. Это была органичная концепция, где каждый класс и каждый человек становился частью общего целого. Милитаризация общества и политики просто считалась наилучшим из имеющихся средств для достижения этой цели. Называйте это как хотите — прогрессивизмом, фашизмом, коммунизмом или тоталитаризмом, — первая инициатива такого рода была реализована не в России, Италии или Германии, а в Соединенных Штатах, и первым фашистским диктатором XX века стал Вудро Вильсон.
На первый взгляд это утверждение может показаться возмутительным, но давайте рассмотрим доказательства. За несколько лет правления Вильсона было арестовано или заключено в тюрьму больше диссидентов, чем за все 1920-е годы при Муссолини. Также предполагается, что за три последних года у власти Вильсон сделал едва ли не больше для ограничения гражданских свобод, чем Муссолини за свои первые 12 лет. Вильсон создал лучшее и более эффективное Министерство пропаганды, чем то, которое было у Муссолини. В 1920-е годы критики Муссолини обвиняли его (и, кстати, вполне справедливо) в использовании подчинявшихся ему полуофициальных фашистских организаций для запугивания оппозиции и в притеснении прессы. Всего за несколько лет до этого Вильсон подверг американский народ террору сотен тысяч имевших официальные полномочия головорезов и провел такую мощную кампанию против прессы, которой позавидовал бы Муссолини.
Вильсон действовал не в одиночку. Как у Муссолини и Гитлера, в его распоряжении были активисты идеологического движения. В Италии их называли фашистами. В Германии их называли национал-социалистами. В Америке мы называли их прогрессивистами.
Прогрессивисты были настоящими «социальными дарвинистами» в современном понимании этого термина, хотя сами они называли так своих врагов (см. гл. 7). Они верили в евгенику. Они были империалистами. Они были убеждены, что посредством планирования рождаемости и давления на население государство может создать чистую расу, общество новых людей. Они не скрывали своего враждебного отношения к индивидуализму и гордились этим. Религия была политическим инструментом, а политика была самой настоящей религией. Прогрессивисты считали традиционную систему конституционных сдержек и противовесов устаревшей и препятствующей прогрессу, поскольку такие древние институты ограничивали их собственные амбиции. Догматическая привязанность к конституции, демократической практике и устаревшим законам тормозили прогресс в понимании как фашистов, так и прогрессивистов. Более того, фашисты и прогрессивисты превозносили одних и тех же героев и цитировали тех же самых философов.
Сегодня либералы вспоминают прогрессивистов как благодетелей, которые обеспечили контроль качества продуктов питания и выступали за более щедрое социальное государство всеобщего благосостояния, а также за улучшение условий труда. Да, прогрессивисты делали это. Но и нацисты, и итальянские фашисты поступали точно так же. И они делали это по тем же причинам и руководствовались примерно аналогичными принципами.
С исторической точки зрения, фашизм — это продукт демократии, которая сошла с ума. Здесь, в Америке, мы предпочитаем не обсуждать безумие, которое пришлось пережить нашему государству под руководством Вильсона, хотя с его последствиями нам приходится сталкиваться и сегодня. Как семья, которая делает вид, что отец никогда не пил слишком много, а у матери никогда не было нервного срыва, мы продолжаем жить так, как будто все это было дурным сном, который мы на самом деле не помним, несмотря на то, что по сей день несем на себе груз тех ошибок. Причинами этой избирательной амнезии в равной степени являются стыд, лень и идеология. В обществе, где Джо Маккарти должен считаться наибольшим злом в американской истории, было бы неудобно признавать, что «Джордж Вашингтон современного либерализма» был инквизитором в гораздо большей степени, а другие отцы-основатели американского либерализма были гораздо более жестокими шовинистами и милитаристами, чем кто-либо из современных консерваторов.
Идеализм поклонения власти
Томас Вудро Вильсон родился в 1856 году, и первым его воспоминанием была страшная весть о том, что Авраам Линкольн был избран президентом и война неизбежна. Вильсоны были переселенцами с севера из Огайо. Они жили в Джорджии и Южной Каролине, но быстро приспособились к образу жизни на юге. Джозеф Вильсон, священник пресвитерианской церкви, служил капелланом в армии Конфедерации. Он на благотворительной основе разместил в своей церкви военный госпиталь. Молодой Вудро был болезненным мальчиком и испытывал трудности при обучении. Он учился преимущественно дома и начал читать только в возрасте 10 лет. Но даже после этого учеба давалась ему нелегко. То, что ему удалось стать выдающимся ученым, тем более президентом Соединенных Штатов, свидетельствует об исключительных терпении, силе воли и упорстве. Но все это далось ему слишком большой ценой. У него практически не было близких друзей на протяжении большей части его взрослой жизни; кроме того, у него были серьезные проблемы с желудком, в том числе стойкие запоры, тошнота и изжога.
Без сомнения, популярность Вильсона тогда и сейчас во многом обусловлена тем, что он стал первым американским президентом с ученой степенью доктора философии. В Белом доме, конечно же, и до него было немало великих умов и выдающихся ученых. Однако Вильсон был первым профессиональным ученым в то время, когда профессионализация социальной науки считалась краеугольным камнем прогресса человечества. Он был одновременно практиком и служителем культа знания — теории, согласно которой человеческое общество — всего лишь одна из составляющих мира природы и может управляться с применением научного метода. Бывший президент Американской ассоциации политических наук Вильсон получил широкое признание как основоположник научной дисциплины «государственное управление», предметом изучения которой является модернизация и профессионализация государства в соответствии с собственными убеждениями,
Вильсон начал свою академическую карьеру в колледже Дэвидсона в Северной Каролине, однако он очень тосковал по дому, куда и вернулся, не проучившись и года. В 1875 году после еще одного года обучения у своего отца он предпринял новую попытку поступить в учебное заведение. На этот раз его зачислили в колледж Нью-Джерси, который позже стал Принстонским университетом, где он стал изучать политику и историю. Вильсону понравилось его новое окружение отчасти из-за большого числа южных пресвитериан, и он преуспел там. Он основал Либеральное дискуссионное общество, а также был редактором школьной газеты и секретарем футбольной ассоциации. Неудивительно, что молодой Вильсон почувствовал вкус к политике, когда приобрел уверенность в себе и стал с удовольствием воспринимать звучание собственного голоса.
После окончания Принстонского университета он поступил в университет штата Вирджиния, чтобы изучать право в надежде однажды прийти в политику. Тоска по дому и врожденная замкнутость снова стали его угнетать. Он покинул Вирджинский университет на Рождество в первый год своего обучения, заявив, что заболел, и не вернулся. Закончил он учебу дома. После прохождения юридической практики в Джорджии Вильсон в течение некоторого времени работал адвокатом, однако особых способностей в этом деле у него не обнаружилось, и он решил, что такой путь к политической карьере слишком сложен для него. Потерпев неудачу в своем стремлении стать государственным деятелем, Вильсон поступил в недавно созданный Университет Джонса Хопкинса, где занялся докторской диссертацией. По завершении учебы он преподавал в нескольких местах и параллельно писал научные работы. К тому времени относится его получивший широкую известность 800-страничный труд под названием «Государство» (The State). В конце концов Вильсон вернулся туда, где ранее уже добился некоторых успехов, в Принстонский университет, и там вырос до президента.
Выбор Вильсона в пользу науки не следует считать альтернативой политической карьеры. Скорее, это был альтернативный путь к той карьере, к которой он всегда стремился. Мудрец из Нью-Джерси стал государственным деятелем не по принуждению. Через некоторое время после завершения «Государства» Вильсон перешел от написания исключительно научных работ к более популярным комментариям главным образом с целью повысить свой политический авторитет. В числе обычных для него тем особое место занимала пропаганда прогрессивного империализма, способствующего скорейшему развитию низших рас, находящихся под его влиянием. Он приветствовал присоединение Пуэрто-Рико и Филиппин словами: «Они дети, а мы взрослые в этих сложных вопросах государственного управления и правосудия», и осуждал «антиимпериалистические рыдания и вопли, раздающиеся из Бостона»[129]. О том, насколько тщательно он следил за своим политическим имиджем, свидетельствует появление на обложке каждого номера еженедельника Harper s Weekly призыва «За президента Вудро Вильсона!» за четыре года до того, как он «неохотно» принял «неожиданное» назначение на должность губернатора Нью-Джерси.
С первых своих дней на студенческой скамье послушный, получивший домашнее образование Вильсон был просто очарован политической властью. И как это нередко случается с представителями интеллигенции, его научные представления оказались искаженными в результате идеализации этого понятия.
Знаменитое высказывание лорда Актона о том, что «власть развращает, а абсолютная власть развращает абсолютно», уже давно трактуется неверно. Актон говорил не о том, что власть делает властных правителей безнравственными (хотя он, вполне возможно, и придерживался такого мнения). Скорее он имел в виду тот факт, что историки имеют обыкновение прощать сильным личностям такие злоупотребления, с которыми они ни в коем случае не стали бы мириться, если бы их совершил слабый. Вильсон виновен по обоим пунктам: он не только заискивал перед великими, но и сам, обретя реальную власть, был испорчен ею. Его симпатии постоянно оказывались на стороне великих людей, которые не признавали традиционных ограничений своей власти. Его главными героями были прусский канцлер Отто фон Бисмарк и Авраам Линкольн. Может показаться странным, что тот, кто называл предоставление черным избирательного права «причиной всех зол в этой стране», восхищался Линкольном. Однако в «Великом Освободителе» Вильсона привлекала главным образом его способность навязать свою волю всей стране. Линкольн был сторонником централизации власти, реформатором, который использовал свои полномочия для создания новой, единой нации. Другими словами, Вильсон восхищался такими средствами Линкольна, как приостановление действия приказа о доставлении в суд, призыв на военную службу и кампании радикальных республиканцев после войны, в гораздо большей степени, чем его целями. «Если во всех существующих трудах о Вильсоне и есть нечто общее, — пишет историк Уолтер Макдугал, — то оно таково: он любил власть, стремился к ней и в некотором смысле прославлял ее»[130].
Увлечение Вильсона властью было лейтмотивом всей его карьеры. Такое отношение стало основой его понимания теологии и политики и их взаимного влияния. Власть была инструментом Бога на земле, и поэтому ее всегда следовало почитать. В своей книге «Правительство Конгресса» (Congressional Government) он признался: «Я не могу представить себе власть как отрицательное, а не положительное явление». Такую любовь к власти можно найти во многих системах и у многих людей за пределами «орбиты фашизма», но при этом немногие идеологии и эстетики в такой же степени сосредоточены на власти, воле, силе и действии. Эти же принципы нашли отражение в фашистских искусстве и архитектуре, прославлявших крепкую физическую форму и непобедимую мощь нации: сила в единстве, триумф воли, преобладание судьбы над упадком и нерешительностью. Доктринерский фашизм, как и коммунизм, провозглашал себя непреодолимой силой божественной или исторической неизбежности. Тех, кто стоял на пути — буржуазию, «непригодных», «алчных», «индивидуалистов», предателей, кулаков, евреев, можно было обвинять во всех грехах за их «инаковость». Но не только потому, что ими можно было пренебречь, и не за их стремление «отколоться от коллектива», но прежде всего потому, что самим своим существованием они ограничивали стремление к власти, которое было основой жизни как для самой толпы, так и для авангарда, который объявлял себя выразителем ее воли. «Отличие данной эпохи от тех, которые ей непосредственно предшествовали, состоит в отсутствии либеральной интеллигенции, — писал Джордж Оруэлл. — Поклонение жесткой власти под самыми разными обличиями стало универсальной религией»[131]. Некоторым людям, таким как Вильсон, право подавлять людей дал сам Бог. Другие получили право на узаконенную жестокость в результате стечения тех или иных исторических обстоятельств. Но мотив при этом был один.
Став президентом, Вильсон утверждал, что он «правая рука Бога» и что несогласие с ним равносильно неприятию Божьей воли. Некоторые считали это свидетельством развращения Вильсона властью, однако на самом деле он думал так с самого начала. Он всегда принимал сторону власти, полагая, что власть дается только тому, кто искренне принимает Божью волю. В студенческие годы Вильсон был убежден, что Конгрессу было суждено стать средоточием власти в американской системе, и поэтому он ратовал за предоставление этому органу неограниченных полномочий в области государственного регулирования. На последнем курсе в своей первой опубликованной статье он даже утверждал, что Америка должна перейти к парламентской системе, в которой воля правителей ограничивается в меньшей степени. Вильсон был весьма искусным участником прений. Он был убежден, что максимальной власти достойны те, кто способен умело отстаивать свою точку зрения.
Свою самую известную и оригинальную работу под названием «Правительство Конгресса» (Congressional Government) Вильсон написал в возрасте 29 лет, будучи аспирантом Университета Джона Хопкинса. Он пытался доказать, что Америка должна перейти к централизованной парламентской системе. Однако в конечном счете работа вылилась в огульную критику фрагментированности и расплывчатости власти в американской политической системе. Вильсон полностью отказался от своей веры в правительство Конгресса, став свидетелем успеха Тедди Рузвельта, которому удалось превратить Овальный кабинет в «первоклассную кафедру проповедника». Бывший ярый приверженец власти Конгресса без лишних оправданий пополнил ряды сторонников сильной президентской власти. «Президент, — так он писал в 1908 году в своей работе «Конституционное правительство в Соединенных Штатах» (Constitutional Government in the United States), — волен, как по закону, так и по совести, стать настолько значительной фигурой, насколько это будет в его силах. Ограничен он будет лишь своими способностями; и если он окажется сильнее, чем Конгресс, то произойдет это не по вине создателей конституции... но лишь потому, что за президентом стоит нация, а за Конгрессом нет»[132].
Суть политической концепции Вильсона передает слово «statolatry», т. е. «поклонение государству» (тот же грех, в котором Ватикан обвинил Муссолини). По мнению Вильсона, государство — это естественное, органическое и духовное выражение интересов народа. С самого начала он считал, что между правительством и народом должна существовать органическая связь, которая отражает «истинный дух» народа или то, что немцы называли Volksgeist («дух народа»), «Правительство — это не машина, а живое существо, — пишет он в труде «Правительство Конгресса». — Оно соответствует не [ньютоновской] теории Вселенной, но [дарвиновской] теории органической жизни». С этой точки зрения постоянное увеличение власти государства было вполне естественным. Наряду с подавляющим большинством прогрессивной интеллигенции Вильсон считал, что усиление государственной власти подобно неизбежному эволюционному процессу. Правительственное «экспериментирование» как девиз прагматичных либералов от Дьюи и Вильсона до Рузвельта было социальным аналогом эволюционного приспособления. Конституционная демократия в понимании ее основоположников являлась всего лишь одним из этапов этого поступательного движения вперед. Теперь пришло время, когда государству предстояло перейти на следующую стадию своего развития. «Правительство, — с одобрением писал Вильсон в своем труде «Государство», — делает сейчас абсолютно все, что позволяет опыт или требует время»[133]. Вильсон был первым президентом, который позволил себе пренебрежительно отзываться о конституции.
Такая позиция Вильсона дополнительно усиливалась его нападением на саму идею естественных прав и прав личности. «Если изначальное, подлинное государство представляло собой диктатуру семьи, — вопрошал Вильсон в духе Дарвина, — что тогда историческая основа прав личности? Без сомнения, — писал он, имея в виду Декларацию о независимости, — немало абсурдных идей было высказано о неотъемлемых правах личности, при этом основывались они преимущественно на смутных ощущениях и умозрительных построениях».
По представлениям Вильсона, закон, который невозможно применить, ненастоящий, а «абстрактные права» как раз достаточно сложно реализовать.
Конечно же, голосу Вильсона вторил целый хор других представителей прогрессивного направления этого времени. «[Мы] должны требовать, чтобы отдельные личности были готовы отказаться от ощущения собственного успеха и согласовывать свои действия с деятельностью большинства», — заявляла Джейн Аддамс, общественный деятель от Прогрессивной партии. «Теперь люди свободны, — объяснял в 1896 году Уолтер Раушенбуш, ведущий теолог прогрессивного направления и основатель движения социального евангелизма, — но часто это свобода песчинок, которые поднимаются вверх в виде облака, а затем падают грудой, но при этом и облако, и груда песка лишены какой-либо согласованности». Лекарство от этой проблемы было очевидным для Раушенбуша: «Необходимо создать новые формы объединения. Наша неорганизованная жизнь, проникнутая духом состязательности, должна преобразоваться в органическую жизнь, основанную на сотрудничестве». В другом месте Раушенбуш выразил эту мысль еще проще: «Индивидуализм означает тиранию»[134]. Морально перевернутую бессмыслицу, ставшую известной благодаря Герберту Маркузе в 1960-е годы, — «угнетающая свобода», «репрессивная терпимость», «оборонительное насилие» — в некотором смысле можно считать продолжением идей, которые появились за десятилетия до этого благодаря прогрессивистам. Отзвуки знаменитого выражения нацистов «работа делает свободным» уже слышались в идеях представителей Прогрессивной партии, считавших коллективизм новой «свободой».
Америка сегодня охвачена грандиозной паникой по поводу роли христиан в общественной жизни. Глубокая ирония заключается в том, что такие протесты громче всего слышатся из стана самопровозглашенных «прогрессивистов», тогда как реальные сторонники прогрессивного направления принимали самое активное участие в христианизации американской жизни. Прогрессивизм, как следует из названия книги Вашингтона Гладдена[135], был «прикладным христианством». Социальный евангелизм провозглашал государство правой рукой Бога, а также средством спасения всей нации и мира в целом. Но когда христианство стали пытаться сделать истинной религией государства, его трансцендентные и богословские составляющие подверглись искажению.
Эти две концепции — дарвиновский органицизм и христианский мессианизм — сегодня воспринимаются как противоречащие друг другу, в силу того, что они находятся по разные стороны баррикад в войне культур. Но в течение «Прогрессивной эры» данные концепции прекрасно дополняли друг друга. И Вильсон был воплощением этого синтеза. Тоталитарный привкус такого мировоззрения должен быть очевидным. В отличие от классического либерализма, который считал правительство необходимым злом или просто благоприятным, но добровольным по своей сути общественным договором для свободных людей, вера в то, что все общество представляет собой органическое целое, не оставляет места для тех, кто не желает подчиняться и тем более «развиваться». Ваш дом, ваши личные мысли — все стало частью органичного политического пространства, обеспечение сохранности которого было возложено на государство.
Поэтому для фаланги реформаторов прогрессивного толка дом стал линией фронта в войне, нацеленной на превращение людей в послушные части социального организма. Для достижения этой цели детей стали как можно раньше отлучать от дома. Буквально за одну ночь появился целый архипелаг учреждений, комиссий и бюро, которые были призваны заменить собою «противоестественное и препятствующее эволюции» влияние семьи. Дом перестал быть островом, отдельным и независимым от остальной части общества. Джон Дьюи помогал создавать детские сады в Америке именно затем, чтобы придать «яблокам нужную форму, прежде чем они упадут с дерева». В то же время на другом полюсе образовательного процесса стояли такие реформаторы, как Вильсон, который кратко и очень емко сформулировал позицию Прогрессивной партии, обратившись к аудитории как президент Принстонского университета со следующими словами: «Наша задача состоит не просто в том, чтобы помочь студентам приспособиться к жизни в мире, [но] чтобы сделать их настолько отличными от их родителей, насколько это возможно»[136].
Если эпоха парламентской демократии подходила к концу, как заявляли прогрессивисты и фашисты, и наступал день органического государства-спасителя, то конституция должна развиваться или же ее необходимо выбросить на свалку истории. Работы Вильсона изобилуют требованиями смести «искусственные» преграды, установленные в «обветшавшей» с XVIII века системе сдержек и противовесов. Он высмеивал «сантименты 4 июля» тех, кто продолжал ссылаться на отцов-основателей как на источник конституционных норм. Он считал, что система государственных сдержек и противовесов «оказалась вредной в такой степени, насколько этим механизмам удалось воплотиться в жизнь»[137]. Более того, чернила из ручки Вильсона регулярно источали запах того, что мы сегодня называем «живой» конотитуцией[138]. В ходе предвыборной кампании в 1912 году Вильсон объяснял, что «живые» политические конституции должны быть «дарвиновскими по своей структуре и на практике». «Общество — это живой организм, — писал он, — и оно должно подчиняться законам жизни... оно должно развиваться... поэтому все, чего требуют или хотят прогрессивисты, — это разрешение — в эпоху, когда «развитие», «эволюция» являются словами из научного обихода, — интерпретировать конституцию в соответствии с дарвиновским принципом»[139]. Как мы уже видели, это толкование приводит к такой системе, в которой конституция означает все, что угодно интерпретаторам «эволюции».
Требовалась более аутентичная форма руководства: великий человек, который мог одновременно служить естественным выражением воли народа, а также руководителем и мастером, способным контролировать его темные устремления. Этот лидер должен был быть подобным мозгу, который и управляет телом, и зависит от его защиты. Для этого массы должны были подчиняться воле лидера. В своем непреднамеренно холодном и сухом эссе 1890 года под названием «Лидеры человечества» (Leaders of Men) Вильсон объяснял, что «настоящий лидер» использует массы как «инструменты». Он не должен вникать в тонкости и нюансы, как это делают писатели. Скорее, он должен говорить, воздействуя на их эмоции, а не на рассудок. Короче говоря, он должен быть умелым демагогом.
«Только самая суть конкретной концепции может произвести впечатление на умы масс, — писал Вильсон. — Они должны получать свои идеи в предельно конкретном выражении и гораздо охотнее принимают неполную правду, которую они могут быстро понять, чем всю правду, слишком многогранную для мгновенного осмысления. Умелого лидера мало интересуют тонкости характера других людей, для него важны — в крайней степени — конкретные возможности их применения... В то время как он является источником власти, другие только предоставляют материал для реализации этой власти... Власть предписывает; материал поддается. Люди подобны глине в руках опытного лидера»[140]. Циник мог бы признать, что трактовка Вильсона во многом верна, и тем самым признал бы свой цинизм. Вильсон же считал себя идеалистом.
Многие, в том числе и сам Вильсон, полагали, что этим качеством обладает Теодор Рузвельт. Более чем популярный политик, он был признанным божеством настоящего культа лидерства. Уильям Аллен Уайт, известный писатель-прогрессивист, вспоминал в 1934 году, что он был «молодым высокомерным апологетом священных принципов плутократии», пока Рузвельт не разрушил основы его политических идеалов. «И когда они рухнули, — писал он, — я сразу же в политическом смысле подставил свою шею под его каблук и стал его подчиненным»[141]. Рузвельт первым сумел перевести афоризм «государство — это я» на американский жаргон, часто утверждая, что суверенитет нации неотличим от его августейшей персоны. Будучи президентом, он регулярно выходил за пределы своих традиционных и юридических полномочий: сначала воплощал свои замыслы, а потом ждал (или не ждал) ответной реакции судов и законодательных органов.
Таковы вкратце основные различия между Вильсоном и Тедди Рузвельтом, непримиримыми соперниками и двумя действительно прогрессивными президентами «Прогрессивной эры». Это были очень разные люди с очень похожими идеями. Рузвельт был великим актером на мировой сцене; Вильсон в большей степени считал себя режиссером. Рузвельт был «сохатым»[142], который с ходу брался за решение любой проблемы; Вильсон был «учителем», который сперва разрабатывал «план урока». Один хотел вести отряд собратьев по оружию, другой — семинар для студентов магистратуры. Но если роли, которые они исполняли, были разными, то цели — одинаковыми. Вудро Вильсон писал трактаты, объясняющие, почему американцы должны отказаться от своей «слепой преданности» конституции; Тедди же вообще очень вольно трактовал этот документ, произнося пламенные речи о судах, которые ущемляют «народные права» и «отстают» от реалий нового времени. Уильям Говард Тафт — уважаемый, но все же потерпевший поражение на следующих выборах преемник Рузвельта в Белом доме — мог отказаться от выдвижения своей кандидатуры на второй срок, лишив Рузвельта возможности баллотироваться от Республиканской партии, если бы не был убежден, что стремление Рузвельта «отодвинуть закон» уподобляло его Наполеону[143].
Прогрессивизм разделялся на несколько течений. На одной стороне были люди, подобные Джону Дьюи и Джейн Аддамс, которые придерживались в большей степени социалистического и академического подходов в политике. Другую сторону занимали националисты, более явно склонявшиеся к патриотизму и милитаризму. Вильсон и Рузвельт в целом представляли оба направления. Во многом так же, как националисты, которые разделились на два лагеря — приверженцев национализма и социализма, прогрессивисты стали представлять два крыла: одни из них сосредоточились на социальных реформах, тогда как других в большей степени занимало «величие» Америки.
Можно также говорить о том, что Рузвельт олицетворял мужскую ипостась прогрессивизма — «партии отцов» — в то время как Вильсон был воплощением материнского аспекта этого движения. Естественно, что при каждом удобном случае Рузвельт заводил речь о «мужских добродетелях». Он хотел создать из (метафорической) касты воинов правящую элиту, выбравшую «напряженную жизнь», образованную элиту, полную решимости нанести поражение пришедшей в упадок «мягкой жизни». Вильсон стремился создать правящую элиту из рядов «бескорыстных» технократов, бюрократов и социальных работников, которые понимали причины социального распада.
Не многие из членов Прогрессивной партии воспринимали эти ценности как противоположные. Какого-либо компромисса между воинствующим национализмом и прогрессивными реформами не существовало; скорее, они дополняли друг друга (подобная комплиментарность была характерна для различных ветвей прогрессивистской евгеники, как мы увидим далее). Приведем в пример хотя бы сенатора Альберта Дж. Бевериджа, наиболее известного представителя Прогрессивной партии в Сенате США в течение первого десятилетия XX века. Когда Эптон Синклер описал в романе «Джунгли» (The Jungle) ужасы, творившиеся на скотобойне, именно Беверидж возглавил борьбу за реформы, способствуя продвижению принятого в 1906 году Закона о контроле качества мяса. Он выступал против детского труда и за 8-часовой рабочий день. Он был, пожалуй, главным союзником Тедди Рузвельта среди сенаторов в организованном прогрессивистами мятеже против «консервативного» крыла Республиканской партии. Он был смертельным врагом толстосумов «с особыми интересами», железнодорожных магнатов, трестов и другом реформаторов, защитников природы и всех прогрессивных людей. И в то же время он был ярым империалистом. «Оппозиция заявляет, что мы не должны управлять людьми без их согласия, — говорил он. — Я отвечаю, что правило свободы, предполагающее, что все справедливые правительства реализуют свои полномочия с согласия управляемых, распространяется только на тех, кто способен к самоуправлению»[144]. Надо сказать, что прогрессивисты в Конгрессе активно поддерживали все крупные военные мероприятия правительства Рузвельта и Тафта. При Вильсоне они были настроены значительно более воинственно, чем Белый дом. Все это время консерваторы выступали в Конгрессе против расходов на содержание «большого военно-морского флота», который был основным козырем имперского проекта. На самом деле нужно понимать, что империализм был такой же важной составляющей прогрессивизма, как и усилия по наведению порядка в снабжении населения продовольствием или по обеспечению безопасности на промышленных предприятиях[145].
Выборы 1912 года, по сути, свелись к референдуму, на котором предстояло решить, какой прогрессивизм был нужен Америке, или хотя бы понять, какой прогрессивизм она получит в результате. Не сумевший переизбраться на второй срок Уильям Говард Тафт никогда не хотел быть президентом. Его настоящая мечта (которую он позже осуществил) заключалась в том, чтобы стать главным судьей Верховного суда. Когда Тафт заявил, что участвует в избирательной гонке как консерватор, он был вполне серьезен. Он действительно был одним из последних консервативных либералов. Он считал, что классический либерализм (пусть даже его относительно приземленный вариант) необходимо защищать от идеологов, стремящихся привнести в закон свои личные выгоды.
Сегодня проблемы, поднятые в кампании 1912 года, кажутся весьма ограниченными и далекими. Вильсон выступал с программой «Новой свободы», включающей систему мер, которую он называл «второй борьбой за освобождение» (на сей раз от трестов и крупных корпораций). Рузвельт ратовал за концепцию «нового национализма», в которой предлагалась иная политика в отношении корпораций. Тедди, известный поборник правительственных мер против трестов, изменил свое отношение к «большому бизнесу» и стал считать, что государство должно использовать тресты в своих целях, а не участвовать в бесконечных и бесплодных сражениях, направленных на их ликвидацию. «Попытки запретить все формы монополизма по существу провалились, — пояснил он. — Выход [из сложившегося положения] заключается не в том, чтобы препятствовать образованию монополий, но в получении полного контроля над ними в интересах общественного благосостояния». Новый национализм Тедди совмещал в себе черты национализма и социализма в равных пропорциях. «Новый национализм, — провозгласил Рузвельт, — справедливо утверждает, что каждый человек владеет своим имуществом, но при этом общество имеет право регулировать использование данного имущества в любой степени, как того может требовать общественное благосостояние». Такая риторика вызвала опасения у классических либералов (которых, кстати, все чаще называли консерваторами), что Тедди станет самоуправствовать, не считаясь с американскими свободами. «И что мы получим в результате? — вопрошал либеральный редактор New York World, имея в виду поспешную централизацию государственной власти. — Деспотизм? Самодержавие?»[146]
Хьюи Лонг сказал однажды (по крайней мере, эти слова приписывают ему), что если фашизм когда-либо придет в Америку, то он будет называться «американизм». Примечательно, что именно так Тедди Рузвельт назвал свою новую идеологию. Многим внушала тревогу эта черта личности Рузвельта. Америка, о которой мечтал Рузвельт, «всегда была своего рода распухшей Пруссией, внешне агрессивной и жестко регламентированной изнутри», — заявлял журналист Генри Льюис Менкен. Он высмеивал Рузвельта, называя его «Таммани Ницше»[147], который принял «религию милитаристов». Менкен критиковал его за то, что он подчеркивал «обязанности гражданина перед государством и одновременно умалял обязанности государства по отношению к гражданину»[148].
В данном контексте Вильсон воспринимался как несколько более консервативный кандидат, так как он был ближе к попустительскому либерализму XIX века. Он обещал ограничить возможности правительства по централизации власти, реализуемой за счет огосударствления промышленности. В своем знаменитом предвыборном выступлении в Нью-Йоркском пресс-клубе он заявил: «История свободы — это история ограничения государственной власти». Увы, но его речи в защиту свободы не следует принимать слишком близко к сердцу. Не прошло и двух недель после его выступления в пресс-клубе, как Вильсон вернулся к характерной для прогрессивистов антипатии по отношению к индивидуализму: «Хотя мы являемся последователями Джефферсона, у него есть один принцип, который больше не может применяться в политической практике Америки. Как известно, именно Джефферсон сказал, что лучшее правительство — это такое правительство, которое управляет меньше всего... Но это время прошло. Америка ни сейчас, ни в будущем не может быть местом для неограниченного индивидуального предпринимательства»[149].
Поскольку Вильсон в результате стал управлять в соответствии с принципами «нового национализма», более тонкие различия между его политической концепцией и платформой Рузвельта не имеют для нас большого значения. В 1912 году Америка в любом случае получила бы президента-прогрессивиста. И хотя те, кто питают слабость к Тедди, хотели бы думать, что в случае его победы все могло бы быть совсем иначе, они скорее всего обманывают себя.
Как это случилось здесь
В настоящее время принято считать, что в Европе фашизм пришел к власти особым путем и что из-за многочисленных национальных и культурных различий между Америкой и Европой здесь (в Америке) его появление было невозможным. Однако это утверждение полностью лишено смысла. Прогрессивизм, а затем и фашизм были международными движениями (с ними связывались большие надежды), которые принимали различные формы в разных странах, но имели общее начало. Многие мыслители, которыми восхищались фашисты и нацисты, пользовались здесь таким же влиянием, как в Италии и Германии, и наоборот. Например, Генри Джордж, радикальный популистский гуру американского реформизма, был более почитаем в Европе, чем в Америке. Его идеи придали форму националистическим экономическим теориям, на которых изначально основывалась нацистская партия. Среди британских социалистов его книга «Прогресс и бедность» (Progress and Poverty) произвела сенсацию. Когда зять Маркса приехал в Америку распространять идеи научного социализма, он был настолько очарован Джорджем, что вернулся в Европу, проповедуя учение американского популизма.
С 1890-х годов до Первой мировой войны просто считалось, что сторонники прогрессивного движения в Америке и представители различных социалистических и «новых либеральных» движений Европы боролись за одни и те же идеи[150]. Уильям Аллен Уайт, знаменитый прогрессивист из штата Канзас, заявил в 1911 году: «Мы были частями одного целого в Соединенных Штатах и Европе. Что-то сплачивало нас в одно социальное и экономическое целое, несмотря на местные политические различия. Стаббс в Канзасе, Жорес в Париже, социал-демократы [т. е. социалисты] в Германии, социалисты в Бельгии, и, пожалуй, я могу сказать, все население Голландии — все боролись за общее дело». Когда Джейн Аддамс поддержала выдвижение Тедди Рузвельта на съезде Прогрессивной партии в 1912 году, она заявила: «Новая партия стала американским представителем всемирного движения за более справедливые социально-бытовые условия, движения, которое Соединенные Штаты, отстающие от других крупных государств, необъяснимо медленно воплощают в политической деятельности»[151].
Однако на самом деле Америка училась у Европы. Американские писатели и активисты с жадностью пили из источника европейкой философской мысли, как люди, которые умирают от жажды. «Ницше витает в воздухе, — заявил один из обозревателей New York Times в 1910 году. — В любой работе теоретического плана вам рано или поздно встретится имя Ницше». «Кроме того, — продолжал он, — прагматизм профессора [Уильяма] Джеймса в значительной степени обладает многообещающим сходством с доктринами Ницше». Отмечая, что Рузвельт постоянно читал немецкие книги и «заимствовал» идеи из философии Ницше, Менкен (который сам если не досконально, то вполне основательно исследовал труды Ницше) пришел к выводу, что «Теодор проглотил Фридриха, как крестьянин глотает peruna[152] — вместе с бутылкой, пробкой, этикеткой и рекомендациями»[153]. Уильям Джеймс, выдающийся американский философ, также следил за событиями в южных уголках Европы. Как уже говорилось, Джеймс внимательно изучал труды итальянских прагматиков, готовивших почву для фашизма Муссолини, а Муссолини впоследствии не уставал повторять, что он обязан Джеймсу и американскому прагматизму.
Но ни одна страна не повлияла на мышление американцев в большей степени, чем Германия. У. З. Б. Дюбуа, Чарльз Бирд, Уолтер Вейл, Ричард Илай, Николас Мюррей Батлер и бесчисленное множество других основоположников современного американского либерализма были в числе девяти тысяч американцев, которые учились в немецких университетах в XIX веке. Когда была создана Американская экономическая ассоциация, пять из шести первых ее сотрудников учились в Германии. По меньшей мере двадцать из ее первых 26 президентов также учились в этой стране. В 1906 году профессор Йельского университета опросил 116 ведущих экономистов и социологов Америки; более половины из них учились в Германии по крайней мере год. По их собственному признанию, они чувствовали себя «освобожденными», обучаясь в интеллектуальной среде, где считалось, что знающие люди способны придавать форму обществу подобно глине[154].
Ни один из европейских государственных деятелей не имел такого влияния на умы и сердца американских прогрессивистов, как Отто фон Бисмарк. «Как бы это ни было неудобно для тех, кого приучили верить в преемственность между Бисмарком и Гитлером, — пишет Эрик Голдман, — Германия Бисмарка была “катализатором американской прогрессивной мысли”». Бисмарковский «социализм сверху вниз», который принес 8-часовой рабочий день, охрану здоровья, социальное страхование и т. п., был «стандартом Тиффани»[155] для просвещенной социальной политики. «Дайте рабочему человеку право на труд, когда он здоров; обеспечьте ему уход, когда он болен; гарантируйте ему материальную поддержку, когда он состарится», — сказал он в своем знаменитом обращении к Рейхстагу в 1862 году. Бисмарку с его оригинальной моделью «Третьего пути» удалось найти баланс между обоими идеологическими полюсами. «Выбрав свой путь, правительство не должно колебаться. Оно не должно смотреть налево или направо, но идти вперед», — провозгласил он. Предложенная в 1912 году Тедди Рузвельтом платформа Прогрессивной партии была во многом заимствована из прусской модели. За 25 лет до этого политолог Вудро Вильсон писал, что государство всеобщего благосостояния Бисмарка — «замечательная система... наиболее изученная и в наибольшей степени завершенная» из всех известных в этом мире[156].
Кроме того, сам Вильсон гораздо лучше, чем любые цифры, свидетельствует об иностранном, особенно немецком, влиянии на прогрессивизм. Вера Вильсона в то, что общество можно подчинить воле тех, кто занимается социальным планированием, зародилась в Университете Джона Хопкинса, первом американском университете, который был основан на немецкой модели. Практически все преподаватели Вильсона учились в Германии, как и почти каждый из 53 преподавателей университета. Но самым известным и влиятельным его учителем был Ричард Илай, «глава американской экономики», который в свое время был более значимым идеологом для прогрессивизма, чем Милтон Фридман и Фридрих Хайек для современного консерватизма. Несмотря на свою открытую враждебность к частной собственности и приверженность политике, известной в настоящее время как маккартизм, Илай в отличие от Бисмарка не был сторонником социализма по принципу «сверху вниз». Скорее, он учил своих студентов ориентироваться на «социализм духа», который должен был прийти на смену принципу невмешательства изнутри по собственной воле людей. В конце концов Илай перебрался в Висконсинский университет, где он участвовал в создании «Висконсинской модели» — системы, которая по-прежнему вызывает восхищение представителей левой интеллигенции и сводится к тому, что преподавательский состав вуза помогает управлять государством. Илай также был наставником Тедди Рузвельта, который признавал, что Илай первым познакомил его с радикализмом в экономике, а затем научил быть разумным в своем радикализме[157].
Вильсон почитал Бисмарка так же, как Тедди Рузвельт или любой другой представитель Прогрессивной партии. В колледже он написал восторженное эссе, в котором расточал похвалы этому «гениальному руководителю», сочетавшему «моральную силу Кромвеля и политическую проницательность Ришелье; энциклопедический ум Бёрка... и дипломатические способности Талейрана без его холодности». Далее Вильсон продолжал в том же духе, говоря о присущих железному канцлеру «остроте понимания, ясности суждений и способности быстро принимать решения». В заключение он заявлял с сожалением: «Пруссия не скоро найдет еще одного Бисмарка»[158].
Бисмарк стремился предвосхитить требования больших демократических свобод от своих избирателей, заранее проводя в жизнь реформы, о которых они могли заговорить во время выборов. Его социализм «сверху вниз» был изящным ходом в духе Макиавелли, потому что он сделал средний класс зависимым от государства. В результате средний класс пришел к пониманию того, что просвещенное правительство не продукт демократии, а ее альтернатива. Такая логика привела к катастрофическим последствиям уже через поколение. Однако именно она привлекала прогрессивистов. По словам Вильсона, суть прогрессивизма заключалась в том, чтобы интересы отдельных личностей «сочетались с интересами государства»[159].
Наиболее влиятельным мыслителем данного направления и еще большим почитателем Бисмарка был человек, выступавший в роли связующего звена между Рузвельтом и Вильсоном, — Герберт Кроули, автор труда «Обетование американской жизни» (The Promise of American Life), основатель и редактор журнала New Republic, а также политический гуру, стоявший у истоков «нового национализма» Рузвельта.
После избрания Тафта президентом в 1908 году Рузвельт старался обходить стороной своего протеже. Он совершил сначала поездку на знаменитое африканское сафари, а затем отправился в ознакомительный тур по Европе. Как-то раз он взял в руки книгу «Обетование американской жизни», присланную его другом судьей Лернедом Хэндом. Эта книга стала для него откровением. «Я не могу сказать, читал ли я когда-либо другую книгу, которая настолько же обогатила меня, — писал он Кроули. — Все, что я хочу, — это суметь на практике донести свой совет до соотечественников в соответствии с принципами, которые вы изложили»[160]. Многие в то время считали, что книга Кроули убедила Рузвельта баллотироваться на пост президента еще раз; более вероятно, что эта книга послужила удачным обоснованием его возвращения в политику.
Даже если бы вклад Кроули в американский либерализм ограничивался созданием «Обетования американской жизни», он все равно считался бы одной из наиболее значительных фигур в истории американской общественной мысли. Когда эта книга вышла в 1909 году, американский ученый-правовед Феликс Франкфуртер назвал ее «самым значительным вкладом в прогрессивное мышление»[161]. Книга получила высокую оценку многих критиков. Считалось, что из всех других писателей именно Кроули удалось логично и последовательно изложить принципы «прогрессивного» движения и, как следствие, современного либерализма. Либералы до сих пор придерживаются этого мнения, хотя большинство из них, вероятно, никогда не читали этой объемной, странной, во многом скучной и запутанной книги. Она была написана действительно плохим языком, и этот факт говорит о том, что ее популярность основывалась на чем-то более значимом: в ней была выражена идея, время которой пришло.
Кроули был тихим человеком, который вырос в шумной семье. Его мать была одной из первых американских журналисток, ведущих собственную синдицированную колонку, а также убежденной феминисткой. Его отец был успешным журналистом и редактором, получившим от своих друзей прозвище Большой Любитель Предполагать. По словам одного историка, их дом был своего рода «европейским островом в Нью-Йорке»[162]. Самой интересной особенностью Кроули-старшего (если можно назвать словами «интересная особенность» его чудаковатость) была его увлеченность Огюстом Контом, французским философом-полумистиком, который помимо прочего считается создателем слова «социология». Конт утверждал, что человечество проходит в своем развитии три этапа и что на последнем этапе оно отвергнет христианство и заменит его новой «религией человечества», которая соединит религиозную составляющую с наукой и разумом. Результатом станет признание «святыми» таких личностей, как Шекспир, Данте и Фридрих Великий[163]. Конт считал, что эпоха массовой индустриализации и технократии навсегда уведет человеческий разум из области метафизики и положит начало такому времени, когда прагматичные правители смогут улучшить положение всех людей, основываясь на общечеловеческих принципах морали. Он нарек себя верховным жрецом этой атеистической, светской веры, которую он назвал «позитивизмом». Кроули-старший превратил свой дом в Гринич-Виллидж в позитивистский храм, где проводил религиозные церемонии для избранных гостей, которых также пытался обратить в свою веру. В 1869 году молодой Герберт Кроули стал первым и, вероятно, последним американцем, принявшим религию Конта.
Кроули поступил в Гарвардский университет, но в связи с семейными и личными проблемами он подолгу отсутствовал на занятиях. Там он учился под чутким руководством Уильяма Джеймса, а также Джози Ройса и Джорджа Сантаяны. Джеймс научил его мыслить прагматично. Благодаря Ройсу он перешел из позитивизма в прогрессивное христианство. Сантаяна убедил его в необходимости «национального возрождения» и новой «социалистической аристократии». В результате всех этих влияний получился блестящий молодой человек, отличавшийся удивительной практичностью, но при этом никогда не теряющий своего мистического рвения. Он также был фашистом. Или, по крайней мере, он был сторонником предшествующего фашизму мировоззрения, которое станет казаться пророческим всего лишь несколько лет спустя.
Читая о Герберте Кроули, часто сталкиваешься с такими фразами, как «Кроули не был фашистом, но...». При этом мало кто пытается объяснить, почему он не был фашистом. Большинству, похоже, представляется очевидным, что основатель New Republic не мог быть учеником Муссолини. Тогда как на самом деле в «Обетовании американской жизни» можно найти почти каждый пункт из типового перечня характерных особенностей фашизма. Необходимость мобилизации общества подобно армии? — Да! Призыв к духовному возрождению? — Да! Потребность в «великих» революционных лидерах? — Да! Зависимость от искусственных объединяющих национальных «мифов»? — Да! Презрение к парламентской демократии? — Да! Немарксистский социализм? — Да! Национализм? — Да! Духовное призвание к военной экспансии? — Да! Необходимость превратить политику в религию? Враждебность к индивидуализму? — Да! Да! Да! Перефразируя утверждение Уиттакера Чемберса: почти на каждой странице «Обетования американской жизни» слышится голос «некоторой неприятной необходимости, приказывающий: “Вперед к фашизму!”».
Кроули был беззастенчивым националистом, мечтавшем о «национальном реформаторе... в облике святого Михаила, вооруженного пламенным мечом и крылатого», который бы спас находившуюся в упадке Америку. Этот светский «имитатор Христа» должен был положить конец воинствующему индивидуализму точно таким же образом, как настоящий Иисус закрыл ветхозаветную главу человеческой истории. «Отдельный человек, — писал Кроули вполне в духе воззрений Вильсона, — не имеет какого-либо значения в отрыве от общества, в котором сформировалась его самобытная личность». Вторя как Вильсону, так и Теодору Рузвельту, Кроули утверждал, что «жизнь нации» должна быть подобна «школе», а процесс получения хорошего образования зачастую не обходится без применения «жестких мер принуждения»[164].
Идеи Кроули привлекли внимание Уилларда Страйта, инвестиционного банкира из JP Morgan Bank и дипломата, а также его жены, Дороти, которая происходила из семейства Уитни. Страйты были выдающимися филантропами и реформаторами, и они увидели в идеях Кроули средство для преобразования Америки в «прогрессивную демократию» (название еще одной книги Кроули). Они согласились поддержать Кроули в его стремлении создать New Republic, журнал, задачей которого являлось «изучение, разработка и применение идей, которые пропагандировались Теодором Рузвельтом в то время, когда он был лидером Прогрессивной партии»[165]. В качестве редакторов к Кроули присоединились называвший себя социалистическим националистом Уолтер Вейл и Уолтер Липпман, который впоследствии станет выдающимся ученым.
Подобно Рузвельту, Кроули и его коллеги с нетерпением ожидали новых войн, потому что они считали войну «акушеркой» прогресса. Кроме того, по мнению Кроули, главное значение испано-американской войны состояло в том, что она дала начало прогрессивизму. В Европе войны должны были способствовать национальному объединению, тогда как в Азии они были необходимы для реализации имперских амбиций и давали возможность могущественным государствам немного «выпустить пар». В основу этой концепции Кроули легли те составляющие, которые он считал жизненно необходимыми. Индустриализация, экономические потрясения, социальная «дезинтеграция», материалистический упадок и культ денег разрывали Америку на части. По крайней мере так казалось ему и подавляющему большинству сторонников прогрессивизма. Лекарством от «хаотического проявления индивидуализма политической и экономической организации» общества мог послужить процесс «обновления», возглавляемый «святым», героем, который был призван свергнуть отжившую свое доктрину либеральной демократии на благо возрожденной и героической нации. В данном случае черты сходства с традиционной фашистской теорией представляются очевидными[166].
В оправдание Кроули можно сказать, что такие идеи просто «витали в воздухе» в конце XIX века и являлись типичной реакцией на происходившие в мире социальные, экономические и политические изменения. Более того, это одна из важных составляющих моей точки зрения. Без сомнения, фашизм и прогрессивизм существенно отличались друг от друга, но это в основном связано с культурными различиями между Европой и Америкой и между национальными культурами в целом. (Когда Муссолини пригласил лидера испанской фаланги, испанских фашистов, на первый фашистский съезд, тот категорически отказался. «Фаланга, — настаивал он, — не фашистская, она испанская!»)
Фашизмом в 1920-е годы стала называться одна из форм социально-политического «экспериментирования». Эксперименты были частью глобальной утопической программы «всемирного движения», о которой Джейн Адцамс вела речь на съезде Прогрессивной партии. На Западе назревало духовное пробуждение, когда прогрессивисты всех мастей жаждали видеть человека, выхватывающего бразды правления историей из рук Бога. Наука (или то, что они считали наукой) стала для них новым Писанием, а «экспериментирование» — единственным способом реализации научных идей. Не менее важными для прогрессивистов были личности ученых, так как, по их убеждению, только ученые знали, как правильно проводить эксперименты. «Кто возьмет на себя роль пророков и руководителей в справедливом обществе?» — вопрошал Герберт Кроули в 1925 году. По его замечанию, в течение целого поколения либералы были убеждены в том, что «лучшее будущее станет результатом благотворной деятельности специалистов в области социальной инженерии, призванных поставить на службу социальным идеалам все технические ресурсы, которые могут быть открыты благодаря научным исследованиям или созданы». Пятью годами ранее Кроули отметил в New Republic, что сторонникам «научного метода» следует объединиться с «идеологами» Христа, для того чтобы «спланировать и реализовать спасительное преобразование» общества, которое поможет людям «избавиться от необходимости выбора между неспасенным капитализмом и революционным спасением»[167].
Чтобы лучше понять «фашистский дух» этого момента, мы должны изучить, как прогрессивисты воспринимали два других великих «эксперимента» эпохи — итальянский фашизм и русский большевизм. Мы уже касались этого вопроса в первой главе, но стоит повторить: очень часто либералы считали, что проекты Муссолини и Ленина связаны друг с другом. Линкольн Стеффене говорил о «русско-итальянском» методе так, словно оба этих явления были частями единого целого.
Особый оптимизм по отношению к обоим «экспериментам» в то время был характерен для публикаций журнала New Republic. В некоторых из них в большей степени проявлялось восхищение итальянским направлением. Вот что писал об усилиях Муссолини Чарльз Бирд:
«Это явление не походит на застывшую диктатуру русского царизма; скорее, оно напоминает американскую систему сдержек и противовесов и может дать начало новому направлению демократии... Бесспорно, здесь проводится удивительный эксперимент, делается попытка увязать воедино индивидуализм и социализм, политику и технологию. Было бы ошибкой давать волю раздражению, взирая на жесткие действия и экстравагантные утверждения, сопровождающие фашистский процесс (как и все другие грандиозные исторические изменения) и искажающие представление о потенциальных возможностях и уроках этого приключения, — нет, не приключения, но самой судьбы, несущейся без седла и узды по этому историческому полуострову, который соединяет мир античности и современный мир»[168].
Такой энтузиазм мерк по сравнению с тем, как прогрессивисты приветствовали «эксперимент» в Советском Союзе. Более того, многие из тех представителей левых сил, которые ранее не принимали войны, стали ее восторженными сторонниками, когда узнали о большевистской революции. Революционная риторика Вильсона неожиданно оказалась подкреплена историческими силами (сам Вильсон считал произошедшее ранее свержение царского режима правительством Керенского последним препятствием для вступления США в войну, так как теперь в числе его союзников больше не было деспотического режима). Многие журналисты отправились в Москву, для того чтобы вести хронику революции и убедить американских либералов в прогрессивном характере исторических событий в России.
Первой ласточкой стал Джон Рид с его «Десятью днями, которые потрясли мир» (Ten Days That Shook the World). Рид с самого начала симпатизировал большевикам. Он с легкостью отвергал сетования по поводу «красного террора» и массового убийства социалистов-революционеров, которые не были большевиками. «Мне наплевать на их прошлое, — писал он. — Я могу судить только о том, что эта коварная банда сделала в течение последних трех лет. К стенке их! Могу сказать, что я узнал одно необычайно выразительное слово: “расстрелять”». Прогрессивный американский общественный деятель Эдвард Росс (он еще не раз будет упоминаться далее) встал на сторону большинства и заявил, что большевики убили сравнительно немногих членов оппозиции, так что все это не имело большого значения[169]. Однако Рид и Росс по крайней мере признавали, что большевики убивали людей. Многие из поддерживавших большевиков либералов просто отказывались признать, что «красный террор» вообще имел место. Это было началом эпохи политической лжи и «полезного идиотизма» в лагере американских левых сил, которая длилась почти век.
Отказ Вильсона признать большевиков (и последовавшая по его приказу интервенция в Сибири и Мурманске) после свержения ими правительства Керенского был расценен либералами, считавшими большевиков представителями народного и прогрессивного движения, как «удар в спину России». Один британский журналист из New Republic объявил, что большевики «выступают за рационализм, за разумную систему воспитания, за образование, за активный идеал сотрудничества и социального обслуживания против суеверия, расточительства, неграмотности и пассивного повиновения». По словам историка Юджина Лайонса, эти журналисты «писали, как вдохновленные пророки переживавшей тяжелые времена революции, они были ослеплены мечтами о грядущих свершениях»[170].
Конечно, не все обозреватели с левым уклоном были введены в заблуждение большевиками. Бертран Рассел разглядел самую суть обмана, как и американский социалист Чарльз Э. Рассел. Но большинство прогрессивистов считали, что большевики наткнулись на выход из старого мира и что Америка должна последовать их примеру. Когда война закончилась и американский прогрессивизм перестал пользоваться доверием американцев, интеллигенция стала все чаще видеть в Советском Союзе и фашистской Италии модели нового пути, от которого Америка неразумно отказалась после ее блестящего «эксперимента» с военным социализмом.
Почти вся либеральная элита, включая значительную часть «мозгового треста» Рузвельта, совершила паломничество в Москву, чтобы составить собственное представление о восхищавшем ее советском «эксперименте». Язык их наблюдений был одновременно религиозно-пророческим и высокомерно-научным. Экономист Стюарт Чейз сообщил после посещения России в 1927 году, что в отличие от Америки, где решения в области экономики принимали «голодные акционеры», в Советском Союзе во главе было заботящееся обо всех государство, получавшее «информацию от статистических батальонов» и героическую поддержку от чиновников Коммунистической партии, которым не требовалось «иных стимулов, кроме страстного желания, которое пылает в груди каждого настоящего коммуниста, создать новое небо и новую землю»[171].
В том же году два ведущих американских экономиста «Нового курса», Рексфорд Гай Тагуэлл и Пол Дуглас, с благоговейным трепетом высказались о советском «эксперименте». «Там начинается новая жизнь», — писал в своем отчете Тагуэлл. Американский общественный деятель Лилиан Вальд посетила российские «экспериментальные школы» и констатировала, что идеи Джона Дьюи реализуются там «не менее чем на 150 процентов». Действительно, для либералов вся страна была гигантской «экспериментальной школой». Сам Дьюи посетил Советский Союз и был очень впечатлен. Джейн Аддамс объявила предприятие большевиков «величайшим социальным экспериментом в истории». Сидни Хиллман, Джон Л. Льюис и большинство других лидеров американского рабочего движения без устали хвалили «советский прагматизм», «эксперимент» Сталина и «героизм» большевиков[172].
У. Э. Б. Дюбуа был поражен. «Я пишу это в России, — отвечал он своим читателям в журнале The Crisis. — Я сижу на площади Революции... Я стою, пораженный, и удивляюсь той России, которая внезапно открылась мне. Возможно, я в некоторой степени обманут и владею только половиной информации. Но если то, что я видел своими глазами и слышал своими ушами в России, большевизм, то я большевик»[173].
Дюбуа предлагает хорошее объяснение того, почему и фашизм, и коммунизм соответствовали одним и тем же побуждениям и стремлениям представителей прогрессивного направления. Как и многие другие прогрессивисты, он учился в Германии в 1890-е годы и сохранил любовь к прусской модели. Он был антисемитом в начале своей карьеры, и в 1924 году на обложке его журнала появилась свастика, несмотря на жалобы тех членов Прогрессивной партии, которые были евреями, а в 1935 году Дюбуа подал заявку на получение гранта от связанной с нацистами организации, которую возглавлял широко известный юдофоб, некогда обедавший с Йозефом Геббельсом. Он искренне верил, что у нацистов много хороших идей и что национал-социалистический «эксперимент» Германии может многому научить Америку (хотя позже Дюбуа осудил антисемитизм нацистов).
Так же было и с другими видными просоветскими либеральными деятелями. Достаточно вспомнить, что за год до того, как Линкольн Стеффене объявил, что в Советском Союзе он увидел будущее, примерно то же самое он говорил и о фашистской Италии. По мнению Стеффенса, в сравнении с героическим успехом фашизма западная демократия, возглавляемая «мелкими людьми с мелкими целями», выглядела жалкой. Для Стеффенса и бесчисленного множества других либералов Муссолини, Ленин и Сталин делали одно и то же: преобразовывали коррумпированные, устаревшие общества. Тагуэлл хвалил Ленина как прагматика, который просто проводит «эксперимент». «То же самое относится и к Муссолини», — пояснял он.
Из тех же соображений редакция журнала New Republic защищала как фашизм, так и коммунизм на протяжении 1920-х годов. «Как редакция журнала может считать жестокость Муссолини “хорошей вещью?”» — вопрошал один из корреспондентов. Кроули ответил, что ее она может считать таковой «не в большей степени, чем, скажем, упрочение Соединенных Штатов за счет ведения гражданской войны, которая привела к уничтожению рабства. Но иногда тот или иной народ оказывается в затруднительном положении, и спасти его можно только за счет принятия жестких мер»[174].
Чарльз Бирд удачно объяснил суть этой привлекательности. «Враждебность дуче по отношению к демократии не являлась серьезной проблемой, — пояснял он. — В конце концов, отцы американской республики, в частности Гамильтон, Мэдисон и Джон Адамс, были настолько жесткими и неистовыми [в противостоянии демократии], как любой фашист мог только мечтать». Диктаторский стиль Муссолини также хорошо согласовывался «с действием, действием, действием в качестве главного принципа Америки». Но больше всего воображение Бирда поразила присущая фашизму экономическая система, а именно корпоративизм. По словам Бирда, Муссолини удалось добиться создания «силами государства самой компактной и единой из когда-либо существовавших организации капиталистов и рабочих в виде двух лагерей»[175].
Ключевым понятием для рационализации прогрессивного утопизма стало «экспериментирование», которое обосновывалось в терминах ницшеанской подлинности, дарвиновской эволюции и гегелевского историзма, а также объяснялось на жаргоне прагматизма Уильяма Джеймса. Научное знание развивалось методом проб и ошибок. Эволюция человека осуществлялась методом проб и ошибок. История, по Гегелю, двигалась вперед благодаря взаимодействию тезиса и антитезиса. Эти «эксперименты» представляли собой тот же самый процесс в широком масштабе. Что с того, что Муссолини проламывал головы, а Ленин ставил к стенке инакомыслящих социалистов? Прогрессивисты считали, что они участвуют в процессе восхождения к более современному, более «развитому» способу организации общества с изобилием современных машин, современной медициной, современной политикой. Вильсон был таким же пионером этого движения, как и Муссолини, только по-американски. Будучи приверженцем Гегеля (он даже ссылается на него в любовном письме к своей жене), Вильсон считал, что история представляет собой научный, развивающийся процесс. Дарвинизм был прекрасным дополнением к такому мышлению, так как он подтверждал, что «законы» истории находят отражение в нашем природном окружении. «В наши дни, — писал Вильсон в то время, когда он еще был политологом, — всякий раз, когда мы обсуждаем структуру или развитие чего-либо... мы сознательно или бессознательно следуем господину Дарвину»[176].
Вильсон победил на выборах 1912 года, набрав большинство голосов членов коллегии выборщиков, но только 42 процента голосов избирателей. Он сразу же начал преобразовывать Демократическую партию в Прогрессивную, чтобы затем сделать ее движущей силой для преобразования Америки. В январе 1913 года он пообещал «отбирать прогрессивистов и только прогрессивистов» в свое правительство. «Никто, — провозгласил он в своей инаугурационной речи, — не может заблуждаться относительно целей, для достижения которых нация сейчас стремится использовать демократическую партию... Я приглашаю всех честных людей, всех патриотов, всех прогрессивных людей присоединиться ко мне. Я не подведу их, если они будут помогать и поддерживать меня!» Однако в другом месте он предупредил: «Если вы не прогрессивный, то берегитесь»[177].
Ввиду отсутствия в его правление таких чрезвычайных ситуаций национального масштаба, с которыми пришлось иметь дело другим либеральным президентам, значительные успехи Вильсона в законодательной сфере были обусловлены жесткой партийной дисциплиной. Он пошел на беспрецедентный шаг, заставив Конгресс беспрерывно заседать в течение полутора лет, хотя даже Линкольн не прибегал к таким мерам во время Гражданской войны. Проявляя поразительную солидарность с Кроули, он почти во всем стал придерживаться принципов «нового национализма», который еще недавно осуждал, и заявил, что не хочет «антагонизма между бизнесом и государством»[178]. Во внутренней политике Вильсону удалось снискать поддержку прогрессивистов всех направлений. Однако ему не удалось привлечь на свою сторону последователей Рузвельта в вопросах внешней политики. Несмотря на империалистическую политику, проводимую по всей Америке, Вильсона считали слишком мягким. Сенатор Альберт Беверидж, благодаря которому прогрессивистам удалось добиться блестящих успехов в области законотворчества в Сенате, осудил Вильсона за то, что тот отказался послать войска для защиты американских интересов в Китае или установить сильную власть в Мексике. Центральное звено Прогрессивной партии все в большей степени ориентировалось на концепцию «готовности» — условное обозначение для активного наращивания военной мощи и напористой имперской политики.
Начало войны в Европе в 1914 году отвлекло Вильсона и страну от внутренних проблем. Оно также оказалось благоприятным для американской экономики: прекратился приток на рынок труда иммигрантов как дешевой рабочей силы и увеличился спрос на экспортируемые товары. Вспомните это, когда вы в следующий раз услышите от кого-либо, что эпоха Вильсона подтверждает, что прогрессивная политика всегда сопровождается процветанием.
Несмотря на обещание Вильсона не предпринимать никаких действий, в 1917 году Америка все же вступила в войну. В ретроспективе это вполне можно рассматривать как ошибочное, хоть и неизбежное военное вмешательство. Однако утверждение, согласно которому эта война якобы противоречит интересам Америки, неверно по сути. Вильсон неоднократно с гордостью заявлял об этом. «По моему мнению, в том деле, за которое мы сражаемся, нет ни грана эгоизма», — говорил он. Вильсон был покорным слугой Господа, и поэтому эгоизм исключался в принципе[179].
Даже для нарочито светских прогрессивистов война послужила божественным призывом к оружию. Им не терпелось получить в свои руки рычаги власти и использовать войну для преобразования общества. Во время войны столица была настолько переполнена потенциальными социальными инженерами, что, по замечанию одного из писателей, «Cosmos Club[180] был немногим лучше, чем заседание профессорско-преподавательского состава всех университетов»[181]. Прогрессивные предприниматели демонстрировали такое же рвение, соглашаясь работать на президента почти задаром, — отсюда выражение «люди [согласные работать] за доллар в год». Хотя, конечно же, их труд компенсировался иными способами, как мы увидим далее.
Фашистское полицейское государство Вильсона
Сегодня мы бездумно ассоциируем фашизм с милитаризмом. Но следует помнить, что фашизм был милитаристским потому, что милитаризм считался «прогрессивным» в начале XX века. Все слои интеллигенции, от технократов до поэтов, считали военную модель наиболее подходящей для организации и мобилизации общества. «Битва за хлеб» Муссолини и подобные ей кампании широко рекламировались по обе стороны Атлантики как примеры просвещенного применения доктрины Джеймса о «моральном эквиваленте войны». Глубокая ирония прослеживается в стремлении Америки сокрушить «прусский милитаризм», учитывая, что именно прусский милитаризм в первую очередь вдохновлял многих американцев, являвшихся активными сторонниками войны. Мысль о войне как источнике моральных ценностей была высказана представителями немецкой интеллигенции в конце XIX и начале XX века, а сами эти ученые имели огромное влияние в Америке. Когда Америка вступила в войну в 1917 году, прогрессивная интеллигенция, впитавшая те же доктрины и философские концепции, которые пользовались популярностью на европейском континенте, ухватилась за возможность переделать общество посредством военной дисциплины.
Некоторые прогрессивисты действительно считали, что Первая мировая война не была благоприятной по существу. Причем среди них были и такие убежденные противники войны, как Роберт Лафоллет (хотя Лафоллет не был пацифистом и поддерживал имевшие место ранее военные авантюры Прогрессивной партии). Однако большинство представителей прогрессивного движения выступали за войну с энтузиазмом и даже фанатично (так же как и очень многие американские социалисты). Но даже тех, кто относился к войне в Европе неоднозначно, привлекали «социальные возможности войны», названные так Джоном Дьюи. Дьюи был штатным философом журнала New Republic в период подготовки к войне и высмеивал тех, кто называл себя пацифистами, за неспособность осознать «мощный стимул для реорганизации, который несет в себе эта война». В числе социальных групп, признающих социальные преимущества войны, были первые феминистки, которые, по словам американской писательницы и суфражистки Хэрриет Стэнтон Блэтч, с нетерпением ожидали новых экономических выгод для женщин «как обычных и благоприятных следствий войны». Ричард Илай, убежденный сторонник «промышленных армий», также был страстным приверженцем призыва на военную службу: «Если взять мальчиков, болтающихся на улицах и в барах, и занять их строевой подготовкой, мы получим отличный моральный эффект, и на экономике это отразится благоприятно». Вильсон придерживался той же самой точки зрения. «Я сторонник мира, — так начиналось одно из его типичных заявлений, — но все же есть некоторые прекрасные вещи, которые нация получает благодаря военной дисциплине». Гитлер полностью разделял это убеждение. Как он сказал Йозефу Геббельсу, «война... сделала возможным для нас решение целого ряда проблем, которые мы никогда не смогли бы решить в мирное время»[182].
Нам не следует забывать, каким образом требования военного времени работали на пользу социализма. Дьюи с упоением говорил о том, что война может побудить американцев «отказаться от большей части экономической свободы». «Нам придется оставить наш привычный индивидуализм и идти в ногу», — призывал он. Дьюи был уверен, что, если война пойдет гладко, это ограничит «индивидуалистическую традицию» и убедит американцев в «превосходстве общественных потребностей над личным благосостоянием». Другой прогрессивист выразил эту мысль более сжато: «Политика невмешательства умерла. Да здравствует социальный контроль»[183].
Журнал New Republic под руководством Кроули стал источником активной военной пропаганды. В самой первой передовице журнала, написанной Кроули, редакция выразила надежду на то, что война «должна дать начало такой политической и экономической системе, которая сможет лучше выполнять свои обязательства внутри страны». Два года спустя Кроули вновь выразил надежду, что вступление Америки в войну обеспечит «состояние подъема, характерное для серьезного приключения». За неделю до вступления Америки в войну Уолтер Липпман (который позже напишет большую часть «Четырнадцати пунктов» Вильсона) пообещал, что военные действия приведут к «самой радикальной переоценке ценностей во всей интеллектуальной истории». Это был прозрачный намек на призыв Ницше к ниспровержению всей традиционной морали. Не случайно Липпман был протеже Уильяма Джеймса, и его призыв к использованию войны для уничтожения старого порядка свидетельствует о том, насколько последователи Ницше и американские прагматики были близки в своих выводах, а зачастую и в принципах. Липпман, несомненно, с позиции прагматизма заявлял о том, что понимание таких идей, как демократия, свобода и равенство, должно быть полностью пересмотрено «так же бесстрашно, как религиозные догмы в XIX веке»[184].
Между тем придерживавшиеся социалистических воззрений редакторы и журналисты, в том числе из самого смелого радикального журнала The Masses, который Вильсон попытался запретить, спешно изъявили желание получать зарплату в Министерстве пропаганды. Такие художники, как Чарльз Дана Гибсон, Джеймс Монтгомери Флэгг и Джозеф Пенелл, и такие писатели, как Бут Таркингтон, Сэмюэл Хопкинс Адамс и Эрнест Пул, стали активными сторонниками жаждущего войны режима. Музыканты, комедийные актеры, скульпторы, священники и, конечно же, деятели киноискусства, радостно взялись за дело, с готовностью облачившись в «невидимую военную форму». Айседора Дункан, одна из основоположников движения за сексуальное освобождение, участвовала в патриотических постановках на сцене Metropoliten Opera. Наиболее устойчивым и символическим образом того времени стал плакат Флэгга «I Want You» («Ты нужен мне»), на котором Дядя Сэм как воплощение государства с осуждением показывает пальцем на граждан, не принявших на себя обязательств.
Казалось, что среди сторонников Прогрессивной партии один только Рэндольф Борн, блестящий, экстравагантный, изуродованный гений, в точности понимал, что происходит. Война показала, что поколение молодых интеллектуалов, воспитанных на прагматической философии, неспособно помешать средствам перейти в разряд целей. «Своеобразная конгениальность между войной и этими людьми просто заложена изначально, — сетовал Борн. — Это выглядит так, словно они ждали друг друга»[185].
Вильсон, великий централизатор и будущий лидер нации, в одночасье принялся за работу по расширению прав и возможностей этих будущих социальных инженеров, создав широкий спектр военных советов, комиссий и комитетов. Надзор за всем этим был возложен на Военно-промышленное управление, возглавляемое Бернардом Барухом, который силой, уговорами и лестью увлек американских промышленников в любящие объятия государства задолго до того, как Муссолини и Гитлер стали разрабатывать свои корпоративистские доктрины. У прогрессивистов из Военно-промышленного управления не было никаких иллюзий относительно того, что предстояло сделать. «Это была беспрецедентная промышленная диктатура — диктатура в силу необходимости и общего согласия, которая постепенно охватила всю нацию и объединила ее в скоординированное и мобильное целое», — заявил Гросвенор Кларксон, член и впоследствии историк Военно-промышленного управления[186].
Национализация народа для военных свершений была важнее, чем социализация промышленности. «Горе тому человеку или группе людей, которые попытаются встать на нашем пути», — угрожал Вильсон в июне 1917 года. Руководствуясь своим убеждением, согласно которому «лидеры нации» должны управлять страстями масс, он одобрил и возглавил один из первых по-настоящему оруэлловских пропагандистских проектов в западной истории. Он сам задал нужный тон, когда выступил в защиту первого призыва на военную службу со времен Гражданской войны. «Это ни в коем случае не мобилизация нежелающих: это скорее отбор из огромного числа добровольцев»[187].
Через неделю после начала войны Уолтер Липпман, который, без сомнения, горел желанием запустить процесс переоценки ценностей, послал записку Вильсону, призывая его развернуть масштабную пропагандистскую кампанию. Липпман, как он утверждал позднее, считал, что большинство граждан являются «детьми или варварами по уровню интеллектуального развития», и поэтому их должны направлять эксперты, подобные ему самому. Личные свободы, хорошие сами по себе, все-таки должны быть подчинены помимо прочего «порядку»[188].
Вильсон назначил прогрессивного журналиста Джорджа Крила на пост главы Комитета общественной информации, т. е. первого современного министерства пропаганды на Западе. Ранее Крил был одним из либеральных представителей разоблачительной журналистики, а также комиссаром полиции в Денвере, который зашел настолько далеко, что даже запретил своим полицейским носить дубинки или пистолеты. Став министром пропаганды, он сразу же преисполнился решимости превратить американскую общественность в «единую раскаленную добела массу» под лозунгом «стопроцентного американизма». «Это была борьба за умы людей, за завоевание их расположения, и линия фронта проходила через каждый дом в каждом уголке страны», — вспоминал Крил. По его мнению, страх являлся очень важным инструментом, «значимым элементом, который нужно было внедрить в сознание гражданского населения». «Трудно объединить людей, обращаясь только к их нравственности, — считал он. — Возможно, что борьба за идеал должна быть сопряжена с мыслями о самосохранении»[189].
Бесчисленное множество других либеральных и левых интеллектуалов расходовали свои таланты и энергию на пропагандистские усилия. Эдвард Бернайс, которому впоследствии будут приписывать создание научной отрасли «связи с общественностью», стал настоящим экспертом по профилю деятельности Комитета Крила, в совершенстве овладев искусством «осознанного и разумного манипулирования организованными привычками и мнениями масс». Комитет общественной информации выпустил миллионы плакатов, значков, брошюр и т. п. с текстами на 11 языках, не считая английского. В подчинении Комитета находилось более 20 подразделений с представительствами в Америке и во всем мире. Один только отдел новостей выдал более шести тысяч пресс-релизов. Также было напечатано почти 100 брошюр общим тиражом почти в 75 миллионов экземпляров. Типичный плакат, рекламирующий облигации «Займа свободы», предупреждал: «Я — общественное мнение. Все люди боятся меня!.. Если у вас есть деньги, чтобы купить [облигации], но вы [их] не покупаете, я сделаю эту страну ничьей для вас!». Другой плакат Комитета общественной информации вопрошал: «Вам когда-нибудь встречались сторонники кайзера?.. Их можно найти в вестибюлях гостиниц, купе для курящих, клубах, офисах и даже дома... Это сплетники самого опасного типа. Они повторяют все слухи и все критические замечания о роли нашей страны в войне, которые они когда-либо слышали. Они очень убедительны... Людям это нравится... В силу своего тщеславия, или любопытства, или стремления изменить родине они помогают немецким пропагандистам сеять семена недовольства»[190].
Одной из самых удачных идей Крила (пример реализации концепции «вирусного маркетинга» задолго до ее появления) стало создание почти стотысячной армии из так называемых людей на четыре минуты. Каждый из них получал в Комитете общественной информации соответствующие оснащение и подготовку для произнесения четырехминутной речи на городских собраниях, в ресторанах, в театрах — везде, где можно было найти достаточное количество слушателей, — чтобы поведать о том, что на карту поставлено «само будущее демократии». Только в период с 1917 по 1918 год было произнесено более 7,5 миллионов таких речей в 5200 населенных пунктов. Эти выступления превозносили Вильсона как великого вождя, а немцев низводили до лишенных человеческого образа гуннов. Как бы то ни было, за эти четыре минуты ужасные военные преступления немцев начинали выглядеть еще страшнее. Комитет общественной информации также запустил в прокат целую серию пропагандистских фильмов с такими названиями, как «Кайзер» (The Kaiser), «Берлинское чудовище» (The Beast of Berlin) и «Прусский злобный пес-полукровка» (The Prussian Cur). Естественно, что националистическая пропаганда потоком хлынула в школы. Средние школы и колледжи спешно дополнили расписание «предметами военной подготовки». Кроме того, всегда и везде прогрессивисты ставили под сомнение патриотизм тех, кто не вели себя как «стопроцентные американцы».
Еще один ставленник Вильсона, представитель социалистического направления разоблачительной журналистики Артур Буллард (ранее он писал статьи для радикального журнала The Masses и лично знал Ленина) также был убежден, что государство должно всячески поддерживать патриотический настрой граждан, если Америка желает добиться переоценки ценностей, которой так жаждали прогрессивисты. В 1917 году он опубликовал работу «Мобилизация Америки» (Mobilising America), в которой утверждал, что государство должно «будоражить общественное мнение», поскольку «эффективность нашей войны будет зависеть от проявляемого нами энтузиазма». Любой гражданин, для которого собственные потребности были превыше государственных нужд, являлся «мертвым грузом». Идеи Булларда отличались поразительным сходством с доктринами «жизненной лжи» (vital lie) Жоржа Сореля. «Правда и ложь — относительные понятия, — утверждал он. — Бывают безжизненная правда и жизненная ложь... Сила идеи заключается в ее способности вдохновлять. При этом почти не важно, верна она или нет»[191].
Радикальный адвокат и мнимый борец за гражданские права Кларенс Дэрроу (в настоящее время левые считают его героем борьбы за защиту эволюции в ходе «обезьяньего процесса» над Скопсом[192]) участвовал в агитационных мероприятиях Комитета общественной информации и выступал в защиту правительственной цензуры. «Когда я слышу, как кто-то советует американцам сформулировать условия мира, — писал Дэрроу в одной из своих книг, изданных при поддержке правительства, — я сразу понимаю, что он работает на немцев». В своем выступлении в Madison Square Garden он сказал, что Вильсон был бы предателем, если бы решил проигнорировать действия Германии, и добавил: «Всякий, кто отказывается поддерживать президента в это тяжелое время, хуже предателя». Экспертное заключение юриста Дэрроу, которое может удивить современных либералов, звучало так: как только Конгресс принял решение по поводу войны, право подвергать сомнению правильность этого решения полностью исчезает (похоже, что этот интересный стандарт действует и сегодня, если вспомнить, что сравнительно мягкую критику несогласия со стороны администрации Буша многие назвали «беспрецедентным шагом»). Когда начинают свистеть пули, граждане теряют право даже обсуждать этот вопрос на людях или с глазу на глаз; «молчаливое согласие гражданина становится его обязанностью»[193]. (По иронии судьбы Американский союз защиты гражданских свобод заработал себе репутацию, поддержав Дэрроу в судебном разбирательстве по делу Скопса.)
Характерная для «экономической диктатуры» политика нормирования и фиксации цен потребовала от американцев огромных жертв, в числе которых были разнообразные дни «без мяса» и «без пшеницы», существовавшие в условиях экономики военного времени во всех промышленно развитых странах в первой половине XX века. Однако различные тактики, применявшиеся для навязывания этих ограничений, способствовали небывалому расцвету науки тоталитарной пропаганды. Американцев всюду преследовали толпы патриотически настроенных добровольцев, они стучали в двери и предлагали подписать очередную присягу или обязательство не только быть патриотом, но и воздерживаться от того или иного «излишества». Герберт Гувер, глава Продовольственного управления США, заслужил репутацию опытного государственного руководителя, сумевшего с помощью более полумиллиона добровольцев, которых он отправил в народ, заставить американцев потуже затянуть пояса. Вряд ли кто-то станет оспаривать, что свою работу он выполнял с удовольствием. «Ужин, — негодовал он, — одно из ярчайших проявлений расточительности в нашей стране»[194].
Дети стали предметом особой заботы правительства, как это всегда бывает в тоталитарных системах. Они должны были подписывать обязательство, называвшееся «Обещание маленького американца»:
За столом я не оставлю ни крошки Еды на тарелке. И я не буду есть между приемами пищи, но Буду ждать ужина. Я обещаю, что внесу Свой честный и искренний вклад В помощь моей Америке От всего своего верного сердца.Детям младшего возраста, которые не могли даже подписать обязательство, не говоря уж о том, чтобы его прочитать, прогрессивисты, занимавшиеся военным планированием, предлагали известный детский стишок, переделанный на новый лад:
Маленький мальчик, протруби в свой рожок! Повариха использует пшеницу там, где она должна использовать кукурузу. Страшный голод охватит нашу страну, Если повара и домохозяйки будут крепко спать! Давай-ка разбуди их! Давай-ка разбуди их! Теперь это зависит от тебя! Будь лояльным американцем, маленький мальчик![195]В дополнение к активнейшей пропаганде правительство столь же усердно подавляло инакомыслие. Принятый Вильсоном Закон о подстрекательстве запретил «распространение в устной, печатной, рукописной формах любых нелояльных, оскверняющих, непристойных или оскорбительных заявлений о правительстве Соединенных Штатов или вооруженных силах». Министру почт были даны полномочия запрещать рассылку по почте любого издания, если он сочтет это необходимым, т. е., по сути, закрыть его. В результате были запрещены как минимум 75 периодических изданий. Зарубежные издания могли распространяться только после перевода их содержания и утверждения цензорами. Редакторам журналов и газет пришлось столкнуться с вполне реальной угрозой тюремного заключения или прекращения поставок газетной бумаги по распоряжению Военно-промышленного управления. «Неприемлемыми» считались статьи, в которых велись любые обсуждения (какими бы они ни были возвышенными или патриотическими) с критикой призывной кампании. «Ограничение существует, — подтверждал министр почт Альберт Сидни Бёрлсон. — Оно касается тех случаев, когда в публикации говорится о том, что решение правительства вступить в войну ошибочно, что война ведется в неблаговидных целях или делаются какие-либо заявления, которые ставят под сомнение мотивы правительства для вступления в войну. Нельзя говорить, что это правительство является инструментом Уолл-стрит или военных промышленников. Недопустимы какие-либо кампании против призыва и Закона о призыве»[196].
Самым известным событием в области цензуры стала жесткая правительственная кампания против радикального литературного журнала The Masses под редакцией Макса Истмена. Министр почт запретил распространение этого журнала по почте в соответствии с Законом о шпионаже. В частности, правительство обвинило редакцию журнала в препятствовании призыву на военную службу. «Противозаконными» признали карикатуру с подписью, что война нужна для того, чтобы сделать мир «безопасным для капитализма», и редакционную статью Истмена, восхваляющую смелость уклонистов от призыва. Шесть редакторов предстали перед судом в Нью-Йорке, но им удалось выиграть дело, склонив на свою сторону коллегию присяжных, не пришедших к единому мнению (присяжные заседатели и адвокаты впоследствии заявили, что обвиняемые почти наверняка были бы признаны виновными, если бы хоть кто-то из них оказался немцем или евреем).
Конечно же, «ограничивающее воздействие» на прессу в целом было гораздо более полезным, чем закрытие органов печати. Многие из журналов, которые были закрыты, имели очень незначительное количество читателей. Но страх потерять бизнес заставлял других редакторов действовать в нужном направлении. Если судьба других изданий была недостаточно убедительным примером, редакция получала письмо с угрозами. Если не срабатывало и это, наступал черед «временного» запрета на распространение издания по почте. К маю 1918 года в этой привилегии было отказано более 400 периодическим изданиям. Журнал The Nation был запрещен за критику поддерживавшего правительство профсоюзного лидера Сэмюэля Гомперса. Журнал Public был закрыт за сделанное в одной из статей предположение о том, что источником средств для войны должны быть налоги, а не займы; а газеты Freeman s Journal и Catholic Register — за перепечатку высказываний Томаса Джефферсона о том, что Ирландия должна быть республикой. Под ударом оказался даже милитаристский New Republic. Редакцию этого журнала дважды предупреждали, что рассылка издания по почте будет запрещена, если не прекратится публикация объявлений Национального бюро гражданских свобод с просьбами о пожертвованиях и привлечении волонтеров.
За всем этим последовало широкое наступление прогрессивистов на гражданские свободы. Современные либералы имеют обыкновение так отзываться о правления Джозефа Маккарти, словно это был самый мрачный период в американской истории после рабства. Это правда: в 1950-е годы, во время так называемого маккартизма, несколько голливудских писателей, которые не признались, что ранее поддерживали Сталина, потеряли свои рабочие места, другие стали жертвами несправедливого запугивания. Но ни одно из событий, произошедших в течение безумного правления Джо Маккарти, даже близко нельзя поставить с тем, что навязали Америке Вильсон и его прогрессивные коллеги. В соответствии с принятыми в июне 1917 года Законом о шпионаже и 16 мая 1918 года Законом о подстрекательстве любая критика правительства, даже в собственном доме, могла повлечь тюремное заключение (эти законы член Верховного суда США Оливер Уэнделл поддерживал в течение многих лет после войны, утверждая, что слова, представляющие «явную и непосредственную опасность», могут быть запрещены). В штате Висконсин государственный чиновник был осужден на два с половиной года за критику в адрес развернутой Красным Крестом кампании по сбору средств. Голливудский продюсер был посажен на 10 лет за создание фильма, в котором изображались злодеяния британских войск во время американской революции. Один человек был привлечен к суду за то, что он в собственном доме рассуждал о том, почему он не желает покупать облигации «Займа свободы»[197].
Ни одно полицейское государство не заслуживает такого названия, если оно не имеет достаточно большого штата полиции. Десятки тысяч людей были арестованы Министерством юстиции без всяких на то оснований. Администрация Вильсона опубликовала письмо для американских адвокатов и судебных исполнителей США, которое гласило: «Немецкие враги в этой стране, которые ранее не были замешаны в заговорах против интересов Соединенных Штатов, могут не опасаться преследования со стороны Министерства юстиции до тех пор, пока они выполняют следующее предписание: соблюдать закон; держать язык за зубами»[198]. Можно было бы объяснить резкий тон этого письма, но не те критерии, согласно которым в круг «немецких врагов» попадало беспрецедентное число лиц.
Министерство юстиции создало собственную полуофициальную организацию наподобие фашистов Муссолини, известную как Американская защитная лига. Члены этой организации получили значки (многие из них с надписью «Секретная служба») и задание следить за своими соседями, коллегами и друзьями. Тысячи дел велись чрезмерно усердными прокурорами с привлечением этих соглядатаев, которым правительство предоставило значительные полномочия. В состав Американской защитной лиги входил разведывательный отдел, члены которого давали присягу не раскрывать своей причастности к тайной полиции. Члены Лиги читали почту своих соседей и прослушивали их телефоны с разрешения правительства. В городе Рокфорд, штат Иллинойс, армия прибегла к помощи Лиги для получения признаний от черных солдат, обвинявшихся в изнасиловании белых женщин. Входящий в состав Лиги Американский народный патруль обрушился на «мятежное уличное красноречие». Одной из самых важных функций этого подразделения должен был стать поиск «бездельников», уклонявшихся от призыва. В сентябре 1918 года Американская защитная лига провела в Нью-Йорке крупнейший рейд против лиц, уклоняющихся от военной службы, в результате которого было задержано около 50 тысяч человек. Две трети задержанных позднее были признаны невиновными по всем пунктам обвинения. Тем не менее Министерство юстиции одобрило эту акцию. Помощник генерального прокурора отметил с большим удовлетворением, что Америка никогда ранее не была обеспечена таким эффективным полицейским надзором. В 1917 году Американская защитная лига располагала филиалами в примерно 600 городах и поселках и насчитывала около 100 тысяч членов. К следующему году количество членов этой организации превосходило четверть миллиона[199].
У обывателей с этим временем ассоциируется что-то плохое, связанное с рейдами Палмера. При этом обычно забывают, что данные рейды были чрезвычайно популярны, особенно среди представителей среднего класса, образующих основной состав Демократической партии. Генеральный прокурор А. Митчелл Палмер был практичным представителем Прогрессивной партии, который победил партийную машину республиканцев в Пенсильвании, наладив связи с лейбористами и заручившись их поддержкой. Он надеялся, что популярность рейдов приведет его прямиком в Овальный кабинет и, вполне возможно, что ему это удалось бы, если бы не сердечный приступ, который заставил его отойти от дел.
Также необходимо отметить, что Американский легион формировался в 1919 году, когда страна была охвачена истерией, вызванной неблагоприятной обстановкой из-за продолжающейся Первой мировой войны. Хотя в настоящее время это прекрасная организация с достойной историей, нельзя игнорировать тот факт, что она была основана как фашистская по своей сути. В 1923 году предводитель Легиона заявил: «В случае необходимости Американский легион с готовностью встанет на защиту учреждений нашей страны и идеалов подобно тому, как фашисты разделались с подрывными элементами, которые угрожали Италии»[200]. Франклин Делано Рузвельт станет впоследствии использовать Американский легион как современный аналог Американской защитной лиги для слежки за диссидентами и травли потенциальных иностранных агентов.
Виджилантизм[201] часто поощрялся и редко отвергался в рамках концепции «стопроцентного американизма» Вильсона. Да и как могло быть иначе, учитывая предупреждения Вильсона о «внутреннем враге». В 1915 году в своем третьем ежегодном послании к Конгрессу он заявил: «Серьезнейшая угроза нашему миру и национальной безопасности возникла в пределах наших собственных границ. Мне стыдно в этом признаваться, однако среди граждан Соединенных Штатов, рожденных под другими флагами, есть такие, которые впрыскивают яд неверности в артерии нашей национальной жизни; которые стремятся подорвать авторитет и доброе имя нашего правительства, уничтожить нашу промышленность везде, где подобные атаки будут в наибольшей степени отвечать их мстительным целям, и навредить нашей политике в интересах иноземных интриганов». Четыре года спустя президент был по-прежнему убежден, что, пожалуй, наибольшая угроза для Америки исходит от «дефисников»[202]: «Я готов повторять вновь и вновь: любой человек, несущий с собой дефис, имеет кинжал, который он готов вонзить в жизненно важные органы этой страны в любой удобный момент. Если в этой великой борьбе я поймаю человека с дефисом, то буду знать, что в моих руках враг государства»[203].
Именно такой хотели видеть Америку Вудро Вильсон и его союзники. И они этого добились. В 1919 году во время торжества по случаю объявления очередного «Займа свободы» один из присутствующих отказался встать во время исполнения национального гимна. Дождавшись окончания гимна «Усеянное звездами знамя», какой-то разъяренный матрос выстрелил этому «нелояльному» человеку три раза в спину. Как написала газета Washington Post, «когда мужчина упал, толпа разразилась одобрительными выкриками и аплодисментами». Другой человек, который не встал перед исполнением национального гимна во время бейсбольного матча, был избит фанатами на трибунах. В феврале 1919 года суд присяжных в городе Хаммонд, штат Индиана, всего за две минуты оправдал человека, который убил иммигранта, крикнувшего: «К черту Соединенные Штаты!». В 1920 году продавец магазина одежды в городе Уотербери, штат Коннектикут, получил шестимесячный тюремный срок зато, что назвал Ленина «одним из самых умных» лидеров в мире. Американка Роза Пастор Стокс была арестована, предстала перед судом и была осуждена за то, что сказала, обращаясь к группе женщин: «Я за народ, а правительство — за спекулянтов». Республиканцу Роберту Лафоллету, прогрессивисту и противнику войны, пришлось целый год бороться за то, чтобы его не изгнали из Сената «за нелояльность», в которой он обвинялся после антивоенного выступления перед членами Беспартийной лиги[204]. В Providence Journal ежедневно на первой полосе появлялось предупреждение, обращенное к читателям: «Любой немец или австриец, который не является вашим хорошим знакомым, должен рассматриваться как потенциальный шпион». Ассоциация юристов штата Иллинойс постановила, что те ее члены, которые защищают противников призыва, признаются не только «непрофессиональными», но и «непатриотичными»[205].
Книги немецких авторов изымали из библиотек, семьи немецкого происхождения подвергались преследованиям и насмешкам, шницель по-венски стал «шницелем свободы», и, как иронизировал Синклер Льюис, были даже разговоры о переименовании немецкой кори в «корь свободы». Социалисты и другие представители левых сил, которые выступали против войны, подвергались жестоким гонениям. В Аризоне представителей международного профсоюзного движения «Индустриальные рабочие мира» беснующаяся толпа загнала в вагоны для скота, после чего они были вывезены в пустыню и оставлены там без пищи и воды. В Оклахоме противников войны измазали смолой и обваляли в перьях, а искалеченного лидера движения «Индустриальные рабочие мира» повесили на железнодорожной эстакаде. Глава Колумбийского университета Николас Мюррей Батлер уволил трех преподавателей за критику войны, выдвинув следующий аргумент: «То, что ранее было заблуждением, теперь рассматривается как подстрекательство. То, что ранее было глупостью, теперь считается изменой». Ричард Илай, возглавивший Висконсинский университет, объединил профессоров и преподавателей в «Висконсинский легион лояльности», который был призван подавлять инакомыслие в стенах университета. «Каждого, кто высказывает мнения, которые препятствуют нам в этой ужасной борьбе, — пояснял он, — необходимо “уволить” или даже “расстрелять”[206]». Главным в его списке был Роберт Лафоллет, которого Ричард Илай пытался вычеркнуть из политической жизни Висконсина как «предателя», который «был более полезен для кайзера, чем четверть миллиона человек»[207].
Точные цифры найти трудно, но по приблизительным подсчетам примерно 175 тысяч американцев были арестованы за нежелание продемонстрировать свой патриотизм в той или иной форме. Все они были наказаны, многие попали в тюрьму.
Большинство прогрессивистов, глядя на то, что они создали, говорили: «Это хорошо». «Великая европейская война... сметает индивидуализм и созидает коллективизм», — радовался прогрессивный финансист и партнер J. Р. Morgan Bank Джордж Перкинс. Гросвенор Кларксон придерживался сходного мнения, отмечая, что эта военная кампания «представляет собой историю слияния ста миллионов агрессивных индивидуалистов в единый организм, в котором благо каждого было принесено в жертву ради блага целого». Регламентация общества, по мнению социального работника Феликса Адлера, приближала нас к созданию «идеального человека... более справедливого, более красивого и более праведного, чем все те... которые существовали прежде». Мнение редакции Washington Post было более сдержанным. «Несмотря на такие эксцессы, как линчевание, — провозглашалось в передовице, — это здоровое и полезное пробуждение внутри страны»[208].
Возможно, эти события следует вписать в более широкий контекст. Фактически в то же самое время, когда Джон Дьюи, Герберт Кроули, Уолтер Липпман и многие другие с воодушевлением говорили о том, насколько благоприятно война отразится на моральном духе нации, и о ее необычайной полезности и важности для всех людей, разделяющих либеральные, прогрессивные ценности, Бенито Муссолини выступал с почти такими же заявлениями. Муссолини был мозгом итальянской Социалистической партии. Он находился под влиянием многих мыслителей, которые также пользовались авторитетом у американских прогрессивистов — Маркса, Ницше, Гегеля, Джеймса и др., — и хотел, чтобы Италия сражалась на стороне союзников, т. е. в конечном счете на стороне американцев. И все же вследствие выступлений в поддержку войны Муссолини и его фашистское движение автоматически становились «объективно» правыми.
Означает ли это, что редакторы New Republic, представители Прогрессивной партии в правительстве Вильсона, Джон Дьюи и подавляющее большинство тех, кто называл себя «американскими социалистами», также должны считаться правыми? Конечно, нет. Только в Италии — родине самой радикальной Социалистической партии в Европе после России — поддержка войны автоматически превращала левых в правых. В Германии социалисты в Рейхстаге голосовали за войну. В Великобритании социалисты голосовали за войну. В Америке социалисты и прогрессивисты голосовали за войну. Однако это не делало их правыми; это делало их отвратительно кровожадными и шовинистическими левыми. Именно эта особенность Прогрессивной партии постепенно исчезла из исторического сознания нации. «Возможно, я была самой горячей противницей войны во всей стране, — заявляла Мамаша Джонс, сторонница «американского» социализма, — но когда мы идем в бой, я наравне с остальными горю желанием очистить наши ряды, мы должны убрать кайзера... [а также избавиться от] взяточников, воров, убийц». Так думали многие. Активно выступавший в поддержку войны социалист Чарльз Рассел заявлял, что его бывших коллег необходимо «изгнать из страны». Еще один [социалист] настаивал, что социалистов, выступающих против войны, необходимо «расстреливать без промедления»[209].
С точки зрения либералов во всех официально совершавшихся злодеяниях на протяжении всей истории Америки виновны только две силы: консерваторы и сама Америка. Прогрессивисты, или современные либералы, по их мнению, никогда не бывают фанатиками или тиранами, а вот консерваторы оказываются ими довольно часто. Например, вы вряд ли когда-нибудь услышите, что «рейды Палмера», «сухой закон» или американская евгеника являются порождениями прогрессивистов. Эти грехи должна искупить сама Америка. Между тем реальные или предполагаемые «консервативные» преступления, например маккартизм, всегда совершаются исключительно по вине консерваторов и служат примерами политики, которую они будут проводить, если получат власть. Единственным достойным порицания моментом в действиях либералов объявляется их неспособность «достаточно жестко» отстаивать свои убеждения. Поскольку консерваторы являются поборниками традиционного патриотизма, в результате получается: «орел» — либералы побеждают, «решка» — консерваторы проигрывают. Либералы никогда не берут на себя ответственности за исторические преступления, потому что им не свойственно стремление защищать присущую Америке «доброту». При этом консерваторы с готовностью признают свою вину за события, к которым сами они отношения не имеют и во многих случаях всячески старались их предотвратить.
Военный социализм в период правления Вильсона был исключительно прогрессивистским проектом, и долгое время после войны он оставался идеалом для либералов. Они по сей день рассматривают войну как естественный повод для усиления государственного контроля над всеми сферами экономики. Если мы считаем, что «классический» фашизм в первую очередь связан с усилением роли военных ценностей в жизни государства и общества, а также с милитаризацией, проходившей под лозунгами национализма, то совершенно непонятно, почему «Прогрессивная эра» не считается при этом фашистской.
Более того, сложно не заметить, насколько прогрессивисты соответствуют объективным критериям фашистского движения, сформулированным многочисленными специалистами в данной области. Прогрессивизм по большей части был движением среднего класса, которое в равной степени противопоставляло себя находившемуся сверху безудержному капитализму и располагавшемуся снизу радикальному марксизму. Прогрессивисты пытались найти некий средний путь между этими двумя крайностями, который фашисты определяли как «третий путь», а Ричард Илай, наставник Вильсона и Рузвельта, называл «золотой серединой» между либеральным индивидуализмом и марксистским социализмом. Их главным желанием было установить тоталитарный порядок, строго регламентирующий жизнь каждого человека как дома, так и в обществе. Прогрессивистов также объединяло с фашистами и нацистами страстное желание преодолеть классовые противоречия внутри национального сообщества и создать новый порядок. Джордж Крил кратко сформулировал эту цель следующим образом: «Отсутствие разделительной линии между богатыми и бедными и классовых различий, порождающих презренную зависть»[210].
Именно в этом заключались социальная миссия и привлекательность фашизма и нацизма. Почти в каждом своем выступлении Гитлер давал понять, что он стремится устранить разделение на богатых и бедных. «Какое отличие от той страны, — заявил он, имея в виду раздираемую войной Испанию. — Там класс [восстал] против класса, брат против брата. Мы выбрали другой путь: вместо того, чтобы пытаться вас разобщить, мы объединили вас». Роберт Лей, глава нацистского Германского трудового фронта, провозгласил: «Мы первая страна в Европе, которой удалось преодолеть классовую борьбу». Речь сейчас не о том, насколько такие заявления соответствовали действительности; привлекательность такой цели была значительной, а намерения — искренними. Один молодой и амбициозный немецкий юрист, который хотел учиться за рубежом, поддался на уговоры своих друзей и остался дома, чтобы не пропустить этот восхитительный момент. «[Нацистская] партия намеревалась изменить самую суть трудовых отношений, основываясь на принципах совместного принятия решения руководством и работниками и общей ответственности. Я знал, что это утопия, но верил в это всем сердцем... Обещания Гитлера создать заботливый, но при этом дисциплинированный социализм нашли очень благодарную аудиторию»[211].
Конечно, такие утопические мечты могли реализоваться только за счет ограничения личной свободы. Но и прогрессивисты, и фашисты были готовы пойти на такие жертвы. «Индивидуализм, — заявил Лаймен Эбботт, редактор журнала Outlook, — характерен для обычного варварства, а не для республиканской цивилизации»[212]. Прогрессивистские представления в духе Вильсона и Кроули о роли личности в обществе, несомненно, покажутся любому непредвзятому человеку, восприимчивому к либеральным ценностям, как минимум внушающими опасения и в некоторой степени фашистскими. Вильсон, Кроули и большая часть членов Прогрессивной партии не высказали бы принципиальных возражений относительно нацистской концепции Volksgemeinschaft («национальная общность») или нацистского лозунга «о приоритете общего блага перед благом отдельной личности». Как прогрессивисты, так и фашисты обязаны дарвинизму, гегельянству и прагматизму, которые служили подтверждением их мировоззрения. В самом деле, пожалуй, главный парадокс заключается в том, что согласно большинству критериев, применяемых нами для причисления людей и политических стратегий к тем или иным идеологиям в американском контексте — социальная база, демография, экономическая политика, обеспечение социальной помощью, — Адольф Гитлер оказывается слева от Вильсона.
Это тот самый «слон в углу», существование которого представители американских левых сил никогда не могли признать, объяснить или понять. Их неспособность и/или отказ признать этот факт исказили понимание нами нашей политики, нашей истории и самих себя. Либералы постоянно говорят: «У нас это невозможно» с хитрым прищуром или иронической улыбкой, намекая на то, что правые силы постоянно заняты разработкой фашистских схем. Между тем незамеченным остается вполне очевидный факт: это уже случилось здесь и вполне может повториться. Однако для того чтобы увидеть угрозу, вы должны посмотреть через левое плечо, а не через правое.
Глава 4. Фашистский «Новый курс» Франклина Рузвельта
Фактически страна не находилась в состоянии войны, но нация была охвачена военной лихорадкой, разжигаемой правительством. Бастующих членов профсоюзов подстрекали к бунту правительственные силы. В результате погибли 67 рабочих, некоторые из них были убиты выстрелами в спину. Молодой журналист писал: «Я ощутил всем своим существом, что такое фашизм». Ведущий ученый, ранее подписавший контракт с правительством, заявил студентам на лекции: «Суровое испытание войной раскрывает огромный потенциал молодежи»[213].
Посол Великобритании телеграфировал в Лондон, предупреждая свое правительство о нагнетаемой новым лидером нации истерии: «Он стал выражением и символом господствовавших в стране верноподданнических настроений и неиссякающей тяги к преклонению перед великими личностями». После посещения сельской глубинки один из советников президента сообщил о назревающем культе личности: «В каждом посещенном мною доме — будь то жилище мельника или безработного — я видел портрет президента... Он для них и Бог, и близкий друг одновременно; он знает каждого по имени, знает их поселок и мельницу, их скромную жизнь и проблемы. Пусть все остальное рухнуло, он с ними и не подведет»[214].
Хотя по своей природе этот кризис был экономическим, новый лидер страны пообещал «бросить все силы на борьбу со сложившейся чрезвычайной ситуацией, как если бы страна на самом деле подверглась нападению иноземных врагов...» «Я без колебаний беру на себя руководство этой великой армией нашего народа, ведущего решительное и планомерное наступление на наши общие проблемы», — заявил он.
Пожалуй, многие читатели уже догадались, что страна, о которой я веду речь, — Америка, а руководитель — Франклин Делано Рузвельт. Бунты рабочих происходили в Чикаго. Простодушный молодой репортер — это Эрик Севареид, один из титанов отдела новостей телерадиокомпании CBS. Ученый, который выступал перед студентами с горячей речью о преимуществах войны, — Рексфорд Тагуэлл, один из самых известных членов «мозгового треста», стоявшего за «Новым курсом». И конечно же, последняя цитата воспроизводит слова самого Франклина Делано Рузвельта из его инаугурационной речи.
За последние годы в либерализме наступил идеологический и интеллектуальный хаос, а американские либералы стали подобострастно преклоняться перед «наследием» Франклина Д. Рузвельта. Либеральные теоретики в области права превратили «Новый курс» во вторую конституцию. Ведущие журналисты опустились до жалкого идолопоклонства. Иногда даже возникает ощущение, что о достоинствах любой политической линии можно судить исключительно исходя из того, одобрил бы ее Рузвельт или нет. Воспринимается как данность, что республиканцы заблуждаются или даже принимают сторону фашистов всякий раз, когда хотят «раскритиковать» те или иные политические стратегии Франклина Делано Рузвельта.
Однако главная ирония заключается в том, что современные Гитлер или Муссолини ни в коем случае не стали бы отвергать «Новый курс». Напротив, они бы удвоили усилия. Это не значит, что «Новый курс» был плохим или «гитлеровским». Он был продуктом устремлений и идей той эпохи. А эти идеи и устремления — неотъемлемая часть фашистского момента в западной цивилизации. По словам Гарольда Икеса, министра внутренних дел и одного из главных архитекторов «Нового курса», Рузвельт в неофициальной беседе признал: «То, что мы делали в этой стране, по сути соответствовало тому, что делалось в России, и даже тому, что проводилось в жизнь в Германии под началом Гитлера. Но мы делали это упорядоченно». Не совсем понятно, каким образом упорядоченность освобождает политическую стратегию от обвинений в фашизме или тоталитаризме. В конце концов сходство стало настолько очевидным, что Икес был вынужден предупредить Рузвельта, что общественность все в большей степени склонна «неосознанно ставить в один ряд четыре имени: Гитлер, Сталин, Муссолини и Рузвельт»[215].
Мысль о том, что Франклину Рузвельту были свойственны некоторые фашистские тенденции, в настоящее время представляется значительно более спорной, чем в 1930-е годы, И в первую очередь потому, что фашизм стал отождествляться с нацизмом, а нацизм обозначает всякое зло. Так, например, заявление о том, что для Франклина Делано Рузвельта была характерна гитлеровская финансово-бюджетная политика, явно вызовет недоумение. Тем не менее фашистский оттенок «Нового курса» не только широко обсуждался, он нередко трактовался в пользу Рузвельта. Обе партии были едины в том, что для преодоления Великой депрессии требуются диктаторские и фашистские меры. Уолтер Липпман, выступавший в роли представителя американской либеральной элиты, сказал Рузвельту во время неофициальной встречи: «Ситуация критическая, Франклин. Возможно, выбора у тебя не будет, так что придется взять на себя диктаторские полномочия»[216]. Элеонора Рузвельт также считала, что, пожалуй, единственным решением для Америки может стать «благожелательный диктатор». И многочисленные представители либеральной интеллигенции, сосредоточившиеся вокруг администрации Рузвельта, конечно же, понимали, что необычайно популярный Бенито Муссолини ранее использовал те же самые методы, для того чтобы навести порядок в мятежной Италии. Ведь журнал New Republic — интеллектуальная родина «Нового курса» — освещал происходящее в Италии с интересом и нередко с восхищением.
Более того, «Новый курс» появился на свет на пике мирового фашистского момента, когда во многих странах социалисты все в большей степени становились националистами, а националисты выбирали не что иное, как социализм. Франклин Рузвельт не был фашистом. По крайней мере сам он себя таковым не считал. При этом многие из его идей и стратегий не отличались от фашистских. И сегодня мы имеем последствия фашизма и называем их проявлениями либерализма. Мы верим в единственно правильный курс нашей экономической политики, и в популистские обещания политиков, и в незыблемость «мозговых трестов», которые определяют наше общее будущее (где бы они ни находились — в Гарварде или Верховном суде). Фашистские убеждения, основанные на главенствующей роли государства в жизни общества, прочно укоренились в сознании американцев, часто как результат двухпартийного консенсуса.
Это не было «концепцией» Франклина Рузвельта, потому что у него вообще не было концепции. Он был порожден тем временем, когда коллективизм, патриотические призывы и прагматичный отказ от чрезмерной опоры на принципы казались естественным «путем будущего». Он почерпнул эти убеждения и идеи из «Прогрессивной эры», а также перенял их у своих советников, которые в свою очередь позаимствовали их там же. Если Вильсон был осознанным приверженцем тоталитаризма, то Рузвельт стал таковым автоматически, потому что у него не было лучших идей.
Прогрессивист с самого начала
Франклина Делано Рузвельта, который родился за год до Мусолини, в 1882 году, не готовили с детства к великим свершениям. Более того, его воспитание вообще не предполагало какой-то определенной цели. Этого доброго и покладистого ребенка всячески оберегали от нормального детства в нашем понимании. Опекавшие его сверх всякой меры родители Джеймс Рузвельт и Сара Делано планировали, что их сын будет вести такой же аристократический образ жизни, как и они сами. В детстве у Франклина было мало друзей среди сверстников. Будучи единственным ребенком в семье, он получал образование преимущественно дома, где его обучали швейцарские гувернеры (если вы помните, Вильсон тоже был на домашнем обучении). В 1891 году, когда его родители ездили на курорт в бисмарковской Германии, юный Франклин — «Франц» для своих одноклассников — посещал местную восьмилетнюю школу, где учился чтению карт и военной топографии. Впоследствии он с теплотой вспоминал эти занятия, в особенности изучение немецких военных карт.
Детские годы наложили отпечаток на всю дальнейшую жизнь Рузвельта и оказали влияние на формирование его личности. Когда Франклину было всего восемь лет, у отца случился первый сердечный приступ. Франклин был опечален и встревожен, но решил скрыть свои чувства от отца. По-видимому, именно этот момент положил начало привычке Рузвельта скрывать свои настоящие чувства за маской веселости и оптимизма. В течение всей жизни, и в особенности тогда, когда он был президентом, его друзья и враги в равной степени сетовали на то, что они никогда не могли быть уверены, что «он говорит то, что думает на самом деле». Таким образом они хотели деликатно объяснить, что никогда не могли быть уверены, что Рузвельт не лжет им в глаза. «Когда я разговариваю с ним, он говорит: “Отлично! Отлично! Отлично!” — жаловался Хьюи Лонг. — Но на следующий день к нему идет Джо Робинсон [политический противник Лонга], и он снова говорит: “Отлично! Отлично! Отлично!” Возможно, он говорит “отлично” всем»[217].
В 1896 году Франклин Делано Рузвельт покинул родительское гнездо и начал учиться в Гротоне. Этот переход дался ему нелегко. С раннего детства разговаривавший по-немецки со своей немецкоязычной гувернанткой и по-французски с домашними учителями, а также привыкший говорить по-английски высокомерно во всех других обстоятельствах Рузвельт раздражал остальных студентов. Однако со временем его твердая решимость приспособиться (почти маниакальное стремление быть похожим на других) дала свои плоды и его социальный статус повысился. Он не был особо одаренным студентом. Наибольших успехов ему удалось добиться в пунктуальности и аккуратности. На самом деле принято считать, что Франклин Рузвельт был почти «интеллектуальным карликом». Он редко читал книги, а те книги, которые он читал, никогда не были сложными. Историк Хью Галлахер пишет: «У него были разносторонние знания и много интересов, но он не отличался глубиной»[218].
Рузвельт очень завидовал своему двоюродному брату Тедди Рузвельту. Когда Франклин стал студентом Гарвардского университета в 1904 году, он начал копировать манеры «сохатого». Так же многие либералы, родившиеся в период всплеска рождаемости, например Билл Клинтон и Джон Керри, в молодости подражали Джону Ф. Кеннеди. Молодой Франклин, точь-в-точь как кузен Тедди, растягивал первый слог слова delighted («очень рад») восклицал bully! («браво!», «молодец!») и носил очки-пенсне.
Во время учебы в колледже Рузвельт тайно ухаживал за своей кузиной в пятом колене Элеонорой. Этот союз, на который многие смотрели скептически, на деле оказался мощным политическим симбиозом. Спокойный и мягкий Франклин искал в своей второй половине те качества, которые отсутствовали у него самого. Элеонора обладала твердыми убеждениями, стойкостью, серьезностью и чрезвычайно полезными связями. Она прекрасно уравновешивала «легковесность» своего мужа. Мать Франклина, которая держала своего сына в полном подчинении (отчасти посредством достаточно жесткого ограничения его расходов) пока не умерла в 1941 году, была против этого брака. Но видя решимость Франклина, она в конце концов дала свое согласие, и в 1905 году состоялась свадьба. Тедди, дядя Элеоноры, был посаженым отцом.
К тому времени Франклин Рузвельт учился на юридическом факультете Колумбийского университета. Он так и не получил степени, но сдал экзамен на право ведения адвокатской деятельности и стал вполне заурядным адвокатом. В 1910 году ему предложили баллотироваться в Сенат штата Нью-Йорк от округа Датчесс главным образом благодаря его состоянию, имени и связям. Председатель Демократической партии округа Эдвард Э. Перкинс согласился включить в список этого молодого щеголя в основном в надежде на то, что Рузвельт пополнит партийную казну и оплатит его собственную избирательную кампанию. На встречу с Перкинсом и другими партийными боссами Франклин Делано Рузвельт пришел в костюме для верховой езды. Перкинсу не понравился этот молодой аристократ, однако он согласился, сказав: «Вам придется снять эти желтые туфли и надеть нормальные брюки»[219]. Рузвельт охотно принял предложение и победил на выборах. В законодательном собрании штата, так же как в Гротоне и Гарварде, он обрел совсем немного друзей и считался «интеллектуальной посредственностью». Коллеги часто смеялись над ним, называя его в соответствии с инициалами Feather Duster Roosevelt[220].
Тем не менее Рузвельт зарекомендовал себя как прогрессивный сенатор штата и в 1912 году сравнительно легко переизбрала на второй срок благодаря дружбе с Луисом Хау, блестящим политическим советником, который показал ему, как расположить к себе представителей враждебно настроенных избирательных округов. Но он так и не доработал до окончания второго срока, так как был назначен Вудро Вильсоном на пост помощника министра военно-морских сил (ВМС). Франклин был в восторге от получения той же должности, с которой «дядя Тедди» (после брака с Элеонорой Теодор стал его дядей) начал стремительное восхождение на политический Олимп 15 годами ранее.
Франклин Рузвельт был приведен к присяге 17 марта 1913 года, в канун восьмой годовщины его свадьбы, в возрасте 31 года. И он немедленно стал следовать примеру Тедди. Его непосредственным начальником, покровителем и наставником был знаменитый прогрессивный журналист Джозефус Дэниэлс. И как министр военно-морских сил США, и как журналист Дэниэлс являл собой воплощение всех причудливых (с сегодняшней точки зрения) противоречий прогрессивного движения. Он был радикальным расистом, а принадлежавшие ему газеты в Северной Каролине регулярно публиковали страшно оскорбительные карикатуры и редакционные статьи о чернокожих. Но он также был преданным сторонником прогрессивных реформ — от государственного образования и здравоохранения до избирательного права для женщин. Давний политический союзник Уильяма Дженнингса Брайана Дэниэлс иногда высказывался за мир, а в некоторых случаях выступал в поддержку военных действий, хотя, обосновавшись в администрации Вильсона, он стал сознательным приверженцем «готовности», расширения флота и в конечном счете войны.
Тем не менее Дэниэлс был менее воинственным, чем его молодой помощник. Франклин Делано Рузвельт оказался очень способным и удивительно политически грамотным помощником министра. «Я всюду сую свой нос, — любил он говорить, — и против этого нет никакого закона»[221]. Особое удовольствие испытывал Рузвельт, когда в отсутствие начальника становился временным исполняющим обязанности министра. Он любил пышные военные церемонии и переполнялся гордостью во время салюта из 17 орудий в свою честь, а также проявлял необычайный интерес к разработке дизайна военного флага для своего министерства. Франклин Делано Рузвельт сразу же почувствовал себя одним из «больших флотских начальников» и постоянно огорчался из-за медлительности своего начальника в вопросах перевооружения.
С первых дней в должности помощника министра ВМС Рузвельт создал влиятельный союз с избирательными округами, всемерно привлекая их к реализации концепции мощного военного флота. Особое значение он придавал Военно-морской лиге, которую многие считали рупором производителей стали и финансовых кругов. Всего через месяц после своего назначения Франклин Делано Рузвельт на ежегодном съезде Лиги произнес речь в поддержку создания мощного военно-морского флота. Он даже выделил свой кабинет для проведения совещания по планированию деятельности Лиги. За то время, когда Соединенные Штаты сохраняли официальный нейтралитет, Франклин Рузвельт наладил связь с Тедди Рузвельтом, Генри Кэботом Лоджем и другими республиканскими «ястребами», критически настроенными по отношению к правительству Вильсона. Он даже допустил утечку секретных данных военно-морской разведки к республиканцам, с тем чтобы они могли обвинить правительство и Дэниэлса, в частности, в «неготовности»[222]. Сегодня такой шаг можно было бы назвать частью неоконсервативного заговора в правительстве Вильсона.
Рузвельт был свидетелем, сторонником и иногда участником всех злоупотреблений правительства в период Первой мировой войны. Нет никаких свидетельств того, что он с неодобрением относился к Министерству пропаганды Джорджа Крила или что у него были какие-либо значительные опасения относительно возможной войны за пределами государства или на родине. Он наблюдал за тем, как приспешники Крила активно способствовали формированию «культа Вильсона». Он одобрял притеснение диссидентов и искренне приветствовал законы о подстрекательстве и шпионаже. Он послал поздравительное письмо окружному прокурору, который успешно выиграл дело против четырех социалистов, распространявших антивоенные публикации. В своих речах он яростно выступал против бездельников, которые отказывались покупать облигации «Займа свободы» или в полной мере поддерживать войну[223].
После Первой мировой войны к стране медленно возвращалось здравомыслие. Но многие либералы оставались очарованными военным социализмом, полагая, что милитаризация общества в мирное время все еще необходима. Дэниэлс частично из желания напугать страну и склонить ее тем самым к ратификации Версальского мирного договора предупредил, что Америке, возможно, придется «стать супер-Пруссией». Правительство (с Дэниэлсом и Рузвельтом в первых рядах) настойчиво, но неудачно пыталось провести закон о призыве в армию в мирное время. Ему также не удалось добиться принятия нового закона о подстрекательстве в мирное время, подобного аналогичному закону, навязанному стране во время войны (с 1919 по 1920 год Конгресс рассмотрел приблизительно 70 таких законопроектов). И сразу после того как Вудро Вильсон покинул президентский пост, правительство освободило своих политических заключенных, включая Юджина В. Дебеа, который был помилован президентом-республиканцем Уорреном Хардингом. Однако же нация вышла из «войны, призванной сделать мир безопасным для демократии», менее свободной в своей стране и менее безопасной в мире.
В 1920 году покровители Франклина Делано Рузвельта попытались обеспечить на выборах президента победу Демократической партии, список которой возглавлял уважаемый прогрессивист Герберт Гувер, а Рузвельт стал кандидатом на пост вице-президента. Гувер принял эту идею, но план развалился, когда он решил объединиться с республиканцами. Несмотря на это, Рузвельт все-таки оказался в списке кандидатов от Демократической партии как партнер Джеймса М. Кокса из Огайо. Франклин Делано Рузвельт участвовал в выборах как верный соратник Вильсона, хотя сам Вильсон, физически и психологически подавленный и разбитый, довольно прохладно отнесся к его поддержке.
Однако другие сторонники Вильсона были в восторге. Вернувшийся в New Republic Уолтер Липпман, который работал с Рузвельтом в Комитете по заработной плате в 1917 году, послал ему поздравление, где назвал его выдвижение «лучшей новостью за целую вечность». Но данная кампания была обречена с самого начала из-за глубокой неприязни многих американцев к администрации Вильсона и прогрессивистам в целом.
После сокрушительного поражения на выборах Рузвельт занялся бизнесом. Затем, в 1921 году, он заболел полиомиелитом. Большую часть следующего десятилетия он пытался преодолеть инвалидность и занимался подготовкой своего возвращения в политику.
Рузвельт столкнулся с двумя экзистенциальными кризисами, которые на самом деле сводились к одному: как побороть болезнь и остаться политически жизнеспособным. Он мужественно переносил тяготы своего положения, пребывая преимущественно в своей резиденции в Уорм-Спрингс, которую купил из-за целебных источников в этом месте. Поэтому большую часть времени он не был на виду. Тем не менее он приехал на злополучный национальный съезд Демократической партии 1924 года и с трудом прошел на костылях к трибуне, чтобы выдвинуть Эла Смита в качестве кандидата на пост президента. После этого он не появлялся на публике до 1928 года, когда на следующем партийном съезде снова выступил с речью в поддержку Смита. Как это ни кощунственно звучит, но Рузвельту повезло. Находясь вдали от общественной жизни, он занимался разработкой политических планов в ожидании своего часа. Это помогло ему остаться незапятнанным в то время, когда влияние Прогрессивной партии резко уменьшилось.
Не будучи интеллектуалом, Рузвельт, тем не менее, обладал особым политическим чутьем. Он тонко чувствовал настроение людей и с легкостью добывал необходимую информацию в ходе обстоятельных бесед с представителями интеллигенции, активистами общественных движений, политиками и т. д. По свидетельствам биографов, он, как «губка, впитывал дух времени и почти никогда не затруднял себя глобальными философскими умозаключениями». Историк Ричард Хофстедтер утверждает, что «в большинстве случаев он предпочитал следовать общественному мнению». Во многих отношениях Рузвельт считал себя популяризатором интеллектуальных течений. Он говорил общими фразами, которые на первый взгляд казались приемлемыми, но при глубоком размышлении обессмысливались. Он мог быть (или по крайней мере казаться) приверженцем Джефферсона и Гамильтона, интернационалистом и изоляционистом, тем и другим и чем угодно. Герберт Гувер ворчал, что он был похож на «хамелеона на ткани в клетку»[224].
Такая приспособляемость Рузвельта обусловливалась не только его стремлением угодить людям. Большую часть президентского срока он прежде всего пытался найти компромисс, «средний путь». «Я думаю, ты согласишься, — писал он другу об одном из выступлений, — что эта речь достаточно смещена в направлении левого крыла, чтобы исключить предположения о том, что я уклоняюсь вправо»[225]. Однажды, когда ему дали два совершенно противоположных политических предложения, он просто приказал своим помощникам и министру почт Джеймсу Фарли привести их к общему знаменателю. Его любимый способ управления заключался в том, чтобы поручить решение одной и той же задачи двум разным людям или ведомствам.
При таком подходе обычно возникает следующая проблема: в конечном счете приходится искать точку между двумя постоянно смещающимися и неоднозначными горизонтами. Хуже то, что Рузвельт фактически превратил этот подход в концепцию управления в духе «третьего пути». По сути, это означало отсутствие определенности. Ни один вопрос о роли правительства или его полномочиях не был решен однозначно. И именно по этой причине как у консерваторов, так и у радикалов Франклин Делано Рузвельт вызывал целую гамму чувств: от разочарования до презрения. Для радикалов Рузвельт не был достаточно принципиален, чтобы предпринимать серьезные изменения, тогда как консерваторы считали его недостаточно принципиальным, чтобы отстаивать свою точку зрения. Он водрузил свой флаг на вершине морского буя, влекомого всеми течениями. К сожалению, эти течения несли его только в одном направлении: к этатизму, который был ведущей тенденцией того времени.
В настоящее время многие либералы с готовностью верят в миф, согласно которому «Новый курс» был последовательной, просвещенной, единой концепцией, которая обозначается бессмысленным словосочетанием «наследие Рузвельта». Это ерунда. «Рассматривать эти программы как результат некого единого плана, — пишет Раймонд Моули, правая рука Рузвельта в течение большей части «Нового курса», — тождественно предположению о том, что раскиданные в беспорядке чучела змей, спортивные фотографии, школьные флаги, старые кроссовки, плотничный инструмент, книги по геометрии и наборы химических реактивов в спальне мальчика могли появиться там по желанию дизайнера». Когда Элвина Хансена, влиятельного экономического советника президента, спросили (в 1940 году!), считает ли он основной принцип «Нового курса» «экономически оправданным», он ответил: «Я на самом деле не знаю, в чем состоит основной принцип “Нового курса”»[226].
Здесь мы видим первую из многочисленных черт сходства между либерализмом «Нового курса», итальянским фашизмом и немецким национал-социализмом, которые объединяет целый ряд общих исторических процессов и философских течений прошлого. Фашистские и нацистские ученые постоянно расхваливали «средний» или «третий путь» между капитализмом и социализмом. Программа Муссолини отличалась непоследовательностью. В ней наряду с положениями о свободной торговле и низких налогах продвигалась идея создания тоталитарного государственного аппарата. Еще до прихода к власти на вопрос об основных моментах его программы он всегда отвечал, что программы у него нет. «Наша программа состоит в том, чтобы управлять», — любили говорить фашисты.
Гитлер проявлял еще меньший интерес к политической или экономической теории, фашистской или какой бы то ни было. Он никогда не читал работу Альфреда Розенберга «Миф XX века» (Myth of the Twentieth Century), как и многие другие «классические» фашистские произведения. Легендарной стала и неспособность многих нацистов и фашистов пробраться сквозь хитросплетения нацистской библии Mein Kampf.
«Средний путь» выглядит как умеренный и нерадикальный. Он привлекателен тем, что связывается с идеологической непредвзятостью и свободомыслием. Однако с философской точки зрения «третий путь» — это не просто стремление к объединению противоположностей; он утопичен и авторитарен. Его утопический аспект проявляется в отрицании утверждения о том, что политика сводится к поиску компромиссов. Сторонники «третьего пути» заявляют, что выбор не может быть неверным. Типичный представитель этого направления обычно выражал свою позицию словами: «Я не согласен с тем, что получение X предполагает утрату Y». В соответствии с концепцией «третьего пути» мы можем жить одновременно при капитализме и при социализме и наслаждаться личной свободой и абсолютным единством. Фашистские движения утопичны по своей сути, потому что они, подобно коммунистическому и еретическому христианскому движениям, провозглашают, что правильная политика дает возможность устранить все противоречия. Это политическая песня сирены; жизнь невозможно сделать совершенной в силу несовершенства человека. Именно поэтому «третий путь» также является авторитарным. Он основывается на убеждении, согласно которому правильный человек (или, как считали последователи Ленина, правильная партия) может разрешить все эти противоречия простым усилием воли. Популистский демагог берет на себя роль родителя, который заявляет подобным детям массам, что он может сделать их жизнь «гораздо лучше», если они просто доверятся ему.
«Средний путь» Франклина Рузвельта вызвал совершенно особый резонанс, который, по-видимому, противоречил основам его философии. Многие коммунисты отмечали, что эта концепция берет начало в стремлении Бисмарка предупредить нарастание радикализма. Представители элиты, в том числе бизнесмены, по большей части были готовы мириться с тем, что некоторой разновидности «социализма» предстояло стать постоянной составляющей политической экономии. Политика «среднего пути» была тщательно спланированным ответом на вполне оправданный страх среднего класса перед «красной угрозой». Гитлер и Муссолини использовали этот страх при любой возможности; вероятно, они добились успеха именно благодаря ему. Подобно стопроцентному американизму, который выступал в качестве альтернативы большевизму в прогрессивистской Америке, фашисты предлагали доморощенный социализм, упорядоченный социализм, социализм с немецким или итальянским лицом вместо отталкивающего «иностранного» социализма.
Разработчики «Нового курса» Франклина Делано Рузвельта не прекращали повторять одну и ту же угрозу: если «Новый курс» не принесет успеха, то, что последует за ним, будет гораздо более радикальным. Как мы увидим, очень многие противники Рузвельта из числа «старых правых» на самом деле были бывшими прогрессивистами, убежденными, что «Новый курс» движется в сторону неправильного социализма. Тот факт, что «третий путь» был обращен одновременно к утопистам и антиутопистам, может показаться абсурдным, но не надо забывать, что главное требование к политическим программам заключается не в логической последовательности, а в их привлекательности для широких масс. Привлекательность всегда была отличительной чертой «третьего пути».
Немецкий и американский «Новые курсы», возможно, сводились к любым мерам, которые, по мнению Гитлера и Рузвельта, могли сойти им с рук. Но в этом и заключается общий принцип: государству должно быть позволено делать все, что угодно, пока для этого есть «веские причины». Это общий принцип фашизма, нацизма, прогрессивизма и либерализма в его современном понимании. Он представляет собой торжество прагматизма в политике, так как не признает никаких догматических ограничений власти правительства. На лидера и его ставленников не распространяются политические или демократические императивы. Они со священным трепетом обращаются к «науке» и к законам экономики подобно тому, как в давние времена служители храмов делали предсказания по внутренностям коз, но в силу неспособности адекватно оценить собственные «рывки в неведомое», они не понимают, что мораль и ценности вовсе не производные науки. Нравственные нормы и ценности создаются священниками, которые могут быть облачены как в черные одеяния, так и в белые лабораторные халаты.
Эпоха «экспериментов»
Со времен президентства Франклина Рузвельта, когда слово «либерализм» заменило слово «прогрессивизм» в качестве предпочтительного наименования для левоцентристских политических идей и деятельности, перед либералами стоит проблема поиска определения либерализма, выходящего за рамки убеждения, согласно которому федеральное правительство должно использовать свою власть только во благо. Герберт Кроули удачно выразил эту мысль, когда защищал New Republic от нападок критиков, которые заявляли, что ограниченная поддержка Муссолини со стороны редакции нарушает либеральные принципы журнала: «Если есть какие-то абстрактные либеральные принципы, мы не знаем, как их сформулировать. Мы также не признаем их достоверности, если они сформулированы другими. Либерализм в нашем понимании — это деятельность»[227]. Другими словами, либерализм — это все то, что делают или считают нужным делать либералы. И точка. Вера без дел мертва согласно Библии. Прагматичные либералы усвоили этот принцип, хотя утверждают, что ни во что не верят. Вот, в сущности, то, что немецкий историк Питер Вогт назвал свойственным прогрессивистам «избирательным сродством» с фашизмом. Или, как говорит Джон Патрик Диггинс: «Фашизм прежде всего обращался к прагматичному духу экспериментирования»[228].
Будучи президентом, Рузвельт хвастался, что не разделяет предвзятых мнений. Он измерял ценность идеи по достигнутым результатам. «Возьмите какой-нибудь метод и попробуйте его, — заявил он в своей знаменитой речи в Университете Оглторпа в мае 1932 года. — Если ничего не выйдет, честно признайте это и попробуйте другой метод. Но в любом случае пробуйте хоть что-нибудь». Единственной последовательной политикой, которой придерживался Рузвельт, являлось «смелое, настойчивое экспериментирование». Рузвельт и его союзники считали консерваторов противниками любых изменений, эгоистичными рабами существующего положения вещей. Но застой вовсе не консервативная позиция. Консерваторы считают, что изменения ради изменений тождественны глупости. Какие изменения? Какой ценой? Либералы и прогрессивисты были готовы пожертвовать чем угодно, включая традиции, индивидуализм и даже «устаревшие» понятия свободы. Все эти отжившие свое догмы подлежали сожжению на алтаре новой эпохи.
Когда Франклин Делано Рузвельт был избран президентом, достойными восхищения экспериментами считались следующие три события: большевистская революция, фашистский переворот в Италии и американский «эксперимент» в области военного социализма под руководством Вильсона. К 1932 году восхищение русским «социальным экспериментом» стало непременным атрибутом американского либерализма. За два десятилетия до этого точно так же воспевался прусский социализм по типу «сверху вниз». Попросту говоря, за Советским Союзом было будущее, и «эта система действительно работала».
К восхвалениям «русско-итальянского метода», который так назвал Линкольн Стеффене, имея в виду, что большевизм и фашизм не противоположные друг другу, а родственные движения, примешивалась ощутимая ностальгия по непродолжительному американскому «эксперименту» с военным социализмом под руководством Вудро Вильсона. «Мы запланировали войну!» — заявляли прогрессивисты, горевшие желанием воссоздать ту разновидность экономического и социального контроля, которая была у них при Вильсоне. Итальянцы и русские превзошли достижения Америки, продолжив свои «эксперименты» в области военного социализма, в то время как Америка отказалась от своего проекта, отдав предпочтение эгоистичной невоздержанности «бурных двадцатых». В 1927 году Стюарт Чейз сказал, что понадобится пять лет, чтобы понять, «суждено ли смелому и беспрецедентному эксперименту в Советском Союзе стать ориентиром экономического развития» для всего мира. Пять лет спустя он пришел к выводу, что доказательства налицо: Россия стала новым «золотым стандартом» в экономической и социальной политике. «Так почему, — вопрошал он в своей вышедшей в 1932 году книге под названием «Новый курс» (A New Deal), — все самое интересное в области преобразования мира должно достаться русским?»[229]
Комментарий Чейза свидетельствует об одном важном аспекте прогрессивного мышления. Каждый, кто когда-либо встречал студента-активиста, специализирующегося на разоблачениях журналиста или политика-реформиста, наверняка отмечал, какую важную роль скука и нетерпение играют в стремлении «переделать мир». Легко убедиться, что скука — полнейшая, невыносимая усталость от сложившегося положения вещей — послужила маслом, подлитым в огонь прогрессивизма, потому Что от скуки часто совершаются самые безрассудные затеи[230]. Подобно тому как нацисты черпали из романтизма большинство своих основополагающих идей, представители Прогрессивной партии в 1920-е годы, охваченные нетерпением и недовольством, стали воспринимать мир как глину, приобретающую форму под воздействием человеческой воли. Устав от духовного застоя эпохи, авангардисты убедили себя в том, что существующее положение вещей можно с легкостью сорвать, как износившийся занавес, и так же легко заменить его новым ярким гобеленом. В соответствии с этой логикой данное убеждение часто перерастало в анархизм и радикализм, родственные мировоззрения, согласно которым что угодно лучше того, что есть сейчас (примером может служить теория Ленина о том, что «чем хуже, тем лучше»).
Сильнейший страх перед застоем среди интеллигенции трансформировался в ставшую нормой жизни борьбу с предрассудками, в радикальное презрение к демократии, традиционной морали, массам и буржуазии и в поклонение перед «действием, действием, действием!», которому левые политические силы привержены по сей день. (В какой степени практикуемый современными левыми радикализм обусловливается детскими шалостями, которые сами они называют подрывной деятельностью?) Многие из острот Джорджа Бернарда Шоу кажутся стрельбой вслепую по чудовищу скуки, одолеть которое по силам только ницшеанскому сверхчеловеку. В разное время Шоу боготворил Сталина, Гитлера и Муссолини как величайших в мире «прогрессивных» лидеров, потому что они «совершали поступки» в отличие от руководителей этих «разлагающихся трупов», называемых государствами с парламентской демократией. Аналогичным образом Гертруда Стайн хвалила Хьюи Лонга за то, что он «не скучный»[231].
Или взять, например, Герберта Уэллса. В большей степени, чем у кого-либо другого, его литературный эскапизм и вера в науку как средство спасения человечества рассматривались как исключительное противоядие от охватившей Запад болезни. Летом 1932 года Уэллс выступил в Оксфордском университете с важной речью, обращенной к членам Национальной лиги молодых либералов, в которой он призвал к «возрождению либерализма из пепла подобно птице Феникс» под знаменем «либерального фашизма»[232]. Согласно его объяснениям фабианский социализм потерпел поражение потому, что не осознал необходимости поистине «революционных» усилий, направленных на полное преобразование общества. Его соратники социалисты понимали необходимость социализма, но в их понимании он оказывался излишне правильным. Их программа поэтапной «национализации газа, воды и школьных комитетов» была слишком скучной. Между тем традиционные демократические правительства были упадочными, слабыми и обыденными. Если либералы в 1930-е годы желали преуспеть там, где потерпели неудачу фабианцы (отмена частной собственности, полный переход к плановой экономике, сокрушение реакционных сил), им следовало усвоить этот урок.
Уэллс признался, что он провел около 30 лет — с самого начала «Прогрессивной эры», — перерабатывая идею либерального фашизма. «Мне никогда не удавалось полностью освободиться из плена его беспощадной логики», — объяснял он. — Мы видели фашистов в Италии и некоторое количество неуклюжих имитаций в других странах, а также мы были свидетелями появления на свет Коммунистической партии России, которая укрепила эту идею». Затем он перешел к сути. «Я хочу видеть либеральных фашистов, просвещенных нацистов».
«И я хочу, чтобы у вас не осталось ни малейших сомнений в отношении масштабности и сложности цели, которую я ставлю перед вами, — продолжал он, —
Эти новые организации предназначены не только для распространения определенных мнений... Дни дилетантства такого рода сочтены. Эти организации призваны заменить медленную нерешительность [демократии]. Мир устал от парламентской политики... Фашистской партией, в меру своих возможностей, в данный момент является Италия. Коммунистической партией, в меру своих возможностей, является Россия. Очевидно, что фашисты либерализма должны реализовать подобную задачу еще большего масштаба... Они должны начать свой путь как дисциплинированная секта и завершить его как поддерживающая организация преобразованного человечества»[233].
Восхваление фашизма в фантастике Уэллса завуалировано настолько слабо, что внимательный читатель наверняка будет смущенн. В «Войне в воздухе» (The War in the Air) немецкие дирижабли ликвидируют в Нью-Йорке «черное и зловещее многоязыкое население». В «Облике грядущего» (The Shape of Things to Come) ветераны великой мировой войны — в основном летчики и техники — в черных рубашках и военной форме борются за то, чтобы навязать обессиленным и недисциплинированным массам единое мировое правительство. В описанном Уэллсом отдаленном будущем историк смотрит в XX век и понимает, что новая, просвещенная «воздушная диктатура» берет свое начало в фашизме Муссолини («плохой хорошей вещи», как его называет историк), а также в нацизме и в советском коммунизме. В 1927 году Уэллс не смог удержаться от замечания: «В этих фашистах есть хорошее. Есть в них что-то смелое и благонамеренное». К 1941 году такой выдающийся человек, как Джордж Оруэлл, сделал следующий вывод: «Многое из того, что придумал и описал Уэллс, нашло реальное воплощение в нацистской Германии»[234].
Уэллс был страстным поклонником Рузвельта и частым гостем в Белом доме, особенно в течение 1934 года. Уэллс назвал Рузвельта «наиболее эффективным из всех возможных инструментов для реализации нового мирового порядка». В 1935 и 1936 годах он на короткое время стал приверженцем более привлекательного варианта фашизма, который предложили Хьюи Лонг и отец Кофлин (он описал диктатора из Луизианы как «Уинстона Черчилля, который никогда не был в Харроу»[235]). Однако к 1939 году Уэллс вернулся в лагерь сторонников Рузвельта, признав незаменимость его принципа «единоличного руководства».
Высказывания Уэллса в 1930-е годы довольно точно передают чувство воодушевления, переполнявшее левых на Западе в тот период. Неудивительно, что народ с ликованием встречал эпоху, когда авангард самопровозглашенных сверхлюдей станет управлять миром. Надо отметить, что в целом это было темное и пессимистичное время. Между тем принцип «чем хуже, тем лучше» подобно ветру в спину подгонял либералов, жаждущих переделать мир, поскорее закончить дрейф и положить начало эпохе владычества прогресса.
Как был украден фашистский гром
Герберт Гувер выиграл президентские выборы 1928 года во многом благодаря повальному международному увлечению экономическим планированием и коллективизацией. Он был миллионером, который сделал состояние своими руками, но в первую очередь его популярность объяснялась тем, что он имел опыт работы инженером. В 1920-е и 1930-е годы было распространено мнение, что инженеры — это специалисты высшей категории. Кроме того, люди верили, что инженеры способны сокрушить политические горы так же легко, как они разрушали реальные[236].
Как это ни парадоксально, Гуверу не удалось стать великим инженером, потому что он дал людям слишком много того, чего они хотели. Действительно, многие историки признают, что «Новый курс» во многих отношениях способствовал проведению политических преобразований Гувера более быстрыми темпами. Эти линии размываются еще больше, когда понимаешь, что Рузвельт начал свою деятельность на посту президента с восстановления бюджетного баланса за счет сокращения правительственных расходов. Конечно, «Новый курс» оказался еще более провальным в борьбе с Великой депрессией, но у Рузвельта было то, чего не хватало Гуверу: осознание «фашистского момента».
Как прогрессивизм особым образом завладел умами мировой общественности во втором десятилетии XX века, так в 1930-е годы западный мир оказался в пучине коллективистских настроений, идей и тенденций. В Швейцарии, Голландии, Бельгии и Финляндии квазифашистские партии набрали наибольшее число голосов. До 1934 года казалось возможным, что Освальд Мосли, лидер Британского союза фашистов (который, как и Муссолини, всегда считал себя представителем левых сил), может однажды переехать в дом под номером 10 по Даунинг-стрит[237]. Между тем в Соединенных Штатах национал-социалисты или прогрессивисты популистского толка, такие как Хьюи Лонг и отец Кофлин, пользовались огромной популярностью, и они больше, чем кто-либо другой, способствовали смещению политического центра тяжести в Америке влево.
Теперь мы вполне можем взяться за развенчание стойкого мифа, о том, что Лонг и Кофлин были консерваторами. Согласно догматическому утверждению просвещенных либералов, отец Чарльз Кофлин был отвратительном представителем правых сил (с Лонгом ситуация сложнее, но всякий раз, когда его наследие показывается с отрицательной стороны, он считается правым, а в тех случаях, когда он изображается как друг людей, он становится левым). Кофлина очень часто называют «правым радиопроповедником», которого проницательные, по общему мнению, эссеисты считают идеологическим дедушкой Раша Лимбо, Пэта Бьюкенена, Энн Коултер и других предполагаемых экстремистов[238]. Но Кофлин никогда не был консерватором или даже правым. Он был представителем левого лагеря почти во всех существенных отношениях.
Родившийся в 1891 году в городе Гамильтоне, провинция Онтарио, Кофлин был рукоположен в сан священника в 1916 году. Он преподавал в католических школах в Канаде в течение семи лет, а затем переехал в штат Мичиган. В конце концов он нашел место приходского священника в городе Ройал-Оусе, пригороде Детройта. Он назвал свою церковь Храмом Маленького Цветка в честь Святой Терезы. В первый раз Кофлин почувствовал вкус славы, когда боролся против местного Ку-клукс-клана, преследовавшего католиков, многие из которых были иммигрантами. Он уговорил руководство местной радиостанции позволить ему читать проповеди в прямом эфире. Успех пришел к нему почти сразу.
С 1926 до 1929 года Кофлин ограничивался почти исключительно религиозными темами, осуждением деятельности Клана, проповедями для детей и обличительными речами против «сухого закона». При этом его аудитория главным образом была сосредоточена в Детройте и его пригородах. Его звездный час настал во время обвала на фондовом рынке, когда он взялся за пропаганду популистской экономики. Он умело использовал царившие в умах беспокойство и недовольство текущим состоянием экономики, в результате чего количество радиостанций, транслирующих его передачи, постоянно росло. В 1930 году он подписал полугодовой контракт с телерадиовещательной компанией CBS, в соответствии с которым его проповеди транслировались 16 станциями по всей стране в течение «Золотого часа маленького цветка».
Кофлин почти мгновенно стал самым успешным политическим комментатором эпохи развития средств массовой информации. Его аудитория составляла более 40 миллионов слушателей, и он получал по миллиону писем каждую неделю. Он приобрел известность как один из самых мощных голосов в американской политике.
Его первой жертвой был известный консерватор Герберт Гувер. В октябре 1931 года в пламенной речи против экономики свободной конкуренции Кофлин заявил, что проблемы Америки не могут быть решены, если «мы будем ждать, пока все не устроится само собой, и рукоплескать избитым фразам сотен так называемых лидеров, которые беспрестанно уверяют нас, что дно достигнуто, а процветание, справедливость и милосердие уже совсем близко»[239]. Его излюбленными мишенями были «международные банкиры» и подобные им. Пожертвования и письма текли к нему рекой.
В ноябре, осуждая уверенность Гувера в том, что экономическая помощь должна осуществляться на местном уровне, Кофлин выступил со страстной речью в поддержку активной деятельности государства на общенациональном уровне. Он протестовал против федерального правительства, которое помогало голодающим бельгийцам и даже свиньям в Арканзасе, но не собиралось кормить американцев вследствие враждебного отношения к благосостоянию. Когда приблизились выборы президента, Кофлин стал изо всех сил поддерживать Франклина Делано Рузвельта. Этот левый теократ клялся, что «Новый курс» — это «курс Христа» и что американцам предстояло выбрать «Рузвельта или руины». Тем временем он писал кандидату от Демократической партии Рузвельту льстивые письма, в которых объяснял, что готов изменить свою позицию, если того потребует избирательная кампания.
Рузвельт не очень любил Кофлина, но решил не обманывать его ожиданий и постарался сделать так, чтобы священник уверился в его симпатии. Когда Рузвельт победил, во многом благодаря успешной стратегии, ориентированной на избирателей, живущих в городах и исповедующих католицизм, Кофлин решил, что сыграл важную роль в его избрании на пост президента. Рузвельт пригласил радиопроповедника принять участие в инаугурации, и Кофлин предположил, что избранный президент разделяет его взгляды. С течением времени он все в большей степени стал считать себя официальным представителем Белого дома, часто создавая серьезные проблемы, даже тогда, когда прославлял этого «протестантского президента, у которого больше смелости, чем у девяноста процентов католических священников в стране». «Капитализм обречен, и спасать его не имеет смысла», — так высказался Кофлин. В других случаях он выступал в поддержку «государственного капитализма» — словосочетания со множеством как фашистских, так и марксистских ассоциаций[240].
Действительно, экономический популизм Кофлина свидетельствует о том, что идеологические категории 1930-х годов употребляются неверно с тех самых пор. Как упоминалось ранее, Ричард Пайпс описывал большевизм и фашизм как родственные ереси марксизма. Оба они старались реализовать социализм того или иного рода, стереть классовые различия и отказаться от упаднических демократическо-капиталистических систем Запада. В некотором смысле описание Пайпса раскрывает суть проблемы не полностью. Хотя фашизм и большевизм на самом деле были ересями марксизма, к таковым можно отнести практически все коллективистские концепции в конце XIX и начале XX века, если считать еретическим учением сам марксизм. Все эти «измы», по утверждению философа Эрика Феглина, основывались на идее, согласно которой люди могли создавать утопии за счет перегруппировки экономических сил и политической воли. Марксизм, а точнее ленинизм, был наиболее влиятельным и могущественным среди этих ересей и в конечном счете определил облик левого движения. Однако фашизм можно считать разновидностью прикладного марксизма в такой же мере, как и ленинизм (равно как и технократию, фабианский социализм, корпоративизм, военный социализм, немецкую социал-демократию и т. д.). Коллективизм представлялся «волной будущего» в соответствии с названием одноименного трактата и позицией его автора Энн Морроу Линдберг[241]. В разных странах его именовали по-разному. «Фашистский момент», лежавший в основе «русско-итальянского метода», на самом деле означал пробуждение от «религиозного сна», в результате которого христианство должно было быть либо отвергнуто, либо «переосмыслено» в русле новой прогрессивной веры в способность человека совершенствовать мир[242].
С начала «Прогрессивной эры» и на протяжении 1930-х годов интеллектуальный и идеологический фон в этом более крупном лагере отличался неравномерностью. Борьба между левыми и правыми по большей части сводилась к противостоянию между левыми и правыми социалистами. Но практически все лагеря тяготели к той или иной гибридной версии марксизма, некоторому переосмыслению мечты в духе Руссо об обществе, управляемом общей волей. Только к концу 1940-х годов с возрождением классического либерализма под руководством Фридриха Хайека коллективизм всех мастей снова подвергся атаке правых, которые не разделяли ключевых положений левых сил. Положение усугублялось тем, что рудиментарные карбункулы наподобие Кофлина по-прежнему воспринимались как представители правого политического лагеря из-за их антисемитизма, или несогласия с Рузвельтом, или просто потому, что они казались левым слишком неудобными. Хотя взгляды сторонников Кофлина на основополагающие философские и политические вопросы позволяют отнести их к либеральной прогрессивной коалиции.
Сам Кофлин пользовался необычайной популярностью у демократов с Капитолийского холма, особенно у представителей прогрессивного блока — либералов, находящихся слева от Франклина Рузвельта, которые склоняли его ко все более агрессивным реформам. В 1933 году на правительство было оказано значительное давление в целях включения Кофлина в состав делегации США, отправляющейся на важную экономическую конференцию в Лондон. Десять сенаторов и семьдесят пять конгрессменов направили петицию Рузвельту, в которой утверждалось, что Кофлин пользовался «доверием миллионов американцев». Подавляющее большинство подписавшихся были демократами. Более того, многие прогрессивисты выступали за то, чтобы Рузвельт назначил Кофлина министром финансов.
Причем это обсуждалось вполне серьезно. На самом деле из всех американцев, пожалуй, именно Кофлин наиболее активно поддерживал те идеи, которые привели к международному экономическому национализму. Являясь последователем движения «за свободную чеканку серебряных монет», он был классическим левым популистом. Более «достойные» силы либерализма относились к нему во многом так же, как современная Демократическая партия относится к Майклу Муру. Раймонд Моули разместил статью Кофлина об инфляции в газете, которой он руководил. Министр сельского хозяйства Генри Уоллес сотрудничал с Кофлином, стремясь сделать финансовую политику правительства еще более левой. Следует помнить, что Уоллес (который был начальником Элджера Хисса в министерстве сельского хозяйства) впоследствии стал предпоследним вице-президентом Рузвельта, ведущим советским «полезным идиотом» в Соединенных Штатах, редактором New Republic и кандидатом в президенты от Прогрессивной партии на выборах 1948 года. В 1933 году Лига за независимые политические действия, крайне левое объединение интеллигенции под председательством Джона Дьюи, предложила Кофлину принять участие в своем летнем институте. Когда Уильям Аберхарт, «радикальный премьер» канадской провинции Альберта, посетил Кофлина в Детройте в 1935 году, чтобы обсудить с ним собственную левую экономическую программу, Аберхарт объяснил, что желает получить «самое авторитетное заключение на всем континенте»[243].
Кофлин выказывал огромное желание выступать в роли «сторожевого пса» Демократической партии. Демократ-центрист Эл Смит, первый католик, выдвинутый в качестве кандидата в президенты от одной из основных партий США, в конечном счете стал злейшим врагом «Нового курса» и самого Франклина Рузвельта. Большего Кофлину и не требовалось. Телеграфировав Рузвельту о своих намерениях, Кофлин вышел в эфир и обрушился на своего собрата по вере, заклеймив его как продажного агента Уолл-стрит.
Либералы часто дискутировали по поводу того, настолько ли велика польза от Кофлина, чтобы мириться с его демагогией. До конца 1934 года ответ на этот вопрос был неизменно положительным. Главным его защитником был монсеньор Джон Райан, самый уважаемый либеральный католический интеллектуал и богослов в Америке в то время. Когда Кофлин несправедливо и жестоко «порвал в клочья» Эла Смита, многие задумались, не пора ли дистанцироваться от радиопроповедника. Райан вмешался и заявил, что этот смутьян «делает благое дело». Либералы постоянно использовали эту фразу для защиты Кофлина, который якобы был представителем правых политических сил. Он выступал за правое дело, так стоило ли обращать внимание на его крайности?
На слушаниях в Конгрессе по вопросу финансовой политики Рузвельта Кофлин выступил с двухчасовой речью, которая повергла всех в шок. «Если Конгресс не поддержит финансовую программу президента, — бушевал он, — я предвижу в этой стране такую революцию, которая совершенно затмит Великую французскую революцию!» «Я чувствую настрой нации, — заявил он далее. — И я знаю, что Конгресс ответит: “Господин Рузвельт, мы согласны”». «Господь направляет президента Рузвельта, — добавил он. — Он и есть ответ на наши молитвы». Проповеди лидера религиозного левого фронта в Америке выглядели так, словно он заимствовал тезисы Муссолини: «Наше правительство по-прежнему поддерживает одно из худших зол пришедшего в упадок капитализма, согласно которому производство должно быть выгодным только для владельцев, капиталистов, а не для рабочих»[244].
Так как же Кофлин вдруг стал консерватором? Когда он стал персоной нон грата в глазах либеральной интеллигенции? В этом вопросе все предельно ясно: либералы стали называть Кофлина правым, когда он сместился еще дальше в сторону левого полюса.
Это утверждение кажется противоречивым лишь на первый взгляд. Кофлин стал злодеем в конце 1934 года исключительно потому, что решил, что Франклин Делано Рузвельт недостаточно радикален. Не вполне национал-социалистические политические стратегии Рузвельта исчерпали терпение Кофлина, как и его нежелание сделать священника «личным Распутиным». Тем не менее на протяжении почти года Кофлин продолжал демонстрировать лояльность президенту в таких высказываниях, как «я поддерживаю “Новый курс” еще сильнее, чем когда-либо». Наконец, 11 ноября 1934 года он объявил, что начинает формировать новое «народное лобби» — Национальный союз за социальную справедливость (NUSJ). Он выдвинул 16 принципов социальной справедливости в качестве платформы для этого нового суперлобби. Вот некоторые пункты из его программы.
• Каждый гражданин, желающий и способный работать, должен получать справедливую и достаточную годовую заработную плату, которая позволит ему обеспечивать свою семью всем необходимым, в том числе образованием.
• Я верю в национализацию тех общественных потребностей, которые по самой своей природе слишком важны, чтобы передавать их в управление частным лицам.
• Я верю в отстаивание права частной собственности, которое тем не менее следует контролировать на благо общества.
• Я верю не только в право трудящихся объединяться в профсоюзы, но и в обязанность правительства, которое пользуется поддержкой трудящихся, защищать эти организации от капиталистов и интеллигенции.
• Я верю в необходимость призыва на военную службу и привлечения средств в случае войны и для защиты нашего народа и его свободы.
• Я верю в приоритет прав человека по отношению к правам собственности. Я считаю, что в первую очередь правительство должно заботиться о бедных, потому что, как известно, богатые имеют достаточно возможностей позаботиться о себе самостоятельно[245].
В следующем месяце Кофлин опубликовал еще семь принципов, поясняющих, как именно Национальный союз за социальную справедливость намерен бороться с ужасами капитализма и современной торговли. Они были еще более антикапиталистическими по своей сути. Соответственно «обязанностью» правительства объявлялось ограничение «прибыли, получаемой в любых отраслях промышленности». Все рабочие должны гарантированно получать то, что сегодня мы называем прожиточным минимумом. Правительство должно гарантировать производство «продуктов питания, одежды, жилья, лекарств, книг и всех современных удобств». «Этот принцип, как справедливо отмечал Кофлин, противоречит теории капитализма»[246].
Эта программа преимущественно основывалась на господствующих воззрениях либерального крыла католической церкви, Фермерско-рабочей партии Миннесоты и Прогрессивной рабочей партии штата Висконсин, а также на основательно потасканных собственных постулатах Кофлина. В том, что на его экономическую доктрину повлияли разнообразные направления американского популизма, нет ничего удивительного. С самого начала основы идеологии Кофлина переплетались с воззрениями многих приверженцев «Нового курса», а также прогрессивистов и популистов. Он никогда не был связан с классическим либерализмом или с экономическими силами, которые мы обычно относим к правому лагерю.
Это возвращает нас к одному из самых вопиющих искажений в американской политической дискуссии. В 1930-е годы основным показателем принадлежности к правому крылу было несогласие с Франклином Рузвельтом и его «Новым курсом». Так, например, специализировавшегося на разоблачениях журналиста Дж. Т. Флинна часто называли «маяком старых правых» только потому, что он постоянно критиковал Франклина Делано Рузвельта и был членом партии «Америка прежде всего» (на самом деле он выступал как один из самых последовательных критиков зарождающегося фашизма «Нового курса»). Но Флинн не был классическим либералом. Флинн был обозревателем левого толка в New Republic на протяжении большей части 1930-х годов и осуждал Рузвельта за то, что он расценивал как смещение вправо. Что касается его изоляционизма, он считал себя попутчиком Нормана Томаса, главы американской Социалистической партии, Чарльза Бирда и Джона Дьюи.
Хулители сенатора Хьюи Лонга, типичного американского фашиста, тоже часто называли его правым, хотя представления либералов о нем менее однозначны. Многие демократы, в том числе Билл Клинтон, до сих пор восхищаются Лонгом и ссылаются на него. Лонг, по сути, вдохновил Синклера на написание книги «У нас это невозможно», а также Роберта Пенна Уоррена на создание намного превосходящего ее в художественном смысле романа «Вся королевская рать» (All the King’s Men). Его неординарная личность вызывает неоднозначную реакцию у либералов, которых восхищает его экономический популизм и отталкивает его грубая демагогия. Но, если не принимать всего этого во внимание, бесспорен по крайней мере тот факт, что Лонг атаковал «Новый курс» слева. Его «план распределения богатства» был социализмом для дураков чистой воды. Его хорошо документированное неприятие реальной Социалистической партии относилось не к идеологии, а исключительно к культуре и прагматике. «Скажите мне, пожалуйста, какой смысл выходить на выборы в качестве кандидата от Социалистической партии в современной Америке? — спрашивал Лонг корреспондента Nation. — Зачем быть правым, если это равносильно поражению?» Тем временем рядовые члены партии постоянно упрашивали Нормана Томаса проявлять больше симпатии к Кофлину и Лонгу. «Сейчас я социалист, — писал Томасу один из жителей Алабамы в 1935 году, — и был социалистом в течение 35 лет... [Лонг] говорит людям то же самое, что мы говорили им в течение жизни целого поколения. Они слушают его... а нас они считали глупцами»[247].
О фашистских взглядах Лонга однозначно свидетельствовали его презрение к нормам демократии («пришло время для всех хороших людей стать выше принципа») и абсолютная вера в то, что он подлинный выразитель народной воли. Его власть в Луизиане, безусловно, превосходила влияние обычного политического босса. Для него была характерна поистине органическая связь с избирателями, аналогов которой в Америке еще не бывало. «В Луизиане нет диктатуры. Там совершенная демократия, а совершенную демократию очень сложно отличить от диктатуры», — говорил Лонг[248]. Как ни странно, многие либералы и социалисты в силу присущих им элитарности и космополитизма видели черты фашизма в политике Донга. Лонг не нуждался в поддержке ученых экспертов и элит. Ему был присущ неразбавленный популизм такого сорта, который отметает догмы и превыше всего ставит мудрость толпы. Он обращался к нарциссизму масс, заявляя, что благодаря своей воле к власти может сделать «каждого человека царем». Его отношения с народом походили на отношения между Гитлером и нацией в большей степени, чем это было свойственно Рузвельту. Соответственно многие либералы воспринимали это как угрозу, причем совершенно справедливо.
В Белом доме Лонг и Кофлин наряду с другими популистскими и радикальными движениями и лидерами, включая кампанию Эптона Синклера на выборах губернатора Калифорнии в 1934 году и небывалое «пенсионное движение» доктора Фрэнсиса Таунсенда, охватившее страну в 1930-е годы, воспринимались как опасная угроза для власти разработчиков «Нового курса»[249]. Но только приверженцы исключительно небрежного и искаженного способа мышления, наподобие тех, кто заявляет, что правый, значит, плохой, а плохой, значит, правый, могли бы называть таких радикалов и коллективистов не представителями левого движения, а как-либо иначе.
В 1935 году Рузвельт был достаточно сильно обеспокоен разнообразными угрозами слева и поэтому приказал провести тайные выборы. Результаты просто ошеломили многих из его стратегов, которые пришли к выводу, что Рузвельт может проиграть на выборах, если Лонг станет баллотироваться от какой-либо третьей партии. Рузвельт признался своим помощникам, что он надеется «украсть гром Лонга», позаимствовав хотя бы некоторые пункты его программы.
Каким образом Франклин Делано Рузвельт намеревался «украсть гром» зарождающихся фашистских и коллективистских движений в Соединенных Штатах? В первую очередь предложив населению программу социальной защиты. Хотя о силе авторитета, заработанного таким способом, сегодня много и горячо спорят, почти никто не сомневается, что национал-социалистический толчок снизу (полученный от Лонга, Кофлина и Таунсенда) способствовал левому уклону Рузвельта в период его «вторых ста дней». Франклин Делано Рузвельт как сторонник «третьего пути» перенял у Бисмарка готовность идти на компромисс с радикалами, для того чтобы сохранить власть. Например, именно тогда, когда популярность Лонга достигла максимума, Рузвельт неожиданно пополнил свой список «обязательных к принятию» законодательных предложений законопроектом, призванным «потрясти богатых». Неизвестно, какое развитие данная ситуация получила бы в дальнейшем, потому что в сентябре 1935 года Лонг был убит. Что касается Кофлина, то его положение осложнилось в результате того, что он стал выступать за еще более радикальные меры в экономике и с еще большей симпатией относиться к натуральному чужеземному фашизму Муссолини и Гитлера. Его антисемитизм, очевидный еще тогда, когда Рузвельт и либеральные сторонники «Нового курса» поддерживали его, тоже становился все более выраженным. Во время войны Рузвельт приказал своему Министерству юстиции шпионить за Кофлином, чтобы заставить его замолчать.
Ученые продолжают строить догадки о том, сколько голосов могли бы получить Лонг, приверженцы Кофлина и все остальные, если бы Лонг остался в живых и стал соперником Рузвельта на выборах, но в целом это не столь важно. Эти популисты левого толка были выразителями стремлений народных масс. Тот факт, что Кофлину удалось привлечь 40 миллионов слушателей в стране с населением 127 миллионов и что его аудитория была особенно велика, когда он называл «Новый курс» «курсом Христа», позволяет получить некоторое представление о природе привлекательности Рузвельта и Кофлина. Даже те адепты «Нового курса», которые презирали Лонга и Кофлина, понимали, что, если не «украсть их гром», «Хьюи Лонг и отец Кофлин могут прийти к власти». Кроме того, основополагающие идеи и мотивы «уличных», или «местных», фашистов наподобие Лонга и Кофлина и более утонченных интеллектуалов из администрации Рузвельта несколько различались.
Вспомнить о забытом человеке
Можно с легкостью провести множество хронологических параллелей между событиями, произошедшими за время правления Гитлера и Рузвельта. Но то, что оба они пришли к власти в 1933 году, не простая случайность. Хотя они были очень разными людьми, в их представлениях о политике в эпоху бурного развития средств массовой информации было немало общего. Своим успехом на выборах оба были обязаны кризисному состоянию традиционной либеральной политики, а также эти два мировых лидера максимально эффективно использовали новые политические технологии. Рузвельт сделал своим главным инструментом радио, а фашисты очень быстро переняли его опыт. В нарушение всех традиций Франклин Делано Рузвельт полетел на национальный съезд Демократической партии на самолете, чтобы согласиться с выдвижением своей кандидатуры. Сам факт, что он полетел на самолете (человек действия!), вместо того чтобы сидеть на крыльце и ждать новостей, был способен привести в восхищение. Гитлер также необыкновенно удачно использовал полеты на самолетах в своей политической карьере, что прекрасно показано в фильме Лени Рифеншталь «Триумф воли» (Triumph of the Will). Если убрать тексты с советских, нацистских и американских пропагандистских плакатов эпохи «Нового курса» и аналогичных им произведений искусства, то почти невозможно определить, кто перед нами в образе рабочего с бугрящимися бицепсами: новый советский человек, новый нацист или представитель «Нового курса». Макс Лернер отмечал в 1934 году: «Самым жестоким ударом, который диктатуры нанесли по демократии, был сделанный нам комплимент, заключавшийся в использовании (и совершенствовании) наших самых эффективных средств убеждения и свойственного нам презрения к доверчивости масс»[250].
Но более всего Рузвельт и Гитлер сошлись в стремлении угодить «забытому человеку». Успех фашизма почти всегда зависит от поддержки «неудачников» в эпоху значительных изменений в экономике, науке и технике. Менее обеспеченная часть среднего класса — люди, которым уже есть что терять, — это ударные части фашистского электората (Ричард Хофстедтер считал это «опасение утратить свой статус» основной составляющей квазифашистской природы прогрессивизма). Популистские призывы к выступлениям против «жирных котов», «международных банкиров», «экономических роялистов» и т. д. — стандартные приемы фашистских демагогов. Гитлер и Муссолини, несомненно, были более искусными демагогами, чем Франклин Делано Рузвельт, но и сам он прекрасно понимал «магическую» силу таких призывов. Он не видел ничего плохого в приписывании злых намерений тем, кто отказывался его поддерживать, и, конечно же, наслаждался своей ролью благородного защитника прав маленького человека.
Очевидно, что в этом не стоит видеть только цинизм. Рузвельт на самом деле заботился о маленьком человеке — рабочих и подобных им. Но так же поступал и Гитлер. Более того, существует достаточно большая группа ученых, которые доказывают, что «Новый курс Гитлера» (выражение Дэвида Шенбаума) был не только похожим на детище Рузвельта, но даже более изобильным и успешным. Согласно основным показателям Германия добилась процветания под руководством Гитлера. Уровень рождаемости с 1932 по 1936 год увеличился на 50 процентов; количество браков увеличивалось до тех пор, пока Германия не заняла лидирующего положения в Европе в 1938-1939 годах. Число самоубийств с 1932 по 1939 год сократилось на 80 процентов. В недавно вышедшей книге немецкого историка Гетца Али Гитлер описывается как «благодетельный диктатор», потому что ему удалось возродить в немцах уверенность[251].
Когда Гитлер стал канцлером, он тоже «подобно лазеру сфокусировался» на экономике, покончив с безработицей гораздо быстрее, чем Рузвельт. На вопрос New Yourk Times, на самом ли деле создание новых рабочих мест его приоритетная задача, Гитлер возбужденно ответил: «Абсолютно! Прежде всего я думаю о тех гражданах Германии, которые пребывают в отчаянии и которые чувствовали безысходность в течение многих лет... Что может быть важнее?» Гитлер говорил, что он большой поклонник Генри Форда, хотя и не упоминал о его исключительном антисемитизме. Форд импонировал Гитлеру тем, что он «производит для масс». «Этот его маленький автомобиль, — говорил Гитлер, — сделал больше, чем что-либо другое, для уничтожения классовых различий»[252].
Муссолини и Гитлер также считали, что они идут в одном направлении с Рузвельтом. На самом деле они приветствовали «Новый курс» как родственное явление. Немецкая пресса была особенно щедрой на похвалы в пользу Франклина Делано Рузвельта. В 1934 году официальная газета нацистской партии Volkischer Beobachter описывала Рузвельта как человека с «безупречным, чрезвычайно ответственным характером и непоколебимой волей» и «сердечного народного вождя с глубоким пониманием социальных потребностей». В газете подчеркивалось, что Рузвельт посредством своего «Нового курса» устранил «ничем не сдерживаемое безумие рыночных спекуляций» предыдущего десятилетия, приняв «национал-социалистические элементы мышления в своей экономической и социальной политике». После первого года у власти Гитлер послал Франклину Рузвельту неофициальное письмо, приветствуя «его героические усилия в интересах американского народа». «Весь немецкий народ с интересом и восхищением следит за успешной борьбой президента против экономического кризиса», — писал он. Он также сказал американскому послу Уильяму Додду, что «согласен с мнением президента, что чувство долга, готовность к жертвам и дисциплина должны преобладать у всего народа». «Эти моральные требования, которые президент предъявляет к каждому гражданину Соединенных Штатов, — подчеркивал Гитлер, — также стали квинтэссенцией философии немецкого государства, которая находит выражение в лозунге “Общественное благо превыше интересов отдельных личностей”»[253].
Муссолини с еще большим усердием характеризовал «Новый курс» как зарождающееся фашистское явление. В своем обзоре книги Рузвельта «Глядя вперед» (Looking Forward) он даже заявил: «Этот парень один из нас. Обращение к решительности и мужской трезвости молодежи страны, при помощи которого Рузвельт призывает своих читателей к борьбе, напоминает способы и средства, которыми фашизм пробудил итальянский народ». Муссолини писал об уверенности Рузвельта в том, что экономику нельзя «бросать на произвол судьбы», и о том, что, доказывая это на практике, американский президент действует как фашист. «Настроение, сопровождающее эти резкие изменения, без сомнения напоминает фашизм», — писал он. (Позднее в своем обзоре книги Генри Уоллеса он заявил: «Куда направляется Америка? Эта книга не оставляет сомнений, что она находится на пути к корпоративизму, экономической системе текущего столетия».) Volkischer Beobachter также писала о том, что «многие места в его книге “Глядя вперед” могли бы быть написаны национал-социалистом. Во всяком случае можно предположить, что он чувствует значительное родство с национал-социалистической философией»[254].
В известном интервью с Эмилем Людвигом Муссолини подтвердил свое мнение о том, что «Америка имеет диктатора» в лице Франклина Делано Рузвельта. В эссе, написанном для американской аудитории, он удивлялся тому, как силы «духовного возрождения» уничтожают старую догму, согласно которой демократия и либерализм признавались «бессмертными принципами». «Сама Америка отказывается от них. Рузвельт мыслит, действует, отдает приказы независимо от решений или желаний Сената или Конгресса. Между ним и народом больше нет посредников. Парламента больше нет, зато есть “генеральный штаб”. Теперь одна партия, а не две. Единоличная воля заглушает голоса несогласных. Такое положение вещей не имеет ничего общего с какой-либо демократической или либеральной концепцией». В 1933 году члены пресс-службы Муссолини признали, что эти заявления начинают вредить их предполагаемому товарищу по оружию. Они издали приказ: «Не следует подчеркивать фашистскую сущность политики Рузвельта, потому что эти комментарии незамедлительно передаются в Соединенные Штаты по телеграфу и используются его врагами для нападок». Тем не менее восхищение было взаимным на протяжении нескольких лет. Рузвельт отправил своему послу в Италии Бреккинриджу Лонгу письмо, касающееся «этого замечательного итальянского джентльмена», в котором говорилось: Муссолини «действительно заинтересован в том, что мы делаем, и я очень заинтересован и глубоко впечатлен тем, что ему удалось совершить»[255].
Норман Томас, ведущий социалист Америки, предложил, пожалуй, самую удачную формулировку данного вопроса: «В какой степени экономика фашизма возможна без присущей ему политики?»[256].
Однако самое разительное сходство между нацистской Германией, Америкой времен «Нового курса» и фашистской Италией не относилось к экономической политике. Это было их общее прославление войны.
Фашистские «Новые курсы»
Основная ценность оригинального фашизма, по мнению большинства наблюдателей, заключалась в навязывании обществу военных ценностей. (Такое восприятие — или заблуждение в зависимости от того, как оно формулируется, — имеет поистине решающее значение для понимания популярности фашизма, поэтому я еще не раз буду возвращаться к нему в этой книге.) Главная польза от войны для адептов социального планирования состоит не в завоеваниях или смерти, а в мобилизации. Свободные общества дезорганизованы. Люди в большей или меньшей степени занимаются своими делами, что может быть совсем некстати, если вы пытаетесь планировать всю экономику в каком-то зале заседаний. Война приносит согласованность и единство цели. Обычные правила поведения временно отменяются. Теперь можно реализовывать свои планы: строить дороги, больницы, дома. Граждане и учреждения страны были обязаны «делать свое дело».
Многие прогрессивисты, вероятно, предпочли бы какой-нибудь другой организационный принцип, в связи с чем Уильям Джеймс говорил о моральном эквиваленте войны. Он хотел получить все ее преимущества («социальные возможности» войны по Дьюи) без сопутствующих потерь. Значительно позже левые стали рассматривать буквально все, от защиты окружающей среды и глобального потепления до здравоохранения и «многообразия», в качестве эквивалентов войны, позволяющих объединить общество под управлением экспертов. Но в то время прогрессивисты просто не могли придумать ничего другого, что позволило бы достичь этих целей. «Боевые добродетели, — гласит знаменитое высказывание Джеймса, — должны стать “прочным цементом” для американского общества: бесстрашие, презрение к мягкости, отказ от личных интересов, подчинение командам по-прежнему должны оставаться фундаментом, на котором строятся государства»[257].
В Италии многие из первых фашистов были ветеранами, которые носили полувоенную форму. Футуризм как фашистское направление в искусстве прославлял войну в прозе, поэзии и красках. Муссолини символически и буквально был подлинным певцом битвы. «Только война приводит все человеческие силы в высшее напряжение и ставит печать благородства на те народы, которые имеют мужество принять ее вызов», — так звучит его высказывание в духе Джеймса, вошедшее в статью «Итальянской энциклопедии», посвященную фашизму. Между тем с момента основания Германской лиги за искоренение процентного рабства нацисты всегда были военизированной организацией, полной решимости вернуть чувство солидарности, объединявшее нацию во время «великой войны», «окопного социализма».
Тем не менее не каждый фашист, рьяно выступавший в поддержку войны, хотел воевать. Муссолини начал войну только через 16 лет после своего прихода к власти. Даже его эфиопское приключение было обусловлено желанием оживить слабеющие успехи фашизма на родине. Гитлер также начал наращивать военную мощь государства не сразу. Более того, стремясь укрепить свою власть, он культивировал образ миротворца (образ, который импонировал многим западным пацифистам). Но мало кто станет оспаривать тот факт, что он рассматривал войну как средство и как цель одновременно.
С избранием Франклина Рузвельта прогрессивисты, ранее стремившиеся переделать Америку посредством военного социализма, снова оказались у власти. Хотя на словах они отказывались от догм, их убеждение в том, что Первая мировая война была успешным «экспериментом», отличалось крайним догматизмом. Разве опыт Советского Союза и фашистской Италии в 1920-е годы не свидетельствовал о том, что Америка упустила свой шанс, отказавшись от военного социализма?
Во время кампании Франклин Делано Рузвельт обещал использовать свой опыт в качестве «архитектора Первой мировой войны» для преодоления Великой депрессии. Еще до своего выдвижения он приказал помощникам подготовить краткое изложение чрезвычайных полномочий президента в военное время. Он попросил Рексфорда Тагуэлла выяснить, может ли он использовать Закон о торговле с врагом от 1917 года для запрещения в одностороннем порядке экспорта золота, и потребовал от своего кандидата на пост генерального прокурора гарантий, что независимо от того, какие контраргументы сможет привести Министерство юстиции, Рузвельт будет вправе делать абсолютно все, что сочтет необходимым в этом отношении. Инаугурационная речь Рузвельта изобиловала военными метафорами: «Без колебаний я беру на себя руководство этой великой армией нашего народа, который полон решимости вести последовательное наступление на наши общие проблемы».
Согласно документу, обнаруженному обозревателем Newsweek Джонатаном Альтером, сотрудники администрации Рузвельта приготовили радиообращение к Американскому легиону, которое должно было выйти в эфир сразу после его инаугурационной речи. В этом обращении Франклин Делано Рузвельт должен был сказать ветеранам, что они призваны стать его собственной «непредусмотренной конституцией» «частной армией» (слова Альтера). «Как новый главнокомандующий в соответствии с данной вами присягой, — говорилось в подготовленной заранее речи Рузвельта, — я оставляю за собой право командовать вами на любой стадии развития ситуации, с которой нам с вами придется столкнуться»[258].
Хотя Альтер признает, что эта «речь диктатора — явный захват власти» и что она свидетельствовала о том, что Рузвельт и его приспешники намеревались сформировать «временное объединение ветеранов, для того чтобы ввести некоторое подобие военного положения», он приуменьшает важность своего открытия[259]. Он забывает о наследии Американской защитной лиги, которое Рузвельт наверняка одобрял. Он не упоминает, что в течение некоторого времени представители Американского легиона считали себя «американскими фашистами», и не принимает во внимание, что Рузвельт, который охотно обращался к помощи ФБР и других ведомств для организации слежки за несогласными, курировал использование Американского легиона в качестве полуофициального подразделения ФБР, призванного наблюдать за гражданами Америки.
Почти каждая программа раннего «Нового курса» «уходит корнями в политику войны, экономику войны или эстетику войны, которые восходят к Первой мировой войне». Управление ресурсами бассейна Теннесси, ключевой общественный проект «Нового курса», основывался на энергетическом проекте Первой мировой войны. (Как объяснил Рузвельт, когда он официально попросил Конгресс разработать данный проект, «это развитие энергетики в дни войны логически ведет к национальному планированию».) Верховный суд отстоял конституционность Управления ресурсами бассейна Теннесси отчасти со ссылкой на чрезвычайные полномочия президента в военное время.
Многие учреждения эпохи «Нового курса», знаменитый «алфавитный суп»[260], в основном занимались той же деятельностью, что и различные организации и комитеты, созданные 15 лет назад во время войны. Национальная администрация восстановления создавалась явно по образцу Военно-промышленного управления времен Первой мировой войны. Комиссия по ценным бумагам и биржевым операциям была учреждена как дополнительное ведомство комитета по регулированию выпуска ценных бумаг совета управляющих Федеральной резервной системы. Корпорация финансирования реконструкции была обновленной версией корпорации военных финансов. Реализацией инициативы государственного жилищного строительства Рузвельта руководил основатель жилищной политики в эпоху Первой мировой войны. Во время войны труженикам войны требовалось государственное жилье. С приходом к власти Франклина Делано Рузвельта тружеником войны стал, по сути, каждый.
Пожалуй, не имеет смысла рассказывать, насколько все это походило на события в нацистской Германии. Но стоит отметить, что в течение первых двух лет реализации американского и немецкого «Новых курсов» именно в Америке внедрение милитаризма и перевооружение происходили с бешеной скоростью, в то время как Германия тратила на военные нужды сравнительно мало (хотя Гитлеру пришлось столкнуться с серьезными ограничениями в области перевооружения). Управление общественными работами оплатило создание авианосцев Yourktown и Enterprise, а также четырех крейсеров, некоторого количества небольших кораблей и более ста военных самолетов, размещенных на 50 военных аэродромах. Возможно, одной из причин распространенного убеждения, согласно которому «Новый курс» положил конец Великой депрессии, был необычайно плавный переход от «Нового курса» к полномасштабной военной экономике.
Представители администрации Вильсона присутствовали на всех уровнях бюрократического аппарата Рузвельта. Это неудивительно, потому что правительство Рузвельта было первым демократическим правительством после Вильсона. Тем не менее создателям «Нового курса» требовались не просто военные из запаса, им были нужны ветераны войны. Когда Хольгер Кахилл сначала отклонил предложение возглавить Федеральный проект развития искусств, один из коллег объяснил ему: «Приглашение от правительства на такую должность равносильно приказу. Это по сути призыв на военную службу»[261].
Правительственные учреждения не только организовывались на военный лад, их сотрудники говорили на военном жаргоне. Работа в полевых условиях стала работой «в окопах». Младших сотрудников стали называть «сержантами». Новые федеральные программы «шли в атаку». И так далее.
Пожалуй, ни одна государственная программа не воплощала новой воинственной направленности правительства лучше, чем Гражданский корпус охраны природных ресурсов. Этот Корпус, который стал, возможно, самой популярной организацией «Нового курса», мобилизовал около 2,5 миллионов молодых людей на прохождение практически полувоенной подготовки. Члены Гражданского корпуса в основном были заняты в «лесной армии», очищая лес от мертвых деревьев и т. п. Новобранцы собирались на армейских призывных пунктах; носили форму Первой мировой войны; перемещались по стране в воинских эшелонах; подчинялись армейским сержантам; должны были стоять по стойке «смирно», ходить строем, использовать военный жаргон (в том числе называть старших по званию «сэр»), читать газету Гражданского корпуса, прообразом которой стала Stars and Stripes[262], засыпать в армейских палатках по сигналу «Отбой» и просыпаться по команде «Подъем».
После того как Гражданский корпус охраны лесных ресурсов был одобрен Конгрессом, Рузвельт сообщил: «Это отличное достижение, которое, на мой взгляд, можно сравнить с мобилизацией, осуществленной в 1917 году». Спикер Палаты представителей хвастался успехом Гражданского корпуса охраны лесных ресурсов: «Они также проходят военную подготовку, по завершении которой становятся более здоровыми и развитыми умственно и физически, а также более полезными гражданами, и если когда-нибудь нам придется участвовать в новой войне, они будут ценнейшей основой для нашей армии»[263]. Между тем нацисты создавали идентичные лагеря практически в тех же самых целях.
Адепты социального планирования в первую очередь стремились занять молодых людей на оплачиваемых общественных работах, чтобы убрать их с рынка труда. В обращениях к гражданам подчеркивалась необходимость укрепить физическое и моральное состояние недавно сформированной армии. Франклин Делано Рузвельт говорил, что лагеря — это идеальный способ выманить молодежь «из городских переулков». Гитлер обещал, что благодаря его лагерям молодежь перестанет «беспомощно разлагаться на улицах». Оправдание различных «битв» Муссолини («Битвы за хлеб» и подобных ей) звучало практически так же.
Вторая задача сводилась к преодолению классовых барьеров. Причем этот аспект программы привлекает либералов и сегодня. Такая необходимость как тогда, так и сейчас обосновывается отсутствием общих институтов, порождающих чувство коллективной ответственности. Этот вывод небезоснователен. Но интересно, что нацисты считали его гораздо более убедительным, чем адепты «Нового курса». Он лег в основу не только их программы трудовой повинности, но и внутренней политики в целом[264].
Гораздо более шокирующим примером милитаризации американской жизни стала Национальная администрация восстановления во главе с Хью Джонсоном по прозвищу Железные Штаны, названным журналом Time «человеком 1933 года». Генерал Джонсон был драчливым скандалистом, который угрожал американцам, не желающим сотрудничать с «Новым курсом», «сильным ударом в нос». Посредник между министерством обороны и военно-промышленным управлением и руководитель первого в истории Америки призыва на военную службу во время Первой мировой войны (которую он позже назвал «отличной школой для “Нового курса”»), Джонсон был убежден, что Америке требовалась еще одна инъекция военного пыла и страха. Немногие общественные деятели, включая Джозефа Маккарти, были в большей степени склонны подвергать сомнению патриотизм своих оппонентов. При каждом удобном случае Джонсон заявлял о том, что война с Великой депрессией не отличается от боевых действий. «Это война смертоносная и более опасная, чем любой другой кризис в нашей истории», — писал он. Новая служба проникла во все без исключения сферы жизни. «На этот раз нашу страну спасут женщины в домах, а не солдаты в военной форме, — заявил он. — Они пойдут в атаку, которая приведет их к такой же великой победе, как в Аргонском лесу. Это решительный час для домохозяек. Их боевой клич таков: “Покупай теперь под синим орлом!”»[265].
Синий орел был патриотическим символом согласия, который все компании должны были вывешивать на своих дверях вместе с девизом «Мы вносим свою лепту». Эту фразу правительство использовало так же, как немцы использовали лозунг «Gemeinnutz geht vor Eigennutz»[266][267]. Почти полностью стершегося из общественного сознания в настоящее время стилизованного индейского орла, сжимающего связку молний в одной лапе и зубчатое колесо в другой, в американских и немецких газетах часто сравнивали со свастикой или с орлом немецкого рейха. Джонсон потребовал создать целую армию полуофициальных информаторов, от членов профсоюзов до бойскаутов, которые должны были следить за исполнением «программы синего орла». Его тоталитарный подход был очевиден. «Когда каждая американская домохозяйка осознает, что синий орел на всех вещах, которые она приносит в свой дом, есть символ возвращения безопасности, тем людям, которые осмелятся шутить с этой птицей, останется уповать только на Божью милость»[268].
Трудно переоценить значимость синего орла как средства пропаганды для Франклина Делано Рузвельта. «На войне в условиях ночного наступления солдаты наносят на плечи яркую метку, чтобы исключить возможность стрельбы по своим товарищам, — пояснял президент. — В соответствии с этим принципом люди, которые участвуют в этой программе, должны узнавать друг друга с первого взгляда». В одной из своих «Бесед у камелька» в 1933 году Рузвельт призвал к грандиозному «летнему наступлению на безработицу» в стиле Муссолини. Голливуд тоже внес свою лепту. В вышедшем в 1933 году мюзикле киностудии Warner Brothers «Парад в огнях рампы» (Footlight Parade) с Джеймсом Кэгни в главной роли кордебалет складывает из карточек портрет Рузвельта, а затем образует гигантского синего орла. Уилл Роджерс возглавил список звезд «Кто есть кто» в радиопередачах, посвященных синему орлу и деятельности Национальной администрации восстановления.
Любимым средством Джонсона, способствовавшим формированию лояльности к синему орлу, были военные парады и выступления в духе нюрнбергских митингов. 12 сентября 1933 года Джонсон выступил с речью перед 10-тысячной аудиторией в Мэдисон-сквер-гарден, торжественно заявив, что под знаменами синего орла находятся уже 85 процентов рабочих Америки. На следующий день деловая жизнь Нью-Йорка почти остановилась из-за парада приспешников синего орла в честь Дня президентской Национальной администрации восстановления. Все лояльные синему орлу магазины были обязаны закрыться в час дня, и для всех остальных губернатор также объявил сокращенный рабочий день. Под рукцводством генерал-майора сухопутных войск армии США участники парада синего орла прошли от Вашингтон-сквер вверх по Пятой авеню до Нью-Йоркской публичной библиотеки, где с трибуны за шествием наблюдали Джонсон, губернаторы из соседних трех штатов и Элеонора Рузвельт.
Это был самый большой парад в истории Нью-Йорка, который затмил даже парад в честь перелета Чарльза Линдберга через Атлантический океан. Ожидалось, что в полном соответствии с духом корпоративизма в торжественном шествии будут принимать участие как рабочие, так и управленцы. В параде, приуроченном к Дню президентской Национальной администрации восстановления участвовали 50 тысяч работников швейной промышленности, 30 тысяч работников городских служб, 17 тысяч розничных торговцев, 6 тысяч работников пивоваренных заводов и труппа мюзик-холла Radio City. Почти четверть миллиона мужчин и женщин прошли за 10 часов мимо более миллиона зрителей, а в небе пролетели 49 самолетов. «Из-за таких событий, как это, — пишет Артур Шлезингер-младший, — Джонсон и Рузвельт достигли своей цели, которая заключалась в “преобразовании государственного учреждения в религиозный опыт”»[269]. Член британской Независимой рабочей партии был в ужасе от такого зрелища. Ему даже показалось, что он находится в нацистской Германии.
Парад в Нью-Йорке не был единственным. Подобные мероприятия были проведены в городах по всей стране, при этом демонстранты обычно были одеты в форму своей профессии. Футбольная команда «Филадельфийские орлы» была названа в честь «синего орла». В общественный парк Бостон-Коммон вывели 100 тысяч школьников и заставили дать клятву под руководством мэра: «Я обещаю как добропорядочный гражданин США внести свою лепту в дело Национальной администрации восстановления. Я буду покупать только там, где летает синий орел»[270]. В Атлантик-Сити на бедрах участниц конкурса красоты красовался отпечаток синего орла. В Сан-Франциско 8 тысяч школьников выстроились так, что в результате получился огромный синий орел. В Мемфисе 50 тысяч граждан участвовали в городском рождественском параде, который завершил Санта-Клаус верхом на гигантском синем орле.
Не удивительно, что жертвам синего орла не стоило ждать сочувствия в прессе и тем более надеяться на милость правительства. Возможно, самым известным было дело Джейкоба Магида, 49-летнего иммигранта, работавшего в химчистке. В 1934 году он провел три месяца в тюрьме за то, что взял за глажку костюма 35 центов, несмотря на требование Национальной администрации восстановления, согласно которому все лояльные американцы должны были брать за эту услугу не менее 40 центов. Поскольку одна из главных целей раннего «Нового курса» состояла в создании искусственного дефицита, чтобы обеспечить рост цен, по распоряжению Администрации регулирования сельского хозяйства было забито 6 миллионов свиней. Изобильные урожаи оставляли гнить на полях. Многим белым фермерам государство платило деньги, чтобы они не обрабатывали свою землю (это означаю, что многие чернокожие фермеры-арендаторы были вынуждены голодать). Все эти мероприятия проводились в жизнь военизированным правительством.
В городских центрах положение черных было немногим лучше. Предоставив профсоюзам полномочия вести переговоры об условиях коллективного договора, Рузвельт дал им возможность исключать чернокожих из числа работников предприятий. И профсоюзы (нередко расистские по своей сути) поступали именно так. Как следствие, некоторые из изданий, выступавших в защиту негров, заявляли о том, что аббревиатура NRA (National Recovery Administration — Национальная администрация восстановления) на самом деле обозначает «Negro Run Around» («негры пролетают»), «Negro Removal Act» («закон об исключении негров») и «Negroes Robbed Again» («негров снова ограбили»). На митинге в Гарлеме один из протестующих нарисовал синего орла и написал под изображением: «Эта птица украла работу моего отца»[271]. Между тем под бдительным оком Джонсона полицейские выламывали двери топорами, чтобы убедиться в том, что портные не работают по ночам и (без преувеличения) прогоняли разносчиков газет с улицы, потому что они не работали на крупные корпорации.
Вряд ли кого-то удивит тот факт, что генерал Джонсон был ярым приверженцем фашизма. Как глава Национальной администрации восстановления он распространял копии «Корпоративного государства» (The Corporate State) Рафаэлло Вильоне, откровенно фашистского трактата, написанного одним из любимых экономистов Муссолини. Он даже дал один экземпляр министру труда Фрэнсис Перкинс, попросив ее раздать копии членам кабинета.
К 1934 году фашистские методы Джонсона и даже в большей степени непостоянство привели его к падению. И хотя он, без сомнения, был наиболее убежденным фашистским и профашистским членом администрации Рузвельта, его идеи и методы не слишком отличались от общепринятых. Когда Александр Сакс, уважаемый экономист, который вырос в Европе, получил предложение стать консультантом по формированию Национальной администрации восстановления, он предупредил, что управлять такой организацией может только «бюрократический аппарат, действующий посредством принуждения, а такая форма власти будет гораздо больше походить на зарождающееся фашистское или нацистское государство, чем на либеральную республику». Никто не последовал его совету, но он все же был включен в состав администрации. В конце 1934 года Рексфорд Тагуэлл посетил Италию и обнаружил, что фашистский режим кажется ему знакомым. «Я вижу, что в Италии делается многое из того, что представляется мне необходимым... Оппоненты Муссолини — это те же самые люди, которые противостоят Франклину Делано Рузвельту. Но он контролирует прессу таким образом, что они не могут каждый день обрушиваться на него с лживыми выпадами». Отдел исследований и планирования Национальной администрации восстановления провел исследование под названием «Капитализм и труд при фашизме» (Capitalism and Labor Under Fascism), в котором делался следующий вывод: «Фашистские принципы очень похожи на те, которые развиваются в Америке, и соответственно в данный момент представляют особый интерес».
Как ни странно, в 1930-е годы считалось вполне допустимым называть «Новый курс» фашистским, а самого Рузвельта — фашистом. Однако в течение двух поколений после Второй мировой войны связывать «Новый курс» с фашизмом каким бы то ни было образом было непозволительно. Это культурное и политическое табу в значительной степени исказило понимание политики американцами. Для того чтобы утверждать, что «Новый курс» — это противоположность фашизма, а не родственное ему явление, либеральной интеллигенции пришлось создать огромное соломенное чучело из современного консервативного движения. Это оказалось удивительно простым делом. Поскольку оппозиция Рузвельту уже считалась принадлежностью правых, для отождествления правого политического лагеря в Америке с нацизмом и фашизмом потребовалось немного усилий. Так, например, либералы описывают американский «изоляционизм» как явно консервативную традицию, хотя большинство ведущих изоляционистов, связанных с партией «Америка прежде всего» и подобными ей течениями 1930-х и 1940-х годов, на самом деле были либералами и прогрессивистами, в том числе Джозеф Кеннеди, Джон Дьюи, Амос Пиншо, Чарльз Бирд, Дж. Т. Флинн и Норман Томас.
Миф о правом фашизме начали развенчивать лишь десятилетия спустя благодаря Рональду Уилсону Рейгану, политическому деятелю, бывшему рузвельтовскому демократу, от которого сложно было ожидать такого шага. В 1976 и в 1980 годах Рейган отказался отречься от своего мнения, согласно которому основоположники «Нового курса» благосклонно относились к политике фашистской Италии. В 1981 году этот спор получил продолжение, когда оказалось, что тогдашний президент Рейган не изменил своей позиции. «Рейган по-прежнему уверен, что некоторые деятели “Нового курса” поддерживали фашизм», — гласил заголовок статьи в Washington Post[272]. Нежелание Рейгана отказываться от этого заявления стало переломным моментом, хотя по большей части табу осталось в силе.
Но что стало причиной данного запрета? Ответ очевиден и вполне понятен: холокост. Ставшее одним из воплощений зла в истории человечества уничтожение европейских евреев отбрасывает тень на все, что оказывается связанным с ним. Но это совершенно ошибочно, потому что различные другие фашистские режимы не заслуживают обвинений в причастности к холокосту, в том числе и фашистская Италия. Я не утверждаю, что «Новый курс» был подобием гитлеризма, если считать холокост определяющей чертой гитлеризма. Но фашизм уже был фашизмом до холокоста. С точки зрения хронологии, а также в некоторой степени философии холокост стал предвестником конца фашизма в Германии. Поэтому отождествлять последнюю главу немецкого фашизма с предшествовавшими ему разновидностями фашизма в Италии, Америке и других странах — то же самое, что начать читать с конца не ту книгу, которая вам нужна. А заявления о том, что «Новый курс» не имеет ничего общего с фашизмом, так как его последователи выступали против холокоста, равносильны признанию того, что холокост — это единственная конкретная и значимая составляющая фашизма. Такой позиции не станет придерживаться ни один здравомыслящий человек.
Более того, непонятно, как вообще можно отрицать объективно фашистскую направленность «Нового курса». Во время «Нового курса» нанятые правительством головорезы выбивали двери в домах американцев, для того чтобы обеспечить выполнение распоряжений руководства страны. К агентам ФБР относились как к полубогам, несмотря на то, что они шпионили за диссидентами. Промышленники сами создавали правила, которым они были вынуждены подчиняться. Рузвельт тайно записывал на магнитную ленту свои разговоры с людьми, использовал почтовую службу, чтобы карать своих врагов, неоднократно лгал в целях вовлечения Соединенных Штатов в войну и принял ряд мер, чтобы лишить Конгресс права объявлять войну. Когда Фрэнсис Перкинс предупредил его в 1932 году о том, что многие положения «Нового курса» противоречат конституции, он только пожал плечами и сказал, что разберется с этим позже (найденное им решение: провести в Верховный суд своих близких друзей). В 1942 году он категорически заявил членам Конгресса, что, если они не будут делать того, что ему нужно, он все равно сделает это сам. Он подвергал сомнению патриотизм всех, кто выступал против его экономической программы, не говоря уже о самой войне. Он создал военно-промышленный комплекс, что сегодня многие представители левых сил осуждают как проявление фашизма.
В 1936 году Рузвельт заявил в своем обращении к Конгрессу: «Мы создали новые инструменты государственной власти. В руках народного правительства эта власть полезна и благотворна. Но в руках политических марионеток экономического самодержавия такая власть станет кандалами для прав и свобод граждан»[273]. По замечанию Эла Смита, из этого утверждения следует, что Рузвельт не возражал против авторитарной власти до тех пор, пока страной управляли представители «народа», т. е. либералы. Но если к власти приходит кто-то, кто «нам» не нравится, то это уже будет тирания.
Такая искаженная логика отражает самую суть либерального фашизма. Прогрессивизм, либерализм (называйте это как хотите) превратился в идеологию власти. Пока она в руках либералов, принципы не имеют значения. В этом заявлении также подчеркивается подлинно фашистское наследие Первой мировой войны и «Нового курса»: мысль о том, что действия правительства во имя «благих целей» под руководством «наших людей» оправданны всегда и везде. Несогласие нужных людей считается высшей формой патриотизма. Несогласие всех остальных — тревожным признаком зарождающегося фашизма. Неприятие догматизма, которое прогрессивисты и фашисты в равной степени унаследовали от прагматизма, делало мотивы действующего лица единственным критерием для оценки законности действий. «Я хочу заверить вас, — говорил помощник Франклина Делано Рузвельта Гарри Хопкинс, обращаясь к активистам «Нового курса» из Нью-Йорка, — что мы не боимся пробовать любые варианты в рамках закона и у нас есть юрист, который объявит законным все, что вы захотите сделать»[274].
В том смысле, который современные либералы вкладывают в понятие «фашизм», именно такой подход можно назвать фашистским. Но этого критерия явно недостаточно, для того чтобы в полной мере понять, что делало «Новый курс» фашистским. Мы превращаем фашизм и нацизм в карикатуры, когда просто заявляем, что они несут зло. Притягательность нацизма заключалась в его призывах к единению, в стремлении восстановить с помощью всемогущего государства чувство причастности у тех, кто ощущал себя потерянным в современном обществе. Модернизация, индустриализация и секуляризация посеяли сомнение и отчуждение в массах. Нацисты обещали дать людям ощущение принадлежности к чему-то большему, чем они сами. Каждый нацистский праздник и парад создавал атмосферу в духе «один за всех, и все за одного».
Философские воззрения всех участников «мозгового треста» Рузвельта основывались на этом принципе, который они позаимствовали у Герберта Кроули и его товарищей в неизменном виде. «В основу “Нового курса”, — пишет Уильям Шамбра, — было положено возрождение национальной идеи, обновление концепции национальной общности. Рузвельт пытался объединить разобщенную Америку, обращаясь к национальному долгу, дисциплине и братству; он стремился восстановить чувство единства, характерное для местного сообщества, на национальном уровне». Сам Рузвельт отмечал: «Мы распространяем на нашу национальную жизнь старый принцип местного сообщества в ответ на радикальные изменения, происходящие в жизни американцев»[275]. Милитаризм в Америке, так же как в нацистской Германии и фашистской Италии, был средством для достижения этой цели, а не самоцелью.
С тех самых пор главная задача либералов — превратить демократическую республику в огромную родовую общину, дать каждому члену общества по всей стране, от Ки-Уэста, штат Флорида, до города Фэрбанксе, Аляска, общее чувство сопричастности («мы все вместе!»), которое мы якобы должны испытывать в сплоченном сообществе. Стремление к общности свойственно человеку и достойно уважения. Однако такие стремления неуместны, когда они исходят от федерального правительства и внедряются повсеместно в стране, характеризующейся значительным многообразием и обладающей республиканской конституцией. Этот вопрос был центральным на Конституционном Конвенте, и именно его прогрессивисты стремились окончательно решить в свою пользу. Правительство не может любить вас, и любая политика, которая опирается на иные предположения, ни к чему хорошему не приведет. И все же со времени «Нового курса» либералам не удалось поколебать главную догму, согласно которой государство может стать средством реализации политики по преобразованию целого народа в деревню.
Завершая обсуждение этого вопроса, следует еще раз повторить, что, несмотря на сходство этих трех «Новых курсов», важно учитывать различия между Америкой, Германией и Италией. Грехи Франклина Рузвельта совсем невелики в сравнении с деяниями Гитлера или Муссолини. Во многом это связано с особенностями его личности. Рузвельт верил в Америку и в американский образ жизни (или по крайней мере был твердо убежден в этой вере). Он продолжал выступать за выборы, хоть и нарушил традицию, по которой президенты выбираются только на два срока. Он уважал систему, хоть и пытался «кастрировать» Верховный суд. Он не был тираном, хоть и поместил более 100 тысяч граждан в лагеря из тех соображений, что их расе нельзя доверять. В этих и других случаях можно привести много хороших аргументов как «за», так и «против». Но ясно одно: ни в коем случае не следовало ожидать, что американский народ станет мириться с тиранией в течение долгого времени. В периоды войны эта страна на всем протяжении своей истории делала все возможное, чтобы справиться с трудностями. Но в мирное время американский характер не склонен позволять государству ставить цели и диктовать условия. Либералы ответили на это постоянными поисками новых кризисов, новых моральных эквивалентов войны.
Бывший журналист New Republic Дж. Т. Флинн был, пожалуй, самым известным в 1930-е годы разоблачителем и противником Рузвельта. Он ненавидел Рузвельта и был убежден, что «Новый курс» — фашистская инициатива. Он предсказал, что для сторонников «Нового курса» и для его преемников кризисы станут привычным средством сохранения власти и реализации их планов. Вот что он писал о «Новом курсе»: «Он появился в условиях кризиса, живет за счет кризисов и не способен пережить кризисную эпоху. В силу своей природы для продолжения существования он должен создавать новые кризисы из года в год. Муссолини пришел к власти во время послевоенного кризиса, и сам стал кризисом в жизни Италии... с Гитлером — та же самая история. И нам в будущем уготован такой же беспокойный путь перманентного кризиса»[276].
Но Флинн понимал, что, даже если Америке придется пойти по аналогичному пути, он не обязательно должен быть таким ухабистым. Он предсказал, что американский фашизм вполне может оказаться «очень благородной, изысканной и приятной разновидностью фашизма, которую просто невозможно назвать фашизмом вследствие ее добродетельности и вежливости». Уолдо Фрэнк[277] сделал аналогичное замечание в 1934 году:
«Национальная администрация восстановления — это начало американского фашизма. Но в отличие от Италии и Германии демократический парламентаризм доминировал в англосаксонском мире на протяжении поколений; это родовой институт. Соответственно в Северной Америке или Великобритании не следует ожидать такого фашизма, который будет пренебрегать демократическим парламентаризмом вместо того, чтобы развивать его и использовать. В Соединенных Штатах фашизм может развиваться настолько медленно, что большинство избирателей просто не будут знать о его существовании. Настоящие фашистские лидеры не будут походить на нынешних подражателей немецкого фюрера и итальянских кондотьеров, щеголяющих в серебряных рубашках. Это будут рассудительные господа в черных костюмах — выпускники лучших университетов, ученики Николаса Мюррея Батлера и Уолтера Липпмана»[278].
Я думаю, ясно (если мои аргументы убедили вас), что фашизм — это часть либерального мировоззрения. И эти выводы справедливы. Мы долго шли к рабству, возможно, мы и сейчас идем по этому пути, но не воспринимаем его таким образом.
Возникает вопрос, почему здесь должен быть именно «хороший» фашизм, а не худшая его разновидность? Мой собственный ответ: в силу американской исключительности. Именно это имеет в виду Фрэнк, когда говорит, что демократия в Америке признается «родовым институтом». Американская культура замещает наши правовую и конституционную системы. Это наша самая надежная защита от фашизма.
Немецкий экономист и историк Вернер Зомбарт вопрошал: «Почему в Соединенных Штатах нет социализма?» Традиционный ответ историков и политических теоретиков выглядит следующим образом: потому что у Америки нет феодального прошлого, как и свойственных Ейропе классовых проблем. По словам ученого Вольфганга Шивельбуша, это утверждение также в значительной степени можно считать ответом на вопрос, почему в Соединенных Штатах нет фашизма. Но это верно лишь в том случае, когда мы говорим об угнетении, жестокости и тирании, присущих классическому фашизму. Национализм и фашизм только могут послужить лакмусовой бумажкой, проявляющей черты, которые уже содержатся в генетическом коде общества. В Германии на свободу вырвались самые темные стороны немецкой души, в Италии — неуверенность, характерная для погасшей звезды западной цивилизации. В Америке фашизм нанес удар в начале «американского столетия», а это означает помимо прочего, что это явление было не таким зловещим. У нас не было ни горьких обид и сопутствующего им желания взять реванш, ни поводов для мести. Напротив, фашизм в Америке был, скорее, обнадеживающим явлением (хотя следует напомнить, что фашизм победил сначала в Италии, а затем в Германии, потому что он также давал людям надежду).
Это не значит, что у нас не было мрачных периодов. Но они не могли быть продолжительными. У прогрессивистов и либералов было два повода для поддержания настоящих фашистских военных кризисов: во время Первой мировой войны и во время «Нового курса» и Второй мировой войны. Они не могли продолжать в том же духе, потому что американская система, американский характер и американский опыт делали такие «эксперименты» нежизнеспособными. Что касается благородного фашизма, о котором говорил Флинн, это уже другая история, и она будет рассказана в следующих главах.
Хотя представители культурного левого фронта давно видели очертания фашизма в предполагаемом конформизме 1950-х годов, на самом деле третий «фашистский момент» в США начался в 1960-е годы. Он разительно отличался от первых двух, тех, которые последовали за «Прогрессивной эрой» и за «Новым курсом», в основном тем, что наступил после тяжелой эпохи коллективизма в истории западной цивилизации. Но, как и предшествующие эпохи, 1960-е годы были отмечены появлением международных движений. Начались радикальные восстания студентов во Франции, Индонезии, Чехословакии, Польше, Сенегале, Южной Корее, Мексике и Соединенных Штатах. Между тем в правящих кругах стала формироваться новая когорта либеральных активистов, которые стремились воссоздать социальную и политическую динамику поколения их родителей, чтобы развить наследие и достичь целей, заявленных активистами «Прогрессивной эры». Это двустороннее давление, сверху и снизу, в конечном счете привело к захвату командных высот системы правления и культуры. В следующих двух главах мы рассмотрим каждую из них.
Глава 5. 1960-е годы: фашизм выходит на улицы
Самозванцы, провозгласившие себя революционерами, вели себя все более вызывающе, требуя от университета различных уступок. Студентам и профессорам, которые попали в списки как предатели расы, угрожали смертью. Рыскающие повсюду головорезы зверски избивали противников «принципов этнического национализма». На территорию университета приносили оружие, а студенты ходили в военной форме. Преподавателей брали в заложники, травили, запугивали, а также угрожали им, если их взгляды противоречили ортодоксальной расистской идеологии. Но администрация университета, с одной стороны, из-за малодушия, с другой, из-за сочувствия повстанцам, не стала привлекать революционеров к ответственности даже тогда, когда один из фашистских молодчиков избил ректора на глазах всего университета.
Эти радикалы и сочувствовавшие им студенты действовали от имени представителей левых революционных сил (противопоставляя себя фашистам), но когда один из преподавателей цитировал им выступления Бенито Муссолини, они не скрывали энтузиазма. Ситуация достигла кульминации, когда мятежникам удалось захватить студенческий центр и местную радиостанцию. Вооруженные винтовками и ружьями они потребовали преобразования университета в этнически чистое образовательное учреждение, укомплектованное и управляемое представителями исконной расы. Сначала преподаватели и администрация университета отнеслись к данным требованиям достаточно прохладно; однако когда речь зашла о возможной расправе над противниками предлагаемых мер, большинство «умеренных» быстро изменили мнение и поддержали повстанцев. На массовом митинге в духе нюрнбергских манифестаций преподаватели отреклись от своих реакционных воззрений и поклялись в верности новому революционному порядку. Один из преподавателей вспоминал впоследствии, с какой легкостью «напыщенные учителя, которые с важным видом вещали об академической свободе, превратились в “танцующих медведей”, когда на них оказали некоторое давление»[279].
В конце концов фашистские головорезы получили все, что хотели. Университетские власти уступили их требованиям. Немногие несогласные тихо покинули университет, а некоторые даже и страну, как только стало ясно, что их безопасность не может быть гарантирована.
Берлинский университет в 1932 году? Миланский в 1922-м? Хорошие догадки. На самом деле все это произошло в Корнеллском университете весной 1969 года. В результате эскалации запугивания и насилия университет оказался под контролем военизированной группировки чернокожих националистов, действовавших под знаменем Афро-американского сообщества.
Официальным поводом для вооруженного захвата студенческого центра Корнеллского университета стал предполагаемый поджог креста, стоявшего рядом с общежитием, где жили чернокожие студенты. Позже выяснилось, что это была мистификация. Ее организовали сами черные радикалы, чтобы появился предлог для применения силы в ответ на довольно робкие и беззубые «дисциплинарные меры» администрации по отношению к их шестерым товарищам, которые нарушали правила поведения на территории университета и законы штата. Эта тактика в стиле поджога Рейхстага сработала отлично, и в предрассветные часы вооруженные до зубов фашистские сквадристы ворвались в главное здание студенческого городка, разбудив ничего не понимающих родителей студентов, которые приехали на выходные навестить своих детей и остановились там на ночлег. Недоумевающие люди, по сути, финансировавшие обучение этих воинственно настроенных студентов-стипендиатов, которые теперь называли их «свиньями», были вынуждены выпрыгивать из окон первого этажа прямо под ледяной дождь. «Это нацизм в его худшем виде», — заявила мать одного из студентов с некоторым, впрочем, вполне объяснимым преувеличением[280]. Ректор университета Джеймс А. Перкинс был вынужден отменить свое утреннее обращение под претенциозным названием «Стабильность университета».
Согласно популярному мифу 1960-е годы ознаменовались миролюбивым утопическим движением, представители которого выступали против колониальной войны во Вьетнаме, а в своей родной стране хотели большей социальной справедливости и гармонии. И это правда, что подавляющее большинство молодых людей, составлявших основу данного движения, были мечтательными идеалистами, которые думали, что являются провозвестниками «эпохи Водолея». Тем не менее в строго политическом смысле нельзя отрицать, что по своей сути этой движение было фашистским культом молодости. 1960-е годы действительно можно считать третьим значительным фашистским моментом XX века. Радикальные представители «новых левых» могли говорить о «власти народа» и об «истинном голосе нового поколения», но по существу они не разделяли этих идей. Они были частью авангардного движения, которое стремилось пересмотреть не только политику, но и саму человеческую природу.
Исторически сложилось так, что фашизм по сути и по форме представляет собой разновидность молодежного движения. Более того, фашизм в некоторой степени присущ всем молодежным движениям. Преобладание эмоций над разумом, действий над рассудительностью естественно для юношеского поведения. Такие приемы, как отношение к молодым людям как к равным, проявление особого внимания к их мнению именно потому, что им не хватает опыта и знаний, изначально использовались фашистами, так как основаны на стремлении отринуть «старое мышление» и «старые догмы», заменив их тем, что нацисты называли «идеализацией деятельности». Питательная среда для молодежной политики (как и для популизма в целом) — гнев и раздражение. Потакание так называемой политике молодежи есть одно из проявлений трусости и неуверенности, которые приводят к торжеству варварства.
Хотя нет сомнений в том, что успех нацизма был тесно связан с лишениями, которые принесла Великая немецкая депрессия, из этого не следует, что фашизм — это продукт бедности. Революционные выступления молодежи начались в Германии раньше, чем Первая мировая война. Война только ускорила развитие этих тенденций, способствуя росту идеализма и отчуждения. Клаус Манн, неортодоксальный еврей и писатель-романист с гомосексуальными наклонностями, говорил от имени большей части своего поколения в 1927 году: «Мы поколение, которое объединяет, если так можно выразиться, только недоумение. Пока мы не нашли цели, которая заставила бы нас объединить усилия, хотя все мы заняты поиском такой цели»[281]. Манн явно скромничал. Пусть среди молодых немцев не было единства относительно того, что должно было прийти на смену старому порядку, их объединяло нечто большее, чем просто недоумение. Своего рода юношеская политика идентичности распространилась по всей Германии. Она была основана на убеждении, что новое поколение отличается от старого, причем в лучшую сторону, поскольку оно свободно от политики коррумпированных и трусливых стариков и полно решимости создать «истинный» новый порядок.
Культура немецкой молодежи в 1920-е и в начале 1930-х годов отличалась бунтарским духом, природным мистицизмом и идеализмом с изрядной примесью язычества. Она выражала взгляды, созвучные поколению 1960-х годов. «Они считали семейную жизнь скучной и неискренней», — пишет один историк. «Они были убеждены, что сексуальность, как в браке, так и вне его, “пронизана лицемерием”», — пишет другой. Они также считали, что нельзя доверять людям старше тридцати, и презирали старый материалистический порядок во всех его проявлениях: по их мнению, «религия родителей была в значительной степени фиктивной, политика — хвастливой и тривиальной, экономика — недобросовестной и нечестной, образование — стереотипным и безжизненным, искусство — дрянным и сентиментальным, литература — лживой и нацеленной на получение прибыли, драма — кричаще безвкусной и механической». Являясь порождением среднего класса, молодежное движение отвергало и даже ненавидело свойственный среднему классу либерализм. «Их цель, — пишет Джон Толанд, — заключается в создании молодежной культуры для борьбы с буржуазным триединством, состоящим из школы, дома и церкви»[282].
В кафе они сетовали на упадок немецкого общества в духе Аллена Гинзберга. В лесу они общались с природой, ожидая «посланий от леса». Фюрер (или публично провозглашенный «лидер») вполне мог читать отрывки из Ницше или из произведений поэта Стефана Георге, который писал: «Народ и высшая мудрость жаждут Человека! — Действия!.. Возможно кто-либо из тех, кто много лет сидел среди ваших убийц и спал в ваших тюрьмах, поднимется и примется за дело!» «Эти молодые люди, — рассуждает Толанд, — выросшие на мистике и движимые идеализмом, жаждали действия, какого угодно действия»[283].
Еще до того как нацисты захватили власть, радикально настроенные студенты были готовы бросить вызов закоснелому консерватизму немецкого высшего образования, приверженцы которого лелеяли мысль о классических либеральных академических свободах и превозносили авторитет ученых и преподавателей. Волна ницшеанского прагматизма (фраза французского писателя и философа Жюльена Бенды) пронеслась по всей Европе, принеся с собой ветер, который развеял устаревшие догмы поколения их родителей, открыв новый мир, требовавший свежего взгляда. Нацисты говорили молодым людям, что их энтузиазм не должен ограничиваться теоретическим изучением, скорее, он должен находить выражение в политических действиях. Традиция изучения ради изучения была отринута во имя «существенности». «Пора отказаться от еврейской науки и иностранных абстракций, — призывали они. — Нужно узнавать про немцев и про войну, а также понять, что мы можем сделать для народа!» «Интуиция, которая имеется у молодых людей в достатке, более важна, чем знания и опыт», — настаивали радикалы. Молодежи нравилось, как Гитлер осуждал теоретиков, «рыцарей чернил», как он их презрительно называл. По мнению Гитлера, необходим был «бунт против [самого] разума», потому что «интеллект отравил наш народ!»[284]. Гитлер радовался, что ему удалось завоевать сердца и умы молодежи, превращая университеты в инкубаторы активистской деятельности на благо отечества.
Нацисты добились успеха с головокружительной скоростью. В 1927 году, во времена всеобщего процветания, 77 процентов студентов Пруссии настаивали на необходимости включения «арийского пункта», запрещающего нанимать на работу евреев, в уставы немецких университетов. В качестве полумеры они предлагали ввести расовую квоту, ограничивающую количество студентов, которые принадлежали к иной расе. В 1931 году 60 процентов всех немецких студентов поддерживали Нацистскую студенческую организацию. Региональные исследования политической активности населения Германии показали, что студенты поддерживали национал-социалистов активнее, чем любая другая социальная группа[285].
Наибольшую привлекательность нацизма для немецкой молодежи представлял акцент на необходимости более активного участия студентов в управлении университетом. Нацисты считали, что голос студентов должен был быть услышан, а «активизму» следовало уделять особое внимание как неотъемлемой части высшего образования. Предвосхищая типичный лозунг радикальных американских студентов 1960-х годов, подобных Марку Радду из Колумбийского университета, который заявил, что главная и единственная задача университета — «создание и расширение революционного движения», нацисты полагали, что университет в первую очередь должен быть инкубатором революционеров и лишь во вторую — распространителей отвлеченных идей[286].
По сути, эти идеи стали общим для всех радикальных студентов лозунгом. Естественно, что с приходом нацистов к власти и укреплением их позиций они стали менее терпимыми по отношению к инакомыслящим. Но темы выступлений оставались практически теми же самыми. Нацисты на самом деле выполнили свои обещания добиться более интенсивного вовлечения студентов в процесс управления университетом в рамках масштабного пересмотра принципов организации высших учебных заведений. Вальтер Шульце, директор Национальной социалистической ассоциации преподавателей вузов, в своем выступлении на первом собрании организации изложил новую официальную доктрину. Он объяснил, что «академические свободы» следует пересмотреть таким образом, чтобы и студенты, и преподаватели могли вместе делать общее дело. «Никогда еще немецкая идея свободы не воспринималась с большим оживлением и энергией, чем в наши дни... В конечном счете свобода есть не что иное, как ответственное служение, подчиненное основным ценностям нашего бытия как нации»[287].
По отношению к преподавателям, не принявшим новой идеологии, применялась уже знакомая нам тактика представителей левого лагеря университетской общественности 1960-х годов. Их аудитории баррикадировались или занимались, они получали по почте письма с угрозами, обличительные статьи размещались на досках объявлений в студенческих городках и публиковались в студенческих газетах, лекторов грубо прерывали. Когда администрация пыталась прекратить эти выходки или наказывать за них, студенты устраивали массовые акции протеста и, конечно же, побеждали, нередко вынуждая соответствующих представителей администрации отказываться от должности.
Невозможно преувеличить тот факт, что немецкие студенты прежде всего выступали против консерватизма немецкого высшего образования и «буржуазного материализма» старшего поколения. Церкви тоже были под подозрением, потому что они были тесно связаны со старым, коррумпированным режимом времен Первой мировой войны. Студенты хотели управлять университетами, что, по мнению консервативных преподавателей высшей школы, было сродни тому, как если бы пациенты взялись управлять психиатрической клиникой. Между тем большая часть прогрессивных преподавателей, по крайней мере те, которые не были евреями или большевиками, храбро соглашались. Более того, многие из ученых (например, Ганс Георг Гадамер), которые в последующие годы стали использовать притеснение евреев нацистами себе во благо, были вполне счастливы получить лучшую должность, освобожденную коллегой-евреем. Мартин Хайдеггер, самый влиятельный философ XX века, сразу же встал на сторону нацистской революции.
Захват Корнеллского университета стал отражением этих и других характерных черт фашизма. Радикально настроенные чернокожие студенты, уверенные в своем расовом превосходстве и изначальной порочности либерализма, проводили последовательную кампанию запугивания и насилия в отношении того самого учебного заведения, которое предоставило им такую роскошь, как образование. Ректор университета Джеймс Перкинс был типичным прогрессивным педагогом. Имея степени Суортморского колледжа и Принстонского университета, он приобрел первый практический опыт как один из адептов «Нового курса» в управлении по регулированию цен. С идеологической точки зрения Перкинс был продуктом прогрессивной прагматической традиции Уильяма Джеймса и Джона Дьюи. Он отвергал саму мысль о том, что университеты должны быть нацелены на поиски вечных истин или ответов на неутрачивающие актуальности вопросы. Он высмеивал «интеллектуальное целомудрие» традиционной науки и насмехался над не разделявшими принципов прагматизма учеными — современными «рыцарями чернил», которые проводили свое время в «бесплодных обсуждениях средневековой схоластики». Подобно многим другим интеллектуалам эпохи «Нового курса», Джеймс Перкинс враждебно относился к идее о том, что прошлое может немало рассказать о настоящем. По его мнению, важнее всего была «дееспособность», которая в 1960-е годы быстро привела к «усилению влияния»[288].
Перкинс считал, что университеты должны быть лабораториями для социальных изменений, площадками для подготовки «экспертов», которые будут десантироваться в реальный мир и исправлять общество, как прогрессивисты в эпоху Вильсона и Рузвельта. По этим причинам, а также вследствие полного отсутствия смелости, Перкинс покорился фашистским головорезам, без всякого сострадания отвернувшись от людей, образованию, работе и даже жизни которых угрожали радикалы, ратующие за власть черных. Немецкие студенты настаивали, чтобы их учили «немецкой науке» и «немецкой логике». Чернокожие радикалы хотели обучаться «черной науке» и «черной логике» у чернокожих преподавателей. Они требовали открытия отдельного учебного заведения, в задачу которого входило бы «создание инструментов, необходимых для формирования черной нации». При этом в качестве аргументов они использовали силу и довольно резкие высказывания. «В прошлом все время приходилось умирать именно черным, — кричал лидер чернокожих радикалов. — Теперь настало время, когда умирать будут свиньи». Перкинс сдался сразу же после первого намека на сопротивление. «В конце концов то, что я когда-либо говорил или скажу в будущем, — пояснял он, — вовсе не означает, что это моя постоянная и не подлежащая пересмотру при изменившихся обстоятельствах позиция». Первым предметом, предложенным в рамках новой учебной программы, стала идеология черного движения[289].
С тех пор то, что мы теперь называем политикой идентичности, стало нормой в научном сообществе. Целые отделы занимаются исследованием и воспеванием расовых и гендерных различий. «Инаковость» в настоящее время стала кодовым словом для обозначения неизменного характера расовой принадлежности. Эта идея также берет начало в неоромантизме нацистов. То, что раньше считалось отличительной чертой нацистского мышления, навязываемого сфере высшего образования под угрозой применения оружия, теперь объявляется высшей степенью интеллектуальной искушенности. Эндрю Хакер, в то время молодой профессор Корнеллского университета, а сегодня, пожалуй, наиболее выдающийся белый либеральный писатель, занимающийся вопросами расы, говорит о том, что «исторически белые» колледжи «являются белыми... в логике и обучении, в их представлениях о научном знании и поведении»[290].
Читатели юного возраста скорее всего почти ничего не знают о восстании в Корнеллском университете, и очень многим, вероятно, трудно привести это событие в соответствие с образом 1960-х годов, созданным массовой культурой. Они верят в сорелианский миф, согласно которому 1960-е — это то время, когда «хорошие парни» свергли порочную систему, восстали против своих «квадратных» родителей и открыли эпоху просвещения и порядочности, которой в настоящее время угрожают деспотичные консерваторы, желающие отменить ее утопические завоевания. Либералы, родившиеся в эпоху всплеска рождаемости, запачкали линзу своей памяти вазелином, изображая будущих революционеров сторонниками мира и любви, к тому же свободной любви! Коммуны, совместные марши во имя мира и справедливости и пение «Будь рядом с нами, Господь»[291] у костра: «новые левые» хотят, чтобы эти образы в первую очередь возникали в нашей коллективной памяти. Некоторые левые по-прежнему утверждают, что 1960-е годы были периодом революционной политики, хотя они расходятся во мнениях относительно побед и поражений этой революции. Более традиционные либералы хотят, чтобы мы вспоминали Джона Ф. Кеннеди, объединяющего нацию своим призывом «спрашивать не о том, что ваша страна может сделать для вас, а о том, что вы можете сделать для своей страны». Другие делают особый акцент на антивоенном движении или на движении за гражданские права.
Выступая в качестве кандидата в президенты в 2003 году, Говард Дин выразил единодушное мнение, сказав представителям Washington Post, что 1960-е годы были «временем больших надежд». «Была утверждена федеральная программа льготного медицинского страхования Medicare. Также были приняты федеральная программа развития сети дошкольных учреждений, закон о гражданских правах, закон об избирательных правах, первый афро-американский судья [назначен] членом Верховного суда Соединенных Штатов. Мы почувствовали, что мы все заодно, что все мы несем ответственность за эту страну... Что [сильные школы и общины] зависят от каждого из нас. Что если хотя бы один человек остался забыт, то Америка уже не такая сильная или хорошая, какой она может и должна быть. Вот такую страну я хотел бы увидеть снова»[292].
Нет причин не верить Дину на слово. Более того, в отличие от многих либеральных демократов, которые являются продуктом того времени, Дин с готовностью признает, что это десятилетие оказало на него огромное влияние, в то время как Клинтон и Джон Керри, на которых радикальная политика повлияла в гораздо большей степени, делают вид, что 1960-е годы были для них просто фильмом, идущим на заднем плане. Однако в некотором смысле можно сказать, что Дин больший лжец, поскольку он исказил почти все в этом описании 1960-х годов.
Прежде всего молодые люди не были «прогрессивными» все поголовно. Опросы общественного мнения показали, что молодые американцы наиболее активно выступали в поддержку войны, тогда как люди старше пятидесяти по большей части были противниками войны во Вьетнаме. Многочисленные исследования также свидетельствуют о том, что радикально настроенные дети не протестовали против ценностей своих родителей. Точнее всего предсказать, станет ли тот или иной студент колледжа радикалом, позволяла идеология его или ее родителей. У левых родителей вырастали дети с левым уклоном, которые впоследствии становились радикальными революционерами. Особенно заметной была разница между молодыми людьми, посещавшими и не посещавшими колледж. Но даже среди университетской молодежи отношение к войне во Вьетнаме стало отрицательным только к концу 1960-х годов, и даже тогда не было такого единства взглядов, о котором свидетельствуют документальные фильмы Государственной службы телевещания.
Кроме того, сами радикальные студенты не очень походили на убежденных пацифистов, как их представляют ностальгирующие фанаты Джона Леннона. Они не собирались давать миру шанс, если мир не входил в их планы. Организация «Студенты за демократическое общество» (СДО) не была изначально антивоенной. Более того, лидер СДО Том Хейден считал ранний антивоенный активизм отвлечением от основной миссии на улицах. Даже после того как определяющей особенностью «новых левых» стала их позиция по отношению к войне, они никогда не были пацифистами, по крайней мере представители наиболее известных экстремистских течений. «Черные пантеры», которые убивали полицейских из засады и организовывали взрывы, были в большом почете у радикальных «новых левых». Хейден назвал их «нашим Вьетконгом». «Метеорологи», экстремистская фракция организации СДО, устраивали террористические акты внутри страны и проповедовали очистительную роль насилия. Среди членов возглавляемого Джоном Керри объединения «Ветераны Вьетнама против войны» не было единства в вопросе, следует ли убивать политиков, выступающих в поддержку войны[293]. Последователями Ганди они явно не были.
Все эти факты подтверждают существование еще более лживого аспекта мифа о 1960-х годах. Дин, говоря от имени многих, пытается представить 1960-е годы как время необычайного единения. «Люди моего возраста действительно так считали», — заявляет он[294]. Но это очевидная ерунда. «Люди» так не считали. Так считали те люди, которых знал Говард Дин, или по крайней мере ностальгия заставляет их верить в это. Просто удивительно, что огромное количество людей вспоминают 1960-е годы как время «единства» и «надежды», тогда как на самом деле это было время безудержного внутреннего терроризма, студенческих волнений, убийств и массовых беспорядков. Ностальгия по их собственной молодости не может служить оправданием такой близорукости, так как либералы также с тоской вспоминают 1930-е годы как время, когда «все мы были заодно». Это также грубое искажение. В 1930-е годы в Соединенных Штатах не было единства; страну раздирали политические волнения, практиковалось жесткое принуждение к труду и всюду витал страх перед возможным скорым наступлением того или иного вида тоталитаризма. Если бы все дело было только в единстве, то левые тосковали бы и по 1950-м или даже по 1920-м годам. Но для левых сил это десятилетие было не самым благоприятным, что свидетельствовало о невозможности какого-либо единства среди американцев.
Другими словами, левые стремятся не к единству, а к победе; любая форма единства на условиях, отличных от их собственных (например, «консервативный конформизм» 1950-х годов), объявляется ими ложной и вводящей в заблуждение. В 1930-х и 1960-х годах популярное обращение левых к поддержке народного фронта обеспечило им реальную власть. Именно эта власть, а не что-либо еще и есть истинная причина ностальгии либералов.
Фашистский момент «новых левых»
Провозглашение единства высшей социальной ценностью — основной принцип фашизма и всех левых идеологий. Муссолини использовал социалистический символ фасций[295], свидетельствовавший о том, что единство для его движения было более значимым, чем дебаты и дискуссии как объект поклонения либеральных демократов. Этот звонкий, нерифмованный речитатив, который мы слышим на акциях протеста сегодня — «Сплоченных людей невозможно победить!» — представляет собой исключительно фашистский лозунг. Вполне возможно, что утверждение, согласно которому «сплоченных людей невозможно победить» верно, но оно не означает, что эти люди правы (как любил говорить Кальвин Кулидж, «в большинстве оказывается тот, на чьей стороне закон»). Мы имеем обыкновение забывать о том, что единство в лучшем случае нейтрально с точки зрения нравственности, а также зачастую представляет собой источник иррациональности и группового мышления. Буйствующие толпы на самом деле довольно сплоченны. Мафия также отличается сплоченностью. Сплоченность характерна и для мародерствующих варваров, склонных к насилию и грабежу. И, напротив, у цивилизованных людей существуют разногласия, а демократы, которые пишутся с маленькой буквы «д», нередко спорят. На понимании этого строится весь классический либерализм, поэтому фашизм всегда антилиберален. Либерализм отверг идею, в соответствии с которой единство обладает большей ценностью, чем индивидуальность. Для фашистов и других представителей левых сил источником смысла и аутентичности является принадлежность к некоторой общности — классу, нации или расе, а государство существует для навязывания этого смысла всем и каждому без каких-либо обсуждений.
Любые фашистские преобразования всегда начинаются с дискредитации власти прошлого, и это было главным приоритетом «новых левых». «Старые левые» задыхались «под одеялом лозунгов, эвфемизмов и пустых фраз», тогда как миссия «новых левых» заключалась в том, «чтобы заставить людей думать». «Общепринятые воззрения, догмы и “ритуальный язык”, — писал Том Хейден в своем «Письме к новым (молодым) левым» в 1961 году, — будут сметены революционным духом, который “не довольствуется выводами [и в соответствии с которым] ответы считаются предварительными и подлежащими пересмотру при появлении новых доказательств или при изменении условий”». Хейден, как Муссолини, Вудро Вильсон и архитекторы «Нового курса», возлагал надежды на прагматизм, который должен был стать основой «третьего пути» между «такими авторитарными движениями, как коммунизм и отечественное правое течение». Хейден, конечно же, также обещал, что его новое движение преодолеет ярлыки и начнет «действовать»[296].
В университетской среде восстание также шло полным ходом. В 1966 году на литературной конференции в Университете Джонса Хопкинса французский литературный критик Жак Деррида ввел понятие «деконструкция» — термин, придуманный нацистскими идеологами, — в научный обиход. Деконструкция — литературная теория, согласно которой никакой текст не может быть принципиально однозначным, — вызвала настоящий пожар в умах ученых и студентов, которые надеялись освободиться от мертвого груза истории и накопленных знаний. Если все тексты допускают разнообразные интерпретации и не заключают в себе некоторого «истинного» смысла, то единственным значимым моментом — на самом деле единственным — становится смысл, который приписывает данному тексту читатель. Иными словами, смысл создается посредством власти и воли. Правильной признается интерпретация того интерпретатора, который «побеждает» в академической борьбе за власть. По мнению Дерриды и его соратников, разум — это инструмент угнетения. За каждым рациональным, на первый взгляд, решением стояла исключительно ницшеанская воля к власти. Деррида надеялся сдернуть покров с Просвещения и обнажить скрытую под ним тиранию «логоцентризма» (еще одно слово с фашистскими корнями).
Это также было одним из проявлений духа прагматизма, который стремится освободить общество из клетки унаследованных Догм. Прагматизм вдохновил Вудро Вильсона, Франклина Рузвельта и Бенито Муссолини, а также их соратников на отказ от «разлагающегося трупа» классического либерализма и парламентской демократии, для того чтобы дать власть «людям дела», призванным решить проблемы общества посредством смелых экспериментов и неограниченной власти государства. По выражению одного из прогрессивных реформаторов, «все мы стали приверженцами Дьюи прежде, чем прочитали его работы»[297]. Аналогичным образом многие из представителей научного сообщества уже были деконструктивистами, когда прочли труды Дерриды.
Литературный критик Поль де Ман был одним из таких латентных деконструктивистов. Де Ман, который впервые встретился с Дерридой на конференции в 1966 году в Университете Джонса Хопкинса, стал главным сторонником деконструкции в Соединенных Штатах, а также оказал значительное влияние на самого Дерриду. Де Ман преподавал в Корнеллском университете в первой половине 1960-х годов, а затем перебрался в Университет Джонса Хопкинса и в Йельский университет. Сочинения Дерриды и де Мана послужили своеобразным интеллектуальным основанием для радикализации университетских преподавателей, которые хотели найти общий язык с демонстрантами на улицах, «говоря власти правду»[298]. В Корнеллском университете в годы, предшествовавшие перевороту, де Ман выступал за полный отказ от «основного свода знаний», утверждая, что университет не потеряет ничего существенного, если отвернется от традиционных стандартов либерального образования. Как могло быть иначе, если все эти древние тексты, по сути, были бессмысленными?
Такие идеи не только способствовали развалу американской системы высшего образования, но и ускорили захват нацистами немецких университетов. Вежливые либералы были поставлены перед выбором: выполнять свою работу или встать на сторону радикалов. Более политизированные преподаватели свой выбор уже сделали, выразив согласие с целями революции. Но для таких людей, как Клинтон Росситер, достойный либеральный центрист и один из наиболее выдающихся историков Америки, этот выбор оказался пагубным. Преподавая в Корнеллском университете во время восстания, Росситер сначала отстаивал идеал академической свободы наряду с другими преподавателями, но в итоге принял сторону чернокожих фашистов. Всего за два дня до этого решения он сказал корреспонденту New York Times: «Если этот корабль потонет, я готов пойти ко дну вместе с ним, до тех пор пока он будет воплощением разума и порядка. Но если он танет воплощением угроз и страха, я покину его и устроюсь ночным сторожем в местной пекарне». Прекрасные слова. Но когда ему действительно пришлось выбирать между работой в пекарне и уступками перед лицом угроз и запугивания, он отвернулся от своих друзей и отказался от принципов[299].
Сходство между реформированием американских университетов в 1960-х годах и тем, что происходило в нацистской Германии, простирается еще дальше. Деконструкция предстает прямым и бескомпромиссным ответвлением хайдеггеровского экзистенциализма, которое не только тяготело к нацизму, но и способствовало его развитию. Хайдеггер был великим наследником Ницше, который восставал против истины и морали и считал, что мы сами создаем собственную правду и определяем свою мораль. Для Хайдеггера, как и для Ницше, добро и зло были детскими понятиями. Важнее всего воля и свобода выбора. Самоутверждение — вот высшая ценность. Выбор имел смысл только в том случае, если был подлинным, т. е. не зависящим от общепринятой морали. Хайдеггер полностью разделял принципы нацизма и никогда открыто не отказывался от них, даже через десятки лет после того, как стали известны истинные масштабы холокоста и других нацистских преступлений. Нацистская критика западной цивилизации была всеобъемлющей. В своей печально известной ректорской речи Хайдеггер выразил надежду на скорейшее наступление (благодаря усилиям Гитлера) того времени, «когда духовная сила Запада иссякнет и его суставы треснут, когда умирающее подобие культуры обрушится и приведет все силы в замешательство, позволив им задохнуться в безумии»[300].
Роль фашистского авангарда в формировании концепции деконструкции до настоящего времени остается предметом спора в академических кругах именно в силу очевидности и значительности его влияния. Поль де Ман, например, сотрудничал с нацистами в Бельгии и писал непримиримые нацистские и антисемитские статьи для фашистской газеты во время оккупации. Герберт Маркузе, протеже Хайдеггера, стал лидером академического «мозгового треста» «новых левых». Он яростно нападал на западное общество, утверждая, что «либеральная терпимость» «служит тирании» — аргумент, который почти полностью повторял аналогичные фашистские заявления 1930-х годов. Франца Фанона, проповедовавшего «искупительную» власть насилия, многие считали прямым наследником Жоржа Сореля, дофашистского теоретика, в равной мере восхищавшего итальянских фашистов и большевиков и служившего для них примером для подражания. Прагматик ницшеанского толка Мишель Фуко — особо почитаемый постмодернистами и теоретиками феминизма — сделал своим путеводным маяком «величайшее безрассудство»[301]. Ненависть Фуко к разуму Просвещения была настолько глубокой, что он приветствовал иранскую революцию 1979 года и диктатуру исламского духовенства именно потому, что это была предшествующая современности атака на принципы Просвещения. Карл Шмитт, гротескный нацистский философ, относится к числу самых модных современных интеллектуалов левого толка. Его произведения передавались из рук в руки как самиздат радикальными представителями «новых левых» в Европе, среди которых был и Йошка Фишер, занимавшийся в 1970-е годы тем, что избивал полицейских на улицах Западной Германии. Позже он стал министром иностранных дел, а с 1998 по 2005 год был вице-канцлером в правительстве Герхарда Шрёдера.
Уже более 60 лет либералы настаивают на том, что бацилла фашизма находится в полусонном состоянии в организме политического права. И все же, если не принимать во внимание таких заметных и непростых фигур, как Лео Штраус и Аллан Блум, ни один из ведущих американских консервативных интеллектуалов не был преданным сторонником Ницше или серьезным поклонником Хайдеггера. Все основные направления консервативной мысли берут свое начало в трудах сторонников Просвещения — Джона Локка, Адама Смита, Шарля Луи Монтескьё, Эдмунда Бёрка — и ни одно из них не связано напрямую с воззрениями нацистов или Ницше, с экзистенциализмом, нигилизмом или даже прагматизмом[302]. В то же время ряды левой интеллигенции заражены идеями, непосредственно относящимися к фашистской традиции. Однако достаточно одного лишь магического слова «марксистский», чтобы оправдать причастность большинства из них к этим течениям. Остальные выходят из положения за счет нападок на буржуазную мораль и традиционные американские ценности — хотя сами по себе такие нападки немногим лучше, чем повторение фашистских аргументов.
Во время научной дискуссии существенными могут оказаться различия, скажем, между «величайшим безрассудством» Фуко, тираническим логоцентризмом Дерриды и «бунтом против разума» Гитлера. Но такие различия редко выходят за пределы университетских стен и не имеют никакого значения для движения, которое считает, что действие важнее, чем идеи. Деконструкция, экзистенциализм, постмодернизм, прагматизм, релятивизм — все эти идеи объединяла одна цель: постепенно разрушить железные цепи традиций, растворить бетонный фундамент истины и подорвать зажигательными бомбами бункер, в котором продолжают сражаться выжившие защитники старого режима. Таковы идеологии «движения». Покойный Ричард Рорти признал это, объединив Ницше и Хайдеггера с Джеймсом и Дьюи как участников одного и того же грандиозного проекта.
Немногие были более искусны в использовании слова «движение», чем фашисты и их предшественники. Гитлер употребляет это слово более 200 раз в Mein Kampf (он обычно писал его с заглавной буквы). Газета нацистской партии называлась Die Bewegung («Движение»), Суть слова «движение» становится понятной из его значения. Движение, в отличие от прогресса, не предполагает четко определенного пункта назначения. Скорее, принимается как данность, предпочтительность любого изменения. Как отмечали Аллан Блум и другие, главной страстью фашизма было самоутверждение. Нацисты, конечно, могли бороться за утопичный тысячелетний рейх, но их изначальные инстинкты были радикальными: разрушить существующее. Снести его до основания. Ликвидировать «das System» (систему) — еще один термин, который использовали как «новые левые», так и фашисты. «У меня варварская концепция социализма, — однажды заявил молодой Муссолини. — Я понимаю его как величайший акт отрицания и разрушения... Вперед, новые варвары!.. Как и все варвары вы являетесь предвестниками новой цивилизации»[303]. Стремления Гитлера были еще более разрушительными. Еще до того, как он приказал уничтожить Париж и начал внедрять политику выжженной земли в Германии, Гитлер собирался разбить все, что было создано буржуазией, уничтожить реакционеров, создать новое искусство и архитектуру, новую культуру, новую религию и прежде всего новых немцев. Этот проект можно было реализовать только на руинах системы. И если он был неспособен создавать, то по крайней мере мог найти утешение в разрушении.
Чем же это отличается от атмосферы конца 1960-х годов, соответствующей девизу «Жги, детка, жги!»?
Культ действия
Через пять месяцев после захвата Корнеллского университета «Метеорологи» собрались в Линкольн-Парке города Чикаго. Вооруженные бейсбольными битами, шлемами и, по словам историка Джима Миллера, «предположительно неисчерпаемыми запасами высокомерия и ненависти к самим себе», они были готовы «прорваться сквозь буржуазные запреты и “разнести город свиней” в рамках “национальной акции”, которую они назвали “дни гнева”». Подобно коричневорубашечникам и фашистским сквадристам, они разбивали окна, уничтожали чужую собственность и терроризировали буржуазию. Они уже пролили кровь за год до этого на национальном съезде Демократической партии 1968 года, где, по утверждению «Метеорологов», их насилие причинило «больше вреда правящему классу, чем любое массовое, мирное собрание за все время существования этой страны»[304].
Желание уничтожать естественным образом продолжает культ действия. В конце концов, если вы являетесь преданным сторонником революционных изменений, любые преграды, возникающие перед вами, — суды, полиция, правовые нормы, — должны быть либо преобразованы, ассимилированы, либо уничтожены. Все фашисты являются приверженцами культа действия. Популярность фашизма обусловливалась тем, что он был ориентирован на деятельность. Наладить движение поездов по расписанию, дать людям работу, вывести нацию из состояния застоя — эти задачи изначально декларирует каждая фашистская организация. Фашистское умонастроение можно описать следующим образом: «Довольно разговоров, больше действия!» Закрыть книги, выйти из пыльных библиотек, взяться за дело. Приступить к действиям! Каким действиям? Прямым действиям! Социальным действиям! Массовым действиям! Революционным действиям! Действовать, действовать, действовать.
Коммунисты тоже любили действие. Это не удивительно, учитывая родство коммунизма и фашизма. Но фашисты ценили действие больше. У коммунистов был конкретный план. А у фашистов было стремительное наступление, зовущее всех участников на поле боя. У фашизма, безусловно, были свои теоретики, но на улицах победа интересовала фашистов гораздо больше, чем теории. «В некотором роде, совершенно отличном от классических “измов”, — пишет Роберт О. Пакстон, — правота фашизма не зависит от истинности каких-либо утверждений, выдвигаемых от его имени. Фашизм “истинен” потому, что он помогает выполнить предназначение избранной расы, или народа, или крови». Или, как выразился сам Муссолини в своих «Постулатах фашистской программы» (Postulates of the Fascist Program), фашисты «не чувствуют себя привязанными к какой-либо конкретной доктринальной форме»[305].
Слово «активист» стало употребляться в английском языке на рубеже веков с усилением позиций прагматического прогрессивизма. Представители ранней фашистской интеллигенции считали себя «философами-активистами». Несмотря на приверженность социалистическим воззрениям, Муссолини написал в 1908 году: «Плебеи, слишком увлеченные христианством и принципами гуманизма, никогда не смогут понять, что для процветания Сверхчеловека необходима большая степень зла... Сверхчеловек не знает ничего, кроме бунта. Все, что существует, должно быть уничтожено». Это высказывание представляет собой смесь ленинизма и идей Ницше. Вместо отдельно взятого сверхчеловека на роль новой разновидности сверхлюдей претендовал революционный авангард. Кроме Ницше, нацистов также вдохновляли романтики, которые считали, что дух действия важнее, чем стоящая за ним идея. Это был уже упомянутый ранее нацистский «культ действия». Французские фашисты даже называли свое движение Action Française[306], поставив действие наравне с нацией. Муссолини определял как социализм, так и фашизм как «движение, борьбу и действие». Один из его любимых лозунгов гласил: «Жить — это значит действовать, а не просчитывать варианты!» Гитлер издевался над теми, кто считал, что веские доводы и разум сильнее власти народа. Когда четыре известных экономиста послали Гитлеру письмо, оспаривающее его социалистические схемы, Гитлер ответил: «Где ваши отряды штурмовиков? Выйдите на улицу, сходите на народные митинги и попробуйте отстоять свою точку зрения. Вот тогда и посмотрим, кто прав — мы или вы»[307].
Радикализм 1960-х годов был пронизан тем же духом. Первые представители СДО, сосредоточенные в Институте политических исследований (современный «мозговой центр», тесно связанный с левым крылом Демократической партии), были сторонниками того, что они называли «экзистенциальным прагматизмом», представлявшим собой смесь из идей Жана-Поля Сартра и Джона Дьюи в равной мере. «Я нигилист! И я горжусь, горжусь этим!» — выкрикивал один из делегатов на заседании организации «Студенты за демократическое общество» в Принстонском университете в 1967 году. «Тактика? Слишком поздно... Давайте сломаем то, что сможем. Заставим ответить всех, кого получится достать. Порвем их на части»[308].
Марк Радд, председатель организации «Студенты за демократическое общество» в Колумбийском университете и лидер восстания, произошедшего там в 1968 году, представлял власть тех, кого «умеренные» члены СДО называли «фанатами действия» или «фракцией действия». Апологет насилия, Радд полностью разделял сорелианское убеждение, согласно которому «прямое действие» способствует «развитию сознания» (в то время эта фраза звучала свежо). Когда «умеренные» сказали ему, что необходимо усилить организацию движения и увеличить его охват, он ответил: «Организация — это просто один из синонимов медленного продвижения»[309]. Муссолини, который разделял своих сквадристов на «отряды действия», безусловно, одобрил бы такую мысль.
Как вы помните из предыдущей дискуссии, идею о том, что для приведения масс в действие необходимы мифы, первым высказал Жорж Сорель, французский инженер, впоследствии ставший философом. Признавая, что марксизм, как и все социальные науки, был мало пригоден для реальной жизни, Сорель объединил желание верить Уильяма Джеймса с волей к власти Ницше и применил их к психологии масс. Революционерам не нужно было понимать, реален ли марксизм; они должны были верить в миф марксизма (или национализма, синдикализма, фашизма и т. д.). «Одно дело заниматься социальной наукой, и совсем другое — формировать сознание», — писал он[310]. Движущая сила действия — страсть, а не факты. «Горами движет вера, а не разум», — пояснял Муссолини в интервью 1932 года (в русле идей, высказанных в работе Вудро Вильсона «Лидеры человечества»). «Разум — это инструмент, но он в принципе не может быть движущей силой толпы».
Как показал инцидент с поджогом креста в Корцеллском университете, это стремление пробуждать страсти в ущерб истине и разуму было определяющим моментом в программе тех, кто сражался в окопах. Практика «лжи во имя справедливости», которая всегда была приемлемой для представителей коммунистического левого лагеря, обрела новую жизнь в деятельности американских «новых левых». Особой популярностью в ходе восстания в Колумбийском университете пользовалась фраза «Это не проблема». Не удивительно, так как реальная «проблема» — строительство спортзала в соседнем Гарлеме — была совершенным пустяком. Для большинства активистов обман не имел значения. Значимыми были страсть, мобилизация, действие. Один из членов СДО, после того как он и его коллеги захватили здание и похитили декана, произнес: «У нас здесь что-то происходит, и теперь нам предстоит выяснить, что же это такое»[311].
Создание политики смысла
Движение 1960-х годов изначально не несло разрушения. На самом деле сначала оно было исполнено возвышенного идеализма и надежды. Порт-Гуронская декларация, ключевой документ «новых левых», несмотря на присущее ей вычурное пустословие, была исполнена благих намерений и отличалась демократическим оптимизмом и замечательной честностью. Ее авторы (главным из них был Том Хейден) признали, что на самом деле они считают себя буржуазными радикалами, «выросшими в достаточно комфортных условиях». Не приемля американского образа жизни, молодые радикалы жаждали единства и сопричастности, повторного обретения личного смысла посредством коллективных политических усилий. Казалось, что жизнь утратила равновесие. «Сегодня трудно найти человеческий смысл в той беспорядочной массе фактов, которая нас окружает», — заявляли авторы. Они стремились создать такую политическую систему, которая смогла бы восстановить «человеческий смысл» (что бы ни вкладывалось в это понятие). «Целью человека и общества, — настаивали они, — должна быть независимость человека: озабоченность не популярностью, но поиском смысла жизни, который личностно значим». Это стремление к самоутверждению должно найти выражение в политике, способной дать выход «нереализованному потенциалу для саморазвития, саморегуляции, понимания самого себя и творчества»[312].
В то время активистов молодежного движения услышали представители традиционного либерализма, которые все чаще стали говорить о «национальной службе», «жертве» и «действии». Джон Ф. Кеннеди, самый молодой президент из когда-либо избранных, сменивший самого старого, одновременно поддерживал это настроение и использовал его при каждой возможности. «Пусть знают все, — заявил он в своей инаугурационной речи в почти авторитарной манере, — что факел был передан новому поколению американцев, рожденных в этом столетии, закаленных войной, дисциплинированных жестким и суровым миром». Его самая известная фраза — «Спрашивайте не о том, что ваша страна может сделать для вас, а о том, что вы можете сделать для своей страны» — нашла живой отклик у поколения, отчаянно пытавшегося обрести общее спасение в мире, подобно тому, как их родители обрели его в войне.
Все общество было охвачено подсознательным стремлением к поиску общности и побуждающего к действию руководства. Как Том Хейден заметил в марте 1962 года, «три четверти студентов считают, что стране необходим сильный бесстрашный лидер, которому они могут всецело доверять». Представители зарождающегося молодежного движения надеялись, что Кеннеди вполне может оказаться таким лидером. Корпус мира, а позже и волонтерская организация «Добровольцы на службе Америке»пополняли свои ряды молодыми активистами. Калифорнийский университет в Беркли, где произошло первое студенческое восстание 1960-х годов, стал «самым значительным поставщиком добровольцев в Корпус мира в начале 1960-х годов». Когда «Союз студентов за мир» устроил демонстрацию перед Белым домом в феврале 1962 года, Кеннеди приказал своим поварам напоить пикетчиков кофе, в то время как представители организации с гордостью распространяли копии статьи из New York Times, в которой сообщалось, что президент «слушает» их[313].
А потом были поиски общности. Представители молодежи 1960-х годов, родившиеся в семьях американских коммунистов, унаследовали от своих родителей присущее им страстное желание создать новое сообщество, объединенное общими политическими устремлениями. По мнению Тодда Гитлина, бывшего президента СДО, «существовало страстное желание “объединить разрозненные части личной истории”, как это было выражено в Порт-Гуронской декларации, преодолеть множественность и спутанность ролей, которые становятся нормой в рационализированном обществе: противоречия между работой и семьей, между общественным и личным, между стратегическим, расчетливым разумом и спонтанными, выразительными эмоциями». Гитлин продолжает: «По крайней мере для некоторых из нас это стремление сводилось к более примитивному образу слияния с символической, всеобъемлющей матерью: движением, любимой общиной, в которых мы могли бы найти, по выражению психолога Кеннета Кенистона из Йельского университета, “знакомые нам с детства тепло, единение, причастность, зависимость и близость”». Марк Радд также вспоминал об успешности «коммун», созданных в Колумбийском университете: «Для многих это был первый коллективный опыт в их жизни, абсолютно непохожий на традиционный образ жизни Морнингсайд-Хайтс [в Колумбийском университете], где каждый находился в своей комнате или квартире. Один из собратьев сказал мне: «Коммуны цепляют сильнее, чем трава»[314].
Изначальная миссия СДО не была радикальной; она была гуманной: «работа с местной общественностью». Первым значительным проектом, реализованным данной группой, стал начатый в 1963 году Проект экономических исследований и деятельности. Члены СДО, как рыцари Круглого стола в поисках Грааля самореализации, отправились в городские трущобы, исполненные рвения политизировать бедных, угнетенных и уголовные низшие слои общества. Показателен тот факт, что в 1960-е годы наибольшей популярностью как у либералов, так и у левых пользовалось слово «общество»: «общественное действие», «работа с местной общественностью», «сообщества, основанные на взаимном уважении».
По замечанию Алана Бринкли, в основе большей части протестов и конфликтов 1960-х годов лежало стремление сохранить или создать то или иное сообщество. Предлогом для захвата Колумбийского университета в 1968 году было вторжение университета в жизнь черной общины. Политика уступок чернокожим националистам проводилась в целях интеграции их в корнеллское сообщество. Однако это спровоцировало вооруженный протест националистов, которые считали, что ассимиляция с университетским сообществом или с белым сообществом в целом тождественна отрицанию своего сообщества, что, по сути, является «культурным геноцидом».
Восстание в Беркли было вызвано главным образом расширением территории университетского городка за счет крошечного парка, который по большому счету был излюбленным местом хиппи, где они чувствовали себя комфортно в своем маленьком сообществе. Хиппи могут считать себя нонконформистами, но любому, кто проводил с ними время, понятно, что больше всего они ценят подобие. Одежда и прическа для них — способ уподобления и выражения общих ценностей. «Символ мира» обозначает нечто кардинально отличающееся от свастики, но при этом оба этих знака — лишь своеобразные отличительные признаки, которые сразу же распознаются и друзьями, и врагами. Протестующие в Беркли, которых раньше не замечали, чувствовали, что их мир, их народная община уничтожается холодным безличным учреждением, т. е. университетом и, пожалуй, самим временем. «Вы сдвинули нас к концу вашей цивилизации здесь, в Беркли, к самому морю, — кричал один из лидеров восстания в Народном парке. — Затем вы вытолкнули нас на квадратный участок под названием Народный парк. Это было последнее, что у нас оставалось, — этот квадратный кусок здравомыслия среди вашего всеобщего безумия... Теперь мы бездомны в вашем цивилизованном мире. Мы стали великими американскими цыганами с нашей мифологией, которая заменяет нам культуру»[315]. Похожую обличительную речь можно было услышать от богемного жителя Берлина в 1920-е годы.
Никто не спорит с тем, что нацизм был злонамеренной идеологией с первой секунды своего существования. Но это не значит, что каждый приверженец нацизма был движим злым умыслом. Немцы не принимали коллективного решения стать голливудскими злодеями на все времена. Миллионы немцев поверили, что нацисты несут единство, смысл, а также аутентичность. Вот что написал Уолтер Лакер в журнале Commentary вскоре после восстания в Корнеллском университете:
«Большинство основных убеждений и даже внешних атрибутов современных международных молодежных движений берет свое начало в Европе непосредственно перед Первой мировой войной и после нее. Представители немецкой “Новой волны” 1919 года были основоположниками движения хиппи: с длинными волосами, в сандалиях, немытые, они критиковали городскую цивилизацию, читали Германа Гессе и индийскую философию, практиковали свободную любовь и распространяли на своих собраниях тысячи астр и хризантем. Они танцевали, пели под гитару и слушали лекции о “духовной революции”. Современный хеппенинг появился в 1910 году в Триесте, Парме, Милане и других итальянских городах, где футуристы организовывали открытые собрания, на которых они читали свои стихи, манифесты и демонстрировали свои ультрасовременные картины. Они требовали, чтобы в будущем никто из тех, кому за тридцать, не принимал активного участия в политике...
Для историка философии старые, пожелтевшие от времени выпуски периодических изданий молодежных движений, — увлекательное чтение... На самом деле необъяснимо, как, несмотря на все исторические различия, немецкое движение могло предвосхитить так много проблем, волнующих современное американское движение, а также характерную для него литературную форму»[316].
Вернемся к примеру Хорста Бесселя, самого известного «лидера молодежи» раннего нацистского движения, «принявшего мученическую смерть» в борьбе с «Красным фронтом и реакционерами», как увековечено в нацистской «Песне Хорста Весселя» (Horst Wessel Lied). Бессель прекрасно подходил под характерный для 1960-х годов идеал молодежного лидера «с улицы», ведущего борьбу за социальную справедливость. Сын лютеранского пастора, он восстал против того, чтобы его воспитывали как представителя среднего класса, бросил учебу на юридическом факультете в возрасте 21 года и пополнил ряды бойцов нацистских штурмовых отрядов. Он перебрался в пользовавшийся дурной славой рабочий квартал и вместе со своими товарищами участвовал в кровавых уличных боях против коммунистов. Но Бессель также заработал репутацию склонного к идеализму и чувствительного приверженца «революции снизу», которая должна была положить начало единому расовому сообществу, преодолев классовые различия. Он следовал выбранному пути, живя среди криминальных элементов и пролетариев, ведущих борьбу. Он говорил:
«Тем, кто убежден, что нынешняя Германия не достойна стоять на страже ворот истинной немецкой культуры, нужно оставить театр... салоны... студии... родительский дом... литературу... концертные залы... Им следует выйти на улицы, на самом деле пойти к народу... который влачит жалкое существование на съемных квартирах, испытывая крайнюю нужду, страдая от преступности, где штурмовые отряды НСДАП защищают немецкую культуру... Каждая драка в пивной — это шаг вперед для немецкой культуры, голова каждого штурмовика, пробитая коммунистами, — еще одна победа для народа, для рейха, для дома немецкой культуры»[317].
Будучи поэтом-любителем, Вессель внес свой небольшой вклад в общее дело, написав стихотворение «Знамена ввысь» (Die Fahne Hoch), в котором звучало предсказание, что «день тьму прорвет, даст хлеб и волю он» и «неволе длиться долго не дано». Примерно в то же время он влюбился в Эрну Йенике, проститутку, которую он впервые увидел, когда ее избивали сутенеры в баре по соседству. Вскоре они вместе переехали в запущенный пансион, несмотря на протесты его матери. Существуют доказательства того, что Вессель все больше разочаровывался в нацистах, понимая, что коммунисты разделяют во многом те же убеждения. Его активность в рядах коричневорубашечников значительно уменьшилась. Однако невозможно сказать, порвал ли бы он с ними в конце концов, потому что он умер от рук коммунистов в 1930 году.
И этого оказалось достаточно для Йозефа Геббельса, который превратил смерть Весселя в успешный пропагандистский ход. Всего за одну ночь Вессель преобразился в мученика, погибшего за дело нацизма. Этот миф в сорелианском духе и с религиозной подоплекой был рассчитан на отличавшееся идеализмом потерянное молодое поколение межвоенной поры. Геббельс называл Весселя «Христом социализма» и развернул масштабную кампанию, идеализирующую его работу с беднейшими слоями населения. К началу Второй мировой войны места, где он жил и умер в Берлине, были превращены в остановки на крестном пути, а на его родине в Вене и во всех домах Берлина, где он жил, были открыты мемориалы. Его маленькое стихотворение было положено на музыку и стало официальным гимном нацистов.
В немецком фильме «Ганс Вестмар: Один из многих» (Hans Westmar: One of Many) молодой герой, прототипом которого был Вессель, выглядывает из окна общежития и заявляет своим товарищам: «Настоящее сражение там, а не здесь. Враг наступает... Я говорю вам, что судьба всей Германии будет решаться там, на улице. И мы должны быть именно там — с нашим народом. Мы больше не можем жить в наших башнях из слоновой кости. В бою мы должны объединиться с рабочими и действовать сообща. Отныне не может быть классовых различий. Мы тоже рабочие, работники умственного труда, и наше место теперь рядом с теми, кто работает своими руками»[318].
Даже если бы Вессель был выдуманным персонажем (хотя это было не так), в мифическом образе можно разглядеть более интересную и важную правду. В Германии миллионы молодых людей стремились к сияющему идеалу, воплощением которого был Вессель. Безусловно, крайний антисемитизм нацистов препятствует такому пониманию (и делает невозможным прощение), но мечта о единой, бесклассовой Германии всецело владела многими членами нацистской партии; и в этом смысле нацизм нельзя считать дурным сном.
Но так же, как довольно тонкая граница позволяет «хорошему» тоталитаризму легко перейти в «плохой», мечтательные сны могут очень быстро превратиться в кошмары. На самом деле некоторые сны с учетом их природы в конечном счете неизбежно становятся кошмарами. И идеализм хорстов весселей в рядах американских «новых левых», каким бы замечательным он ни был, быстро и неизбежно переродился в фашистский бандитизм.
Самым известным из этих личностей был Том Хейден. Он рос в семье среднего достатка в пригороде Детройта Оук-Парк (возле прихода отца Кофлина). Главный автор Порт-Гуронской декларации, Хейден играл заметную роль в начале борьбы за гражданские права на Юге. Он, конечно же, считал себя молодым демократом, но склонность к тоталитаризму была очевидной с самых первых его дней в Университете штата Мичиган. В речи, произнесенной перед членами «Мичиганского союза»[319] в 1962 году и ставшей основой манифеста под названием «Студенческая социальная инициатива», Хейден заявил, что молодежь должна отнять контроль над обществом у старшего поколения. Для этого университеты должны были стать инкубаторами революционного «социального действия». Ричард Флэкс, молодой ученый, который вскоре присоединился к новой кампании Хейдена вместе со своей женой Микки, был поражен. Он пришел домой и сказал жене, которая была активистом группы под названием «Женщины бастуют за мир»: «Микки, я только что видел следующего Ленина!»[320].
К концу десятилетия Хейден действительно стал откровенным сторонником «ленинского» насилия и хаоса, прославляя преступления как «политический протест» и открыто поддерживая Мао, Хо Ши Мина и, конечно же, кровавых «Черных пантер». Он помог написать «Программу освобождения Беркли». Вот некоторые из основных пунктов: «уничтожить университет, если он не станет служить народу);, «все угнетенные люди в тюрьмах должны быть признаны политическими заключенными и немедленно освобождены», «создать душевный социализм», «студенты должны уничтожить старческую диктатуру взрослых учителей». Его «работа с местной общественностью» в трущобах Ньюарка предшествовала и отчасти способствовала произошедшим там ужасным расовым волнениям. «Я был очарован простотой и действенностью коктейля Молотова в те дни в Ньюарке», — пишет он в своей автобиографии. Хейден выразил надежду, что за счет применения насилия «новые левые» смогут создать «освобожденные зоны» в гетто и в анклавах на территории университетских городков и использовать их для экспорта революции в не охваченные восстанием части Соединенных Штатов. В ходе проходившей в 1967 году дискуссии за круглым столом с участием ведущих интеллектуалов Нью-Йорка Ханна Арендт отчитала Хейдена за то, что он выступал в защиту кровавого восстания. На что он ответил резко: «Вы можете поставить меня в положение прокаженного, но я заявляю об оправданности применения насилия в движении за мир». При захвате Колумбийского университета Хейден пояснил, что протесты — это только начало «разжигания войны на родине». Вторя словам Че Гевары о «двух, трех, многих Вьетнамах», Хейден призывал к созданию «двух, трех, многих Колумбийских университетов»[321].
Одним из самых характерных симптомов левых революционных движений была их тенденция к стиранию различий между обычными преступлениями и политическим мятежом. Коричневорубашечники избивали лавочников, «трясли» предпринимателей и портили имущество, заявляя в свое оправдание, что все это делается во имя «движения». Левые активисты до сих пор называют массовые беспорядки в Лос-Анджелесе «восстанием» или «мятежом». Аналогичная моральная деградация отличала движение 1960-х годов. «Будущее нашей борьбы — это будущее преступлений на улицах», — заявлял Хейден. «Единственный способ “вовлечь молодежь в революцию”, — объяснял он, — это организовать “ряд опасных столкновений, столкновений не на жизнь, а на смерть” на улицах». Хейдена, несомненно, вдохновляли (как и он их) «Черные пантеры», которые регулярно устраивали засады на полицейских на улицах. В 1968 году в ходе демонстраций в Чикаго по случаю национального съезда Демократической партии один из его соратников Ренни Дэвис призывал толпу: «Не голосуйте, присоединяйтесь к нам на улицах Америки... Создавайте Фронт национального освобождения Америки». Хейден был отдан под суд за подстрекательство к насилию в Чикаго. В июне 1969 года он произнес речь о «необходимости расширения борьбы за счет тотальной атаки на суды»[322].
По словам лидера так называемой фракции действия СДО Марка Радда, Хейден относился к числу умеренных. Радд, который организовал «мятеж» в Колумбийском университете, родился в еврейской семье среднего достатка в Нью-Джерси, и родители, конечно же, не поощряли его поведения. Когда он позвонил отцу, чтобы похвастаться, что «отобрал здание» у ректора Колумбийского университета, его отец ответил: «Так верни ему это здание». Излюбленным боевым кличем Радда в то время был выкрик: «К стенке, ублюдок!» Он самозабвенно использовал его для запугивания учителей и администрации. «Пожалуй, ничто не приводит наших врагов в такую растерянность, как этот лозунг, — пояснял он. — Для них он является свидетельством того, в какой степени мы пренебрегаем их нормами, как глубоко мы погрязли в жестокости, ненависти и непристойности. Здорово!» Такое отношение, объяснял он, означает, что выступающие против радикалов администраторы, преподаватели и полиция — «наши враги». «Либеральные решения, перестройка, частичное понимание, компромиссы более не допустимы, — проповедовал Радд. — Суть в том, что мы осуществляем социальную и политическую революцию, не меньше»[323].
В итоге Радд пополнил ряды «Метеорологов», которые из уважения к женщинам, входящим в состав этой террористической группы, вскоре изменили свое название на «Подпольное бюро прогнозов погоды» (хотя их также иногда называли «Революционным молодежным движением»), В 1970 году группа заявила о том, что «объявляет войну» Соединенным Штатам Америки, и предприняла серию террористических атак. По мнению Радда, нападения на военные объекты, банки и полицейских были лучшим средством для разжигания революции. Один из первых взрывов должен был прогреметь на дискотеке для унтер-офицеров в Форт-Диксе, штат Нью-Джерси (хотя по другой версии, бомба, начиненная кровельными гвоздями, предназначалась для Колумбийского университета). Как бы то ни было, неопытные террористы подорвались на собственной бомбе в городском доме, расположенном в Гринич-Виллидж, в результате чего трое из них скончались на месте, а оставшиеся в живых были госпитализированы в тяжелом состоянии. Этот взрыв был одной из причин, вынудивших Радда уйти в подполье. Там он пробыл в течение нескольких лет, а затем сдался властям, после того как технические нарушения Закона о прослушивании значительно осложнили его уголовное преследование по делу федеральной юрисдикции. Сегодня он преподает математику в местном колледже города Альбукерке, штат Нью-Мексико. Радд раскаялся в насильственных действиях, совершенных им в молодости, но по-прежнему слывет страстным противником внешней политики Америки (и Израиля).
Многие из нас забывают, что взрывы, организованные в рамках кампании «Метеорологов», не исчерпывались несколькими случаями. С сентября 1969 по май 1970 года Радд и его соратники-революционеры, которые были представителями радикальных белых левых сил, совершили около 250 нападений, что приблизительно соответствует одному террористическому акту в день (по данным правительства, количество нападений оказывается на 600 процентов больше). В течение лета 1970 года в Калифорнии осуществлялось по 20 взрывов в неделю. Эти взрывы служили фоном для симфонии насилия, по большей части показного, которое определяло облик «новых левых» в конце 1960-х — начале 1970-х годов. Радд точно уловил это настроение: «Ударить свинью — это удовольствие. Убивая свинью или взрывая здание, наверняка испытываешь необычайно сильные чувства». «Следует видеть разницу не между теми, кто поддерживает взрывы, и теми, кто их осуждает, — объяснял секретный член группы террористов-подрывников, — а между теми, кто готов их осуществлять, и теми, кто слишком заботится о своих привилегиях и безопасности, чтобы так рисковать»[324].
Буржуазное отвращение к себе — главная причина ненависти «новых левых» к либерализму, их приверженности насилию и готовности сокрушить западную цивилизацию. «Мы против всего, что считается “хорошим и достойным” в белой Америке, — провозгласил один из повстанцев. — Мы будем жечь, грабить и разрушать. Мы воплощение самого жуткого кошмара вашей матери». «Метеорологи» стали штурмовыми отрядами «новых левых», которые ужасали даже тех, кто был с ними солидарен. Убежденные в том, что всем белым с самого рождения присущ первородный грех «привилегии по цвету кожи», боевые отряды «новых левых» впитали расистское мышление как ненависть к своей белизне. «Все белые дети — свиньи», — заявил один из «Метеорологов». Однажды поэтесса-феминистка Робин Морган кормила грудью своего сына в офисе радикального журнала Rat. Одна женщина из числа «Метеорологов» увидела это и сказала ей: «У вас нет права иметь этого свинского младенца». «Как вы можете так говорить? — спросила Морган. — Что же мне делать?» «Выбросить его в корзину для мусора», — ответила представительница «Метеорологов»[325].
Склонная к насилию студентка юридического факультета Чикагского университета Бернадин Дорн, которая стала революционеркой, выразила свое восхищение необычайно популярным среди «новых левых» серийным убийцей, хиппи и «сверхчеловеком» Чарльзом Мэнсоном. «Прикинь! — писала она своей подруге. — Сначала они убили этих свиней, затем пообедали в этой же комнате, они даже воткнули вилку в живот одной из жертв! Просто жесть!» В знак солидарности все представители ячейки «Метеорологов», членом которой она была, сделали жест в виде трехзубой «вилки» своим официальным приветствием[326].
Вполне естественно, что среди революционеров также хватало любителей играть на публику. Эбби Хоффман, который вместе с Джерри Рубином основал движение «йиппи»[327], родился в богатой еврейской семье в городе Вустере, штат Массачусетс. Получив среднее образование в частных школах, где он с самого начала зарекомендовал себя смутьяном, отчасти вследствие маниакальнодепрессивного расстройства, Хоффман посещал Университет Брандейса, где он учился у кумира «новых левых» Герберта Маркузе. Хоффман принял точку зрения Маркузе, согласно которой буржуазная Америка представлялась «радикально злой» и соответственно ей следовало бросить радикальный вызов. Но Хоффману было присуще нечто, отличавшее его от Маркузе, Радда, Хейдена и прочих: он умел представить свою миссию с изрядной долей юмора (хоть и не в той степени, как казалось ему самому). Его фашизм был курьезным фашизмом, озорным нигилизмом. Названия книг Хоффмана дают представление о его позициях: «Укради эту книгу» (Steal This Book), «Поимей систему» (Fuck the System) и «Революция от нечего делать» (Revolution for the Hell of It). «Лично я всегда сжимал свой цветок в кулаке», — писал он в своей автобиографии. Он овладел искусством называть «фашистами» всех своих недругов, тех, кто ему не нравился, в результате чего Рональд Рейган, по его образному выражению, стал «фашистским пистолетом на Западе». Хоффман, один из членов «чикагской семерки», скрывался от правосудия на протяжении большей части 1970-х годов, ускользая от преследования по обвинению в торговле кокаином.
Его выходки в меньшей степени напоминали поведение нацистов, начисто лишенных чувства юмора, и больше походили на обновленную манеру итальянских футуристов, которые, по сути, представляли собой художественное дополнение итальянского фашизма[328]. Футуристами были актеры, поэты, писатели, художники и другие люди искусства, полные решимости вынести все приметы молодости и революции на улицы и в кафе Италии. Их фашизм был гротескным, воспевающим потрясения и разрушение. Футуристы выбирали наслаждение скоростью и техникой, а йиппи прославляли наркотический экстаз. Но фактически это было одно и то же. Хоффман и Рубин, например, предложили «Театр разрушения» во время чикагского съезда, который был призван соединить «“травку” и политику в политическом движении поклонников конопляных листьев». Обновляя учение Сореля о мифе и насилии (что осталось незамеченным), Хоффман взял курс на создание «грандиозного мифа» кровопролития и потрясения. «Мы сожжем Чикаго до основания! Мы будем трахаться на пляжах! Мы требуем политики экстаза!» Сейчас это может показаться смешным, но намерением было спровоцировать столкновения, в результате которых на улицах должна была пролиться кровь. В августе подпольная газета йиппи Seed объявила об отзыве своей заявки на проведение молодежного рок-фестиваля. В редакционной статье пояснялось: «Чикаго может стать местом проведения кровавого фестиваля... Не приезжайте в Чикаго, если вы хотите попасть на пятидневный фестиваль жизни, музыки и любви»[329].
Для тех, кто не обращал внимания на большую часть бессмысленной риторики о марксизме, фашистский характер всего это был вполне очевидным. Кроме того, можно было просто поймать множество радикалов на слове, когда они говорили, что они «выше идеологии» и целиком сосредоточены на действии. Одной из наиболее очевидных улик была одержимость «новых левых» «улицей». Радикалы постоянно говорили о том, чтобы «вынести это на улицы», о необходимости «уличного театра», уличных протестов, активности на улицах и даже о «танцах на улице», как поется в песне. В названиях многих из лучших книг, написанных в то время или посвященных этому периоду, часто встречается слово «улица»: «Имени его не будет на площади» (No Name in the Street) Джеймса Болдуина, «Демократия на улицах» (Democracy Is in the Streets) Джима Миллера и «Огонь на улицах» (Fire in the Streets) Милтона Виорста — это лишь некоторые из них.
Фашисты всегда были просто помешаны на улице. Хорст Вессель, принявший мученическую смерть уличный боец, выразил настроение улицы в стихотворении, которое стало нацистским гимном: «Свободен путь для наших батальонов... Повсюду наши флаги будут реять скоро». Футуристы считали улицу единственной настоящей сценой. «Великая метла безумия оторвала нас от самих себя и погнала по неровным и глубоким, как русла пересохших потоков, улицам», — заявил Ф. Т. Маринетти, основатель футуристического движения. Футуристы в соответствии с известной фразой Маринетти прославляли «красивые идеи, которые убивают». «Каждый, кто способен выстраивать исторические связи, увидит идеологические истоки фашизма в футуризме, — писал Бенедетто Кроче в 1924 году, — в готовности выйти на улицы, чтобы навязать свое мнение, чтобы заставить замолчать тех, кто не согласен, не боясь беспорядков или драк, в этом стремлении порвать со всеми традициями, в этой свойственной юности экзальтации, которая была характерна для футуризма»[330].
Роль насилия как главной составляющей фашизма часто преувеличивается. Насилие присуще почти всем революционным движениям, за исключением тех немногих из них, которые отличаются явно выраженной мирной направленностью. Но фашистский авангард идеализировал насилие как самоцель, считая его «искупительным» и «преобразующим». Муссолини говорил об эффективности и важности насилия, но практиковал его в гораздо меньшей степени, чем можно было бы ожидать. Да, его головорезы избивали людей, и было даже несколько убийств, но Муссолини в основном привлекала эстетика насилия, звучание жестокой риторики, поэзия революционного кровопролития. «Потому что революции являются безумными, насильственными, идиотскими, зверскими, — пояснял он. — Они похожи на войну. Они поджигают Лувр и бросают обнаженные тела принцесс на улице. Они убивают, грабят, разрушают. Они являют собой библейский потоп, порожденный человеком. Именно в этом заключается их удивительная красота»[331].
Здесь снова бросается в глаза поразительное сходство с «новыми левыми». Их политические выступления были пронизаны насилием, физическое насилие просто подчеркивало его. Как у «новых левых», так и у фашистов насилие реализовывалось на многочисленных символических уровнях. Оно усугубляло ощущение кризиса, который так необходим революционерам, для того чтобы поляризовать общество. В самом деле, поляризация была стратегической целью и для «новых левых», и для нацистов. Только принудив либеральное большинство основывать свой выбор на предположении, согласно которому симпатии основной части избирателей склонятся в сторону левого полюса, Хейден и другие могли реализовать свои революционные планы. Именно это подразумевалось под «разжиганием войны на родине». (Один из товарищей Радда, который погиб в результате взрыва в Гринич-Виллидж, Тед Гоулд, утверждал, что единственный способ радикализации либералов заключался в том, чтобы «превратить Нью-Йорк в Сайгон»[332].) Нацисты также предполагали, что немцы, которые поддерживали социалистическую экономическую политику, но при этом отказывались от полного подчинения Москве, в конечном счете выберут не интернациональных социалистов, а национал-социалистов. Немецкие коммунисты поступали аналогичным образом, полагая, что нацизм должен ускорить историческое движение к коммунизму. На этом убеждении основывалась уже известная нам мантра немецких социалистов: «сначала коричневые, потом красные».
Как ни парадоксально, выступления в поддержку насилия — даже риторика насилия, в том числе и пристрастие Радда к ненормативной лексике, — помогли радикалам стать не похожими на либералов, которых представители левых сил считали слишком озабоченными вежливостью, правилами и традиционной политикой. Когда «умеренные» во время захвата Колумбийского университета пытались разубедить одного из членов Комитета обороны, размещенного в здании математического факультета (где скрывались наиболее радикально настроенные студенты), он ответил: «Вы, чертовы либералы, просто не понимаете, что происходит. Речь идет о власти и разрушении. Чем больше крови, тем лучше». В 1965 году в ходе марша к мемориалу Джорджа Вашингтона с требованием завершить войну Фил Оке пел свою исполненную презрения песню «Люби меня, я либерал» (Love Me, I’m a Liberal)[333]. Саул Алинский, написавший книгу «Правила для радикалов» (Rules for Radicals), которая стала библией для «новых левых» (позже он стал одним из наставников Хиллари Клинтон), разделял свойственное фашистам презрение к либералам как к коррумпированным буржуазным болтунам: «Либералы на своих заседаниях произносят смелые слова; они принимают важный вид, угрожающе гримасничают, а затем делают намеренно “двусмысленное заявление, в котором можно увидеть глубокий подтекст, если читать между строк”. Они сидят спокойно, бесстрастно, тщательно изучая проблему; рассматривают ее со всех сторон; они все сидят и сидят»[334].
Замените слово «фашист» словом «радикал» во многих заявлениях Алинского, и иногда очень сложно уловить разницу: «Общество имеет все основания опасаться радикалов... Они бьют, они причиняют вред, они опасны. Представители консервативных кругов знают, что в то время как либералы успешнее всего сворачивают себе шею своими языками, радикалы искуснее всего сворачивают шеи консерваторам». И еще: «Радикал может обнажить меч, но когда он делает это, его не переполняет ненависть по отношению к тем, кого он атакует. Он ненавидит этих людей не как личности, а как символы, представляющие такие идеи или интересы, которые он считает враждебными народному благосостоянию». Другими словами, они не люди, а обезличенные символы. «Изменение — это движение, — говорит нам Алинский. — Движение — это взаимодействие. Только в лишенном взаимодействий вакууме несуществующего абстрактного мира движение или изменение может происходить без присущего всякому конфликту резкого антагонизма»[335].
Насилие «новых левых» также обусловливалось множеством других фашистских явлений — от культа абсурда, жажды действия, стремления к подлинности (слова ничего не стоили) до чувства стыда за боевые достижения старшего поколения. Подобно тому, как многие представители нацистской молодежи пропустили Первую мировую войну и были полны желания доказать свою храбрость родителям и себе самим, многие из «новых левых» испытывали «неудобства» вследствие участия их родителей во Второй мировой войне (а для многих евреев проблемой стало выпавшее на долю их родителей тяжкое испытание холокоста). Кроме того, многие радикалы отчаянно пытались доказать, что они не трусы, несмотря на отказ воевать во Вьетнаме.
И наконец, насилие было данью уважения настоящим радикалам и революционерам на родине и за рубежом. Зависть «Черных пантер» была лейтмотивом всей истории радикализма «новых левых». Черные были «настоящими», и белые всячески стремились снискать их одобрение и поддержку. Французские интеллектуалы и либералы Верхнего Вестсайда преуспели в искусстве низкопоклонства, стремясь доказать свою приверженность радикализму. Они аплодировали, когда черные спортсмены на Олимпийских играх 1968 года подняли кулаки в знак пренебрежения к американскому национальному гимну, не заботясь (или зная) о том, что этот жест был явным проявлением фашистской эстетики. «Кулак, — заявил один из итальянских фашистов в 1920 году, — это средоточие нашей теории»[336]. И когда боксер Джордж Форман нес американский флаг на той же Олимпиаде, приверженцы Нормана Мейлера назвали его «дядей Томом».
О любом движении много могут сказать его герои, и в этом случае «новые левые» также оказываются не на высоте. Несмотря на все их громкие заявления о «демократии прямого участия», поразительно мало демократов считались героями даже среди «мирных» представителей этого движения. В Колумбийском университете, в Беркли и в университетских городках по всей Америке студенты-активисты расклеивали плакаты с портретами Че Гевары, Фиделя Кастро, Мао Цзэдуна и Хо Ши Мина. Под руководством Радда «Студенты за демократическое общество» установили полуофициальные связи с правительством Кастро. В Чикаго и в других местах они скандировали: «Хо-Хо-Хо-Ши-Мин!» Маленькая красная книжка революционных цитат Мао Цзэдуна стала бестселлером.
Вместо того чтобы называть эти режимы фашистскими (каковыми они, по моему глубокому убеждению, и были), мы только отмечаем сходство между этими движениями и режимами в странах третьего мира и традиционными фашистскими режимами.
Мао, Хо, Кастро и даже «Пантеры» — все они были представителями этноцентрических движений за «национальное освобождение». Именно так описывали свои стремления Муссолини и Гитлер. Гитлер обещал вывести Германию из-под власти Версальского договора и «международного финансового капитализма». Муссолини утверждал, что Италия — это «пролетарское государство» и подобно Германии имеет право на свое «место под солнцем». Культурная революция Мао, его смесь социализма и народных китайских традиций, прекрасно вписывается в фашистскую идеологию. Ведь Мао — это типичный военный диктатор (взять хотя бы обычную для него военную форму), который дополнял культ своей личности социалистической экономикой, националистической риторикой и бесконечными популистскими выступлениями в духе нюрнбергских митингов.
Тот факт, что Че Гевара стал превосходным инструментом продвижения брендов, — отвратительное следствие как американской потребительской культуры, так и невежественного либерализма, который представляет собой мерзкое наследие «новых левых» 1960-х годов. Футболки с портретом Че Гевары — самый покупаемый товар массового производства с революционной символикой, который можно приобрести в ближайшем розничном магазине, где продаются вещи в стиле boho-chic[337], в том числе и популярная линия детской одежды. Вот текст одного объявления, рекламирующего такие вещи: «Коллекция “Да здравствует революция!”, представленная в каталоге журнала Time, где перечислены интернет-магазины, в которых можно приобрести праздничные подарки. Теперь даже самый маленький бунтарь может выразить себя в этих потрясающих ползунках. Этот классический образ Че Гевары также доступен на футболках детских размеров с длинными рукавами... Да здравствует бунтарь в каждом из нас! Нет на свете культового образа круче, чем Че!»[338]
Аргентинский последователь кубинской революции был злодеем и убийцей. В своих газетах он писал классические фашистские апофегмы: «ненависть как элемент борьбы; непреклонная ненависть к врагу, которая толкает человеческое существо за пределы его природных ограничений, превращая его в эффективную, жестокую, избирательную и хладнокровную машину убийства». Гевара был неплохим писателем, но та же муза вдохновляла Гитлера на создание Mein Kampf. Гевара получал наслаждение, казня заключенных. Разжигая революцию в Гватемале, он писал своей матери: «Все это было очень весело: бомбы, выступления и другие развлечения, которые скрашивали монотонность моей жизни». Его девиз гласил: «Если есть сомнения, надо убить». И он убил многих. Кубино-американский писатель Умберто Фонтова описал Гевару как «смесь Берии и Гиммлера»[339]. Гевара, безусловно, убил больше диссидентов и любителей демократии, чем Муссолини, и Италия Муссолини, несомненно, была более «свободной», чем то общество, которого искал «борец за свободу» Гевара. Вы бы надели подгузник с портретом Муссолини на своего ребенка? Вы бы позволили своей дочери пить из чашки с изображением Гиммлера?
Можно долго спорить о том, каких политических ярлыков заслуживают эти люди, но факт остается фактом: данные «освободительные» движения стали такими популярными благодаря тем признакам, которые уподобляли Гевару, Кастро, Мао и прочих героям фашизма. И если убрать имена Маркса и Ленина из их выступлений, то останется то, что могло лечь в основу любой из обличительных речей Муссолини, которые он произносил с балкона (более того, если речь идет о Муссолини, то в некоторых случаях имена Маркса и Ленина можно не трогать). Все это были националисты, исповедующие национал-социализм, которые обещали реализовать «более истинную» и более «органическую» демократию, которая отметала «шаблонную», «поверхностную» и «упадочную» «поддельную демократию» буржуазного Запада. Такие личности, как конголезский националист Патрис Лумумба, стали героями именно потому, что они выступали против Соединенных Штатов и утверждали, что представляют чистое в расовом отношении революционное движение[340]. Организация Объединенных Наций и связанные с ней элиты заняли расистскую позицию, согласно которой убийство чернокожими или другими угнетенными народами друг друга или белых людей можно считать законным проявлением воли третьего мира к власти. Панафриканизм, панарабизм, китайский путь и антиколониализм, по сути, представляли собой переработанные версии гитлеровского пангерманизма и стремления Муссолини стать правителем «романской цивилизации» и «итальянцев по всему миру». Жителям развивающихся стран тоже требовалось жизненное пространство.
В соответствии с доктринами «черного освобождения» «революционное» насилие всегда оправданно, пока вы утверждаете, что окровавленный труп каким-либо образом причастен к угнетателям. Белые стали новыми евреями. «Застрелить европейца значит убить двух птиц одним камнем, одновременно уничтожая угнетателя и человека, которого он угнетает», — так выразился Жан-Поль Сартр в своем предисловии к одной из книг Франца Фанона. Все это нашло воплощение в эссе Нормана Мейлера «Белый негр» (White Negro), в котором преступления черных превозносились как модные, крутые и революционные. «Новые левые» не просто позаимствовали эту позицию; они сделали ее популярной. Опрос показал, что 20 процентов американских студентов отождествляли себя с Че Геварой. На втором месте по популярности оказался Никсон (19 процентов), затем Хамфри (16 процентов) и Уоллес (7 процентов)[341].
Безумие, жестокость и тоталитаризм вошли в моду. Бандиты и преступники стали героями, а сторонники правопорядка вдруг оказались «фашистами». Эта логика почти с самого начала отравила первые победы движения за гражданские права. В Корнеллском университете большинство черных студентов получили возможность учиться благодаря тому, что сегодня мы называем позитивной дискриминацией, несмотря на более чем посредственные результаты на отборочном тестировании. Особенно показателен тот факт, что многие из этих вооруженных до зубов революционеров были зачислены в университет именно потому, что они соогветствовали мейлеровскому стереотипу благородного «молодого человека из трущоб», истинного негра. В итоге выбрали именно их, а не других черных с более высокими результатами и лучшими аттестатами, потому что более подготовленные черные были слишком «белыми»[342].
К концу десятилетия движение за гражданские права по своим намерениям и целям превратилось в движение «За власть черных». А само движение «За власть черных», с сжатыми кулаками, афроязыческой мифологией, прославлением насилия, акцентом на расовой гордости и презрением к либерализму, стало, пожалуй, самым настоящим, коренным фашизмом Америки. Стокли Кармайкл, бывший в свое время «премьер-министром» партии «Черных пантер», заявлял, что движение «За власть черных» (именно он ввел в обиход этот термин) «разнесет все, что создала западная цивилизация»[343]. Кармайкл разделял мечту Гитлера о создании народного расового государства на обломках старого порядка.
Более того, знакомясь с идеологией расы, которую преподавали детям в нацистской Германии, трудно увидеть разницу между «черной» гордостью Кармайкла и немецкой гордостью Гитлера. «Какова первая заповедь каждого национал-социалиста? — вопрос из нацистского опросника. — Любить Германию превыше всего, а своих собратьев-арийцев, как самого себя!» Связи между черным национализмом и нацизмом, фашизмом и другими якобы правыми расистскими группами отнюдь не гипотетические — о них известно давно. Маркус Гарви, основатель движения «Назад в Африку», в 1922 году признал, что его идеология очень близка воззрениям Муссолини. «Мы были первыми фашистами», — заявил он. Кроме того, его рассуждения часто были устрашающе созвучными постулатам немецкого фашизма: «Поднимайся, могучая раса, добейся того, чего желаешь», «Африка для африканцев... на родине и за рубежом!» и т. д. В 1960-х годах Илайдж Мухаммад, глава мусульманской секты «Народ ислама»[344], установил теплые отношения с Джорджем Линкольном Рокуэллом, главой американской нацистской партии. Рокуэлла даже пригласили выступить на национальном собрании «Народа ислама» в 1962 году. В своей речи он восторженно отозвался об Илайдже Мухаммаде, назвав его «черным Адольфом Гитлером». 28 января 1961 года Мухаммад послал Малколма Икс[345] в Атланту, чтобы заключить соглашение с Ку-клукс-кланом, предполагавшее поддержку Кланом отдельного черного государства[346].
В целом движение «За власть черных» стало склоняться в сторону насильственных методов борьбы, задавая тон для белых левых сил. X. Рэп Браун призвал своих последователей «делать то, что сделал Джон Браун: брать оружие, выходить на улицу и стрелять в наших врагов». Малколм Икс неоднократно призывал черных использовать «любые средства, которые будут необходимы». Джеймс Форман, лидер Студенческого координационного комитета ненасильственных действий, заявил, что если его убьют, он хотел бы, чтобы в отместку «были уничтожены 10 военных заводов... и убиты один южный губернатор, два мэра и 500 расистских белых полицейских». Хорошо еще, что он принадлежал к откровенно ненасильственной группе! Бенджамин Чавис, будущий глава Национальной ассоциации содействия прогрессу цветного населения, впервые добился национального признания, когда был арестован и осужден как член «Уилмингтонской десятки», группы, которая, как утверждается, взорвала продуктовый магазин при помощи зажигательной бомбы, а затем открыла огонь по полицейским, когда они прибыли на место преступления»[347]. И всегда и везде были «Пантеры», в полувоенной форме и черных рубашках, которые использовали фашистские звания и должности (министр обороны, министр информации), грабили банки, призывали к массовым убийствам белых «свиней», устраивали засады на полицейских, похищения судей и детей и высказывались за создание отдельного «черного государства».
А как же обстоит дело с якобы фашистскими американскими правыми? В то время как «новые левые» без устали осуждали отцов-основателей как расистских белых людей, и даже бывшие в большинстве либералы считали смехотворной мысль о том, что конституция может иметь какое-либо значение для современного общества, консерваторы стали инициаторами масштабного проекта по восстановлению надлежащего места конституции в жизни американцев. Ни один из ведущих консервативных ученых или интеллектуалов не приветствовал фашистских явлений или идей. Ни один из ведущих консерваторов не пытался очернить имманентный классический либерализм политической системы Соединенных Штатов. Напротив, Барри Голдуотер, Рональд Рейган, Уильям Ф. Бакли и консерваторы, сплотившиеся вокруг журнала National Review, посвятили себя восстановлению классических либеральных воззрений создателей Конституции США.
Применительно к американскому консерватизму представителей левого движения тогда и сейчас сбивало с толку то, что любовь к своей стране и ее поддержка не обязательно рассматривались как первый шаг к фашизму. Патриотизм не тождествен крайнему национализму или фашизму. Нацисты убили многих немецких патриотов, любовь которых к своей родине была глубокой и искренней. В некотором смысле главная вина евреев заключалась в том, что они были патриотичными немцами. Именно в 1960-е годы левые убедили себя в том, что в патриотизме есть нечто фашистское, как и нечто извращенно «патриотическое» в пренебрежительном отношении к Америке. Антиамериканизм (пришедший на смену ненависти к западной цивилизации) стал пользоваться неведомой доселе популярностью у представителей интеллигенции. Поджигатели флага провозглашались образцовыми «патриотами», потому что неприятие не только однопартийной политики, но и самого «американского проекта» стало считаться высшей добродетелью. В 1930 году профессор Колумбийского университета, который выразил надежду на то, что Америке предстоит столкнуться с «миллионом Могадишо[348]», был патриотом в глазах представителей левых сил. А те американцы, которые ратовали за ограничение власти (подумать только!), вдруг стали «отвратительными фашистами».
Глядя на то, как жестокость и варварское разрушение привели Гитлера к власти, писатель Томас Манн отметил в своем дневнике, что это новый вид революции, «без основополагающих идей, против идей, против всего благородного, лучшего, порядочного, против свободы, правды и справедливости». «Сброд из низов» одержал победу, «сопровождавшуюся огромным ликованием со стороны масс»[349]. Либералы 1960-х годов, которые пережили аналогичную деградацию порядочности вследствие того же самого интеллектуального разложения, начали бунтовать. Столкнувшись с идеологией, которая всегда исходила из того, что Америка — источник проблем, а не средство их решения, они перешли в контрнаступление. Эти патриоты из обеих партий главным образом и стали основой политического течения, известного как неоконсерватизм. Так их окрестили левые, считавшие, что приставка «нео» будет вызывать ассоциации с неонацистами.
Но так как доводы неоконсерваторов ничего не стоят во всех уголках либерального невежества, важно отметить, что даже некоторым титанам левого движения еще хватало зоркости, чтобы понять происходящее. Ирвинг Луис Хоровиц, почитаемый левый интеллектуал (он был литературным душеприказчиком Чарльза Р. Миллса), специализирующийся на революционной мысли, увидел в радикализме 1960-х годов «фанатичную попытку навязать миру новый общественный порядок, вместо того чтобы ожидать вердикта в таких формулировках, которые были бы единодушно приняты различными людьми, а также соответствовали размышлениям историков». И он увидел самую суть этого фанатизма: «Фашизм возвращается в Соединенные Штаты не как правая идеология, но почти как полулевая идеология»[350].
Питер Бергер, бежавший из Австрии еврей, уважаемый борец за мир и социолог левых взглядов (он способствовал популяризации понятия «социальное конструирование реальности»), видел то же самое. «Наблюдая [американских] радикалов в действии, я неоднократно вспоминал о штурмовиках, которые прошли маршем по моему детству в Европе», — писал он. Он изучил длинный список общих для радикализма 1960-х годов и европейского фашизма черт и пришел к выводу, что эти идеологии образуют «комбинацию, которая до удивления напоминает общее ядро итальянского и немецкого фашизма». В 1974 году Джеймс Грегор написал работу «Фашистские убеждения в радикальной политике» (The Fascist Persuasion in Radical Politics), в которой все эти тенденции были обобщены и каталогизированы исключительно подробно и строго научно. «В недавнем прошлом, — отмечал он, — радикально настроенные студенты и “новые левые” узаконили такой политический стиль, который должен оказаться максимально полезным для американского варианта фашизма».
Даже некоторые представители СДО признавали, что члены их организации, склонные к экстремизму, скатываются к фашизму. Редакционная статья в газете The Campaigner (она издавалась региональным комитетом по труду организации СДО в Нью-Йорке и Филадельфии) описывала фракцию СДО, из которой выделились «Метеорологи»: «Существует почти полное тождество между аргументами анархистов (например, относительно восстаний в Колумбийском университете) и призывами Муссолини к действиям против теории, против программы»[351].
Теоретизирование по поводу «молодежного движения» в результате выхода в свет книги Чарльза Райха «Озеленение Америки» (Greening of America), критика разума, популистские призывы к победе над «системой», ратование за новое, национально ориентированное сообщество, которое позволило бы заменить капитализм более органическим и тоталитарным подходом — это было уже слишком для некоторых левых с ясным пониманием исторических корней фашизма. «Фашистские “обертоны”, — писал Стюарт Олсоп об «Озеленении Америки», — очевидны для любого, кто видел этот лес рук, поднятых молодыми революционерами в едином порыве, или слышал их бессмысленное скандирование. Профессор Райх, конечно же, хороший и добрый человек, без единой фашистской кости в его теле, и большинство из “освобожденных” молодых, которых он боготворит, также хорошие и добрые. Но ведь любой здравомыслящий человек, имеющий представление о политических реальностях, должен почувствовать запах опасности, которой эти глупые, добрые, иррациональные люди в своей беззаботной изоляции от реальности подвергают всех нас. Опасность начинается с университетов, но не заканчивается там. Это и вызывает наибольшие опасения». Не кто иной, как кумир социалистов Майкл Харрингтон, заявил о том, что в огульном обвинении Райхом современности (он назвал его «элитарным экзистенциализмом») угадываются романтические черты нацизма.
На сегодняшний день версия 1960-х годов в изложении либеральных левых примерно настолько же достоверна, как и воспоминания Невилла Чемберлена о Гитлере как о «мирном человеке». Страстные желания и стремления «новых левых» слабо отличались от целей представителей обновленного американизированного варианта, того, который мы называем европейским классическим консерватизмом. Своими фильмами — от «Беспечного ездока» и до «Джона Фицджеральда Кеннеди», Голливуд пытается сказать нам, что, если бы силы реакции не убили своих хорстов весселей, мы жили бы сегодня в лучшей, более справедливой и более толерантной стране. И если бы нам удалось «загореться» надеждами и устремлениями тех ранних радикалов, «то, что могло бы быть», превратилось бы в «то, что еще может быть». Это жизненная ложь левых. Западная цивилизация была спасена, по крайней мере на некоторое время, когда варвары потерпели поражение в начале 1970-х годов. Мы должны не только радоваться нашей, пусть небольшой, победе, но и быть бдительными, чтобы суметь сохранить ее для потомков.
Такая бдительность невозможна без понимания основ, на которых зиждется современный либерализм, а это, в свою очередь, требует еще одного взгляда на 1960-е годы — на этот раз сверху вниз, поскольку, когда радикалы на улицах требовали еще большей власти, прогрессивисты, которые уже были у власти, тоже делали свое дело.
Вполне объяснимо, что 1960-е годы воспринимаются как поворотный момент в нашей истории из-за резких перемен, многие из которых были совершенно неожиданными (и в некоторых случаях к лучшему). Но для событий этого десятилетия была характерна и преемственность. Когда Кеннеди сказал, что факел был передан новому поколению, в немалой степени он имел в виду новое поколение прогрессивистов. Эти мужчины (и некоторое количество женщин) были преданными продолжателями проектов Вильсона и Рузвельта. Когда факел передают, меняется бегун, но гонка остается прежней.
Из следующей главы вы узнаете, как Джон Ф. Кеннеди и Линдон Б. Джонсон продолжили поиски либеральных идей, начатых Вудро Вильсоном и его прогрессивными соратниками, поиски, результатом которых должно было стать заботящееся обо всем, всемогущее, всеобъемлющее государство, государство, которое берет на себя ответственность за каждый желаемый результат и принимает вину за каждую неудачу на пути к утопии, государство, которое в итоге заменяет Бога.
Глава 6. От «мифа Кеннеди» к мечте Джонсона: либеральный фашизм и культ государства
На протяжении всей истории государственная политика США неизменно была направлена в первую очередь на укрепление мощи страны. Принято считать, что консерваторы пытаются урезать полномочия правительства, а либералы, наоборот, расширить (причем это им удается). Можно привести немало доказательств этому, однако большинство из них лишь косвенно подтверждают данный вывод. Либералы часто выступают за ограничение влияния правительства на судебную систему («права Миранды» узаконил либеральный «суд Уоррена»[352]), национальную безопасность (либеральные круги оказали противодействие Закону о патриотизме[353] и внутреннему наблюдению), а также на такую обширную, но не имеющую четко выраженных границ область жизни общества, как «узаконенная мораль». Хотя конкретные политические стратегии вызывают немало разногласий, практически все консерваторы и большинство либертарианцев предпочитают отводить государству традиционную роль «ночного сторожа». Многие идут еще дальше, считая, что государство должно определять нормы порядочного и культурного поведения своих граждан и обеспечивать их соблюдение.
Короче говоря, спор о масштабах государственной власти зачастую сводится к более глубоким рассуждениям о роли государства. В этой главе будет предпринята попытка показать, что либералы, идущие вслед за «отцами либерального фашизма» Руссо и Робеспьером, видят в государстве фактически замену Бога и разновидность политической религии.
Исторически сложилось так, что для многих либералов главное предназначение государства заключается в его функциях, а не в могуществе. Представители как прогрессивизма, так и фашизма были твердо убеждены в том, что в современном обществе государство должно занимать место религии. Некоторые из них считали так, потому что верили, что Бог умер. Юджин Вебер писал: «Теперь, когда Бог мертв, фашистские лидеры не могут считать себя избранниками Божьими. Они верят в свою избранность, но не знают, избранниками каких сил они являются — предположительно истории или неясных исторических сил». Именно фашизм приводит к вождизму и культам личности. Но также существует еще одна разновидность фашизма, которая считает государство не заменой Бога, а его представителем или посредником. Однако в обоих этих случаях государство — это высшая власть, источник и хранитель ценностей, а также гарант нового порядка.
Мы уже упоминали о поклонении государству как прогрессивистской доктрине; ниже мы рассмотрим, как это мировоззрение проявляет себя в том, что обычно называют «войной культур». Поворотным моментом данной истории стали 1960-е годы, в частности период правления Джона Ф. Кеннеди и Линдона Джонсона.
Не будучи современным либералом, Джон Фицджеральд Кеннеди после смерти превратился в «мученика, пострадавшего за религию государства». Отчасти этому способствовали манипуляции окружения Кеннеди и отчасти — махинации (гораздо более циничные) Линдона Джонсона, который «украл» «миф Кеннеди» и использовал его в своих целях. Эти цели, соответствовавшие «хорошему» тоталитарному импульсу прогрессивного движения, в котором Джонсон приобрел свой первый политический опыт, номинально были светскими, но на более глубоком и, возможно, неосознанном уровне — исключительно религиозными.
* * *
22 ноября 1963 года Джон Ф. Кеннеди был убит в Далласе, штат Техас. Даллас тотчас же окрестили «городом ненависти». До молодого тележурналиста по имени Дэн Разер дошли слухи о том, что некоторые школьники Далласа обрадовались, узнав о смерти Кеннеди. Слух не соответствовал действительности, и местное представительство телерадиокомпании CBS в Далласе отказалось транслировать эту новость. Разер выполнил отвлекающий маневр, и его сообщение все-таки прозвучало в прямом эфире.
Разер был не одинок в своем желании указывать пальцем на представителей правого лагеря. Через несколько минут помощники Кеннеди стали обвинять в преступлении безумных и безымянных правых. Согласно одному из газетных заголовков убийство произошло «в глубине ненависти Техаса». Но когда стало ясно, что злодеяние совершил сумасшедший марксист, защитники Кеннеди были потрясены. «Он даже не удостоился чести погибнуть в борьбе за гражданские права, — жаловался Джеки Бобби Кеннеди, рассказывая ей об этой новости. — Он пал от руки какого-то ничтожного коммуниста»[354].
«А может быть, и нет», — считали те, кому был нужен миф о Кеннеди. Они приступили к созданию легенды, согласно которой Кеннеди погиб, сражаясь с «ненавистью». Этим словом тогда и сейчас обозначали представителей правых сил. Эта история стала легендой, благодаря тому что либералы отчаянно стремились придать убийству Кеннеди более возвышенный и политически полезный смысл. Снова и снова весь либеральный истеблишмент во главе с New York Times (и даже папа!) осуждали «ненависть», которая унесла жизнь Кеннеди. Судья Верховного суда Эрл Уоррен обобщил общепринятую точку зрения (этого вполне можно было от него ожидать), предположив, что «климат ненависти» в Далласе (так обозначалась деятельность правых и республиканцев) побудил Ли Харви Освальда убить президента[355].
Тот факт, что Освальд оказался коммунистом, придал этой истории еще более левый оттенок. «Как, — вопрошали либералы, — ярый приверженец марксизма мог убить титана либерального движения, выступавшего за социальный прогресс?» При этом почему-то оставался без внимания тот факт, что Кеннеди был убежденным антикоммунистом. Видимо, либералы, придерживаясь взглядов, сформировавшихся в эпоху Маккарти, считали, что реальная угроза свободе должна исходить справа. Марксизм Освальда стал для либералов объектом еще более глубокого отрицания, усилив характерную для них ненависть к коммунизму. Таким образом, в течение 1960-х годов теории заговора множились, подобно метастазам, и «марксистский боевик» стал козлом отпущения. «Кому это было выгодно?» — вопрошал Оливер Стоунз. Ответ: конечно же, представителям военно-промышленного комплекса в союзе с темными силами реакции и нетерпимости. И неважно, что Освальд ранее уже пытался убить бывшего генерал-майора армии и видного представителя правых сил Эдвина Уокера или что, как впоследствии заявит комиссия Уоррена, Освальд «отличался крайней неприязнью к правым»[356].
На волне неприятия, сострадания и недоумения по поводу убийства Кеннеди было найдено неофициальное стратегическое решение, призванное служить целям растущего «нового левого» движения, а также успокоить совесть всех либералов: сделать из Кеннеди пригодного для любых целей мученика за те принципы, которые он не защищал, и за политический курс, который он не принимал.
Более того, в 1960-х годах стали популярными высказывания о том, что, если бы Кеннеди остался жив, мы никогда не погрязли бы во Вьетнаме. Это мысль проходит красной нитью в книге Артура Шлезингера «Роберт Кеннеди и его время» (Robert Kennedy and His Time). Теодор Соренсен, Тип О’Нил и многие другие либералы разделяют эту точку зрения. В популярной бродвейской пьесе «Макберд» (MacBird) высказывалось предположение, что Джона Ф. Кеннеди убил Джонсон, чтобы захватить власть. Но даже Роберт Ф. Кеннеди признался однажды, что его брат никогда всерьез не планировал выводить войска из Вьетнама и был полон решимости воевать до победы. Кеннеди был яростным противником коммунизма и сторонником «холодной войны». Он выступал за ликвидацию, по сути, вымышленного «отставания по ракетам» от Советского Союза в своем стремлении, по большей части успешном, перейти к внешней политике в духе Ричарда Никсона, пытался свергнуть Фиделя Кастро в заливе Кочинос, поставил мир на грань ядерной войны во время кубинского ракетного кризиса и способствовал максимальной вовлеченности нашей страны в войну с Вьетнамом. Всего за три с половиной часа до своей смерти Кеннеди хвастливо заявил представителям Торговой палаты Форт-Уэрта о том, что ему удалось добиться значительного роста ассигнований на военные нужды, в том числе увеличения на 600 процентов финансирования войск специального назначения для борьбы с партизанами в Южном Вьетнаме. В марте 1962 года Кеннеди убеждал Конгресс в необходимости тратить пятьдесят центов из каждого федерального доллара на нужды обороны[357].
«Миф Кеннеди» абсолютно далек от реальности, когда дело касается расового вопроса. Легенда гласит, что Кеннеди был исключительным поборником гражданских прав. Предполагается, что, если бы его не убили, расовых потрясений 1960-х годов можно было бы избежать. Правда гораздо прозаичнее. Да, Кеннеди боролся за принятие законов в под держку гражданских прав, и он заслуживает уважения за это. Но он лишь продолжил то, что было начато ранее. В так называемые реакционные 1950-е годы республиканцы взяли на себя большую часть забот по выполнению обещания о равных правах для чернокожих в Америке. Эйзенхауэр провел в жизнь два важнейших закона в области гражданских прав, несмотря на жесткую критику со стороны демократов Юга и в особенности со стороны лидера большинства в Сенате США Линдона Джонсона, который всячески стремился сделать все, чтобы эти законы не были приняты. Итак, Кеннеди снова оказывается сторонником правого дела, хотя его усилия были не столь уж значительны. «Проблемы негров беспокоили меня не настолько, чтобы я не мог уснуть», — как-то признался он[358].
Знаменателен сам факт, что в предвыборной гонке после смерти Кеннеди кандидата в президенты Барри Голдуотера открыто называли «фашистом». Этот выступавший за ограничение власти государства консерватор, который носил очки и траурные костюмы, был настолько далек от фашизма, насколько это в принципе возможно в американской политике. Между тем интеллектуалы, осуждавшие Голдуотера как скрытого нациста, явно не понимали того, что именно Джон Ф. Кеннеди ввел в современную американскую политику фашистские мотивы и эстетику. Рузвельт был первым президентом, который использовал современные технологии для мифологизации собственного образа, но Кеннеди сумел превратить эту технику в искусство. Пока Кеннеди был жив, время его правления еще не называли «американским Камелотом»[359]. Сегодня это словосочетание употребляется для описания каждого светлого воспоминания о тех временах и каждой несбывшейся из-за безвременной кончины Джона Кеннеди мечты. В 1964 году Джеймс Рестон такими словами выразил либеральную ностальгию по образу подобного греческому богу президента Америки: «Он был образцовым президентом, более молодым и красивым, чем все смертные политики, превосходившим даже своих друзей, изящным, почти элегантным, обладающим поэтическим слогом и стоящим рядом с сияющей молодой женщиной»[360].
Многие составляющие «мифа Кеннеди» сейчас настолько же очевидны, как и в то время. Он был самым молодым из когда-либо избранных американских президентов (моложе его на момент вступления в должность был только Тедди Рузвельт). Он был первым президентом, родившимся в XX веке. Он был человеком действия, настоящим героем войны. Также он был интеллектуалом, автором книги-бестселлера о политическом мужестве. Он сделал либерализм крутым и гламурным. И в то же время он был прагматиком, который никогда не позволил бы воспитанным в университетах «Лиги плюща» ученым из своего окружения вмешиваться в проводимый им политический курс. Он являлся выражением национального стремления к «обновлению» и «возрождению», обращаясь к идеализму американцев и призывая их к общей жертве.
Давайте вспомним ключевые составляющие культа личности Муссолини: молодость, действие, опыт, энергия, обаяние, военные успехи. Муссолини провозглашал себя лидером молодежного движения, нового поколения, способного благодаря интеллекту и опыту порвать со старыми категориями левого и правого толка. В своей пламенной инаугурационной речи Джон Ф. Кеннеди говорил о «новом поколении американцев, рожденных в этом столетии, закаленных войной, жестокой и суровой действительностью, гордящихся нашим древним наследием». Движение, созданное и возглавляемое Муссолини (как и движение Гитлера), опиралось на поколение итальянцев, закаленных в Первой мировой войне, и на их негодование по поводу несправедливого Версальского мира. Итальянское фашистское правительство рекламировало себя как «режим молодых», «технократическое чудо». При этом Муссолини сам управлял многими министерствами благодаря силе воли и неукротимой энергии. Пропагандисты фашизма заполонили средства массовой информации фотографиями Муссолини, рубящего дрова, идущего на лыжах, совершающего пробежку и стоящего голым по пояс на снегу в Альпах. Кроме того, репутация Муссолини как интеллектуала и писателя на самом деле была заслуженной, в отличие от Кеннеди.
Администрация Кеннеди действовала теми же методами. Абсолютно во всех газетных статьях о новом президенте обязательно упоминались его жажда деятельности, молодость и энергичность. Фильмы, восхваляющие его отвагу и самоотверженность, казалось, показывались всюду. Он не был таким явным любителем женщин, как Муссолини, тем не менее образ секс-символа, который старательно создавался им самим, был продуктом трезвого политического расчета. В ходе предвыборной кампании Кеннеди явно позиционировал себя как герой войны, и его политические войска можно было легко узнать по эмблемам с изображением РТ-109[361]. Его предвыборные рекламные ролики, изобиловавшие изображениями Кеннеди-воина, хвастливо заявляли, что пришло «время величия». Кеннеди, как и Муссолини, обещал национальное «восстановление» и «новую политику», которые позволят преодолеть старые категории левого и правого толка. Он убеждал, что благодаря его собственной силе воли и силе воли его помощников-технократов стоящие перед страной проблемы будут решаться более эффективно, чем это делалось традиционными демократическими средствами.
Кроме того, Кеннеди был супергероем почти в прямом смысле. Интересно, что ни один президент не появлялся в комиксах про Супермена чаще, чем Джон Ф. Кеннеди. Ему даже была доверена тайна личности Супермена, и однажды пришлось выдавать себя за Кларка Кента, чтобы предотвратить его разоблачение. Когда Супердевушка (Supergirl) пополнила ряды героев, она была официально представлена чете Кеннеди (не удивительно, что президент сразу же проникся к ней симпатией). В специальном выпуске, призванном привлечь внимание американской молодежи к физической культуре, Кеннеди (совсем как астронавт «полковник Гленн») ставит перед Суперменом задачу преодолеть «отставание в мускульной силе»[362].
Такая связь приходила в голову не только создателям комиксов. В 1960 году Норман Мейлер написал для журнала Esquire нудную статью под названием «Супермен приходит в супермаркет» (Superman Comes to the Supermarket). Формально являясь отчетом о национальном съезде Демократической партии в Лос-Анджелесе, этот очерк больше напоминал курсовую работу по семинару Ноама Хомского. Но он в любом случае дает представление о том, что даже такие известные интеллектуалы, как Мейлер, понимали, что им предлагают миф, и с готовностью его принимали[363].
В оригинальном «мифе Кеннеди» не подчеркивалась его принадлежность к прогрессивному движению. Тед Соренсен вспоминал, что Джон Ф. Кеннеди «никогда не считал себя либералом; только после его смерти они стали заявлять, что он был одним из них». Более того, у семейства Кеннеди были серьезные проблемы со многими из тех, кто называл себя прогрессистами (ставшими, по сути, коммунистами после Второй мировой войны), вследствие тесных связей с еще одним видным американцем ирландского происхождения, политиком Джо Маккарти. После Роя Кона Бобби Кеннеди был самым ценным помощником Маккарти. Джек Кеннеди никогда не осуждал своего коллегу из Сената, который также был близким другом его отца. Но в то время Кеннеди был в большей степени националистом, чем либералом. Будучи студентом Гарвардского университета, он послал изоляционистскому комитету «Америка прежде всего» пожертвование в размере 100 долларов с приложенной запиской, которая гласила: «То, что вы делаете, имеет огромное значение»[364].
Вторая мировая война изменила взгляды Кеннеди, как и большей части приверженцев изоляционизма. Она также способствовала формированию у Кеннеди чувства преклонения перед «великими». Он благоговел перед Черчиллем и копировал его речи из альбомов «Теперь я могу это услышать» (I Сап Hear It Now) с комментариями Эдварда Р. Марроу[365]. В последующие годы работники администрации Кеннеди знали, что самый верный способ снискать расположение президента заключался в том, чтобы заставить его думать, что величие не за горами. Вся его политическая карьера основывалась на надежде и стремлении стать «львом XX столетия», последовав примеру Франклина Делано Рузвельта.
Джон Ф. Кеннеди, как известно, унаследовал этот честолюбивый замысел от отца, Джозефа П. Кеннеди, пронацистского руководителя Демократической партии, который мечтал увидеть кого-либо из своих сыновей в Белом доме. В 1946 году Джо распространил 100 тысяч копий статьи Джона Херси о подвигах Джона Ф. Кеннеди на торпедном катере РТ-109. Вскоре целая команда интеллектуалов взялась за работу, чтобы превратить Джона Ф. Кеннеди в следующего великого человека действия. Первая книга Кеннеди «Почему спала Англия» (Why England Slept), расширенная версия его дипломной работы, была продуктом коллективного творчества. Его вторая книга «Профили мужества» (Profiles in Courage) о великих людях, которые придерживаются своих принципов, несмотря на трудности, по существу, была создана комитетом под председательством Теда Соренсена, а сам Кеннеди участвовал в этом процессе от случая к случаю. А вот Пулитцеровскую премию он, конечно же, получал самостоятельно.
Кеннеди был первым современным политиком, осознавшим и использовавшим новое влияние, которое интеллектуалы приобрели в американском обществе. Прежние члены «мозгового треста» были экономистами и инженерами, людьми, которые придавали форму земле и металлу. Новые представители «мозгового треста» были «повелителями образов», историками и писателями, пропагандистами в самом положительном смысле, основным орудием которых являлись слова и образы. Кеннеди был неглуп и понимал, что в современном мире стиль важнее сути. Будучи, несомненно, красивым и обаятельным человеком, он успешно использовал в своих целях возможности телевидения. Правление Кеннеди стало торжеством стиля в американской политике.
Политический успех Кеннеди также обусловливался тем, что он оказался на гребне волны истории. Силы прогрессивного движения снова пришли к власти после периода мира и процветания. И несмотря на беспрецедентное богатство и обилие свободного времени в послевоенные годы (и даже во многом вследствие этого) в рядах амбициозных, стремящихся к более высокому положению представителей интеллигенции, и прежде активистов прогрессивнолиберального истеблишмента, явственно ощущалось желание «в очередной раз привести Америку в движение». Консервативный издатель Генри Люс писал в 1960 году, что «народ Америки больше всего нуждается в ясном представлении о национальной идее»[366].
Это было началом третьего «фашистского момента» в истории Америки, который формировался в течение 1960-х и в начале 1970-х годов на улицах и в университетах (как видно из предыдущей главы), а также в коридорах власти. То, что завершилось кровопролитием на улицах, начиналось как «революция сверху», проводившаяся наследниками идей Вильсона и Франклина Делано Рузвельта с благими намерениями. Однако они не смогли сдержать ими же выпущенных на свободу демонов.
Возможно, наилучшим образом представители руководства обеих партий, выступавшие за «социальные изменения», смогли выразить свои мысли в серии эссе о «национальной идее», публиковавшихся в New York Times и в журнале Life. Эдлай Стивенсон писал, что американцам необходимо преодолеть «мистическую неприкосновенность частной жизни» и отвернуться от «храма супермаркета». Чарльз Ф. Дарлингтон, ведущий корпоративный управляющий и бывший сотрудник Госдепартамента, объяснил, что Америке необходимо снова почувствовать коллективный дух национальной идеи, который был характерен «для некоторых периодов правления Вудро Вильсона и обоих Рузвельтов» (вы наверняка понимаете, о каких периодах идет речь). Прежде всего, возрождающейся Америке следовало перестать считать себя нацией отдельных личностей. В очередной раз спасение было в «коллективном действии». Призыв Дарлингтона к «уменьшению роли частного предпринимательства» соответствовал возрождению корпоративизма и военного социализма, реализованных администрацией Вильсона и Рузвельта[367].
Основанный на данных специального исследования Gallup отчет, опубликованный накануне инаугурации Джона Кеннеди в январе 1960 года в журнале Look, свидетельствовал о том, что американцы на самом деле чувствовали себя вполне комфортно. «Большинство американцев сегодня расслаблены, — отмечалось в отчете, — лишены духа авантюризма, полностью довольны своим образом жизни и смотрят в будущее с оптимизмом». Соответственно требовалось отвлечь внимание американцев от их «телеужинов» и крутых автомобилей и заставить их следовать сладкозвучным обещаниям интеллектуалов, подобным песням сирен. А это означало, что Кеннеди был нужен кризис для того, чтобы подчинить общественное сознание новому сорелианскому мифу. «Великие кризисы порождают великих людей», — утверждал Кеннеди в своей книге «Профили мужества», и все его президентство было посвящено созданию кризисов, соответствующих величию, которого он желал достичь[368].
Огромная свита интеллектуалов и активистов, ностальгирующих по энтузиазму времен «Нового курса» и Второй мировой войны, разделяла желание Кеннеди сбить с Америки спесь. В 1950-е годы Артур Шлезингер-младший от имени всех прогрессивистов, молодых и старых, выражал сожаление по поводу «отсутствия неудовлетворенности» у американцев[369].
Кеннеди, как и Рузвельт, считал себя настоящим демократом, и было бы несправедливо называть его фашистом. Но его неуемное стремление обеспечить себе народную поддержку путем нагнетания напряженности свидетельствует об опасности увлечения фашистской эстетикой в среде демократов. В своих мемуарах Тед Соренсен упоминает о шестнадцати кризисах за первые восемь месяцев пребывания Кеннеди в должности. Кеннеди создавал «кризисные команды», которые могли обойти традиционную бюрократию, демократический процесс и даже закон. Дэвид Халберстам писал, что Джонсон получил в наследство от Кеннеди «людей с кризисным мышлением, людей, которым глобальный мировой кризис был выгоден, потому что он превращал Белый дом в центр активности: совещания, решительные действия, напряженная обстановка, власть, они сами в роли инициаторов и сторонников активных мер. Именно для этого они приехали в Вашингтон, для решения этих задач». Гарри Уиллс и Генри Фэрли, которых вряд ли можно считать правыми критиками, назвали администрацию Кеннеди «партизанским правительством» за злоупотребление традиционной правительственной системой и презрение к ней. В 1963 году Отто Штрассер, один из основателей нацистского движения, высказал в беседе с историком Дэвидом Шенбаумом мнение, что злоупотребление Кеннеди властью и чрезмерное увлечение кризисами делают его похожим на фашиста[370].
Политика Кеннеди была такова, что буквально все, что попадало в круг его интересов, требовало принятия безотлагательных мер. Он постоянно говорил об «отставании по ракетам», которого на самом деле никогда не существовало, и руководил государством с учетом повышенной напряженности в отношениях с Советским Союзом, для создания которой он приложил немало усилий. Он постоянно употреблял такие слова, как «опасность» и «жертва», «мужество» и «крестовый поход». Он создал первый «оперативный штаб» в Белом доме. Его первый доклад о положении США, представленный Конгрессу через одиннадцать дней после инаугурации, был «речью военного времени при отсутствии войны». Кеннеди предупредил, что самой свободе угрожала «величайшая опасность». «До завершения моего президентского срока нам снова предстоит проверить, сможет ли выстоять такое организованное и управляемое государство, как наше. Исход совсем не очевиден», — заявлял он[371].
Адреналин, постоянно ощущавшийся во время президентства Кеннеди, позволял держать общество в тонусе. Он стал необходимым и вырабатывался преднамеренно. Администрация Кеннеди начала широкую кампанию по строительству противорадиационных убежищ, в ходе которой различные учреждения соперничали за право потратить сотни миллионов долларов на превращение школ и больниц в ядерные бункеры. Мы воспринимаем эти упражнения «падай и укрывайся»[372] как непременный атрибут 1950-х годов, но именно при Кеннеди они переросли в тотальную паранойю, которая так часто пародируется сегодня. Администрация распространила 55 миллионов карточек размером с бумажник с инструкциями о том, что делать, когда с неба дождем посыплются ядерные бомбы. Если, как часто утверждали «новые левые», мобилизация «молодежи» в 1960-е годы стимулировалась постоянным страхом перед «бомбой», то благодарить за это следует Джона Ф. Кеннеди.
Даже мирные начинания Кеннеди подавались как моральный аналог войны. Он оправдывал увеличение расходов на образование (позднее Джонсон последует его примеру) необходимостью сохранения паритета с Советским Союзом. Снижение налогов, предпринятое Кеннеди с целью смягчения последствий самого значительного обвала на фондовой бирже со времен Великой депрессии, реализовывалось не в духе экономики предложения[373] (как имеют обыкновение намекать некоторые консерваторы), а как разновидность кейнсианства[374], оправдываемая борьбой за победу в «холодной войне». Более того, Кеннеди был первым президентом, который открыто заявил о том, что Белый дом уполномочен обеспечивать экономический рост, потому что Америка не может игнорировать хвастливые угрозы Хрущёва о том, что Советский Союз намеревается в ближайшее время «похоронить» США экономически[375]. Его запугивание сталелитейных магнатов было явным копированием аналогичной политики Трумэна во время войны в Корее, который в свою очередь позаимствовал этот маневр в программах Франклина Делано Рузвельта и Вильсона. Корпус мира и его различные аналоги также напоминали о военизированном Гражданском корпусе охраны природных ресурсов Франклина Рузвельта. Даже самая амбициозная идея Кеннеди, высадка человека на Луну, была подана общественности как ответ Советскому Союзу, который обгонял Америку в области освоения космического пространства.
В частности, жесткие меры Кеннеди в отношении сталелитейной промышленности побудили некоторых наблюдателей заявить, что он превращается в авторитарного лидера. Wall Street Journal и Торговая палата объявили его диктатором. Айн Рэнд открыто назвала его фашистом в 1962 году в статье «Фашистские “новые рубежи”» (The Fascist New Frontier).
Когда на «героя и символ Америки» навешивают ярлык «фашист», это совсем не смешно. Если под фашизмом понимать зло, жестокость и фанатизм, то Кеннеди не был фашистом. Но все же необходимо понять, что сделало его руководство таким популярным? Почему оно было настолько эффективным? Чем обусловлена его устойчивая привлекательность? Ответы на большую часть вопросов вполне соответствуют принципам фашизма: создание кризисов, националистические призывы к единству, пропаганда военных ценностей, стирание граней между государственным и частным секторами, использование средств массовой информации для повышения значимости государства и его программ, обращение к новой «надпартийной» идее, согласно которой важные решения отдаются на откуп экспертам и интеллектуальным суперменам, и формирование культа личности национального лидера.
Кеннеди не боялся выйти за пределы идеологии во имя того, что позже назовут «хладнокровным прагматизмом». Как и прагматики до него, он избегал ярлыков, полагая, что стоит выше понятий «левый» и «правый». Вместо этого он разделял уверенность Роберта Макнамары в том, что «любую проблему можно решить» технократическими средствами. В очередной раз «третий путь» сопровождался идеологической изощренностью. В своей речи, обращенной в 1962 году к выпускникам Йельского университета на церемонии вручения дипломов, президент Кеннеди пояснил, что «политические ярлыки и идеологические подходы не подходят для решения» актуальных проблем. «Большинство проблем... которые стоят перед нами сегодня, носят технический и административный характер, — заявил он на пресс-конференции в мае 1962 года. — Они недоступны для понимания большей части людей, имеющих противоречивые суждения, и поэтому должны выноситься на суд экспертов»[376].
Знаменитое заявление Кеннеди — «Мои дорогие соотечественники, спрашивайте не о том, что ваша страна может сделать для вас, а о том, что вы можете сделать для своей страны» — выглядит сегодня весьма патриотично. Либералы в свою очередь считают его достойным восхищения призывом к действию. Справедливо) и то и другое. Но при этом упускается из виду исторический контекст и мотивация. Кеннеди пытался воссоздать атмосферу единства нации времен Второй мировой войны точно так же, как Франклин Делано Рузвельт стремился возродить чувство единения, характерное для Первой мировой войны. Его заявление о том, что необходимо отправить человека на Луну, не было результатом особой прозорливости и даже не было продиктовано желанием утереть нос русским. Скорее, это был оптимальный вариант морального эквивалента войны.
Он погиб за либерализм
Все это было забыто после убийства Кеннеди. Кеннеди — националиста и сторонника «третьего пути» — сменил Кеннеди, который боролся за либерализм. Джон Ф. Кеннеди из «Камелота» затмил того, кто пытался убить Патриса Лумумбу и Фиделя Кастро.
Внук Вудро Вильсона Дин Фрэнсис Сейр произнес проповедь в Вашингтонском кафедральном соборе в честь павшего лидера. «Мы присутствуем при новом распятии, — обратился он к собранию высокопоставленных лиц. — Каждый из нас, — пояснил он, — отчасти виновен в убийстве нашего президента. Нашего Господа распяли хорошие люди, а не только те, кто выступал в роли палачей». Главный судья Эрл Уоррен заявил, что президент обладал органической и мистической связью с народом. Он «был воплощением идеалов нашего народа, нашей веры в устои, а также в отцовство Бога и братство людей». Через пять дней после смерти Кеннеди новый президент Линдон Джонсон завершил свое выступление на совместном заседании Конгресса, попросив американцев «положить конец учению и проповеди ненависти, зла и насилия» и отвернуться от «приверженцев злобы и фанатизма»[377].
Даже после того, как мотивы убийства стали более понятными, люди продолжали верить, что Кеннеди убили «ненависть» и общая греховность Америки. Методистский епископ из Вашингтона Джон Уэсли Лорд заявил, что народ должен «искупить» смерть Кеннеди. Вместо того чтобы называть памятники в честь Кеннеди, стране следовало «отблагодарить мученика за его смерть и самопожертвование», удвоив свою приверженность либеральной политике[378].
Большинство историков считают время Кеннеди и Джонсона последним вздохом традиционной прогрессивной политики, завершившим эпоху, которая началась с президентства Вильсона, за которым последовали «Новый курс» и «Справедливый курс», а затем «Новые рубежи» и «Великое общество». С формальной точки зрения это в значительной степени верно (хотя при таком подходе либеральный Никсон остается в стороне). Но президентство Кеннеди по своей сути было гораздо более значимым. Оно ознаменовалось окончательным превращением прогрессивизма в настоящую религию и национальный культ государства.
С самого начала президентства Кеннеди стал прослеживаться националистический и религиозный лейтмотив, характерный для американского либерализма и созвучный как прогрессивизму, так и фашизму. «Боевые интеллектуалы» из команды Кеннеди стремились стать суперменами, священниками гностицизма, обладающими особыми знаниями, которые позволяют решить проблемы общества. В своей инаугурационной речи, открывшей десятилетие, Кеннеди заявил о том, что Америка избрана Богом и наделена божественной миссией, «ибо человек держит в своих смертных руках все формы человеческой жизни и власть, позволяющую упразднить все формы людской нищеты». Социолог Роберт Белла расценил эту речь как доказательство того, что в Америке уже существовала гражданская религия, определяемая «обязательством как коллективным, так и индивидуальным, для исполнения Божьей воли на Земле». Журналист New York Times С. Л. Сульцбергер пишет, что инаугурационная речь президента была обращена ко всем, кто считал, что «еще есть на этой Земле место для Царствия Небесного»[379].
Джон Ф. Кеннеди представлял традицию «культа личности» в американском либерализме. Он хотел быть великим человеком, таким же, как Вильсон и Рузвельты. Оружие заботило его больше, чем масло. Линдон Бейнс Джонсон, склонный к популизму мелкий политикан с Юга, воспитанный в традициях «Нового курса», напротив, интересовался только маслом. Джонсон не мог быть ни воином, ни священником. Он был далек от образа «либерального льва», которому мечтал соответствовать его предшественник, но зато смог усилить материнский аспект прогрессивизма. Он напоминал заботливого пастуха, бдительно следящего за своим стадом. При нем культ личности Кеннеди стал культом правительства. Для этого Линдон Джонсон, хитрый и умный политик, беззастенчиво воспользовался фактом убийства Кеннеди, чтобы превратить его как раз в такой преобразующий национальный кризис, который тщетно пытался создать сам Кеннеди. Его наследие, современное государство всеобщего благоденствия, максимально воплотило традиции этатизма, восходящие к Вудро Вильсону.
Как известно, именно с Вильсона и прогрессивистов началось обожествление либерального государства. Не надо забывать, что прогрессивисты настаивали на введении тоталитарного режима в стране не потому, что того требовала обстановка военного времени, а потому, что, к их великой радости, именно война сделала это возможным. Но Первая мировая война также развеяла мечты прогрессивистов об американском коллективизме. Всеобщая мобилизация и, главное, бессмысленность самой войны — не могли не вызвать недовольства населения Америки. В 1920-е годы прогрессивисты пребывали в дурном настроении, в то время как американцы наслаждались эпохой процветания, а русским и итальянцам (с их точки зрения) «досталось все самое интересное в деле преобразования мира». Великая депрессия наступила как раз вовремя: прогрессивисты снова оказались у руля. Как известно, Рузвельт не предложил никаких новых идей в области государственного управления, он просто снова вытащил на свет те идеи, которые продвигал, еще будучи членом администрации Вильсона. Однако за время его правления государство чрезвычайно окрепло и расширилось. Кроме того, стоит вспомнить о том, что консервативное движение появилось как результат инстинктивного желания вернуть государству довоенный облик, чтобы им было легче управлять. Но «холодная война» изменила ситуацию, заставив многих консерваторов высказываться в поддержку могущественного и сильного в военном отношении государства, способного победить коммунизм. Этот курс, взятый сторонниками агрессивной внешней политики, стал причиной постоянного раскола в правом политическом лагере Америки. Тем не менее хотя консерваторы времен «холодной войны» выступали за ограничение власти, их поддержка противостояния коммунизму лишала смысла любые попытки реализовать это намерение.
Вклад Кеннеди в создание государства всеобщего благосостояния по большей части относился к стилистике, как мы уже убедились. Но его «мученическая смерть» стала основой глубокого психологического кризиса, который оказался полезным для продвижения либеральных целей и идей. Джонсон использовал его не только для захвата национальной политической программы, но и для преобразования самого прогрессивизма в полномасштабную массовую политическую религию. В первый раз прогрессивисты могли без всяких оговорок осуществлять свои мечты во время процветания и относительного мира. Не будучи больше зависимыми от войны или экономического кризиса, прогрессивисты, наконец, получили возможность создать такое общество, о котором мечтали с давних пор. От психологической депрессии и аномии вследствие краха традиционных устоев, которые, по их представлениям, лежали в основе капиталистического общества, можно было излечиться с помощью государства. Наконец, пришло время создать политику здравого смысла.
В своем первом президентском обращении Джонсон сообщил о намерении построить новую либеральную церковь на камне памяти Кеннеди. Эта церковь, эта сакрализованная община получила название «Великое общество».
Рождение либерального государства-Бога
Мы уже достаточно подробно обсудили личностей, стоявших у истоков американского либерализма. Теперь нужно сделать значительное отступление, чтобы рассмотреть культ самого государства в американском либерализме. Без этого исторического экскурса трудно понять сущность современного либерализма как религии поклонения государству, в которой убиенным Христом был Джон Ф. Кеннеди, а главным творцом — Линдон Джонсон.
Трудно установить точную дату начала борьбы прогрессивистов за «Великое общество», но за точку отсчета вполне можно принять 1888 год, когда роман Эдуарда Беллами «Взгляд в прошлое» (Looking Backward) произвел в Америке настоящий фурор. Эта книга, ставшая одним из самых значимых творений прогрессивной пропаганды, продавалась сотнями тысяч экземпляров и была объявлена самым успешным проектом в области книгоиздания со времени выхода в свет «Хижины дяди Тома». Рассказчик в этой книге, действие которой разворачивается в далеком 2000 году, живет в утопическом военизированном обществе. Рабочие являются частью объединенной «промышленной армии», а экономика находится в ведении всемогущего аппарата централизованного планирования, прообразом которого стало успешное немецкое военное планирование. Граждане привлекались к работе по соответствующим специальностям, поскольку «каждый трудоспособный гражданин обязан работать на благо страны головой или руками». Герой, который выступает в романе в роли «проповедника», сообщает нам, что Америке, наконец, удалось создать рай на земле. И в самом деле, каждый вспоминает «эпоху индивидуализма» со смущением, граничащим с презрением[380].
В частности, зонтик вспоминают как символ всеобщей одержимости индивидуализмом в XIX веке. В утопии Беллами зонты были заменены выдвижными навесами, чтобы каждый человек был защищен от дождя в равной степени. «В XIX веке, — объясняет герой, — когда шел дождь, жители Бостона одновременно раскрывали триста тысяч зонтов над таким же количеством голов, а в XX веке над всеми головами сразу раскрывается один-единственный зонт»[381].
Описанная Беллами военизированная националистическая социалистическая утопия завладела воображением молодых прогрессивистов повсеместно. Буквально на следующий день по всей стране появились созданные последователями Беллами «националистические клубы», призванные содействовать «национализации промышленности и объединению человечества в единое содружество». Национализм в Америке, как и на большей части Европы, обозначал и национализм, и социализм. Таким образом, Беллами предсказал, что отдельные штаты США в дальнейшем придется отменить, потому что «правительства штатов будут препятствовать контролю и дисциплине промышленной армии»[382].
Религия была тем связующим элементом, который объединял этот американский национальный социализм. Беллами считал, что предложенная им разновидность социалистического национализма — истинное воплощение учения Иисуса. Его двоюродный брат Фрэнсис Беллами, автор книги «Клятва верности» (Pledge of Allegiance), придерживался аналогичных взглядов. Один из основоположников Первого националистического клуба Бостона и основателей Общества христианских социалистов, Фрэнсис написал проповедь под названием «Иисус, социалист», которая нашла живой отклик у паствы по всей стране. Как проявление его «военного социализма» клятва верности сопровождалась фашистским или «римским» салютом флагу в американских государственных школах. Более того, некоторые утверждают, что нацисты заимствовали идею своего приветствия в Америке[383].
Куда ни глянь, везде «научный» утопизм, национализм, социализм и христианство тесно переплетались друг с другом. Взять хотя бы съезд Прогрессивной партии 1912 года. По утверждению New York Times, это был «съезд фанатиков», на котором политические речи перемежались пением гимнов и возгласами «Аминь!». «Это совсем не походило на партийный съезд. Это было собрание рьяных верующих», — писала Times. Подобное собрание некогда организовал Петр Амьенский[384]. Это была лагерная встреча методистов с проповедником в переложении на язык политики... На лицах всех присутствующих, в том числе Джейн Аддамс, которая поднялась на трибуну, чтобы объявить ставшее последним донкихотское выдвижение Тедди Рузвельта кандидатом на пост президента, застыло выражение «фанатичного и религиозного энтузиазма». Делегаты, которые верили, по всей вероятности, что они призваны на битву с силами тьмы, пели «Мы последуем за Иисусом», заменяя в словах «устаревшего» Спасителя на «Рузвельта». Среди них были представители всех фракций прогрессивного движения, в том числе проповедник социального евангелизма Вашингтон Глэдден, который охотно заменял старого христианского Спасителя новым «американским». Рузвельт сказал восторженной аудитории: «Наше дело основывается на вечных принципах правды... Мы стоим на пороге Армагеддона, и мы сражаемся за Господа»[385].
Американские движения социального евангелизма и христианской социологии, по существу, стремились вогнать христианство в рамки социальной программы Прогрессивного движения. Сенатор Альберт Беверидж, прогрессивный республиканец от штата Индиана, который возглавлял Национальный съезд 1912 года, очень хорошо обобщил суть прогрессивного подхода, заявив: «Бог отметил нас как своих избранников, призванных в дальнейшем играть ведущую роль в преображении мира»[386].
Уолтер Раушенбуш предлагает краткое толкование социального евангелизма, максимально подходящее для наших целей. Профессор Рочестерской духовной семинарии, стройный священник с редкой козлиной бородкой, который ранее был проповедником на окраинах «Адской кухни», одного из криминальных районов Нью-Йорка, стал неформальным лидером движения после того, как опубликовал в 1907 году свою работу «Христианство и социальный кризис» (Christianity and Social Crisis). «Если идеальный общественный порядок не сможет гарантировать людям пищу, тепло и комфорт более надежно, чем наш современный экономический строй, — предупреждал он, — мы снова вернемся к капитализму... Тот Бог, который дает низкие цены на продукты питания, и есть истинный Бог». Представители левого духовенства, подобные Раушенбушу, были убеждены в том, что государство — это орудие Бога и что коллективизм представляет собой новый порядок, одобряемый Иисусом[387].
Представители духовенства, которые, как и Раушенбуш, придерживались прогрессивных взглядов, заложили философские и богословские основы этатизма гораздо успешнее, чем новое поколение социологов. Выступая перед прихожанами на политических собраниях и в интеллектуальных изданиях, они ратовали за всестороннее и полное переосмысление Священного Писания, утверждая, что спасение может быть достигнуто только совместными усилиями. По мнению консервативных теологов, возродиться могли только отдельно взятые личности. Прогрессивные христиане, наоборот, отрицали роль отдельных личностей и поднимали престиж государства как божественного заступника. Баптистский проповедник движения «Социального Евангелия» утверждал, что государство должно стать «средством объединения людей в поисках Царствия Божия и правды его»[388].
Как это ни парадоксально, но вдохновителем таких идей стала Пруссия Бисмарка. Бисмарк вдохновлял американских прогрессивистов, используя разные способы (некоторые из них уже упоминались). Во-первых, он был централизатором, объединителем, европейским Линкольном, который привел разрозненные регионы и фракции под начало государства, не обращая внимания на их несогласие. Во-вторых, он создал модель «социализма сверху вниз», воплотив в жизнь многие пункты программы государства всеобщего благосостояния, такие как пенсии, медицинское страхование, меры по обеспечению безопасности труда, восьмичасовой рабочий день и т. д. Прогрессивисты об этом только грезили. Бисмарк сумел реализовать эту программу без излишней демократизации, как правило, ведущей к беспорядку. В результате в обществе укрепилось мнение, что «великие люди», модернизаторы и «люди дела» способны сделать то, что не удавалось лидерам пришедших в упадок и разлагающихся демократических государств.
Кроме того, бисмарковский «социализм сверху» победил классический либерализм в Германии и подорвал его влияние во всем мире. Как раз это и отвечало его целям. Бисмарк стремился предвосхитить усиление социалистического или демократического радикализма, давая людям то, что они желали, лишая их необходимости голосовать за свои требования. Для этого он откупился от реформаторов левого толка, которые не особенно заботились об ограничении власти или либеральном конституционализме. В то же время он вытеснял на периферию и во многих случаях подавлял классических либералов и тех либералов, которые ратовали за ограничение власти государства (аналогичные процессы происходили в Соединенных Штатах во время Второй мировой войны). Таким образом, в Германии как левые, так и правые политические силы, по сути, превратились в идеологов этатизма, и обе эти стороны боролись с теми, кто стремился навязать обществу свое видение. Либерализм, определяемый как идеология свободы личности и демократической власти, постепенно атрофировался и умер в Германии, потому что Бисмарк не дал ему шанса получить поддержку народа. Его место занял государственнический либерализм Дьюи и Дюбуа, Вильсона и Рузвельта, либерализм, который предоставлял экономические права и способствовал повышению благосостояния.
Потом была «борьба за культуру». Об этом мы поговорим подробнее в следующей главе. Сейчас только отметим либеральный характер данного явления, который упускают из виду многие современные комментаторы. Немецкие прогрессивисты объявили войну отсталому католицизму, полагая, что, объединив науку с различными течениями националистического социального евангелизма, они создадут идеологию будущего. Это была модель, которую сторонники прогрессивизма адаптировали к американской почве.
Крестными отцами либерального государства-Бога были философ Фридрих Георг Вильгельм Гегель и ученый Чарльз Дарвин. Гегель утверждал, что история представляет собой непрерывный эволюционный процесс, движущей силой которого является государство. «Государство — это реально существующая, проявленная нравственная жизнь... Божественная идея, воплощенная на Земле, — заявлял Гегель в «Философии истории». — Все богатство, которым обладает человек, вся духовная реальность становится его достоянием исключительно благодаря государству»[389]. Движение государства во времени есть «шествие Бога по Земле». Теория эволюции Дарвина, казалось, подтверждала, что человек — это часть большего целого, управляемого и направляемого государством подобно тому, как ум управляет телом. Для «современного» духовенства это означало, что профессия «политик» носит, по сути, религиозный характер; и в конце концов все усилия политиков сводятся к тому, чтобы определить цели государства, а государство понималось как рука Господа.
Практически все ведущие прогрессивные ученые и философы соглашались с таким «органическим» и духовным пониманием политики, но, возможно, не более чем Ричард Илай. «Бог осуществляет свои намерения через государство в гораздо большей степени, чем через какое-либо иное учреждение», — провозгласил этот экономист, основатель Американской экономической ассоциации и так называемой Висконсинской школы прогрессивизма. «Государство, — настаивал он, — религиозно по своей сути, и нет такой ипостаси человеческого существования, которая была бы ему неподвластна». Илай, оказавший большое влияние на Вильсона и Тедди Рузвельта, был христианином-постмиллениалистом[390]. Он дал определение государству как «могучей силе, способствующей обретению Царства Божьего и установлению праведных взаимоотношений»[391]. Многие из известных коллег Илая в Висконсинском университете считали, что, поддерживая экономические реформы, евгенику, войну, социализм, «сухой закон» и остальные пункты прогрессивной программы, они тем самым идут по единому пути к «новому Иерусалиму».
По сути, прогрессивисты почти ничем не отличались от фанатичных приверженцев теократии, пытающихся создать очередное государство-Бога. Американская экономическая ассоциация, миссия которой заключалась в объединении церкви, государства и науки ради спасения Америки, служила философской основой прогрессивной социальной политики и фактическим органом движения «Социальное Евангелие». Более 60 священнослужителей (примерно половина списка данного объединения) считали себя ее членами. Позже, во время Второй мировой войны, Илай стал самым ярым шовинистом, организовывая сбор подписей под «клятвами верности», бросая обвинения противникам войны в государственной измене и утверждая, что их следует расстреливать.
Что касается Вудро Вильсона, то в нем священника невозможно отделить от преподавателя. Начиная с ранних эссе с такими названиями, как «Армия Христа» (Christ’s Army) и «Христианский прогресс» (Christian Progress), и заканчивая более поздними обращениями, с которыми он выступал уже как президент, Вильсон давал понять, что он представляет собой орудие Бога, а государство — святой меч его священной войны, и в то же время утверждал, что является воплощением торжества науки и разума в политике. Выступая перед Ассоциацией молодых христиан, он сказал, что государственные служащие должны руководствоваться одним-единственным вопросом: «Что сделал бы Христос в нашем положении?» Затем он начал объяснять: «Перед нами стоит задача огромной важности, которая объединяет всех нас в одно целое. Она заключается в том, чтобы превратить Соединенные Штаты в могучую христианскую нацию и обратить в христианство весь мир»[392].
Война лишь усилила эти стремления. «Прошлое и настоящее столкнулись в смертельной схватке», — заявил он. Его целью были полное «уничтожение любой деспотической власти... которая может нарушить мир во всем мире» и «решение всех проблем», стоящих перед человечеством. Идеалом Вильсона была сила. Он не уставал повторять: «Сила! Необычайная сила! Сила без ограничений и без предела! Праведная и торжествующая сила, которая призвана сделать справедливость законом мира и низринуть всякую авторитарную власть в прах». Америка была «орудием в руках Бога», по его заявлениям, а его Министерство пропаганды называло Первую мировую войну «войной за повторное обретение Гроба Господня»[393].
Как и другие фашистские лидеры, Вильсон был твердо убежден, что у него существует абсолютная органическая связь с «народом», которая превосходит обычные механизмы демократии. «Я совершенно искренне верю в это и убежден в том, что выражаю мысли и чаяния граждан Америки». Многие европейцы видели в нем человека, способного пробудить социалистический дух во всем мире. В 1919 году молодой итальянский социалист утверждал, что «империя Вильсона не имеет границ, потому что он управляет не территориями. Скорее, он вникает в суть потребностей, надежд, веры людей, во все то, что не имеет пространственных или временных границ»[394]. Этого молодого человека звали Бенито Муссолини.
То, что правительство Вильсона глубоко вторгалось в частную жизнь граждан самыми различными путями, не вызывает сомнений. Он был основоположником инициативы, реализованной Франклином Делано Рузвельтом, по превращению экономики в «коллективный» механизм, где рабочие, деловые круги и правительство сидели за одним столом и сообща решали все вопросы. Такая система — в Европе она называлась синдикализмом, корпоративизмом и фашизмом — выглядит привлекательно, тогда как на самом деле она была выгодна только ограниченному кругу лиц, участвовавших в данном процессе. Когда люди Вильсона, работавшие за доллар в год, не приносили пользы своим отраслям промышленности, они способствовали усилению государственного контроля в частном секторе. Органы планирования в администрации Вильсона устанавливали цены практически на каждый товар, определяли размер заработной платы, экспроприировали частные железные дороги, создали громадный полицейский аппарат для подавления инакомыслия и даже пытались регламентировать меню каждой семейной трапезы[395].
Военный социализм Вильсона был временным, но его наследие оказалось постоянным. Военно-промышленное управление и картели прекратили свое существование после войны, но созданный ими прецедент оказался слишком привлекательным, чтобы прогрессивисты могли от него отказаться.
Хотя Америка вышла победителем из Первой мировой войны, Вильсон и прогрессивисты проиграли свою войну у себя на родине. Глубокое проникновение государства в гражданское общество казалось простительным во время войны, но в мирное время оно было неприемлемым. Искусственный экономический бум также подошел к концу. Кроме того, Версальский договор, который должен был оправдать все вложения и жертвы, оказался лицемерным и лживым.
Но прогрессивная вера выстояла. Либеральные интеллектуалы и активисты продолжали считать на протяжении 1920-х годов, что военный социализм Вильсона был чрезвычайно успешным, а все неудачи обусловливались недостатком усердия. Фраза «Мы запланировали войну» стала их девизом. Увы, им не удалось убедить мужланов, пришедших на выборы. Как следствие, бисмарковская модель социализма «сверху вниз» стала казаться им все более привлекательной. Кроме того, они наблюдали за событиями в России и в Италии, где «люди дела» создавали утопии при помощи бульдозера и логарифмической линейки. Увлечение марксистов научным социализмом и социальной инженерией оказалось заразительным для американских прогрессивистов. А так как наука не предполагает демократических обсуждений, высокомерный педантизм охватил прогрессивистов.
Кроме того, примерно в это же время благодаря ловким манипуляциям прогрессивизм был переименован в «либерализм». В прошлом либерализм опирался на политическую и экономическую свободы, как их понимали мыслители Просвещения, такие как Джон Локк и Адам Смит. Для них конечной целью была максимальная свобода личности под мягкой защитой минималистского государства. Прогрессивисты с Дьюи во главе незаметно изменили смысл этого термина, придав ему некий уклон в сторону прусской концепции либерализма, понимаемого как преодоление материальной и духовной бедности и освобождение от старых догм и верований. Для сторонников прогрессивизма свобода теперь означала свободу не от тирании, но от нужды, свободу быть «конструктивным» гражданином, свободу в духе Гегеля и Руссо, которая заключается в том, чтобы жить в соответствии с государством и с общей волей. Классических либералов теперь стали называть консерваторами, а преданные сторонники социального контроля превратились в либералов. Таким образом, в 1935 году Джон Дьюи написал в книге «Либерализм и социальное действие» (Liberalism and Social Action), что проводящее активную политику правительство на благо обездоленных и во имя социальной реконструкции «фактически определило смысл либеральной веры»[396].
Неудивительно, что многие либералы, разделявшие это мировоззрение, считали Советский Союз самым свободным местом на земле. В серии статей о Советском Союзе для New Republic Дьюи приветствовал великий «эксперимент освобождения людей, вследствие которого они осознали, что могут сами определять свою дальнейшую судьбу». Советская революция привела к «высвобождению человеческой энергии в таких масштабах, что это имеет колоссальное значение не только для данной страны, но и для всего мира». Джейн Аддамс также назвала страну Советов «величайшим социальным экспериментом в истории»[397]. Освободившись от догм прошлого и следуя эволюционным императивам, сторонники прагматизма считали, что даже государства должны «учиться на практике», даже если это означало, что новые якобинцы в очередной раз развяжут террор против тех, кто не будет подчиняться общей воле.
Долгое время прогрессивисты сетовали, что Америке, в сущности, не хватает «духа народа», той исключительной общей воли, которая служила бы поддержкой концепции государства-Бога. Когда в 1929 году произошел обвал на фондовой бирже, они решили, что снова пришло их время.
«В Соединенных Штатах в 1920-е годы, — пишет Уильям Лейхтенбург, — почти не было институциональной структуры, с которой европейцы соотносят термин “государство”. Если не считать почты, большинство людей очень мало взаимодействовали с правительством в Вашингтоне или зависели от него»[398]. «Новый курс» радикально изменил ситуацию. Он представлял собой последний этап в преобразовании американского либерализма, в результате которого правительство США стало европейским «государством», а либерализм — политической религией.
Как экономическая политика «Новый курс» провалился. Возможно даже, что он продлил Великую депрессию. И все же нам постоянно говорят, что «Новый курс» остается самым значительным отечественным достижением Соединенных Штатов в XX веке, а также моделью, которую либералы постоянно стремятся имитировать, сохранять и возрождать. Как известно, Нэнси Пелоси[399] сказала в 2007 году, что три слова подтверждают, что у демократов еще остались идеи: «Франклин Делано Рузвельт»[400]. Откуда такая преданность? Чаще всего можно услышать, что «Новый курс» дал американцам «надежду» и «веру» в «дело, большее, чем они сами». Надежда на что? Вера во что? Какое «дело»? Ответ: либеральное государство-Бог (или «Великое общество», если этот вариант кажется вам более предпочтительным), которое представляет собой не что иное, как общество, управляемое государством-Богом в соответствии с общей волей.
«Новый курс» стал религиозным прорывом для американского либерализма. Мало того, что вера в либеральный идеал стала исключительно религиозной по своей сути — иррациональной, догматической, мифологической, — многие интеллектуалы из либералов признали этот факт и приветствовали его. В 1934 году Дьюи охарактеризовал борьбу за либеральный идеал как чисто «религиозную». Турман Арнольд, один из самых влиятельных идеологов «Нового курса», предложил преподавать американцам новую «религию государства», которая, наконец, освободит общество от суеверий индивидуализма и свободного рынка[401]. Это соответствовало заявлению Робеспьера о необходимости культивирования «религиозного инстинкта» для защиты революции.
Апофеоз либеральных устремлений при Франклине Делано Рузвельте пришелся на период не «Нового курса», а Второй мировой войны. В своем докладе о положении в США, прозвучавшем в 1944 году, он предложил «второй билль о правах». На самом деле это было выступление в поддержку нового билля о правах, перевернувшее оригинальный документ с ног на голову. «Бедные люди — это несвободные люди», — заявил он. Поэтому государство должно обеспечить «новую основу безопасности и процветания». В числе предлагаемых новых прав были «полезная и выгодная работа», «приличный дом», «адекватная медицинская помощь и возможность достижения и поддержания хорошего состояния здоровья», «адекватная страховка от ухудшения материального положения вследствие старости, болезни, несчастного случая и безработицы» и «хорошее образование». Второй билль о правах по сей день остается путеводной звездой либеральных устремлений[402].
Чистка партии от демонов
Война против Гитлера стала самым образцовым примером борьбы добра и зла за всю историю войн. Но это не значит, что влияние войны (и мобилизации «Нового курса») было исключительно благотворным. Люди привыкли воспринимать призывы элит (в СМИ, в ведущих общественных организациях и в правительстве) без особых размышлений или скептицизма. Эти лидеры убеждали американскую общественность в том, что война и государственное планирование «спасли» западную цивилизацию и теперь задача Америки состояла в ее сохранении.
После войны произошло слияние разнородных элементов прогрессивного мышления в согласованную политическую программу. Государством теперь на самом деле управляли эксперты. Общественный консенсус создал благоприятную ситуацию для реализации либеральных амбиций. Классический либерализм казался полностью дискредитированным. Даже утопическая мечта о новом мировом порядке, а возможно, и мировом правительстве, которое представляли себе Вильсон, Герберт Уэллс и многие другие, возродилась с созданием Организации Объединенных Наций. Проблема либерализма заключалась в том, что новая угроза, маячившая на горизонте, исходила не справа, а слева. В конце 1920-х — начале 1930-х годов Советский Союз для либералов, как и Пруссия Бисмарка для предыдущего поколения, был образцом для подражания. В 1930-е годы Советы были на переднем крае борьбы с фашистской угрозой. В 1940-е годы они были нашими союзниками. Но вскоре после войны стало ясно, что намерения Советов далеки от благородства и советские методы почти ничем не отличаются от нацистских.
Ныне существует мнение, согласно которому либералы не были противниками антикоммунизма; они выступали против перегибов маккартизма. Проблема заключается в том, что коммунисты и либералы всегда лояльно относились к тактике маккартизма, когда она была направлена против кого-либо из их врагов. В конце концов прогрессивный демократ Сэмюэль Дикштейн основал Комитет по расследованию антиамериканской деятельности для выявления тех, кто сочувствовал немцам. Во время теперь почти забытого «коричневого страха» 1940-х годов как настоящие сторонники нацистов (например, члены Германо-американского союза), так и введенные в заблуждение изоляционисты подверглись преследованиям. Во многом так же, как Вильсон, Рузвельт считал, что любое несогласие с внутренней политикой является предательством и настаивал на том, чтобы министерство юстиции преследовало его противников. В разгар этого безумия Уолтер Уинчелл зачитывал имена изоляционистов в своих выступлениях на радио, называя их «американцами, без которых мы можем обойтись»[403]. Американские коммунисты в этот период охотно называли имена и составляли списки «сочувствующих немцам».
Такую тактику можно было бы оправдать как неизбежное зло в борьбе с нацизмом. Но гораздо большее лицемерие состоит в том, что американские коммунисты точно так же поступали в отношении других американских коммунистов. Закон Смита[404], который поставил вне закона всех тех, кто принадлежал к организациям, выступавшим за свержение правительства Соединенных Штатов, по мнению представителей левого лагеря, послужил опорой американского фашизма. Тем не менее американские коммунисты сами использовали Закон Смита для того, чтобы добиться ареста американских троцкистов во время войны.
Однако все эти события почти не привлекали внимания общественности. После войны либералы не желали терпеть такую тактику, направленную против них самих. Они категорически отрицали, что их собственные идеи и история имели какое-либо отношение к тоталитаризму, и все те, кто придерживался иного мнения, подлежали уничтожению. Когда Уиттакер Чеймберс назвал Элджера Хисса, наследника американского либерализма, коммунистом, истеблишмент сплотился вокруг Хисса, заклеймив Чеймберса как «лжеца, психопата и фашиста»[405].
Справиться с Джозефом Маккарти было сложнее в первую очередь потому, что он был сенатором США. Несмотря на свои недостатки и непростительные злоупотребления, он совершенно верно заметил, что большую часть либерального истеблишмента составляют коммунисты и их сторонники. За эту дерзость его тоже причислили к «фашистам».
Если спросить современного либерала, почему Маккарти был фашистом, то скорее всего последует ответ, что он был «агрессором» и «лжецом». Агрессоры и лжецы плохие, но они в принципе никак не относятся к правым силам. Можно также услышать, что маккартизм представляет собой гротескное искажение патриотизма, шовинизм и тому подобное. Это более сложное обвинение, хотя стоит помнить о том, что многие представители левых сил считают проявлением фашизма практически любой призыв к патриотизму. На самом деле в маккартизме проявилась отвратительная националистическая черта американского характера. При этом данное отношение, не связанное с правым политическим лагерем, по сути, было возвратом к традиционной левой популистской политике. Преследование красных, охота на ведьм, цензура и тому подобное было традицией, пользовавшейся уважением среди прогрессивистов и популистов штата Висконсин.
Сегодня мало кто помнит, что политические корни Маккарти уходят в глубину «Прогрессивной эры». В конце концов Маккарти был прогрессивистом популистского толка из, вполне возможно, самого прогрессивного из всех штатов Америки — Висконсина, родины Ричарда Илая и Роберта Лафоллета. Джо Маккарти можно считать порождением Висконсина и его традиций. Более того, пойти на выборы в Сенат в качестве кандидата от Республиканской партии его побудил опыт, который он приобрел во время своей первой избирательной кампании, когда баллотировался от Демократической партии. Висконсин под началом Лафоллета, по сути, стал однопартийным республиканским штатом. В 1936 году как кандидат на пост окружного прокурора округа Шавано Маккарти выступал против кандидата в президенты от республиканцев, которого он называл «марионеткой» правых деловых кругов и «жирных котов» вроде Уильяма Рэндолфа Херста. Когда же он, наконец, вступил в борьбу с Лафоллетом за кресло в Сенате, то сделал это не как добросовестный представитель правых сил, а как популист, в большей степени ориентированный на потребности штата Висконсин.
Маккарти были присущи многие фашистские черты, в том числе склонность к заговорам, параноидальная риторика, стремление подавлять и оппортунизм; однако они развились в нем не под влиянием консервативной или классической либеральной традиции. Маккарти и соответственно маккартизм, скорее, выросли на прогрессивистской и популистской почве. Его последователи были в основном представителями среднего класса, которые придерживались прогрессивистских или популистских воззрений относительно роли государства и во многих отношениях являлись наследниками кофлинизма начального периода «Нового курса». Наиболее эффективным маккартистом был отслуживший в Сенате четыре срока как представитель штата Невада демократ Пэт Маккаррен, автор Закона о внутренней безопасности, который обязывал организации коммунистического фронта регистрироваться у генерального прокурора, запрещал коммунистам работать в оборонной промышленности, запрещал иммиграцию коммунистов и предполагал интернирование коммунистов в случае чрезвычайного положения.
Дело не в том, что Маккарти был прогрессивистом и последователем Лафоллетов. Оба Лафоллета были достойными и серьезными людьми, которых по многим причинам можно отнести к числу самых смелых политиков XX века. Я также не говорю, что Маккарти был просто еще одним либералом, хотя он продолжал использовать это слово с положительной оценкой вплоть до 1951 года. Я говорю о том, что после Второй мировой войны значение слова «либерал» очень быстро изменялось. А проигравшие в либеральной гражданской войне представители правого крыла левого движения снова стали «козлами отпущения». Либерализм фактически избавлялся от слишком грубых элементов, отбрасывая шелуху «Социального Евангелия» и все разговоры о Боге. Разве ранее холокост не доказал, что Бог мертв? Старые либералы все больше походили на героя Уильяма Дженнингса Брайана в фильме «Пожнешь бурю» (Inherit the Wind) — суеверного, сердитого, косного. Можно предположить, что либералы в любом случае придумали бы хладнокровного прагматика Джона Ф. Кеннеди, даже если бы он не существовал. С другой стороны, как нам известно, они на самом деле в значительной степени выдумали его.
На заре 1950-х годов американским либералам требовалась единая теория поля, которая должна была не только поддерживать их безупречный статус олимпийцев, но и учитывать холокост и популистских подстрекателей, готовых подвергнуть сомнению мудрость, авторитет и патриотизм либеральной элиты. Устаревший и не соответствующий новым веяниям язык религии вызывал все большее отторжение, являвшаяся их наследием евгеника была дискредитирована, а постулаты ортодоксального марксизма в значительной степени утратили убедительность для масс, вследствие чего либералам требовалось то, что могло бы их объединить и возродить это триединство. Они нашли это объединяющее начало в психологии.
Несколько очень влиятельных теоретиков марксизма (главным образом немцы из так называемой Франкфуртской школы, которая в 1930-е годы начала перемещаться в Колумбийский университет) объединили психологию с марксизмом, чтобы снабдить либеральное движение новой терминологией. Эти теоретики во главе с Теодором Адорно, Максом Хоркхаймером, Эрихом Фроммом и Гербертом Маркузе попытались объяснить, почему фашизм был популярнее коммунизма на большей части территории Европы. Представители «Франкфуртской школы» в духе традиций Фрейда и Юнга понимали нацизм и фашизм как разновидности массового психоза. Это было похоже на правду, но далее из их выводов следовало, что поскольку марксизм объективно выше иных движений, массы, буржуазия и все, кто не разделял их точку зрения, являются сумасшедшими в прямом смысле слова.
Теодор Адорно был главным автором книги «Авторитарная личность» (The Authoritarian Personality), опубликованной в 1950 году. В этом исследовательском труде были представлены доказательства того, что люди, придерживающиеся «консервативных» взглядов, показывают более высокие результаты по так называемой F-шкале (F обозначало «фашизм») и, как следствие, остро нуждаются в лечении. Политолог Герберт Макклоски также определил консерваторов как «дофашистский тип личности», к которому относились в основном «неосведомленные, малообразованные и <...> глупые» люди. (Лайонел Триллинг утверждал, что для консерватизма характерны постоянные проявления «раздраженной психики, которые выдаются за некие мысли»[406].) Для Макклоски, Адорно и влиятельных либеральных кругов в целом консерватизм в лучшем случае представлял собой воплощение безумия нацистской разновидности фашизма.
Вполне может показаться, что эти теоретики просто покрыли патиной псевдонаучного невнятного лепета пропагандистские листовки сталинского Третьего интернационала. Но на самом деле их тактика была более изощренной. Главное доказательство было гениальным по своей простоте. Марксисты изначально определяли фашизм как реакцию капиталистических правящих кругов на угрозу классового господства пролетариата. Представители Франкфуртской школы ловко обосновали этот аргумент с точки зрения психологии. Из способа защиты экономических интересов богатых белых людей и наивных представителей среднего класса фашизм превратился в механизм психологической защиты от изменений в целом. Люди, которые не могут справиться с «прогрессом», отвечают насилием, потому что являются «авторитарными личностями». Таким образом, по сути любой, кто не согласен с целями, масштабами и методами либерализма, страдает от психического дефекта, имя которому «фашизм».
Историк Колумбийского университета Ричард Хофстедтер был самым успешным публицистом Франкфуртской школы. Для Хофстедтера американская история представляла собой повесть, в каждой главе которой либералы отрубают головы фашистской гидры. Его работа изобиловала оборотами из «Авторитарной личности». В своем эссе «Псевдоконсервативное восстание» (PseudoConservative Revolt), которое позднее стало частью книги «Параноидальный стиль в американской политике» (The Paranoid Style in American Politics), Хофстедтер использовал для описания скрытой внутри фашистской угрозы такие пугающие термины из области психиатрии, как «клинический», «расстройство», «комплексы», «тематическая апперцепция». Как пишет Кристофер Лаш, «книга “Авторитарная личность” оказала огромное влияние на Хофстедтера и на других либеральных интеллектуалов, потому что она показала им, как осуществлять политическую критику, используя психиатрические категории. Эта процедура избавляла их от необходимости долго рассуждать и приводить доказательства. Вместо того чтобы спорить с оппонентами, они просто отторгали их как психически неадекватных»[407].
Прошло совсем немного времени, прежде чем подобное психологическое теоретизирование приняло широкие масштабы и стало универсальным решением «социального вопроса», как говорили об этом прогрессивисты. Более того, современная психология оказалась прекрасной заменой «Социальному Евангелию», милитаризму, «религии государства» Турмана Арнольда, «социальному контролю» и даже евгенике. Если ранее прогрессивисты были полны решимости отсеять биологически непригодных, теперь они стремились избавиться от психологически непригодных. Некоторые либеральные психиатры даже стали вести речь о новой «религии психиатрии», способной избавить общество от его «экстремистских», традиционных, отсталых, консервативных элементов. Адорно и его коллеги заложили основу для этого перехода, объявив «авторитарную семью» средоточием зла в современном мире.
Либеральные теологи пошли на компромисс с психиатрами, утверждая, что различные неврозы являются результатом социального отчуждения и что традиционная религия должна переориентироваться в сторону их исцеления. Психиатрия и «релевантность» стали новыми стандартами для духовенства во всем мире. По мнению Пауля Тиллиха[408], источником спасения должны были стать пересмотр и воссоединение светского и священного, призванные сделать политику, психиатрию и религию частями единого целого.
Если не принимать во внимание жаргон, этот проект был почти точной копией либеральной концепции. Либералы любят популизм, когда он исходит слева. Но всякий раз, когда популистские желания народа идут вразрез с программой левых политических сил, сразу же раздаются обвинения в «реакции», «экстремизме» и, конечно, «фашизме». Билл Клинтон назвал свой «проект» развития Америки «Интересы народа прежде всего» (Putting People First), но когда народ отверг его программу, нам сообщили, что «озлобленные белые люди» (читай белые «авторитарные личности») представляют угрозу для республики. Аналогичным образом, когда народ поддерживал сторонников социального планирования времен «Нового курса», прогрессивизм почти ничем не отличался от популизма. Но когда те же самые люди оказались сыты по горло социализмом сверху, они стали «параноидальными» и «опасными», «подверженными психическим заболеваниям и фашистской манипуляции». Таким образом, усилия либеральных приверженцев социального планирования, направленные на то, чтобы «исправить» людей, переориентировать их неблагополучный внутренний мир, дать им «смысл», становились все более обоснованными. Это все напоминало известное остроумное замечание Бертольта Брехта: «Не проще ли было бы для правительства / Распустить народ / И избрать себе другой?»[409].
«Великое Общество»: фашистская утопия Линдона Джонсона
Так же, как у нацистского движения, у либерального фашизма было два лица: радикалы с улицы и радикалы из влиятельных кругов. В Германии обе эти группы объединили усилия для того, чтобы ослабить сопротивление среднего класса программе нацистов. В предыдущей главе были показаны примеры, как либеральные фашисты из СДО и «Черные пантеры» терроризировали представителей среднего класса Америки. Ниже и в следующей главе я постараюсь объяснить, как «радикалам в костюмах и галстуках» 1960-х годов (наподобие Хиллари Клинтон и ее соратников) удалось использовать террор для укрепления власти и расширения масштабов государства и прежде всего для изменения отношения общества к государству как источнику социального прогресса, всеобъемлющей заботы и сострадания.
Линдон Джонсон представляется не вполне подходящей кандидатурой на роль спасителя либерализма. С другой стороны, его никто не выбирал. Своим назначением на должность он обязан выпущенной убийцей пуле. Тем не менее нельзя сказать, что он не был готов к этой роли.
Как ни удивительно, Джонсон был единственным полноценным приверженцем «Нового курса» из американских президентов, за исключением самого Франклина Делано Рузвельта. Более того, во многих отношениях Линдон Джонсон был исключительно преданным сторонником современного государства всеобщего благосостояния, олицетворением всего, что было связано с «Новым курсом». Являясь самобытной личностью, на самом деле он был воплощением системы, которую помогал создавать.
Франклин Рузвельт с самого начала симпатизировал Линдону Джонсону. Он сказал Гарольду Икесу, что Джонсон вполне может стать первым южным президентом послевоенного поколения. Джонсон был фанатично предан Франклину Делано Рузвельту. Будучи референтом в Конгрессе, он не раз грозил уйти в отставку, когда его босс намеревался голосовать вразрез с Рузвельтом. В 1935 году он был главой техасского отделения Национальной администрации по делам молодежи, когда ему удалось привлечь внимание будущего спикера Палаты представителей Сэма Рейберна и выделиться на фоне других молодых сторонников «Нового курса». В 1937 году в возрасте 28 лет он был избран представителем десятого округа Техаса. Когда президент Рузвельт был в Техасе, они встречались и проводили много времени вместе. Вернувшись в Вашингтон, Рузвельт вызвал своего помощника Томаса Коркорана и сообщил ему: «Я только что встретил просто исключительного молодого человека. Мне нравится этот парень, и вам следует всячески помогать ему». По словам Джонсона, Рузвельт стал его «политическим отцом». Линдон Джонсон гораздо лучше, чем другие выборные чиновники, освоил искусство воплощения в жизнь идей «Нового курса». Джонсон принес огромное количество «жирных кусков» своим избирателям уже в первый год работы в Конгрессе. «Он получил больше проектов и больше денег для своего округа, чем кто-либо еще, — вспоминал Коркоран. — Он был лучшим конгрессменом округа из когда-либо существовавших»[410].
Однако после избрания Джонсон не хвастался своей приверженностью «Новому курсу». Из истории поражения техасского конгрессмена Мори Маверика он вынес, что похвалы либералов с восточного побережья почти ничего не значат в Техасе. Узнав о намерении New Republic поставить его в один ряд с другими влиятельными конгрессменами «Нового курса», Линдон Джонсон запаниковал. Он позвонил своей подруге из Международной организации труда и умолял ее: «У тебя наверняка есть знакомые в Рабочем движении. Не могла бы ты позвонить кому-либо из них и попросить подвергнуть меня критике? [Если] они напечатают, что <...> здесь я либеральный герой, то мне конец. Ты должна найти кого-нибудь, кто раскритикует меня!»[411]
Когда он стал полноправным президентом, то необходимость скрывать свои истинные чувства пропала. Наконец он мог открыто заявить о своей приверженности либерализму. Тем временем смерть Джона Ф. Кеннеди оказалась превосходным психологическим кризисом для нового этапа либерализма. Вудро Вильсон для достижения своих социальных целей использовал войну. Франклин Делано Рузвельт использовал экономический кризис и войну. Джон Ф. Кеннеди использовал угрозу войны и советского превосходства. Кризисный механизм Джонсона принял форму духовной тоски и отчуждения. И он использовал этот кризис по максимуму.
Когда Джонсон поднял упавший флаг либерализма, он произнес краткую, почти библейскую фразу «давайте продолжим». Но что именно следовало продолжать? Конечно, речь шла не о высоколобом политическом занудстве и не о бесконтактном американском футболе в Хайаниспорте[412]. Джонсону предстояло построить церковь либерализма на гранитной плите памяти Кеннеди, только он должен был сделать это при помощи психологических абстракций, вроде «смысла» и «исцеления». Он считал себя — или позволял считать себя — светским Святым Павлом по отношению к павшему либеральному Мессии. Великое общество Линдона Джонсона было призвано стать церковью, воздвигнутой на вымышленном слове «Камелот».
22 мая 1964 года Джонсон в первый раз представил свою концепцию «Великого общества»: «Великое общество опирается на изобилие и всеобщую свободу. Оно требует покончить с нищетой и расовой дискриминацией, и это должно стать нашей главной задачей в настоящее время. Но это только начало. <...> Великое общество — это место, где каждый ребенок может найти знания, чтобы обогатить свой ум и развить способности. Это место, где досуг становится прекрасной возможностью для созидания и размышления, а не внушающей страх причиной скуки и беспокойства. Это место, где людей объединяют не только витальные и деловые потребности, но также стремление к красоте и общению с себе подобными»[413].
Мягко говоря, это был амбициозный проект. В «Великом обществе» все желания будут исполнены, все потребности — удовлетворены. Получение какого-либо блага не будет связано с отказом от иных благ. Государство было призвано поощрять, развивать и гарантировать все законные радости. Даже свободного времени должно было быть столько, чтобы каждый гражданин мог найти «смысл» жизни.
Джонсон признал, что такой субсидируемой государством нирваны невозможно достигнуть в одночасье. Для этого потребуются целеустремленность, преданность и усилия каждого гражданина Америки, а также таланты экспертов новой волны. «Я не хочу сказать, что у нас есть готовые решения всех этих задач, — признался он. — Но я обещаю следующее: мы намерены собрать самые передовые идеи и знания по всему миру, чтобы найти эти ответы для Америки»[414]. Джонсон создал около 15 комитетов, которые должны были ответить на вопрос, что такое «Великое общество».
Возрождение либеральных амбиций происходило, несмотря на то, что уровень антител этатизма в Америке достигал максимума. В 1955 году был основан журнал National Review, ставший «домом» для целой плеяды неортодоксальных мыслителей, которые определили облик современного консерватизма. Показательно, что в то время как Уильям Ф. Бакли всегда был классическим либералом и католиком-традиционалистом, почти все идейные основатели National Review были социалистами и коммунистами, которые испытывали отвращение к Богу, не оправдавшему их ожиданий.
В 1964 году National Review писал о сенаторе Барри Голдуотере, что его решение стать кандидатом принято осознанно, а не в качестве компромисса. Со времен Кулиджа Голдуотер был первым кандидатом в президенты от республиканцев, который отказался от основных положений прогрессивизма, в том числе и от заявлений в духе «я тоже республиканец». В результате Голдуотер был объявлен кандидатом «ненависти» и зарождающегося фашизма. Линдон Джонсон обвинил его в «проповедовании ненависти» и последовательно пытался связать с террористическими «группами ненависти» наподобие Ку-клукс-клана (приверженцами которых традиционно были демократы). В выступлении перед металлургами в сентябре 1964 года Джонсон осудил философию «очереди за бесплатным супом» Голдуотера (как будто главная задача капитализма, основанного на принципах свободной конкуренции, состояла в том, чтобы отправить людей в работный дом) и высмеял «предрассудки и фанатизм, а также ненависть и разобщение», которые олицетворял этот приветливый аризонец[415]. Это заявление, конечно же, совершенно не соответствовало действительности. Голдуотер был сторонником ограниченного правительства. Он верил американскому народу и его порядочности, а не кучке бюрократов из Вашингтона. Единственной его серьезной ошибкой, которую он позже признал и сожалел о ней, было голосование против Закона о гражданских правах.
Как ранее, так и ныне немногие либералы станут оспаривать тот факт, что «Великое общество» основывалось на любви и единстве. «Мы будем делать все это потому, что мы любим людей, а не испытываем к ним ненависть... потому что вам известно, что для строительства дома нужен человек, любящий свою страну, а не неистовствующий демагог, который стремится разрушить этот дом. Остерегайтесь и тех, кто всего боится и сомневается, и тех, кто многословно и злобно осуждает прогресс», — призывал Джонсон. Между тем лидеры правящих кругов делали все возможное, чтобы представить Голдуотера создателем «климата ненависти», который оборвал жизнь Кеннеди. В полном соответствии с духом нового времени, который выразился в поисках психологической подоплеки всех явлений, Голдуотер был объявлен сумасшедшим в прямом смысле этого слова. В New York Times сообщалось, что 1189 психиатров поставили ему диагноз «психологическое несоответствие» должности президента. Это обвинение впоследствии было использовано в материалах многих «свободных СМИ». Коллега Дэна Разера Дэниэл Скорр (в настоящее время старший корреспондент Национального общественного радио), не приводя никаких доказательств, сообщил в вечерних новостях телерадиовещательной компании CBS о том, что поездка кандидата Голдуотера в Германию нацелена на «установление связей» с неонацистскими элементами[416].
Голдуотер потерпел сокрушительное поражение на выборах. А если учесть монументальное эго Линдона Джонсона, а также высокомерие его соратников, не удивительно, что результаты выборов рассматривались как всеобщее одобрение проекта «Великого общества».
К тому же Джонсон был во многих отношениях совершенным воплощением страстей и противоречий либерализма. Его карьера началась (что достаточно показательно) с работы учителем во время «революции Дьюи» в образовании. Более того, некоторые участники дебатов по поводу «Великого общества» прямо указывали на Дьюи как на автора этого знаменитого словосочетания. Оно часто повторяется в работе Дьюи, вышедшей в 1927 году под названием «Общество и его проблемы» (The Public and Its Problems)[417]. Однако пальма первенства в этом вопросе все же по праву принадлежит одному из основателей фабианского социализма, Грэхему Уоллесу, который в 1914 году опубликовал книгу «Великое общество» (The Great Society), хорошо известную двум помощникам Джонсона, которые приписывали себе создание джонсоновского «Великого общества».
Одним из этих помощников был Ричард Гудвин, многообещающий молодой человек из администрации Кеннеди (он первым из своей учебной группы в Гарвардской школе права получил диплом). Гудвин удостоился внимания Кеннеди, когда он по поручению Конгресса занимался расследованием скандалов 1950-х годов, связанных с проведением телеигр. Линдон Джонсон «унаследовал» Гудвина как составителя речей. Летом 1965 года Гудвин предложил комментарий, который, по мнению New York Times, стал «самым глубоким и точным на сегодняшний день ответом» на вопрос, что такое «Великое общество». Вывод, который он сделал, сводился к тому, что государство должно дать людям «смысл» и «сделать мир более приятным и прежде всего благодатным местом для жизни». «Великое общество, — пояснял Гудвин, — заботится не о количестве потребляемых нами товаров, но о качестве нашей жизни». Хотя он и не говорил об этом напрямую, было ясно, что «Великое общество» будет строиться на противоположности убившей Кеннеди «ненависти», т. е. на любви[418].
Но также предполагалось, что это будет требовательная любовь. Гудвин дал понять, что нежелание граждан видеть смысл в принимаемых государством мерах или измерять качество своей жизни при помощи бюрократической «логарифмической линейки» будет преодолеваться. И не только при помощи убеждения. Скорее, задача правительства состояла в том, «чтобы побудить их к действию или к поддержке действия». Здесь снова явственно ощущается присутствие призрака Дьюи. Гудвин заявил, что «Великое общество» должно «обеспечить наших людей средой, возможностями и социальными структурами, которые дадут им реальный шанс добиться личного счастья». Это почти ничем не отличалось от предложенной Дьюи демократии, управляемой государством. Дьюи считал, что «естественные права и свободы существуют только в мифологическом царстве социальной зоологии» и что «организованный социальный контроль» при помощи «общественного хозяйства» может быть единственным средством для создания «свободных» личностей[419].
Религиозный характер современного либерализма почти всегда лежал на поверхности. Более того, 1960-е годы следует рассматривать как очередное в серии «великих пробуждений» в американской истории широкомасштабное стремление к новому смыслу, результатом которого стало бурное общественно-политическое движение. Единственное отличие заключалось в том, что это пробуждение в значительной степени было связано с отказом от Бога. Пол Гудман, автор книги «Абсурд взросления» (Growing Up Absurd), вышедшей в 1960-м году и способствовавшей реализации политики надежды в первой половине десятилетия, во второй половине десятилетия осознал, насколько недостоверным был его первоначальный диагноз: «Мне... казалось, что протесты студентов по всему миру были связаны с изменением политических и моральных институтов, к которому я относился с симпатией, но теперь я понимаю [в 1969 году], что мы стали свидетелями религиозного кризиса, сопоставимого с Реформацией XVI века, когда не только все институты, но и все учение было искажено вавилонской блудницей»[420].
Такое видение 1960-х годов как преимущественно религиозного феномена в последнее время стало довольно популярным, и теперь ученые обсуждают особенности развития этого движения. Весьма проницательный журналист Джон Джудис, например, утверждает, что в восстании 1960-х годов просматривается два этапа: постмиллениалистская политика надежды, за которой последовала премиллениалистская политика отчаяния, вызванная эскалацией войны, расовыми волнениями внутри страны и убийствами Роберта Кеннеди и Мартина Лютера Кинга. «Постмиллениализм» и «премиллениализм» — это применяемые в теологии обозначения для соответствующих религиозных концепций. Постмиллениалисты верят, что человек может создать Царствие Божие на земле. Социальные евангелисты по своим воззрениям были преимущественно постмиллениалистами; они верили, что гегелевское государство есть Царствие Небесное на земле. Премиллениалисты верят, что мир приближается к концу и не может стать лучше, пока не станет хуже[421].
Хронологическая схема Джудиса имеет свои достоинства, но в конечном счете гораздо уместнее рассматривать эти концепции не как отдельные стадии либерализма, а как его конкурирующие составляющие. Левые политические силы всегда отличались апокалиптизмом. Ленин утверждал: «чем хуже, тем лучше». Сочинения Жоржа Сореля кажутся бессмысленными, если вы не понимаете, что он воспринимал политику как преимущественно религиозное явление. Революционный авангард всегда настаивал на том, что созиданию должно предшествовать разрушение. Футуристы, анархисты, вортицисты, маоисты, а также другие модернистские и левые представители авангарда считали, что кувалды служат в первую очередь для разрушения, а во вторую — для строительства. Гитлер, конечно же, искренне верил, что разрушения выгодны для общества (хотя, как он часто объяснял, он понимал, что источник реальной власти не разрушение, а разложение существующих институтов).
Следует также отметить апокалиптическую логику прогрессивизма в целом. Если колесо истории, государство, движется вперед, к Царствию Небесному, то в течение всего времени, когда «противник» берет верх, мы движемся в метафизически неверном направлении. Это становится особенно явным, когда средства массовой информации описывают социалистические реформы как «шаг вперед», а рыночные реформы — как «движение в обратную сторону» или «стремление повернуть время вспять». И когда противники прогресса стоят у руля слишком долго, призывы левых «снести все это до основания» становятся все громче и громче.
Другими словами, апокалиптические страсти конца 1960-х годов, по мнению Джона Джудиса, разгорелись не только в результате крушения иллюзий после убийства Кеннеди и неудач либеральной политики «Великого общества», но и как следствие подавления религиозности, которая всегда была присуща прогрессивизму в целом. Упорные реформисты получили шанс; теперь пришло время действовать под лозунгом «Жги, детка, жги!».
Тем не менее 1960-е годы — это не только «огонь на улицах», как и французская революция не только террор. Громоздкий бюрократический аппарат, предназначенный для «рационализации» экономики, обеспечил рабочими местами больше якобинцев, чем гильотина за все время ее существования. Пробудившийся реформаторский дух звал в «великий поход против институтов власти»[422]. Кампания Ральфа Нейдера по защите интересов потребителей стартовала в 1960-е годы, как и современное экологическое движение. Книга Бетти Фридан «Мистика женственности» (Feminine Mystique) была опубликована в 1963 году[423]. Стоунуоллские бунты, которые положили начало движению за гражданские права гомосексуалистов, произошли летом 1969 года. Грань между формальной религией и прогрессивной политикой снова оказалось размытой до неузнаваемости. Религиозных лидеров «основной» церкви снова соблазнила радикальная политика[424]. Методистский молодежный журнал motive, оказавший огромное влияние на молодую Хиллари Клинтон, в одном из номеров опубликовал поздравительную открытку ко дню рождения Хо Ши Мина, а в других — советы по уклонению от призыва. Все эти политические кампании были основаны на морализаторском рвении и на духовном стремлении к чему-то большему, чем только хлеб. Большинство радикалов из числа «новых левых» позже объясняли, что их поиски на самом деле были больше духовными, нежели политическими. Более того, именно поэтому столь многие из них уходили в коммуны и принимали участие в обучающих семинарах Эрхарда в поисках «смысла», «подлинности», «сообщества» и прежде всего «самих себя». Для поколения 1960-х годов «самореализация» стала новой светской благодатью[425].
В 1965 году Харви Кокс, малоизвестный баптистский священник и бывший капеллан Оберлинского колледжа, написал книгу «Светский град» (The Secular City), которая за одну ночь сделала его пророком. «Светский град», разошедшийся тиражом более миллиона экземпляров, выступал за разновидность десакрализации христианства в пользу новой трансцендентности, средоточием которой стал «технополис» как «место человеческого контроля, рационального планирования, бюрократической организации». Современная религия и духовность требовали «разрушения всех сверхъестественных мифов и священных символов». Вместо этого мы должны одухотворять материальную культуру для совершенствования человека и общества с помощью технологий и социального планирования. В «Светском граде» «политика заменяет метафизику как язык богословия». Истинное поклонение осуществлялось не на коленях в церкви, но «стоя в линии пикетирования». «Светский град» имел большое значение для переходного периода 1960-х годов (хотя следует отметить, что Кокс отказался от большей части своих аргументов через 20 лет)[426].
Двойственность природы либерализма подтверждается тем, что отношения между «оптимистичными» либералами и «апокалиптическими» левыми постоянно колебались в диапазоне от любви до ненависти. На протяжении 1960-х годов центристские либералы шли на уступки и приносили извинения радикалам, находящимся по левую сторону от них. А когда дело дошло до применения силы (как это было в Корнеллском университете), они капитулировали перед радикалами. Даже сегодня либеральное большинство склонно романтизировать «революционеров» 1960-х годов отчасти потому, что многие из них выступали в этой роли, когда были молодыми. В настоящее время представители администрации университетов, многие их которых являются «живыми ископаемыми» из эпохи 1960-х годов, аплодируют «танцу кабуки» протестующих представителей левых, составляющих ядро высшего образования. Волноваться они начинают только тогда, когда протесты раздаются справа.
Но самым значимым наследием 1960-х годов необходимо признать возникшее у либералов чувство вины. Вины вследствие неспособности создать «Великое общество». Вины за то, что дети, негры и остальные члены коалиции угнетенных остались брошенными на произвол судьбы. Вина считается одним из самых религиозных чувств и имеет свойство быстро переходить в нарциссический комплекс Бога. Либералы гордились тем, что чувствовали себя виноватыми. Почему? Потому что это свидетельствовало об их всемогуществе. Кеннеди и Джонсон были убеждены в том, что просвещенное общество благоденствия может решить все проблемы, исправить все недостатки. Обычно вы не чувствуете себя виноватыми, когда зло совершается силами, которые вы не можете контролировать. Но тот, кому подвластно все, чувствует себя виноватым во всех случаях. Линдон Джонсон не только ускорил реализацию предложенной Кеннеди политики надежды, когда он заявил: «Нам по силам все это; мы самая богатая страна в мире», но также сделал любые изъяны во всех сферах свидетельством недостаточного усердия, расизма, нечувствительности или просто «ненависти». Чувство вины как знак благодати свидетельствует о том, что ваше сердце на месте.
Консерваторы оказались в ловушке. Если вы отвергали концепцию всемогущего государства, это означало, что вы ненавидите тех, кому государство стремилось помочь. И единственным способом доказать, что вы не испытываете к ним ненависти (кем бы «они» ни были), была поддержка государственного вмешательства (или «позитивных действий», по выражению Кеннеди) в их интересах. Сочетание «хороший консерватор» стало оксюмороном. Консерватизм, по определению, «сдерживает нас» (оставляет некоторых «позади»), когда все мы знаем, что решение всех проблем уже совсем близко.
Как следствие, в американском политическом ландшафте появился разлом. На одной стороне были радикалы и бунтовщики, которым метафорически, а иногда и в буквальном смысле убийства сходили с рук. На другой — расположились консерваторы, источавшие ненависть, больные, близкие к фашизму, которые не заслуживали никакого оправдания. Либералы оказались в середине и, когда пришлось выбирать, по большей части приняли сторону радикалов («они слишком нетерпеливы, но по крайней мере им не все равно!»). Тот факт, что радикалы презирали либералов за неспособность зайти достаточно далеко и достаточно быстро, только подтверждал их моральный статус с точки зрения страдающих комплексом вины либералов[427].
В таком климате рост расходов либералов был неизбежным. Подобно дворянам, которые в давние времена покупали индульгенции у церкви, влиятельные либеральные круги стремились искупить свою вину, обеспечивая «угнетенных» всевозможными благами. Страх также играл свою роль в этом процессе. Прагматичные либералы (по понятным причинам не желавшие признавать этого публично), несомненно, применяли бисмарковский подход умиротворения радикалов за счет законодательных реформ и государственных щедрот. Для других вполне реальная угроза радикализма стала как раз таким «кризисным механизмом», который всегда стремились найти либералы. Охватившая ряды либералов паника, связанная с «расовым кризисом», часто упоминалась как повод смахнуть пыль с каждой государственнической схемы, когда-либо реализованной прогрессивистами.
Объемы выплат, начиная с денежных пособий для бедных и заканчивая средствами на реконструкцию мостов и местное благоустройство, были огромными даже по стандартам «Нового курса». Движение за гражданские права, завоевавшее симпатии общественности благодаря призывам Кинга к равенству и отказу от расовых предубеждений, быстро переориентировалось на борьбу за многочисленные права расовых меньшинств. Джордж Уайли, президент Национальной организации защиты прав в области социального обеспечения, настаивал на том, что социальное обеспечение является «правом, а не привилегией». Некоторые даже утверждали, что социальное обеспечение — это своеобразная компенсация за рабство. Между тем любое несогласие с такими программами порицалось как свидетельство фанатизма.
«Война с бедностью», позитивные действия, местное благоустройство и множество социальных программ, касающихся, в частности, помощи семьям, имеющим несовершеннолетних детей, выделения субсидий на строительство и приобретение жилья, льготного медицинского страхования, выплаты пособий на матерей, детей младшего дошкольного и школьного возраста, распределения продовольственных талонов, реализовывались силами аппарата государственных служащих, разросшегося до таких масштабов, о которых Франклин Делано Рузвельт мог только мечтать. Но большая часть представителей левых сил не была удовлетворена этими мерами, во-первых, потому, что они оказались не настолько эффективными, чтобы можно было говорить о создании «Великого общества»; во-вторых, они не решали проблему бедности населения кардинальным образом. Хотя даже Рузвельт признавал, что пособие по безработице может быть «наркотиком <...> для человеческого духа», в 1960-е годы такие опасения в большинстве случаев отвергались как абсурдные[428]. Газета New Republic заявляла, что программа Джонсона по борьбе с бедностью была хорошим «началом», но при этом настаивала на «отсутствии альтернативы действительно широкомасштабным федеральным инициативам в области социального обеспечения, направленным на повышение благосостояния граждан». Майкл Харрингтон, автор книги «Другая Америка» (The Other America), заложившей моральные основы для «войны с бедностью», возглавил группу из 32 левых интеллектуалов с претенциозным названием «Специальный комитет по тройной революции», которая заявила, что государство должно обеспечить «каждому человеку и каждой семье право на адекватный доход». Члены этого комитета сетовали, что американцы «слишком смущены и напуганы чудовищем, которое мы называем “государство всеобщего благосостояния”, хотя в большинстве стран такой статус является предметом гордости»[429].
На «наркотик пособий» подсели не только те, кто его получал, но и те, кто выделял. Подобно человеку, полному решимости забить квадратный колышек в круглое отверстие, влиятельные либеральные круги продолжали утверждать, что для достижения социального рая под названием «Великое общество» нужно всего лишь еще немного денег и усилий. Как утверждал в книге «Конец равенства» (The End of Equality) Микки Каус, ответ либералов на каждую неудачу можно выразить одним словом: «еще»[430]. Когда оказалось, что социальная помощь вынуждает отцов покидать свои семьи, либералы решили, что выплаты необходимо распространить и на те семьи, где отцы остаются дома. Но это в свою очередь порождало стремление стать или оставаться безработными. Ответная мера? Бедным работающим отцам тоже следовало дать денег. Но это, в свою очередь, побуждало семьи отдалять тот момент, когда отец выберется из нищеты, чтобы не потерять права на льготы. Между тем те, кто критиковал какие-либо из этих мер, автоматически становились фашистами.
Непреднамеренные, но неизбежные последствия либерального утопизма множились. Начиная с 1964 года количество преступлений в Америке увеличивалось примерно на 20 процентов в год[431]. Либеральные судебные решения, в частности сформулированные Верховным судом «права Миранды», привели к резкому снижению процента раскрываемости преступлений в крупных городах. Социальные выплаты способствовали распаду семей, незаконному рождению детей и другим патологиям, которые они были призваны вылечить. Изначальная революция в области гражданских прав, которая в значительной степени основывалась на классической либеральной концепции равенства перед законом, не позволила достигнуть того уровня интеграции, на который рассчитывали либералы. В 1964 году Хьюберт Хамфри, «господин либерал», клялся и божился в Сенате, что Закон о гражданских правах никоим образом не может привести к квотам. Он говорил: «Если кто-то сможет доказать обратное, я начну есть страницы одну за другой, потому что этого там нет». К 1972 году Демократическая партия под видом «правил Макговерна» ввела жесткие квоты (для чернокожих, женщин и молодежи) в качестве своего определяющего организационного принципа[432]. Вряд ли кого-то удивит тот факт, что Демократическая партия, изо всех сил стремившаяся «выглядеть, как Америка», в свою очередь была заинтересована в том, чтобы Америка выглядела, как Демократическая партия. И если кто-то был с чем-то не согласен, он также становился фашистом.
Действительно, даже когда по американским городам прокатилась волна типично фашистского насилия на улицах, белые либералы с упоением признавали свою вину и обвиняли правых. Настоящим поворотным моментом стал произошедший в 1965 году бунт в Уоттсе. Не только либеральная интеллигенция решительно обвиняла «белую Америку» («систему») в насилии, но само насилие стало восприниматься как достойное восхищения и оправданное с точки зрения морали «восстание». Джонсон отмечал, что такое поведение вполне ожидаемо, когда «люди чувствуют, что с ними поступают несправедливо». Хьюберт Хамфри говорил о том, что если бы он родился бедным, то тоже мог бы взбунтоваться. Возникла целая «идеология бунта», которая, по словам историка-урбаниста Фреда Сигела, стала новым видом «коллективных переговоров». Разгромите свой район, и правительство купит вам новый, который будет еще лучше[433].
Масштабы либерального отказа стали полностью ясны, когда Даниэль Патрик Мойнихан, который в то время был советником Ричарда Никсона, выступал за политику «благотворного невмешательства» в отношении расовых вопросов. «Вопросу расы, — сказал Мойнихан Никсону в конфиденциальном разговоре, — уделяется слишком много внимания... Возможно, нам потребуется определенное количество времени, в течение которого проблемы негров будут постепенно решаться, а расовая полемика утихнет»[434]. Мойнихан призывал президента избегать столкновений с черными экстремистами и вместо этого уделять внимание агрессивному классовому подходу к социальной политике. Охваченные ужасом либеральные журналисты, гражданские активисты и ученые отреагировали весьма бурно, назвав этот меморандум «позорным», «возмутительным» и «жестоким» по форме. Такая реакция была поучительной. Либералы настолько прониклись концепцией государства-Бога, что предположение, что государство может и уж тем более должно отвернуться от избранного народа (ибо кто был более достоин этого звания, чем бедные черные жертвы рабства и сегрегации), было равносильно заявлению об утрате Богом своего божественного статуса. Что касается государства, отсутствие заботы могло быть только пагубным, а не благоприятным. Государство — это любовь.
Некая доля иронии, присутствующая в характеристике процесса преобразования американского либерализма, объясняется тем, что он осуществлялся в соответствии с почти фашистской логикой бисмарковского государства всеобщего благосостояния. Бисмарк был основоположником концепции «либерализма без свободы». Он откупился от сил демократической революции многочисленными мелкими уступками, сделанными им от имени всемогущего государства. Реформы без демократии еще более укрепляли бюрократическую систему, при этом общество оставалось удовлетворенным. Чернокожее население связывало свои интересы с государством и его добродетельными представителями, Демократической партией. Чернокожие и демократы действовали к взаимной выгоде, причем эти отношения стали настолько прочными, что либеральная черная интеллигенция без преувеличения считала оппозицию Демократической партии разновидностью расизма. Либералы также заключили бисмарковское соглашение с судами. Испытывая растущее разочарование по поводу демократических свобод, либералы заключили мир с судьями-активистами, исповедующими принципы либерализма «сверху вниз». Сегодня либерализм почти полностью зависит от «просвещенных» судей, которые используют «живую» конституцию Вильсона, игнорируя волю народа во имя прогресса.
Все это восходит к убийству Кеннеди, когда сумасшедший коммунист предал мучительной смерти кумира Прогрессивного движения. В 1983 году, в двадцатую годовщину убийства, Гэри Харт заявил в интервью для журнала Esquire: «Если бы вы собрали нас [политиков-демократов] всех вместе и спросили, “почему вы пошли в политику?”, девять из десяти упомянули бы имя Джона Кеннеди»[435]. В 1988 году Майкл Дукакис был убежден (довольно абсурдно), что он является перевоплощением Кеннеди. Он даже выбрал Ллойда Бентсена в качестве кандидата на пост вице-президента преимущественно для того, чтобы воссоздать «магию» оси «Бостон-Остин». В 1992 году высшей точкой кампании Клинтона стал фильм в духе Лени Рифеншталь, где совсем еще юный Билл Клинтон обменивается рукопожатием с президентом Кеннеди. Джон Керри, кандидат от Демократической партии на выборах 2004 года, имитировал акцент Кеннеди в школьные годы, называл себя его инициалами JFK и взял за основу своей политической карьеры путь Кеннеди. В 2004 году Говард Дин и Джон Эдвардс также утверждали, что они истинные наследники «мантии Кеннеди». Точно так же поступали и прежние кандидаты в президенты, в том числе Боб Керри, Гэри Харт и, конечно, Тед и Роберт Кеннеди. В 2007 году Хиллари Клинтон сказала, что она участвует в предвыборной гонке, как Джон Ф. Кеннеди.
Подлинным свидетельством того, насколько глубоко «миф Кеннеди» укоренился в жизни Америки, является отношение американцев к смерти его сына, Джона Ф. Кеннеди-младшего в 1999 году. «Джон Джон», как его ласково и снисходительно называли, был, по общему мнению, хорошим и порядочным человеком. Безусловно, он был очень красив. И он был сыном любимого президента. Но как бы то ни было, его карьеру и достижения можно в лучшем случае назвать «невыразительными». Он сдал экзамен на право ведения адвокатской деятельности в Нью-Йорке с третьего раза. Он был вполне заурядным прокурором. Он основал детский журнал George, в котором границы между личной жизнью и политикой, реальностью и славой, тривиальным и значимым умышленно размывались. И все же, когда Джон-младший трагически погиб в авиакатастрофе, его смерть описывалась в подчеркнуто религиозных терминах представителями политического класса, которые были абсолютно убеждены в том, что сын, как и отец, был проникнут «Святым Духом Кеннеди». Историк Дуглас Бринкли написал в New York Times, что Кеннеди-младший был «фотогеничным искупителем» его поколения. Во всех без исключения средствах массовой информации Кеннеди-младший был представлен как погибший «национальный спаситель». Бернард Кальб резюмировал форму подачи этого события в СМИ следующим образом: Джон Ф. Кеннеди-младший изображался как «своего рода светский мессия, который, останься он в живых, спас бы цивилизацию от всех ее ужасных проблем»[436].
Сегодня отрицание статуса Кеннеди как мученика за то, что могло бы произойти, равносильно отрицанию надежды самого либерализма. В течение жизни более чем одного поколения либеральная политика в Америке основывается на политике призрака. Джек Кеннеди, которого помнят либералы, никогда не существовал. Но «миф Кеннеди» представляет собой не человека, а момент — момент, когда либералы надеялись достичь Царствия Небесного. Эти времена не были такими благоприятными, какими их помнят либералы. В конце концов именно смерть Кеннеди, а не его жизнь на самом деле сплотила огромное количество американцев вокруг либерализма. Но суть не в этом. Важно то, что люди верят в миф и поэтому следуют ему. Либералы верили, что на «краткий яркий момент» им удалось воплотить мечту об их Царствии Небесном, их «Камелоте». С тех пор они страстно желают воссоздать этот момент. При взгляде извне этот миф почти ничем не отличается от поклонения власти. Но изнутри это Евангелие. Между тем показательным является само стремление демократов сохранить суть «Великого общества», не отказываясь при этом от «мифологии Камелота». Каждый демократ говорит о том, что он хочет быть Джоном Ф. Кеннеди, утверждая при этом, что он будет делать приблизительно то, что делал Линдон Джонсон. Ни одному демократу не придет в голову заявить о своем стремлении подражать Линдону Джонсону, потому что миф важнее всего.
Глава 7. Либеральный расизм: призрак фашистской евгеники
Ни один вопрос не исследован современными либералами лучше, чем расовый. Они твердо убеждены, что несогласие с их ортодоксальными взглядами является признаком надвигающегося фашизма. Практически ни одно значимое обсуждение расовых проблем за последние 40 лет не обошлось без упоминания о холокосте, который либералы приводили как доказательство своей правоты, с мрачным видом предостерегая, что, если сторонники разделения по расовому признаку добьются своего, мы вполне можем оказаться на скользком склоне, ведущем к немецкому нацизму.
Белые либералы позаимствовали этот ловкий прием у черных либералов. Черные представители движения за гражданские права любят разыгрывать нацистскую карту[437]. Когда Ньют Гингрич попытался добиться расположения либеральных демократов, приглашая их на официальные приемы, член палаты представителей от Нью-Йорка Мэйджор Оуэнс был глубоко возмущен. «Это люди, которые практикуют геноцид с улыбкой; они хуже, чем Гитлер, — сказал Оуэнс. — Гингрич улыбается... [и] говорит, что они хотят быть нашими друзьями. Это будет геноцид в виде коктейль-приема». Казалось бы, председатель Национальной ассоциации содействия прогрессу цветного населения Джулиан Бонд должен придерживаться умеренных взглядов в расовой политике, но он тоже имеет пристрастие к нацистским аналогиям. «Их идея равных прав — это американский флаг и знамя Конфедерации — свастика, развевающиеся рядом», — заявил он недавно. Гарри Белафонте необоснованно обвинял черных представителей консервативного движения в администрации Буша — Кондолизу Райс, Колина Пауэлла и других, намекая, что у Гитлера тоже «было много евреев, занимавших высокие должности в иерархии Третьего рейха» (кстати, это не соответствует действительности). Джесси Джексон никогда не встречал ни одного заявления в духе Reductio ad Hitlerum, которое бы ему не нравилось. За время своей карьеры он неоднократно сравнивал республиканцев с проводящими политику геноцида нацистами, начиная с порицания гитлеровской сути «новых правых» и заканчивая осуждением «нацистской тактики» Джорджа Буша[438].
Правые силы постоянно ассоциируются с мрачными страницами в истории страны: поддержкой сторонников сегрегации, злоупотреблениями маккартизма, предшествовавшим Второй мировой войне изоляционизмом и т. д. При этом обычно умалчивается об участии либералов в событиях, когда Демократическая партия в течение целого века была домом для Джима Кроу[439]; когда американский либерализм отличался не меньшим изоляционизмом, чем американский консерватизм; когда благодаря «красной панике» прогрессивистов маккартизм стал напоминать дебаты дискуссионного общества Оксфордского университета; когда сменявшие друг друга президенты-демократы в приказном порядке реализовали такие вещи, как содержание под стражей американцев японского происхождения, массовое внутреннее наблюдение за политическими врагами и использование ужасного оружия против Японии, а также когда лояльные Москве коммунисты «назвали имена» еретиков-троцкистов[440].
Пожалуй, самым жестоким можно считать увлечение либералов евгеникой, которое тщательно скрывается, словно его никогда не существовало. Подобно цензорам старых советских энциклопедий, которые отдавали распоряжения о том, какие страницы следовало удалить, американский либерализм неоднократно подвергался цензуре, при этом его история была переписана так, что «плохие парни» всегда оказываются консерваторами, а хорошие — либералами. Такой ревизионизм играет важную роль в наших биоэтических дебатах сегодня: либералы все еще питают слабость к определенным видам евгеники, при этом они не замечают этой своей склонности и не признают, что она была свойственна либерализму и ранее.
Фактически эти «белые пятна» оказываются для них вне зоны видимости. Не зная своей собственной истории и лишь смутно понимая сущность нацистской евгеники, они исходят из предположения, согласно которому евгеника — это нечто плохое, и занимаются этим только плохие люди. Подобно «либералу», который хочет запретить негативную политическую рекламу и дискриминирующие высказывания в университетах, но при этом считает себя ярым противником цензуры, современные либералы продолжают испытывать влечение к евгеническим идеям, но им даже в голову не приходит, что их стремления вполне можно обозначить данным термином.
Между тем в настоящее время распространено мнение, что консерваторы думают одно, а говорят другое. Неприятие консерваторами разделения по расовому признаку выражается в их риторике о равенстве и об отказе от расовых предубеждений, но на самом деле, как утверждают либералы, эти высокопарные рассуждения, по сути, являются «скрытыми» призывами к расизму, свойственному белым жителям южных штатов, и желанием нивелировать достижения в расовом вопросе.
То, что ничего не изменилось за последние 20 лет, наиболее ярко продемонстрировала полемика вокруг книги «Гауссова кривая» (The Bell Curve) американского политолога Чарльза Мюррея. После выхода этой книги практически все сторонники прогрессивного движения в Америке осудили Мюррея как «социального дарвиниста», с готовностью поддерживающего любые реакционные меры, начиная с похода против расово дефективных и заканчивая принудительной стерилизацией. Крупнейшая еврейская организация Америки провозгласила: «Воспринимать Чарльза Мюррея всерьез — это значит ставить под угрозу достижения в области расовой справедливости за более чем 60 лет, разделяя давно опровергнутые и дискредитировавшие себя теории социального дарвинизма и евгеники». Чернокожий ученый Адольф Рид назвал Мюррея и его соавтора Ричарда Дж. Хернштейна «интеллектуальными коричневорубашечниками» и заявил, что подтекстом данной работы является апология «истребления, массовой стерилизации и селекции» в духе нацизма[441]. Каковы бы ни были достоинства или недостатки «Гауссовой кривой», то, что Мюррей и Хернштейн отстаивали либертарианские по своей сути принципы государственного невмешательства, — это факт. Да, они сосредоточились на вопросах, которые традиционно имели особую значимость для евгеники (наследования интеллекта и его распределения между расами), но их аргументация на сто процентов отличалась от принципов настоящей евгеники, которая предполагает использование государственной власти для улучшения расового, генетического или биологического здоровья общества.
Либералы постоянно ждут от консерваторов компенсации за расизм (как реальный, так и предполагаемый), который проявляли их ныне покойные соратники по партии. Между тем либералы, осознавая, что их требования десегрегации с точки зрения нравственности вполне справедливы, не видят необходимости в изучении собственной интеллектуальной истории. Они хорошие ребята, и этого им достаточно. При этом вопрос о том, почему прогрессивизм — не консерватизм — так благосклонно относился к евгенике, остается без ответа. Возможно, «прагматической» идеологии благих деяний присуще нечто такое, что делает ее восприимчивой к евгеническим идеям? Или же всему виной незнание либералами своей собственной истории? Я не утверждаю, что нынешние редакторы New Republic благожелательно относятся к евгенике просто потому, что такой позиции придерживались прежние редакторы этого журнала. Тем не менее современный либерализм создает благоприятную среду для всех разновидностей «хороших» евгенических и расистских концепций именно потому, что либералы в отличие от консерваторов до сих пор не произвели ревизии интеллектуального и исторического наследия своего движения. Давно пора это сделать.
При чтении литературы по вопросам евгеники и расовых теорий очень часто приходится сталкиваться с мнением ученых, возлагающих на евгенику вину за «консервативные» тенденции в научном, экономическом или более многочисленном прогрессивном сообществе. Почему? Потому что, по мнению либералов, расизм — это объективно консервативное явление. Антисемитизм — это проявление консерватизма. Враждебность к бедным (т. е. социальный дарвинизм) носит консервативный характер, поэтому всякий раз, когда кто-либо из либералов оказывается расистом или высказывается в поддержку евгеники, он словно по волшебству превращается в консерватора. Одним словом, либерализм никогда не бывает аморальным, и, если либералы нарушают принципы этики, это происходит потому, что на самом деле они консерваторы!
В одном содержательном во многих отношениях эссе, опубликованном в New Republic, историк Йельского университета и профессор хирургии Шервин Нуланд пишет:
«Евгеника была системой убеждений, которая привлекала сторонников социального консерватизма тем, что позволяла считать наследственность причиной нищеты и преступности. Либералы, или прогрессивисты, как их обычно называли в то время, были в числе самых ярых противников евгеники, связывая неравенство в обществе с косвенными факторами, которые зависят от социальных и экономических реформ. И все же некоторые прогрессивные мыслители соглашались с евгенистами, по мнению которых, действия на пользу всего общества благоприятно отразятся на участии каждого гражданина. Таким образом, были определены границы между двумя противоборствующими лагерями»[442].
Алан Вульф, еще один представитель New Republic, признает: «Основой расового консерватизма являются биологические и евгенические концепции.
Либеральные теории расового вреда, напротив, выросли на почве обеспокоенности тем, что в XX веке стали явно проявляться тенденции воздействия социальной среды на отдельных лиц»[443].
Как удобно! Увы, это просто не соответствует действительности. Чтобы убедиться в том, что эта общепринятая точка зрения основывается на совокупности полезных либеральных мифов, и как следствие составить представление об истинном происхождении американского либерализма, нам придется отказаться от значительной части ложных «исторических фактов» и категорий, которые мы привыкли принимать на веру. В частности, мы должны понять, что американский прогрессивизм связан кровными узами с европейским фашизмом. Нет более явного и зловещего доказательства этому, чем страсть, с которой американские и европейские прогрессивисты приветствовали евгенику, воспринимавшуюся многими как ответ на «социальный вопрос».
Давайте рассмотрим нашу историю с тех самых пор, когда «фашистский момент» в начале XX века имел трансатлантический характер. Западная интеллигенция видела в нациях органические сущности, которыми должен был управлять авангард специалистов-ученых и адептов социального планирования. С презрением отметавшие догмы XIX века представители этой самопровозглашенной прогрессивной элиты понимали, что нужно было сделать для того, чтобы привести человечество к утопическому прекрасному будущему. Война, национализм, стремление к обществу, которым управляет государство, экономическое планирование, доминирование общественных интересов над частными — эти составляющие лежали в основе всех новых западных теорий.
Евгеника идеально вписывалась в рамки этого нового мировоззрения. Если народы подобны организмам, то их проблемы в некотором смысле сродни болезням, вследствие чего политика, по сути, становится отраслью медицины, наукой о сохранении социального здоровья. Обосновав с научной точки зрения гегелевские и романтические представления о сходстве наций с органическими существами, дарвинизм позволил ученым решать социальные проблемы подобно биологическим ребусам. Все болезни современного общества (перенаселенность городов, рост рождаемости среди беднейших слоев населения, низкий уровень здравоохранения в обществе и даже падение уровня господствующей буржуазной культуры) теперь казались излечимыми за счет последовательного применения биологических принципов.
Более того, демографический взрыв, и в частности лавинообразный прирост «неправильного» населения, изначально соответствовал теории Дарвина. Сам Дарвин признавал, что его идеи — это всего лишь приложение принципов мальтузианства к миру природы. (Томас Мальтус был философом-экономистом, который предсказал, что естественная человеческая тенденция к бесконтрольному увеличению популяции в сочетании с ограниченностью природных ресурсов неизбежно приведет к бедности.) Интеллектуалы боялись, что развитие современных технологий будет способствовать преодолению естественных ограничений роста численности «непригодного» населения. В результате может увеличиться вероятность того, что «высшие элементы» окажутся «затопленными» черными и коричневыми полчищами снизу.
Америка, в которой широкомасштабная паника охватила интеллектуальные и аристократические круги, не стала исключением. Она возглавляла список стран, столкнувшихся с такой же ситуацией. Американские прогрессивисты были одержимы проблемой «расового здоровья» нации, которое якобы подвергалось угрозе вследствие резкого увеличения числа иммигрантов, а также перенаселенности страны коренными американцами. Многие из знаменитых прогрессивных проектов, от «сухого закона» до движения за регулирование рождаемости, родились в результате стремления обуздать чудовище демографического взрыва. Ведущие деятели прогрессивизма воспринимали евгенику как важный и зачастую необходимый инструмент в поисках Святого Грааля «социального контроля».
Научный обмен между евгенистами, «расологами», адептами расовой гигиены и регулирования рождаемости в Германии и Соединенных Штатах был совершенно обычен. Гитлер «изучал» американскую евгенику, находясь в тюрьме, и некоторые разделы Mein Kampf, безусловно, свидетельствуют о его увлечении этими идеями. Более того, представляется, что некоторые из его аргументов были заимствованы из различных прогрессивных трактатов, посвященных теме «расового самоубийства». Гитлер обратился к президенту Американского евгенического общества, желая получить экземпляр его книги под названием «Аргументы за стерилизацию» (Case for Sterilization), призывавшей к принудительной стерилизации около 10 миллионов американцев, а некоторое время спустя отправил ему благодарственное письмо. «Исчезновение великой расы» (The Passing of the Great Race) Мэдисона Гранта также произвело огромное впечатление на Гитлера, который назвал это произведение своей «библией». В 1934 году, когда национал-социалистическое правительство стерилизовало более 50 тысяч «непригодных» немцев, возмущенный американский евгенист воскликнул: «Немцы превзошли нас в наших собственных начинаниях»[444].
Американские прогрессивисты, конечно же, виновны в холокосте. Но существует масса подтверждений, что евгеника лежала в основе прогрессивной концепции. Евгеническая кампания, пишет историк Эдвин Блэк, была «создана в публикациях и исследовательских лабораториях Института Карнеги, проверена за счет грантов Фонда Рокфеллера на научные исследования, подтверждена ведущими учеными из лучших университетов “Лиги плюща” и финансировалась из специальных фондов компании Harriman railroad fortune»[445]. Немецкая расовая наука основывалась на достижениях американцев.
Хотелось бы думать, что усилия либералов по вычеркиванию евгеники из собственной истории и попытки сделать ее принадлежностью консерваторов неприемлемы. Но на самом деле они принимаются. Большая часть интеллигенции, не говоря уже о либеральных журналистах и комментаторах, почти ничего не знает ни о консерватизме, ни об истории евгеники, тем не менее с готовностью верит в их тесную взаимосвязь. Остается лишь надеяться, что доза правды поможет исправить эти неверные представления. Краткий обзор «пантеона» прогрессивистов, которые были интеллектуальными героями левых сил тогда и остаются ими по сей день, позволяет понять, насколько евгеническое мышление было свойственно ранним социалистам.
Если социалистическую экономику можно было рассматривать как некую специализацию в рамках более широкой прогрессивной дисциплины, то евгеника представляла собой смежную специальность. Евгенические аргументы и экономические аргументы соответствовали друг другу, дополняли друг друга, а в некоторых случаях сливались воедино. Сидни Уэбб, родоначальник фабианского социализма и до сих пор один из самых почитаемых британских интеллектуалов, предложил довольно четкую формулировку. «Никакой последовательный евгенист, — пояснял он, — не может быть индивидуалистом в духе невмешательства [т. е. консерватором], если только, отчаявшись, не откажется от этих принципов. Он должен вмешиваться, вмешиваться, вмешиваться!» Тот факт, что «неправильные» люди размножались быстрее, чем «правильные», неизбежно должен был поставить Британию на путь «вырождения нации» или, «как вариант», привести к тому, что «постепенно население этой страны постигнет участь ирландцев и евреев»[446].
Более того, британский социализм, служивший путеводной звездой для американского прогрессивизма, был насыщен евгеникой. Фабианцы Сидней и Беатрис Уэбб, Джордж Бернард Шоу, Гарольд Ласки и Герберт Уэллс разделяли приверженность ее принципам. Джон Мейнард Кейнс, Карл Пирсон, Хейвлок Эллис, Джулиан и Олдос Хаксли и Иден Пол, а также такие прогрессивные издания, как журнал New Statesman (основанный Уэббами) и газета Manchester Guardian, также в той или иной степени были сторонниками евгеники.
Как уже отмечалось выше, Уэллс был, пожалуй, самым влиятельным литератором среди американских прогрессивистов эпохи, предшествовавшей Второй мировой войне. Несмотря на свои призывы к новому «либеральному фашизму» и «просвещенному нацизму», Уэллс более чем кто-либо еще тяготел к прогрессивной модели будущего. Он также был увлеченным евгенистом, и в частности высказывался за уничтожение непригодных и цветных рас. Он пояснял, что для достижения его «Новой Республики» «массам черных и коричневых, а также грязно-белых и желтых людей» «придется уйти». «Возможность улучшения человеческой породы связана именно со стерилизацией неудачных экземпляров, — добавлял он, — а не с выбором наиболее успешных особей для продолжения рода». В работе «Новый Макиавелли» (The New Machiavelli) он утверждает, что евгеника должна быть основным принципом любого истинного и успешного социализма: «Каждое улучшение носит временный характер, кроме улучшения расы». Хотя Уэллс отличался достаточной щепетильностью по отношению к конкретным мерам, принимаемым государством с целью претворения этого вывода в жизнь, он продолжал активно защищать интересы государства в вопросе ограничения роста численности паразитирующих классов[447].
Джордж Бернард Шоу (без сомнения, из-за его выступлений против Первой мировой войны) приобрел репутацию откровенного индивидуалиста и вольнодумца, с недоверием относящегося к государственной власти и ее злоупотреблениям. Это совершенно не соответствовало реальности. Шоу был не только ярым социалистом, но и истовым приверженцем евгеники как неотъемлемой части социалистического проекта. «Единственным основополагающим и возможным социализмом может быть только социализация селекции человека», — заявлял он. Шоу выступал за отмену традиционного брака в пользу более приемлемого с точки зрения евгеники многоженства под эгидой Государственного департамента эволюции и новой «евгенической религии». В частности, он высказывал сожаление по поводу хаотичности попустительского подхода к выбору партнера, в соответствии с которым люди «выбирают своих жен и мужей менее тщательно, чем кассиров и поваров». Кроме того, объяснял он, умная женщина предпочтет 10 процентов участия мужчины с хорошим генетическим фондом, а не 100 процентов участия мужчины с неподходящей родословной. Поэтому требовался «человеческий племенной завод», призванный «выбраковать мужланов, голоса которых на выборах приведут к крушению государства». По словам Шоу, государство должно быть твердым в своей политике по отношению к уголовным элементам и людям с неблагоприятным генетическим грузом. «С многочисленными извинениями и выражениями сочувствия, а также великодушно исполняя их последние желания, — писал он с омерзительным ликованием, — мы должны поместить их в камеру смерти и избавиться от них»[448].
Другие герои-либералы разделяли энтузиазм Щоу. Джон Мейнард Кейнс, основатель либеральной экономики, служил в составе совета директоров Британского евгенического общества в 1945 году, в то время, когда популярность евгеники стремительно падала из-за появления фактов, разоблачающих нацистские эксперименты в концлагерях. Тем не менее Кейнс назвал евгенику «самой важной, значительной и... подлинной отраслью социологии из всех существующих». Джулиан Хаксли, основатель Всемирного фонда дикой природы, первый директор ЮНЕСКО и почитаемый популяризатор науки, написал в соавторстве с Уэллсом и его сыном книгу «Наука жизни» (The Science of Life). Хаксли тоже был искренним сторонником евгеники. Хейвлок Эллис, ведущий теоретик секса и один из основоположников движения за регулирование рождаемости, выражая мнение многих, предлагал создать евгенический реестр всех граждан, который стал бы «справочником, содержащим информацию о лицах, которые максимально подходят или, наоборот, совершенно непригодны для дальнейшего развития расы». Эллис не возражал против нацистской программы стерилизации, полагая, что серьезную науку «не следует смешивать с нордическими и антисемитскими аспектами нацистской программы». Д. Б. С. Холдейн, британский генетик, писал в газете Daily Worker. «Догма человеческого равенства не является частью коммунизма... формула коммунизма “от каждого по способностям, каждому по потребностям” была бы бессмысленной при равных способностях»[449].
Гарольд Ласки — наиболее уважаемый британский политолог XX века (он был репетитором Джозефа Кеннеди-младшего и преподавателем Джона Ф. Кеннеди) — заявил, поддавшись панике по поводу «расового самоубийства» (американский термин): «Различные показатели рождаемости здоровой породы и породы, страдающей патологиями, свидетельствуют о том, что в будущем худшие будут преобладать над лучшими». Евгеника в самом деле была первым серьезным увлечением Ласки. Его статья «Возможности евгеники» (The Scope of Eugenics), написанная им еще в юном возрасте, впечатлила Фрэнсиса Гальтона, основателя евгеники. В Оксфорде Ласки учился у евгениста Карла Пирсона, который писал: «Социалисты должны насаждать такие убеждения, которые предполагали бы быструю расправу над преступниками против государства и гарантировали бы им место на ближайшем фонарном столбе»[450].
Ласки, без сомнения, оказал огромное влияние на американский либерализм. Он был постоянным автором журнала New Republic, в котором в первые годы его существования публиковались работы многих ведущих британских интеллектуалов, в том числе и Уэллса[451]. Он также преподавал в Гарвардском университете и подружился с Феликсом Франкфуртером, советником Рузвельта, который впоследствии стал членом Верховного суда. Франкфуртер представил Ласки Франклину Делано Рузвельту, и вскоре тот завоевал славу самого преданного сторонника Рузвельта в Великобритании, хотя имел при этом тесные связи с коммунистами. Кроме того, он значился в числе ближайших друзей судьи Оливера Уэнделла Холмса, несмотря на разницу в возрасте более чем в 50 лет. Они постоянно переписывались в течение почти 20 лет.
Евгеника по-американски
Американские прогрессивисты, которые во многом следовали своим британским единомышленникам, отличались таким же неуемным стремлением к расовой гигиене. Взять хотя бы судью Холмса, наиболее почитаемого юриста «Прогрессивной эры» и одного из самых почитаемых либеральных кумиров в американской истории права. Холмса просто невозможно перехвалить. Феликс Франкфуртер назвал его «поистине беспристрастным голосом Конституции». «Ни один судья не высказывал столь глубоких мыслей о природе свободного общества и не отличался большим усердием в деле защиты его принципов, уделяя исключительное внимание гражданским свободам, чем господин судья Холмс», — отмечал он. Еще один обозреватель комментировал: «Подобно крылатой Нике Самофракийской, он венчает скалу из сотен лет цивилизации, устремляясь в грядущие века». Другие заявляли, что «он служит идеальным источником афоризмов для американских адвокатов, которые цитируют его, как грамотный обыватель цитирует Гамлета»[452].
Чем объясняется популярность Холмса у либералов? Это сложный вопрос. Многие борцы за гражданские права высоко ценили Холмса за его поддержку свободы слова во время войны. Прогрессивисты любили его за убежденность в том, что их программы социального обеспечения, призванные сплотить нацию, являются конституционными. «Если мои сограждане пожелают отправиться в ад, я буду помогать им. Это моя работа», — заявил Холмс однажды. Данное высказывание вызвало у некоторых консерваторов восхищение его «судейской сдержанностью». Но на самом деле эта «сдержанность» обусловливалась преимущественно согласием с политической линией прогрессивистов.
В 1927 году Холмс написал письмо Гарольду Ласки, в котором с гордостью сказал своему другу: «На днях я... высказал мнение в пользу конституционности государственного закона о принудительной стерилизации слабоумных и почувствовал, что воплощаю главный принцип настоящей реформы». Затем он поведал Ласки о том, насколько его удивило несогласие коллег с его «довольно жестокими словами... которые просто вывели их из себя»[453].
Холмс имел в виду свое решение в печально известном деле «Бак против Белла»[454], в ходе которого прогрессивные адвокаты с обеих сторон надеялись убедить Верховный суд внести принципы евгеники в конституцию. Холмс с удовольствием помог им в этом стремлении. Власти штата Вирджиния заявили о «непригодности» молодой женщины по имени Кэрри Бак для воспроизведения потомства (хотя в итоге оказалось, что вопреки утверждению представителей власти она не была слабоумной). Ее поместили в колонию штата Вирджиния для эпилептиков и слабоумных, где уговорили дать согласие на сальпингэктомию, разновидность перевязки маточных труб. Исход этого дела отчасти зависел от доклада ведущего евгениста Америки Гарри Лафлина из Eugenics Record Office, расположенного в Колд Спринг Харбор, Нью-Йорк, центра евгенических исследований корпорации RAND, финансируемых различными ведущими прогрессивистами-филантропами. Ни разу не видев Бак, Лафлин поверил оценке медсестры, которая наблюдала семью Бак: «Эти люди принадлежат к беспомощному, невежественному и бесполезному классу антисоциальных белых южан». Соответственно Лафлин пришел к выводу, что евгеническая стерилизация станет «средством предупреждения расового вырождения».
Обращаясь к большинству, Холмс кратко изложил свое мнение, которое почти уместилось на одной странице. В настоящее время это решение считается одним из самых критикуемых примеров юридической аргументации в американской истории. Тем не менее из всех его многочисленных высказываний это, пожалуй, наиболее показательно. Ссылаясь на единственный прецедент, закон штата Массачусетс об обязательной вакцинации детей, посещающих государственные школы, Холмс написал, что «принцип, на котором основывается обязательная вакцинация, является достаточно широким и распространяется на перерезание маточных труб... Для всего мира лучше, если, вместо того чтобы ждать, пока вырожденные потомки будут казнены за совершение преступлений, или позволить им голодать вследствие их умственной отсталости, общество может предотвратить продолжение рода тех, кто явно непригоден». Он завершил свою речь следующим знаменитым высказыванием: «Трех поколений слабоумных достаточно». Как мы увидим, логика данного рассуждения сохраняется в обосновании абортов, о котором обычно стараются не упоминать вслух.
Во взглядах Холмса отразились многие из основных направлений прогрессивной мысли того времени. Озлобленный ветеран Гражданской войны, он воспринимал войну как источник моральных ценностей. Жертва в виде огромного количества павших на поле брани благородных людей делала принуждение «дегенератов», подобных Кэрри Бак, пожертвовать способностью к размножению (или даже своей жизнью) ради всеобщего блага вполне разумным и справедливым. Ссылаясь на одну из мер в области здравоохранения как на адекватный прецедент, Холмс еще раз подчеркнул, что здоровье органического политического целого важнее, чем свобода личности. С точки зрения как мобилизации, так и здравоохранения суть проекта оставалась одной. Как написал Холмс в 1915 году в своей статье, напечатанной в юридическом обозрении штата Иллинойс Illinois Law Review, «отправной точкой для достижения идеала в области законотворчества» призваны стать «скоординированные усилия людей... для создания расы»[455].
Принимая во внимание такую риторику, невозможно отрицать, что прогрессивизм является фашистским начинанием, по крайней мере в соответствии с сегодняшними стандартами.
Среди либеральных историков бытует мнение о том, что прогрессивизм с трудом поддается определению. Возможно, адекватное определение прогрессивизма было бы слишком неудобным для либерального проекта, потому что оно обнажило бы евгенические черты, присущие либерализму. Наиболее очевидный ответ, состоящий в том, что прогрессивисты были просто представителями своей эпохи, неверен по нескольким причинам. С одной стороны, у прогрессивных евгенистов были непрогрессивные, отрицающие евгенику противники — ранние консерваторы, радикальные либертарианцы и ортодоксальные католики, которых прогрессивисты считали отсталыми и реакционными. С другой стороны, утверждение о том, что прогрессивисты были продуктом своего времени, просто подкрепляет мой более глобальный тезис: прогрессивизм, будучи порождением «фашистского момента», никогда не осознавал этого. Современные либералы унаследовали все предрассудки прогрессивизма и считают, что традиционалисты и религиозные консерваторы представляют собой серьезную угрозу для прогресса. Но это предположение означает, что либералы не видят фашистской угрозы, исходящей из своих собственных рядов.
Между тем консервативные религиозные и политические догмы, беспрестанно атакуемые слева, можно считать самым значительным оплотом против евгенических схем. Кто яростнее других выступает против клонирования? Кто проявляет наибольшую обеспокоенность эвтаназией, абортами и игрой в Бога в лабораториях? Хорошая догма лучше всего препятствует реализации плохих идей и может выступать единственным гарантом того, что люди будут следовать только хорошим идеям. Консервативная нация, которая всерьез раздумывала о том, следует ли считать убийством разрушение бластоцисты, не станет испытывать подобных сомнений, если речь идет об умерщвлении плода восьми с половиной месяцев, не говоря уже о «дефективном» младенце.
Либеральное большинство неразрывно связано с расовыми и гендерными группами того или иного рода. Основная предпосылка, общая для всех этих групп, заключается в том, что их члены должны быть вознаграждены просто в силу их расовой, половой или сексуальной принадлежности. Одним словом, государство должно выбирать победителей и проигравших по случайности рождения. Либералы поддерживают эту точку зрения во имя борьбы с расизмом. В отличие от консерваторов, которые выступают в поддержку государства, основанного на отказе от расовых предубеждений, либералы по-прежнему считают, что государство может организовать общество по расовому признаку. Мы привыкли говорить о социальной инженерии такого рода как о продукте эпохи, последовавшей за периодом борьбы за гражданские права. Однако доктрина отказа от расовых предубеждений, которую прогрессивисты отстаивали в 1960-е годы, была очень кратким периодом очень продолжительной прогрессивной традиции. В общем, преемственность между ранним прогрессивизмом и современным мультикультурализмом гораздо значительнее, чем мы привыкли считать.
Здесь пальма первенства также принадлежит Вудро Вильсону. Предложенную Вильсоном концепцию «самоопределения» ныне пытаются облагородить и придать ей исключительно демократический вид. Но она таковой не была. Это была во многих отношениях органическая концепция в духе воззрения Дарвина и Гегеля, основанная на стремлении народов к объединению в коллективные духовные и биологические образования, т. е. политика идентичности. Вильсон считался прогрессивистом как за рубежом, так и на родине. Он верил в превращение наций, народов, рас в отдельные сущности. Его концепция расы настолько же отличалась от представлений Гитлера (и была гораздо менее разрушительной), насколько была неотделимой от его мировоззрения.
Образ Вильсона как наиболее расистского президента XX века обычно связывается с тем, что он был уроженцем южных штатов, более того — первым президентом-южанином после реконструкции. И он на самом деле разделял многие убеждения диксикратов. Его десегрегация федерального правительства, его поддержка законов, запрещающих смешанные браки, его антагонизм по отношению к черным лидерам движения за гражданские права, а к законам против линчевания и его пресловутая любовь к книге Д. У. Гриффита «Рождение нации» (Birth of a Nation) служат тому подтверждением. Тем не менее наследие Вильсона почти не имело отношения к его расизму. В конце концов он ни в коей мере не был традиционным защитником интересов Юга. Он считал Линкольна великим вождем, и это совершенно нетипичная для южанина позиция. Кроме того, как сторонник укрепления федеральной власти Вильсон, по его собственным воззрениям относительно прав государств, выступал против тех, кто сетовал по поводу «войны вследствие агрессии Севера». Нет, расизм Вильсона был «современным» и соответствовал как дарвинизму той эпохи, так и гегельянству его немецкого образования. В своем труде «Государство» (The State) и в других работах Вильсон иногда высказывается совершенно в духе Гитлера. Например, он сообщает нам о том, что некоторые расы просто более продвинуты, чем другие. Такие «прогрессивные расы» заслуживают прогрессивной системы правления, в то время как отсталым расам или «инертным нациям», которым не хватает необходимого прогрессивного «духа», может потребоваться авторитарная форма правления (возрождение этой концепции можно увидеть у новоиспеченных «реалистов» после войны в Ираке). Именно это так сильно обижало его в последовавшей за Гражданской войной реконструкции. Он никогда не простил бы попытки поставить «низшую расу» выше южных «арийцев».
Вильсон также был откровенным защитником евгеники. На посту губернатора штата Нью-Джерси (за год до того, как он был приведен к присяге в качестве президента) он подписал закон о создании, в частности, Совета экспертов по слабоумным, эпилептикам и другим дефективным. В соответствии с этим законом государство имело право определять, в каких случаях «деторождение нецелесообразно» для преступников, заключенных и детей, живущих в детских домах. «Другие дефективные» представляли собой достаточно открытую категорию[456]. Вильсон просто продолжил то, что было начато Тедди Рузвельтом. «Сохатый», недавно вновь открытый либеральными республиканцами и «центристскими» либералами, регулярно осуждал «расовое самоубийство» и поддерживал тех «смельчаков», которые старались повернуть вспять волну смешения рас (хотя по личным воззрениям Рузвельт был расистом в гораздо меньшей степени, чем Вильсон).
Рузвельт, как и Вильсон, просто демонстрировал убеждения, которые сделали его таким популярным среди «современной» прогрессивной интеллигенции. В книге «Обетование американской жизни» (The Promise of American Life) Герберт Кроули предположил, что «на самом деле обновленная государственная власть» примет меры для предотвращения «преступности и безумия», определяя, кто может вступать в брак и продолжать род. «Такое сильное государство, — писал он, — предположительно может прийти к выводу, что запрет вступать в брак людям, у которых в роду были преступники и сумасшедшие, будет способствовать большему росту общественного и личного благосостояния, чем максимальная плата за проезд по железной дороге в два цента за милю». «Государство, — настаивал он, — должно вмешиваться в интересах наиболее приспособленных»[457].
Тем не менее благодаря этим мыслям Кроули приобрел репутацию «голубя» в вопросах евгеники. Чарльз Ван Хайз, советник Рузвельта, был более решительным. «Новый патриот — это тот, кто в первую очередь думает не о себе, а о своей расе и ее будущем», — объяснял Ван Хайз, основатель американского движения в защиту дикой природы и глава Висконсинского университета в те дни, когда этот университет считался главным полигоном для подготовки американских прогрессивистов[458]. Ван Хайз очень удачно сформулировал суть отношения американских прогрессивистов к евгенике в следующем пояснении: «Мы знаем о сельском хозяйстве столько, что при применении этих знаний объемы производства продуктов сельского хозяйства в стране могли бы увеличиться в два раза; мы знаем о болезнях столько, что при использовании этих знаний большую часть инфекционных заболеваний в Соединенных Штатах можно было бы победить за два десятка лет; мы знаем о евгенике столько, что при применении этих знаний неполноценные классы исчезли бы в течение жизни одного поколения»[459].
Ключевым было разделение прогрессивистов не на сторонников и противников евгеники и не на расистов и нерасистов. Наибольшее значение имело их разделение на сторонников «позитивной» и «негативной» евгеники, на тех, кто называл себя гуманистами, и тех, кто разделял теории расового самоубийства, на защитников окружающей среды и приверженцев генетического детерминизма. Приверженцы позитивной евгеники выступали просто за поощрение, уговоры и субсидирование с целью увеличения рождаемости полноценных и уменьшения рождаемости непригодных. Негативная евгеника была представлена целым спектром мероприятий, от принудительной стерилизации до лишения свободы (по крайней мере в течение репродуктивного периода). Защитники окружающей среды подчеркивали, что улучшение материального положения вырождающихся классов позволит улучшить их состояние (на самом деле многие прогрессивисты были последователями Ламарка в том, что касалось эволюции человека). Теоретики «расового самоубийства» считали, что целые генеалогические линии и классы людей спасти уже нельзя.
По целому ряду причин те, кого мы сегодня назвали бы консерваторами, часто отвергали евгенические схемы. Так, например, единственным судьей, в порядке особого мнения не подписавшим постановление суда по делу «Бак против Белла», был «архиконсервативный» Пирс Батлер, а не либеральные Луис Брандейс или Харлан Фиск[460]. Консервативный католик Г. К. Честертон подвергся жестокому осмеянию и презрению за неприятие евгеники. В различных работах, особенно в труде «Евгеника и другие пороки: доводы против научно организованного общества» (Eugenics and Other Evils: An Argument Against the Scientifically Organized Society) Честертон выступал против считавшейся в то время передовой точки зрения, которой придерживались почти все «думающие люди» в Великобритании и Соединенных Штатах. Оплотом борьбы с евгеникой по всему миру стала католическая церковь. Именно вследствие влияния католической церкви в Италии (наряду с тем, что итальянцы изначально признавались генетически разнородным этносом) итальянские фашисты были менее одержимы евгеникой, чем американские прогрессивисты или нацисты (хотя Муссолини считал, что с течением времени фашистское правительство окажет положительное влияние на итальянцев в отношении евгеники).
Тем не менее прогрессивисты предложили особый термин для обозначения консервативных противников евгеники. Они называли их «социальными дарвинистами». Прогрессивисты придумали термин «социальный дарвинизм» для обозначения всех тех, кто выступает против идеи Сидни Уэбба, согласно которой государство должно агрессивно «вмешиваться» в репродуктивные механизмы общества. В соответствии с тепличной логикой левых, те, кто выступал против принудительной стерилизации «непригодных» и бедных, считались злодеями, потому что они позволяли «естественному состоянию» править среди представителей низших классов.
Герберт Спенсер, предполагаемый основатель социального дарвинизма, стал символом всего того, что было неправильным в классическом либерализме. Спенсер действительно был дарвинистом (он придумал выражение «выживание наиболее приспособленных»), но собственная интерпретация эволюционной теории укрепила его во мнении, что людей необходимо оставить в покое. Почти во всех смыслах Спенсер был хорошим (хотя и классическим) либералом: он ратовал за благотворительность, избирательное право для женщин и за гражданские свободы. При этом он был воплощением всего отсталого, реакционного и неверного по сравнению с прогрессивным мировоззрением не потому, что поддерживал гитлеровские схемы принудительной расовой гигиены, а потому, что он категорически выступал против них. По сей день хорошим тоном среди либеральной интеллигенции и историков считается критика Спенсера как философского олицетворения расизма, свойственной правым «скупости» и даже холокоста[461].
Вследствие ряда ошибочных выводов в исследованиях либерального историка Ричарда Хофстедтера почти все так называемые «бароны-разбойники» XIX и начала XX века также стали именоваться «социальными дарвинистами», хотя позднее историки доказали, что влияние дарвинизма на промышленников «позолоченного века», если таковое вообще имело место, было весьма незначительным. Дарвинизм был идеей фикс для интеллигенции и ученых. У «баронов-разбойников» вообще не было формального образования. Если их мировоззрение на чем-нибудь и основывалось, то это были христианская этика и труды Адама Смита. Кроме того, они считали, что капитализм полезен для бедных. Однако избирательное цитирование и широкие обобщения (обычно с изрядной долей марксистских клише) превратили «баронов-разбойников» в суррогатных фашистов[462].
Несколько историков предложили решение этой загадки, назвав прогрессистов «дарвинистами реформистского толка». Дарвинисты-реформаторы были единственными настоящими дарвинистами в современном понимании этого слова. Почти все ведущие представители прогрессивной интеллигенции понимали теорию Дарвина как право «вмешиваться» в человеческий естественный отбор. Даже прогрессивисты, не имевшие прямого отношения к евгенике, работали в тесном контакте с ее приверженцами. В прогрессивных кругах расистская евгеника не считалась чем-то зазорным[463].
Прежде чем продолжить, важно развеять заблуждение, которое могло сложиться у некоторых читателей. Хотя прогрессивным евгенистам нередко был присущ отвратительный расизм, он не был отличительной особенностью евгеники как научной дисциплины. Естественно, что смешанные браки с неграми вызывали ужас у людей, которые с негодованием относились к бракам «арийцев» со славянами или итальянцами. А вот У. Э. Б. Дюбуа разделял многие евгенические взгляды белых прогрессивистов. Предложенный им термин «одаренная десятая часть» (the Talented Tenth), по определению, содержит евгенический смысл. Он описывал членов «одаренной десятой части» как «исключительных людей» и «лучших представителей расы». Он сожалел о том, что «негры воспитываются без какой-либо цели», и заявлял, что он должен начать «обучать и воспитывать их для развития интеллекта, повышения эффективности, понимания красоты». В течение своей долгой карьеры он постоянно говорил о своей обеспокоенности тем, что худшие негры размножаются слишком быстро, а лучшие — слишком медленно. Кроме того, он поддерживал «негритянский проект» Маргарет Сэнгер, направленный на резкое сокращение репродукции «низшей» части черного населения[464].
Пожалуй, самым ярким свидетельством того, насколько далеки многие популярные концепции от исторической реальности того времени, можно считать Ку-клукс-клан. На протяжении десятилетий Ку-клукс-клан был самым очевидным претендентом на роль американской разновидности фашизма. Это действительно верно во многих отношениях, тогда как заявления о принадлежности клана к правым силам соответствуют действительности в гораздо меньшей степени. Клан «Прогрессивной эры» отличался от того клана, который возник после Гражданской войны. Скорее, это была совокупность относительно автономных организаций, рассеянных по всей территории Соединенных Штатов. Кроме названия и абсурдных балахонов, их объединяло восторженное восприятие фильма «Рождение нации» (The Birth of a Nation). По сути, они представляли собой «жуткую субкультуру фанатов» этого фильма. Основанный на той же неделе, когда этот фильм вышел в прокат в 1915 году, второй клан действительно был расистским, но не намного больше, чем общество в целом. Конечно, это скорее обвинение общества, которое породило клан, чем его защита.
В течение многих лет традиционная точка зрения, которой в равной степени придерживаются ученые и неспециалисты, заключалась в том, что клан считался сельской и исповедующей принципы протестантского фундаментализма организацией. На самом же деле он нередко был вполне космополитичным и современным, процветая в таких городах, как Нью-Йорк и Чикаго. Во многих сообществах Ку-клукс-клан был сосредоточен на реформе местного самоуправления и на сохранении общественных ценностей. Он часто играл главенствующую роль в обеспечении соблюдения «сухого закона», важнейшей прогрессивной «реформы». «Эти куклуксклановцы, — пишет Джесси Уокер в своем замечательном обзоре последних достижений в гуманитарных науках, — скорее побили бы вас за бутлегерство или за нарушение брачного обета, чем за принадлежность к черным или к евреям»[465].
Когда современные либералы пытаются объяснить членство в Ку-клукс-клане видных демократов (чаще всего упоминают сенатора от Западной Вирджинии Роберта Берда), все обычно сводится к нескольким избитым фразам о том, как хорошие либералы «эволюционировали», уходя от характерного для южан расового «консерватизма». Но клан 1920-х годов часто воспринимался как реформистский и современный, а также связанный близкими отношениями с некоторыми прогрессивными элементами в Демократической партии. Его членами были Гарри Трумэн, а также будущий судья Верховного суда Хьюго Блэк. На знаменитом съезде Демократической партии в 1924 году члены Ку-клукс-клана сплотились вокруг будущего сенатора Уильяма Макаду, министра финансов Вудро Вильсона (а также его зятя), главного архитектора военного социализма Вильсона и преданного сторонника «сухого закона».
Кроме того, если клан был менее расистским, чем мы привыкли полагать, расизм научного сообщества поражал воображение. Более того, современный институт бессрочного контракта для профессорских должностей был преимущественно результатом солидарности прогрессивных научных кругов с Е. А. Россом, автором тезиса о «расовом самоубийстве»[466]. Являясь одним из ведущих американских социологов, экономистов и «расологов», Росс был типичным дарвинистом реформистского толка. В первый раз он заинтересовался прогрессивизмом, увидев, что один из его консервативных преподавателей шокирован «Прогрессом и бедностью» (Progress and Poverty) Генри Джорджа, трактатом, который вдохновлял американских прогрессивистов, британских социалистов и немецких национал-социалистов. Росс учился в Германии, а затем вернулся в США, где закончил свои исследования среди германофилов Университета Джонса Хопкинса и под опекой Вудро Вильсона и Ричарда Илая.
Похожий на огромного медведя, Росс казался вездесущим. Он писал во все правые журналы и читал лекции во всех высших учебных заведениях правого толка, консультировал Тедди Рузвельта по вопросам иммиграции. Рузвельт был настолько любезен, что согласился написать введение к книге Росса «Грех и общество» (Sin and Society). Подобно Илаю, Вильсону и другим, он считал, «(то социальный прогресс должен учитывать изначальные различия между расами. Росс также разделял мнение Вильсона, высказанное в работе «Государство» (The State), которое сводилось к тому, что различные расы находятся на разных этапах развития. Африканцы и жители Южной Америки все еще были близки к дикарям. Другие расы, в основном азиаты, возможно, были более «продвинутыми», но деградировали в процессе эволюции. Росс считал, что Америка столкнулась с аналогичной дегенерацией вследствие иммиграции, смешанных браков и отказа государства от проведения радикальных евгенических реформ. В 1914 году он писал: «Обратите внимание на иммигрантов не тогда, когда они, изнуренные путешествием, поднимаются по трапу, выходят из шахты или из ворот мельницы, измученные тяжелым трудом, а тогда, когда они собираются вместе, умытые, причесанные, одетые в выходные костюмы... Это косматые, низколобые люди с грубыми чертами лица и явно низким интеллектом... Очевидно, что они произошли от людей эпохи Великого Оледенения, которые ходили в шкурах и жили в плетеных хижинах. Эти похожие на волов люди являются потомками тех, кто всегда плелся позади»[467].
Такие убеждения не помешали Россу занять высокую должность в Стэнфордском университете. Однако консервативной знатной даме и покровительнице Стэнфордского университета Джейн Лэнтроп Стэнфорд не понравились не только его политика и общественная деятельность, но и все более громкие и резкие высказывания против китайских «кули». Она вынудила ректора университета Дэвида Старра Джордана, который тоже был заядлым евгенистом, уволить Росса.
Профессорско-преподавательский состав университета вознегодовал. Преподаватели отказывались от своих должностей. Прогрессивные ученые и организации во главе с Американской экономической ассоциацией Ричарда Илая сплотились, чтобы его поддержать. New York Times и другие известные газеты публиковали редакционные статьи в защиту Росса. Эти усилия оказались бесплодными, и Росс перебрался в Университет штата Небраска (где он помог Роско Паунду сформулировать доктрину «социологической юриспруденции» — основу «живой конституции» современного либерализма) и в итоге обосновался в Висконсинском университете, где он работал вместе с Илаем под началом «расового патриота» Чарльза Ван Хайза.
Показательно, что в то время как мы постоянно слышим о расистском прошлом Америки и возможности спасения за счет расовых квот, компенсаций за рабство и других инициатив в поддержку «исторически угнетенных групп», основатели американского либерализма упоминаются очень редко. И снова, когда либералы оказываются историческими злодеями, вина за их преступления ложится на Америку. Такие злодеяния считаются доказательством консервативного прошлого Америки. Консерваторам за свои грехи предлагается расплачиваться в одиночку. Но никто и никогда не обвиняет либерализм.
Взять, к примеру, позорные опыты в Таскиджи, в ходе которых, как утверждается, бедных чернокожих заражали сифилисом без их ведома и наблюдали за ними в течение многих лет. Этот факт обычно оценивается как пример южного расизма и американской отсталости. По некоторым версиям, негров преднамеренно заражали сифилисом в рамках некоторой последовательно реализуемой программы геноцида. На самом деле эксперименты в Таскиджи получили одобрение и проводились при поддержке исполненных благих намерений медицинских работников, которые не видели ничего плохого или расистского в играх в Бога. По словам Ричарда Шведера из Чикагского университета, «эти исследования были обусловлены заботой либерально-прогрессивного движения за общественное здравоохранение о здоровье и благополучии афроамериканского населения». Если расизм имел место, что не вызывает сомнений, это был расизм либералов, а не консерваторов. Но преподносится все это совсем иначе.
Я не хочу сказать, что люди, которые когда-то называли себя прогрессивистами, были расистами, а следовательно, и те, кто называет себя прогрессивистами сегодня, тоже являются расистами. Дело, скорее, в том, что здание современного либерализма зиждется на предположениях и идеях, имманентно присущих более глобальному фашистскому моменту. Вполне возможно, что современные либералы — самые добрые и расово толерантные люди во всем мире, тем не менее они живут в доме несомненно фашистской архитектуры. Незнание либералами данного факта не делает эту фашистскую основу невидимой или незначимой. Скорее, оно свидетельствует об успехе этих идей именно потому, что они не подвергаются сомнению.
Главное преимущество либералов в спорах с консерваторами о расизме, сексизме и роли государства в целом заключается в их внутренней самонадеянности, что их намерения лучше и возвышеннее, чем намерения консерваторов. Согласно известному клише, либералы думают сердцем, а консерваторы — головой. Но если принять во внимание историю либерализма, становится ясно, что это несправедливое преимущество, интеллектуальная «украденная база»[468]. Либералы могут быть правыми или неправыми применительно к той или иной политической стратегии, но предположение о том, что их позиция всегда более добродетельна, полностью лишено смысла.
Современный либерализм стоит на трех опорах: поддержке государства всеобщего благосостояния, абортах и политике идентичности (четвертой опорой могла бы стать внешняя политика, которой у либералов нет). Очевидно, что это очень грубая схема. Аборты, например, вполне можно отнести к политике идентичности, поскольку феминизм — одна из идеологий, восхваляющих железную клетку идентичности. Также можно сказать, что «сексуальная свобода» — более удачный термин, чем аборт. Но я полагаю, что любой непредвзятый читатель согласится с тем, что эти три категории охватывают большую часть современной либеральной программы или по крайней мере описывают основные страсти либералов.
В оставшейся части этой главы я предлагаю уделить внимание каждой из этих областей, начиная с наименее очевидной (и, возможно, наименее важной), чтобы понять, как стремление прогрессивистов перестроить общество снизу вверх проявляется в настоящее время.
Государство всеобщего благосостояния
Что такое государство всеобщего благосостояния? Прямой смысл достаточно очевиден: это система социальных гарантий, посредством которой правительство может бороться с экономическим неравенством предположительно в интересах всего общества, уделяя особое внимание наименее обеспеченным его слоям. Этот термин и в значительной степени само понятие берут свое начало в Пруссии Бисмарка. Государство всеобщего благосостояния Бисмарка включало в себя все: от гарантированных пенсий и других разновидностей «социального страхования» до целой серии реформ в сфере труда. Этот «государственный социализм», как мы видели, служил источником вдохновения для прогрессивистов, социалистов и социал-демократов в Англии, Америке и, конечно, в Германии.
Но между Америкой и Пруссией существовало по крайней мере два важных различия. Во-первых, Америка была демократической республикой с устоявшейся конституцией, нацеленной на защиту меньшинств (хотя и не в полной мере) против тирании большинства. Во-вторых, немцы уже создали «расовую нацию». Первый пункт вызывал досаду у американских прогрессивистов, потому что они завидовали второму. Прогрессивисты верили, что целью законотворчества и социальной политики является, по словам судьи Холмса, «создание расы». Наша демократия с ее неудобной системой сдержек и противовесов в сочетании с разнородностью населения делала такой проект трудно осуществимым. Тем не менее прогрессивная социальная политика, которая служит гранитным основанием современного государства всеобщего благосостояния, с самого начала была направлена на решение данной «проблемы».
Другими словами, американское государство всеобщего благосостояния с самого начала было во многих отношениях евгеническим расовым проектов. Прогрессивные авторы социализма, основанного на принципах государства всеобщего благосостояния, были заинтересованы не в защите слабых от разрушительного влияния капитализма, как утверждают современные либералы, а в искоренении слабых и непригодных, способствуя тем самым сохранению и укреплению англосаксонского характера расовых признаков в американском сообществе.
Такие «расологи», как Е. А. Росс, сделали достижение этой цели делом своей жизни. На макроуровне Росс описывал данную программу как проявление «социального контроля». Это означало «просеивание» общества в поисках его самых чистых элементов с последующим формированием из этих элементов «высшей расы». Для белых англо-американских протестантов это было эквивалентно национальному «восстановлению» (лозунг всех фашистских движений). Для остальных это означало освобождение «американского сада» от представителей «слабых» рас, «дефективной зародышевой плазмы» и других эвфемизмов, обозначавших неарийские этносы. Образование в самом широком смысле должно было способствовать тому, чтобы все общество осознало мудрость этой политики. В идеальном мире можно было бы обойтись без участия государства: «Репродуктивная функция семьи реализовывалась бы лучше, если бы общественное мнение и религия объединили усилия для... подавления стремлений женщин жить для себя»[469]. Но было уже слишком поздно принимать такие меры, поэтому потребовалось вмешательство государства.
Росс был «шоуменом», но при этом его идеи прекрасно вписались в мировоззрение прогрессивной экономики по обе стороны Атлантики. Взять хотя бы дебаты по поводу минимальной заработной платы. Главным источником разногласия был вопрос о том, что делать с теми, кого Сидни Уэбб обозначил словосочетанием «нетрудоспособный класс». По мнению Уэбба, которое разделяли многие прогрессивные экономисты, имеющие отношение к Американской экономической ассоциации, установление уровня минимальной заработной платы выше реальной стоимости труда нетрудоспособного населения приведет к их вытеснению с рынка труда и ускорит их ликвидацию как класса. Это, по сути, основной аргумент современных консерваторов против минимальной заработной платы, и даже сегодня, когда консерваторы высказываются таким образом, их обвиняют (вы угадали) в социальном дарвинизме. Но для прогрессистов на заре «фашистского момента» это был весомый аргумент. «Из всех способов борьбы с этим несчастными паразитами, — отмечал Уэбб, — самым разорительным для общества является предоставление им возможности свободно конкурировать на рынке труда в качестве наемных работников»[470].
Росс выразился лаконично: «Кули не может превзойти американца, но он может довольствоваться меньшим уровнем доходов». Так как низшие расы были согласны жить в условиях, непотребных для представителей нордической расы, им, как дикарям, не требовалась цивилизованная заработная плата. Поэтому, если поднять минимальную заработную плату до цивилизованного уровня, работодатели не станут нанимать таких низких людей, предпочитая им более «пригодные» экземпляры. Это неблагоприятно отразится на репродуктивной способности «дикарей» и в случае необходимости упростит их принудительную стерилизацию. Ройал Микер, экономист Принстонского университета и советник Вудро Вильсона, объяснял: «Государству следует полностью обеспечить неспособных и предотвратить размножение этого рода вместо того, чтобы субсидировать некомпетентных и недоразвитых, давая им возможность произвести на свет таких же потомков»[471]. Заявления такого рода переворачивают с ног на голову современные либеральные принципы социального обеспечения граждан в государстве всеобщего благосостояния.
Наиболее точно отразить международный характер этого прогрессивного консенсуса социалистов и националистов удалось экономисту из Висконсинского университета Джону Р. Коммонсу. Считавший себя «социалистом, сторонником единого налога, свободной чеканки серебра, бумажных денег, местного самоуправления, прихожанином конгрегационалистской церкви», Коммонс был известным представителем международного рабочего движения, которого называли «американским Сидни Уэббом». В его аудитории для семинарских занятий находилась гигантская диаграмма, фиксировавшая самые значительные успехи прогрессивной экономики[472]. Коммонс считал, что многих бедных представителей белой расы можно спасти за счет вмешательства правительства и они должны получать щедрую помощь от государства всеобщего благосостояния. Но он признал, что, по его мнению, почти шесть процентов населения являются «дефективными», а еще два процента — безнадежными дегенератами, подлежащими «сегрегации». Эти оценки даже не учитывали негров и представителей других «низших» рас, которых можно исправить только посредством смешанных браков с арийцами. Неполноценность черных была главной причиной, по которой этот сторонник рабочего движения считал рабство оправданным[473].
Коммонс и его коллеги из Висконсинского университета заложили основы для большей части современных реформ в сфере труда, которые в большинстве своем вполне оправданны и целесообразны. Другие, такие как Закон Дэвиса-Бэкона[474], отражают склонность прогрессивистов к расизму. Этот закон был принят в 1931 году для того, чтобы бедные чернокожие рабочие не «отнимали» работу у белых. Его авторы не скрывали этого, и он был принят именно по данной причине; сравнительно узкий вопрос дешевой черной рабочей силы рассматривался в контексте остаточных усилий прогрессивистов, направленных на поддержание превосходства белой расы. Вынуждая подрядчиков, реализующих федеральные проекты, платить «преобладающую заработную плату» и нанимать рабочих — членов профсоюза, этот закон по сути исключал возможность занятости черных рабочих на федеральных проектах. В настоящее время Закон Дэвиса-Бэкона является таким же священным для многих либералов, представляющих рабочее движение, как дело «Роу против Уэйда» для феминисток. Более того, по замечанию Микки Кауса, сегодня Закон Дэвиса-Бэкона в гораздо большем почете, чем 30 лет назад, когда те, кто называл себя неолибералами, считали его отличительной особенностью устаревшего либерализма, лоббирующего интересы отдельных групп населения.
Справедливости ради следует отметить, что не все прогрессивисты поддерживали государство всеобщего благосостояния из евгенических соображений. Некоторые весьма скептически относились к государству всеобщего благосостояния, но также из евгенических соображений. Экономист Йельского университета Генри Фарнам основал вместе с Коммонсом Американское общество по выработке законов о труде, принципиально новую прогрессивную организацию, в результате деятельности которой были приняты многие современные законы в области социального страхования и трудового права. Они утверждали, что государство оказывает помощь дисгенического свойства, способствуя тем самым пополнению рядов «непригодных», давая вырождающимся классам возможность продолжать род, тогда как в естественной среде такой сброд был бы обречен на вымирание. Однако Фарнам, являвшийся сторонником протекционизма, экономист Саймон Паттен и другие выступали против государства всеобщего благосостояния не по этой причине. Это было бы равносильно социальному дарвинизму! Напротив, они утверждали, что непредусмотренные последствия реализации принципов государства всеобщего благосостояния требуют применения драконовских евгенических схем для того, чтобы «искоренить» дефективную зародышевую плазму, порожденную щедростью государства. С какой стати арийцам следовало отказываться от преимуществ государственного социализма, когда можно было просто ликвидировать неизбежно возникающий беспорядок при помощи «евгенической метлы»?
Пожалуй, единственным политическим убеждением, которое разделяли практически все евгенисты, была вера в дисгеничность капитализма. «Расовая гигиена» была частью более значительного «социального вопроса», и все прекрасно знали, что этот вопрос невозможно решить при помощи невмешательства.
До прихода нацистов к власти Германия в целом отставала от США и большей части Европы в том, что касалось евгеники. Когда в штате Индиана в 1907 году был принят первый закон о стерилизации, которой подлежали «закоренелые преступники, идиоты, слабоумные и насильники», Запад обратил на это внимание. В последующие 30 лет аналогичные законы были приняты в 29 других американских штатах, а также в Канаде и в большинстве стран Европы. Да, немцы восхищались американскими конкурсами «fitter family»[475], в которых достойные американские арийцы выставлялись на всеобщее обозрение, подобно премированному крупному рогатому скоту на окружных ярмарках, но некоторые скандинавские страны на много лет опережали немцев в отношении евгенических схем, при этом многие европейские страны и канадские провинции сохраняли приверженность принципам евгеники в течение десятилетий после падения Третьего рейха[476].
Сравнения усилий прогрессивистов по «созданию расы» и попыток нацистов улучшить или исправить их уже однородную в расовом отношении нацию могут оказаться слишком оскорбительными, поскольку ограничения, применявшиеся по отношению к подобным программам в Америке, были значительно более жесткими. Благодаря американской исключительности прогрессивисты были вынуждены возиться с хирургическим скальпелем — это часто становилось предметом их недовольства, в то время как немецкая исключительность позволяла национал-социалистам использовать топоры, кувалды и бульдозеры. В некотором смысле Германия давно ждала появления евгеники, которая позволила дать научное обоснование романтическим устремлениям, лежавшим в основе ее культуры.
Сам Ницше указал путь. В 1880 году он писал: «Необходимо свидетельствовать в пользу уничтожения убогих, уродливых, вырождающихся». Право на размножение, как утверждал Ницше, следовало отнять у масс с тем, чтобы «раса в целом [более не] страдала». «Исчезновение многих типов людей настолько же желательно, как и любая разновидность воспроизводства». Брак, по словам Ницше, также должен регулироваться государством более тщательно. «Пройдите по городам и спросите себя, должны ли эти люди размножаться! Пусть они идут к своим шлюхам!»[477]
Практически невозможно говорить о «влиянии» евгенической мысли на нацистскую государственную политику, так как нацисты воспринимали евгенику как цель всей государственной политики. Одно из последних пожеланий Гитлера заключалось в том, чтобы Германия оставалась верной своим расовым законам. Все: брак, медицина, занятость, заработная плата — было проникнуто принципами расовой гигиены и евгенической экономики, предложенными британскими и американскими социалистами и прогрессивистами. Как и в Америке, разрешение на вступление в брак являлось исключительно важным инструментом евгенического отбора. Браки, считавшиеся «нежелательными для всей национальной общности», были запрещены. Между тем субсидии, командировочные, премии и т. д. выделялись всем тем, кто принадлежал к привилегированным в расовом отношении классам. Принудительная стерилизация стала стандартным методом управления государством[478].
Как мы увидим далее, нацисты кооптировали независимые религиозные объединения и другие благотворительные организации под эгидой государства. Во время прихода к власти они создали альтернативную благотворительную инфраструктуру, предлагавшую такие социальные услуги, которые не могло предоставить государство. Когда нацисты окончательно взяли верх, они стали методично заменять традиционную инфраструктуру государства и церкви нацистской монополией на благотворительность.
Но еще более важный аспект нацистского государства всеобщего благосостояния состоял в его исключительной направленности на построение национальной общности по расовому принципу. Хотя нацисты использовали типичную для левых риторику вины и долга, которая традиционно служила оправданием государственной помощи нуждающимся и обделенным, эта помощь не распространялась на тех, кто не принадлежал к избранной нации. В этом заключался уникальный порок нацизма. В отличие от итальянского фашизма, где евгеника применялась в гораздо меньшей степени, чем в Америке или Германии, нацизм определялся как расовый социализм. Принцип «все для расы, ничего для тех, кто не принадлежит к ней» был главной составляющей идеи нацизма и обусловливал ее привлекательность.
И последнее замечание о взаимодействии евгеники и государства всеобщего благосостояния. И в Германии, и в Америке евгеника получила широкое распространение из-за значительной веры людей в «общественное здравоохранение». Первая мировая война и великая эпидемия гриппа поставили работников медицины в один ряд с адептами социального планирования, как и представителей других профессий. Для врачей, повышенных в звании до терапевтов политического организма, клятва Гиппократа утратила значение. В американском медицинском журнале Military Surgeon вполне безапелляционно было высказано следующее мнение: «Человеческая жизнь часто уходит на второй план. <...> Офицеры медицинской службы теперь в большей степени сосредоточены на общем, а не на частностях, а жизнь и здоровье отдельных людей, несмотря на их огромную значимость, второстепенны по отношению к мерам pro bono publico [ради общественного блага]»[479].
Немцы определяли этот тип мышления выражением «Gemeinmitz Geht vor Eigennutz» («общественные интересы важнее личных»), И именно под этим знаменем Германия довела идею общественного здравоохранения до тоталитарных крайностей. «Сухой закон» был главным доказательством того, насколько тесно американские прогрессивисты связывали нравственное и физическое здоровье, и многие нацисты благосклонно относились к усилиям американцев. Симпатия была взаимной. В 1933 году американский научный журнал сторонников трезвости Scientific Temperance Journal приветствовал избрание Гитлера, известного трезвенника. И хотя «сухому закону» всегда была присуща расистская подоплека (алкоголь способствовал распущенности смешанных рас), немцы больше опасались того, что алкоголь и еще более презираемые сигареты приведут к вырождению арийской части населения Германии. Табак объявлялся источником всех мыслимых зол, вплоть до развития гомосексуализма.
Немцы были особенно зациклены на раке. Нацисты первыми обнаружили связь между курением и этой болезнью, а слово «рак» вскоре стало самой популярной метафорой. Нацистские лидеры обычно называли евреев «раком» и «опухолью» на немецком обществе. Но эта практика берет свое начало в более широкой и глубокой традиции. По обе стороны Атлантики было принято называть «дефективных» и другие группы, которые получали больше, чем отдавали, «раком на политическом организме». Американское евгеническое общество называли «обществом по борьбе с социальным раком». В Германии, прежде чем пришел черед евреев, сотни тысяч инвалидов, престарелых и психически больных «чистокровных» немцев были ликвидированы на том основании, что они «бесполезные поедатели хлеба» или живут «жизнью, недостойной жизни» (этот термин впервые появился в Германии в 1920 году). Приложение этих методов и идей к «еврейскому вопросу» казалось целесообразным продолжением евгенической теории в целом.
Но холокост не должен заслонять собой менее значимые, но более релевантные последствия воплощения прогрессивных идей «Прогрессивной эры», которые не были должным образом исследованы. Создатели «Нового курса», «Справедливого курса» и «Великого общества» черпали свои идеи в унаследованной от прогрессивистов концепции государства всеобщего благосостояния. Причем они не делали из этого тайны, ссылаясь на таких видных «создателей расы», как Теодор Рузвельт и Вудро Вильсон, которые вдохновляли их. Очевидно, что явно расистская направленность многих из этих стратегий не нашла поддержки у последующих поколений либералов. Но это не лишало данные стратегии их расовой составляющей. Так, например, Закон Дэвиса-Бэкона по-прежнему вызывает обиду у низкооплачиваемых чернокожих работников. Политика Франклина Делано Рузвельта в области трудовых отношений и сельского хозяйства оставила миллионы негров без работы и без земли. Великое переселение афроамериканцев в северные города было в значительной степени обусловлено успехами прогрессивной политики. Чернокожие лидеры не случайно назвали Национальную администрацию восстановления Negro Run Around (т. е. «негры пролетают»).
В предыдущей главе говорилось о том, что либералы цепляются за миф о «Новом курсе» из религиозной преданности идее заботящегося обо всем государства-Бога. Нечто подобное прослеживается и в либеральной преданности «Великому обществу». Обоснования необходимости создания «Великого общества» почти всегда зиждятся на чувстве расовой вины, а также почти религиозной вере в спасительную власть государства. В своей книге «Вина белых» (White Guilt) Шелби Стил рассказывает о встрече с человеком, который называл себя «творцом “Великого общества”». «Черт возьми, мы сохранили эту страну! — выкрикивал этот человек. — Страна была на грани взрыва. Повсюду были волнения. Теперь, в ретроспективе, вам легко критиковать, но мы были просто обязаны не позволить стране распасться на части, мой друг»[480]. «Кроме того, — добавил этот сторонник Линдона Джонсона, — видели бы вы, как благодарны были черные, когда эти программы стали реализовываться».
Первое утверждение является ложью, а второе просто убийственно. Хотя законы о гражданских правах на самом деле были очень эффективными, либералы явно не собирались останавливаться на достигнутом. Вмешательство «Великого общества» в расовый вопрос (нередко под иными обличьями) влекло за собой один провал за другим. Этот политический курс привел к росту преступности. В 1960 году общее количество преступлений, связанных с убийствами, было меньше, чем в 1930-м, 1940-м и 1950-м, несмотря на демографический взрыв. За первые 10 лет с начала реализации программы «Великого общества» количество убийств удвоилось. Особенно заметно увеличилось количество преступлений, совершаемых черными против черных. Линдон Джонсон прекрасно знал о массовых беспорядках, которые вспыхивали то тут, то там, причем нередко при попустительстве либералов «Великого общества», которые молчаливо их одобряли. Число внебрачных детей среди чернокожих увеличилось многократно. С экономической точки зрения, по наблюдениям Томаса Соуэлла, самый значительный рост благосостояния черного населения происходил в течение двух десятилетий до Великого общества[481]. В 1970-е годы, когда потенциал программ «Великого общества» был полностью реализован, улучшение материального положения негров практически прекратилось.
Продолжать в том же духе можно еще очень долго. Но факты имеют второстепенное значение. Либералы прониклись глубокой симпатией к идее, лежащей в основе расового государства всеобщего благосостояния. Они убедили себя в том, что марксистская и фашистская концепции «системы» расистские и порочные по сути и поэтому требуют постоянного вмешательства со стороны государства. В частности, как отмечает Стил, они убедили себя в том, что поддержка таких программ служит доказательством их высокой нравственности. Чернокожие были «благодарны» белым либералам, поэтому белые либералы не расисты. Таким образом, мы снова возвращаемся к использованию политики демонизации всех тех, кто не разделяет общего мнения (т. е. консерваторов), и восхваления тех, кто согласен с ним. Белые, которые выступают против «дележа добычи» по расовому признаку, относятся к расистам. Чернокожие, которые выступают против этого принципа, — к ненавидящим самих себя предателям расы.
Обычно белые либералы предпочитают поддерживать черных либералов, высказывающих такие обвинения, вместо того чтобы выступать с обвинениями от своего имени. Но иногда они все же берут на себя такую ответственность. Так, например, Морин Дауд пишет о том, что «невозможно не испытывать отвращения» к таким неграм, как Кларенс Томас. По мнению Дауда, этот член Верховного суда ненавидит себя за «свою собственную великую историческую неблагодарность» по отношению к белым либералам, или же это чувство «просто сводит его с ума». Выбирайте сами. Стил так сформулировал суть расистского мышления: «Мы бросим вам подачку в качестве компенсации, если вы позволите нам свести вас к вашей расе, давая нам тем самым моральное право на “оказание вам помощи”. Когда вас называли “неграми” в эпоху сегрегации, по крайней мере, от вас не требовали благодарности»[482].
Аборты
Маргарет Сэнгер (созданная ею Американская лига контроля за рождаемостью впоследствии стала Федерацией планирования семьи) была основательницей движения за регулирование рождаемости. В настоящее время она считается либеральной «святой», основоположницей современного феминизма и одним из светочей прогрессивного пантеона. Глория Фельдт из Американской федерации планирования семьи заявляет: «Я стою на стороне Маргарет Сэнгер, возглавляя организацию, которая продолжает начатое ею дело». Первым черным председателем этой организации стала Фэй Уоттлтон (объявленная «женщиной года» журналом Ms. в 1989 году), которая, по ее собственным словам, «гордится» тем, что «идет по стопам Маргарет Сэнгер»[483]. Американская федерация планирования семьи ежегодно вручает награды Maggie Awards частным лицам и организациям, которые продолжают дело Сэнгер. В числе награжденных целый ряд либеральных кумиров, от писателя Джона Ирвинга до продюсеров драматического сериала «Левое крыло» Национальной радиовещательной компании. Либеральные почитатели Сэнгер всячески стараются умалить тот факт, что она была радикальной расисткой, в полной мере разделявшей воззрения Е. А. Росса и других «расологов». Более того, она превзошла многих из них.
Сэнгер родилась в 1879 году в городе Корнинг, штат Нью-Йорк, в бедной семье, в которой было одиннадцать детей. В 1902 году она сдала аттестационный экзамен и стала дипломированной медсестрой. В 1911 году она переехала в Нью-Йорк, где пополнила ряды представителей трансатлантического богемного авангарда зарождающегося «фашистского момента». «Наша гостиная, — писала она в своей автобиографии, — стала местом встреч для либералов, анархистов, социалистов и представителей организации “Индустриальные рабочие мира”»[484]. Являясь членом женского комитета Социалистической партии штата Нью-Йорк, она участвовала во всех акциях протеста и демонстрациях. В 1912 году она начала публиковать в New York Call заметки по вопросам половой жизни под рубрикой «Об этом должна знать каждая девочка». Роль контрацепции стала одной из главных тем ее авторской колонки.
Последовательница анархистки Эммы Голдман, еще одной сторонницы евгеники, Сэнгер стала первой в Америке «мученицей за ограничение рождаемости», когда она была арестована за распространение презервативов в 1917 году. Для того чтобы избежать повторных арестов за нарушение законов об ответственности за непристойное поведение, она уехала в Англию, где попала под влияние Хейвлока Эллиса, теоретика психологии сексуальных отношений и горячего сторонника принудительной стерилизации. У нее также был роман с Гербертом Уэллсом, который называл себя приверженцем «либерального фашизма». Ее брак распался рано, а один из ее детей, которому она, по собственному признанию, уделяла недостаточно внимания, умер от пневмонии в возрасте четырех лет. Более того, она всегда признавала, что не создана для семейной жизни, предполагая, что она «неподходящий человек для любви, дома или детей и всего того, что требует внимания и рассудительности»[485].
Под лозунгом «репродуктивной свободы» Сэнгер разделяла почти все евгенические воззрения, о которых шла речь выше. Она ратовала за запрет размножения «непригодных» и регулирование рождаемости для всех остальных. Она с пренебрежением относилась к мягкому подходу «позитивной» евгеники, высмеивая его как «соревнование в деторождении» между «пригодными» и «непригодными». «Больше детей от пригодных, меньше — от непригодных. Это главный вопрос регулирования рождаемости», — без обиняков написала она в 1922 году в своей книге «Ось цивилизации» (The Pivot of Civilization). (Эта книга вышла с предисловием Уэллса, в котором он провозгласил: «Мы хотим, чтобы детей было меньше и они были лучше... и мы не сможем создать систему общественных отношений, к которой стремимся, с невоспитанными, плохо обученными полчищами неполноценных граждан, которых вы нам навязываете». Две цивилизации находились в состоянии войны: одна из них выступала за прогресс, а другая тяготела к миру, «наводненному беспорядочным потоком потомства»[486].)
Беспристрастный человек, читающий сегодня книги, статьи и брошюры Сэнгер, не может не увидеть сходства не только с нацистской евгеникой, но и с порожденными феминистическим воображением темными антиутопиями, наподобие тех аллегорий, которыми изобилует роман Маргарет Этвуд «История служанки» (Handmaid’s Tale)[487]. В бытность редактором журнала Birth Control Review Сэнгер регулярно публиковала труды апологетов крайнего расизма, который мы обычно отождествляем с именами Геббельса или Гиммлера. Более того, после ее ухода с поста редактора в этом журнале стали появляться статьи людей, работавших на Геббельса и Гиммлера. Например, когда нацистская евгеническая программа впервые привлекла к себе общее внимание, Birth Control Review поспешил представить нацистов в положительном свете, разместив на своих страницах статью под названием «Евгеническая стерилизация: насущная необходимость» (Eugenic Sterilization: An Urgent Need), автором которой был Эрнст Рюдин, руководитель гитлеровской программы стерилизации и основатель Нацистского общества расовой гигиены. В 1926 году Сэнгер выступила с пламенной речью на митинге Ку-клукс-клана в городе Сильвер-Лейк, штат Нью-Джерси.
Одним из ближайших друзей и влиятельных коллег Сэнгер был сторонник господства белой расы Лотроп Стоддард, автор книги «Вздымающаяся цветная волна против превосходства белого мира» (The Rising Tide of Color Against White World-Supremacy). В этой книге он предложил свой вариант противодействия угрозе, исходящей от цветных рас: «Подобно тому, как мы изолируем бактериальные инвазии и останавливаем размножение бактерий, ограничивая область их распространения и количество пищевых ресурсов, мы можем вынудить низшую расу остаться в пределах своей естественной среды обитания»[488]. Когда книга вышла из печати, Сэнгер была настолько впечатлена, что пригласила его войти в совет директоров Американской лиги контроля за рождаемостью.
Гениальность Сэнгер заключалась в том, что ей удалось поспособствовать кампании Росса за социальный контроль, соотнеся расистско-евгеническую кампанию с сексуальным удовольствием и освобождением женщины. В своем «Своде правил, призванных остановить избыточное рождение детей» (Code to Stop Overproduction of Children), опубликованном в 1934 году, она постановила, что «ни одна женщина не имеет законного права рожать детей без разрешения... Позволяется родить не более одного ребенка»[489]. Но Сэнгер сформулировала эту фашистскую программу на том основании, что «эмансипированные» женщины не стали бы возражать против таких мер прежде всего потому, что им на самом деле не нужна большая семья. В своем метафорическом высказывании, которое позже станут повторять такие феминистки, как Бетти Фридан, она утверждала, что материнство само по себе является социально обусловленным ограничением свободы женщин. Желание иметь большую семью представляло собой разновидность того, что марксисты называют ложным сознанием.
Сэнгер считала (совершенно справедливо, как выяснилось позже), что если бы женщины воспринимали половой акт в первую очередь как источник удовольствия, а не действие с целью продолжения рода, то регулирование рождаемости стало бы для них необходимым средством для получения личного удовлетворения. Она блестяще использовала риторику освобождения для убеждения женщин в том, что речь идет не о следовании некоторой коллективистской схеме, а о необходимости «говорить правду власти»[490]. Нацисты добились успеха при помощи точно такой же уловки. Они взяли за основу радикальную ницшеанскую доктрину личной воли и превратили ее в модную догму «конформизма среднего класса». Этот ловкий прием также лежит в основе «индивидуализма», чрезвычайно популярного ныне среди мятежных конформистов на левом фланге американской культуры. Тем не менее вывод Сэнгер оказался верным и вылился в типичное для феминисток отождествление секса с политическим восстанием. Сэнгер, по сути, «откупилась» от женщин (и признательных мужчин), предложив им терпимость к распущенности в обмен на согласие следовать ее евгеническим схемам.
В 1939 году Сэнгер основала упоминавшийся выше «негритянский проект», призванный убедить чернокожих в необходимости регулирования рождаемости. При содействии Американской лиги контроля за рождаемостью она наняла чернокожих священников (в том числе преподобного Адама Клейтона Пауэлла-старшего), врачей и других лидеров, чтобы помочь сократить численность предположительно избыточного чернокожего населения. Расистская направленность данного проекта не вызывает сомнений. Как утверждалось в одном из отчетов по данному проекту, «негры продолжают размножаться необдуманно и катастрофически, в результате чего происходит увеличение и без того большой численности тех из них, которые принадлежат к наименее интеллектуальной и способной части чернокожего населения». В настоящее время намерения Сэнгер шокируют, но она признавала крайний радикализм своих устремлений даже тогда. «Мы не хотим разговоров о том, — писала она одному из своих коллег, — что мы стремимся уничтожить негритянское население, и священник — это как раз тот человек, который может доказать несостоятельность таких домыслов, если они возникнут у кого-нибудь из более мятежных представителей этой расы»[491].
Вполне возможно, что Сэнгер действительно не хотела «уничтожить» негритянское население, а желала только ограничить его рост. Тем не менее многие представители черного сообщества воспринимали ее слова именно так и относились к намерениям прогрессивистов с вполне обоснованным подозрением. Не составляло труда понять, что белые люди среднего достатка, которые постоянно говорили о «расовом самоубийстве» при участии черных дикарей-недочеловеков, навряд ли действовали исключительно в интересах чернокожих. Этот скептицизм сохранялся в черном сообществе на протяжении десятилетий. Некий человек, с недоверием относившийся к взаимосвязи абортов и расы, в 1977 году телеграфировал Конгрессу о том, что аборт тождественен «геноциду против черной расы». Затем он добавил крупным шрифтом: «МОЯ СОВЕСТЬ ПОБУЖДАЕТ МЕНЯ ВЫСТУПИТЬ ПРОТИВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛИТИКИ ДЕТОУБИЙСТВА»[492]. Это был Джесси Джексон, который изменил свою позицию, когда принял решение выйти на выборы в качестве кандидата от Демократической партии.
Еще несколько лет назад о праве на аборт как о «бонусе» расовой евгеники можно было говорить только с приверженцами этих идей и только политкорректным шепотом. В настоящее время этот аргумент все чаще оказывается приемлемым для левых, как и аргументы в пользу евгеники в целом.
В 2005 году известный экономист из Чикагского университета Стивен Левитт нарушил это табу своей необычайно успешной критической работой «Фрикономика» (Freakonomics) (в соавторстве со Стивеном Дабнером). Наиболее сенсационная глава этой книги представляла собой переработанный вариант написанного Левиттом в 1999 году исследования, в котором он утверждал, что аборты способствуют снижению уровня преступности. «Легализация абортов привела к сокращению количества нежеланных детей; нежеланные дети способствуют высокому уровню преступности; как следствие, легализация абортов повлекла за собой снижение уровня преступности»[493]. В «Фрикономике» начисто отсутствовали какие-либо упоминания о расе, а также не говорилось о том, что, поскольку абортированные плоды были в основном черными, а черные способствуют значительному увеличению уровня преступности, уменьшение численности черного населения снижает преступность. Тем не менее пресса приняла это без особых возражений.
В 2005 году Уильям Беннетт, ярый сторонник запрещения абортов, вернулся к этому постулату Девитта, чтобы показать порочность евгенического мышления. «Я знаю, что это правда, что если бы вы хотели снизить уровень преступности, вы могли бы — если бы это было вашей единственной целью — вы могли бы прервать жизнь каждого черного ребенка в этой стране при помощи аборта, что привело бы к снижению уровня преступности. Такие действия были бы постыдными и предосудительными, но уровень преступности понизился бы». Однако самое большое негодование у либералов вызвало то, что в подтверждение своей консервативной точки зрения Беннетт привел доказательства, которые он по воле случая позаимствовал из либеральной теории. Такое же отрицание они демонстрировали ранее по отношению к социальным дарвинистам. По словам Боба Херберта из New York Times, Беннет считал «истребление черных самым эффективным средством борьбы с преступностью». Некоторые представители либеральной общественности, в том числе Терри Маколифф, бывший глава Национального комитета Демократической партии, говорили о том, что Беннет желает истребить «черных младенцев». Хуан Уильямс заявил, что замечания Беннетта свидетельствуют «об исключительно расистском мышлении»[494].
В некотором смысле это довольно неожиданный поворот. В конце концов, когда либералы выступают в поддержку абортов, они обычно называют эту процедуру не «убийством младенцев», а просто удалением «скопления клеток и тканей» или «содержимого матки». Если гипотетические аборты, которые якобы делаются в интересах консерваторов, признаются детоубийством, как поощряемые либералами реальные аборты могут не быть таковыми?
Некоторые либералы честно говорят об этом. В 1992 году Николас фон Хоффман заявил в газете Philadelphia Inquirer.
«Доступные и дешевые аборты являются одной из мер социальной защиты. Чтобы нас не убивали в наших собственных кроватях и не насиловали на улицах, мы должны сделать все возможное для того, чтобы убедить беременных женщин, которые не хотят ребенка и не будут заботиться о нем, избавиться от плода, пока он не превратился в монстра... На демонстрации противники абортов идут строем и несут фотографии мертвых и расчлененных эмбрионов. Сторонникам абортов следовало бы в ответ продемонстрировать свои контраргументы: фотографии жертв тех, кого вовремя не остановил скальпель хирурга, — убитых, изнасилованных, изувеченных. Фотографии, которые призваны напомнить нам о том, что борьба за аборты — это только часть более масштабной борьбы за безопасные дома и улицы»[495].
В том же году Белый дом получил письмо от Рона Веддингтона, второго адвоката в деле «Роу против Уэйда»[496], который призывал недавно избранного президента как можно быстрее выводить на рынок препарат RU-486 для медикаментозного прерывания беременности. Аргументация Веддингтона была удивительно честной:
«Это позволит вам немедленно начать ликвидацию малообразованного, нездорового и бедного сегмента нашей страны. Нет, я не призываю к какому-либо массовому уничтожению этих несчастных людей. Преступность, наркотики и болезни уже делают свое дело. Проблема в том, что их число не становится меньше, но, напротив, увеличивается вследствие рождения миллионов детей людьми, которые не могут позволить себе иметь детей. Ну вот, я сказал это. Все мы знаем, что это так, но не решаемся говорить об этом во всеуслышание, потому что как либералы, верящие в права личности, мы считаем любые программы, которые затрагивают интересы обездоленных, дискриминирующими, подлыми и... ну... республиканскими.
Правительству также придется сделать доступными для граждан вазэктомию, перевязку маточных труб и аборты... Со времени вынесения решения по делу “Роу против Уэйда” в этой стране было сделано 30 миллионов абортов. Подумайте о бедности, преступности и нищете... а затем добавьте к этому сценарию еще 30 миллионов нежеланных детей. Наши позиции значительно ослабли во время религиозных оргий Рейгана-Буша. У нас совсем мало времени»[497].
Однако чем это, по сути, отличается от провозглашенной Маргарет Сэнгер «религии управления рождаемостью», которая, по ее словам, призвана «уменьшить нагрузку на государственные фонды, связанную с затратами на уход... за детьми, которым суждено стать бременем для самих себя, своей семьи и в конечном счете всей нации?»[498]
Речь здесь идет не о явном намерении либералов и не о логических объяснениях, посредством которых они вводят самих себя в заблуждение относительно природы абортов. Скорее, делается попытка показать, что даже когда изменяются мотивы и аргументы, суть политики по-прежнему определяется ее последствиями. После того как холокост дискредитировал евгенику как таковую, ни евгенисты, ни их идеи не исчезли. Скорее, они затаились в таких областях, как планирование семьи и демография, и в политических движениях, подобных феминизму. Действительно, в определенном смысле современная Американская федерация планирования семьи в большей степени проникнута духом евгеники, чем замышлялось Сэнгер. В конце концов Сэнгер презирала аборты. Она осуждала их как «варварство» и называла врачей, делающих аборты, «кровопийцами в обличье докторов». Аборты превращались в «гнусное убийство» и «уничтожение младенцев», которого не заслуживали даже отпрыски дегенератов[499].
Поэтому забудьте о намерениях: смотрите на результаты. Аборты уносят больше жизней чернокожих американцев, чем болезни сердца, рак, несчастные случаи, СПИД и насильственные преступления вместе взятые. Афроамериканцы составляют немногим более 12 процентов населения, при этом на их долю приходится более трети (37 процентов) абортов. Этот показатель отличается относительным постоянством, хотя в некоторых регионах его значения гораздо выше; например, по данным органов санитарно-эпидемиологического надзора, в Миссисипи черные женщины делают около 72 процентов от общего количества абортов. В масштабе всей нации на 1000 беременностей у чернокожих американок 512 беременностей заканчиваются абортом[500]. Достаточно показателен факт, что примерно 80 процентов всех центров абортов Американской федерации планирования семьи располагается в местах проживания этнических меньшинств. Современные либералы осуждают Билла Беннетта, рассуждающего о последствиях убийства нерожденных чернокожих детей; но при этом они приветствуют убийство нерожденных чернокожих детей, которое реально имеет место, и осуждают его за противодействие этому убийству.
Конечно, ортодоксальные евгенисты тоже были нацелены на «слабоумных» и «бесполезных поедателей хлеба», относя к ним в первую очередь умственно отсталых, необразованных, недоедающих и в конечном итоге преступников-рецидивистов. Что касается нынешних «слабоумных», влиятельные голоса слева теперь призывают убивать «дефективных» в начале и в конце жизни. Среди них выделяется голос Питера Сингера, известного как самый выдающийся современный философ и мировая величина в области этики. Профессор Сингер, который преподает в Принстонском университете, утверждает, что ненужных детей и детей-инвалидов следует убивать из «сострадания». Он также утверждает, что жизнь пожилых людей и других членов общества необходимо прерывать, когда они становятся обузой, а их существование — бессмысленным, Сингер не пытается замаскировать при помощи эвфемизмов свое убеждение, что убийство детей может быть оправданным, о чем свидетельствует его эссе под названием «Убийство младенцев не всегда есть зло» (и его мнение вовсе не глас вопиющего в пустыне; его взгляды пользуются популярностью и уважением во многих научных кругах)[501]. При этом данная точка зрения не вызвала ни единого возражения у представителей левых сил (за исключением Германии, жители которой очень хорошо помнят, к чему приводит такая логика). Конечно, далеко не все либералы согласны с рекомендациями Сингера, но они не осуждают его в отличие от, например, Уильяма Беннетта. Возможно, они видят в нем родственную душу.
Политика идентичности
Современные либералы не испытывают особой неприязни к расовым меньшинствам (вот большинство — это совсем другое дело). Они, пожалуй, даже симпатизируют им, относясь к ним очень лояльно. Расовые представления либералов основываются на том, что принадлежность к черной расе сама по себе признак исключительности.
За последние почти 40 лет массовая индустрия развлечений прославила феномен «сверхъестественного негра» (по определению журнала National Review) Ричарда Брукхайзера. С учетом того, как чернокожие изображались в прошлом, желание художников с избытком компенсировать этот перекос вполне объяснимо. Но это более глобальная культурная тенденция, которая также охватывает сферу политики. Совещание чернокожих членов Конгресса, которое по большому счету представляет собой пестрое собрание политиков, придерживающихся крайне левых взглядов, называет себя «совестью Конгресса» просто в силу своей расовой принадлежности. Белые либералы с готовностью соглашаются с этой точкой зрения, отчасти из чувства вины, отчасти вследствие достаточно циничного расчета на славу в качестве добровольных защитников «черной Америки». Но большинство как белых, так и черных либералов разделяют мнение, что чернокожие на самом деле в некотором смысле «лучше».
Это, без сомнения, относится к таким черным расистам с типично фашистскими взглядами, как Луи Фаррахан и черный «расолог» Леонард Джеффрис. Более того, среди сторонников афроцентризма и черного национализма на левом фронте широкое распространение получили странные, противоречащие историческим фактам фантазии о превосходстве древней африканской цивилизации, о заговоре белых с целью уничтожения истории черной расы и т. д. В данном случае трудно не заметить сходства с нацистской риторикой о мифическом арийском прошлом. Афроцентристские книжные магазины — это одно из немногих мест в Америке, где всегда можно купить книгу «Протоколы сионских мудрецов» (The Protocols of the Elders of Zion). Как уже отмечалось, такие движения, как «Народ ислама» и «Назад в Африку», отличались идеологической близостью к нацизму и итальянскому фашизму соответственно.
Даже на либеральном левом фланге, где эти вредоносные суждения выражаются не так явно, никто не сомневается в изначальном положительном предназначении черной расы. Как же так? Ну, так и должно быть. Если вам близки различные доктрины мультикультурализма и политики идентичности, то вы уже верите в то, что принадлежность к черной расе — это особый, неизменный отличительный признак. Как только вы принимаете эту логику (как это делают представители левых сил), у вас на выбор остается совсем немного вариантов. Если раса не является нейтральной, если «раса имеет значение», как заявляет Корнел Уэст, то каково это значение? Вопрос о выборе положительного или отрицательного значения решается либералами в пользу положительного.
В основе нашей системы «дележа добычи» по расовому признаку лежит позитивная дискриминация. Прошли те дни, когда позитивные действия оправдывались только благодаря заявлениям Линдона Джонсона о необходимости помогать черным или «исправлять историческую несправедливость»[502]. Следует заметить, что эти аргументы до сих пор не потеряли актуальности для многих либералов, и это делает им честь. Но эти принципы стали частью более глобальной идеологии мультикультурализма, и теперь либералы прибегают к риторике «расового вреда», заявляя, что позитивные действия необходимы для «возмещения» причиненного черным ущерба только тогда, когда эти действия оказываются под угрозой. Такой подход служит волнорезом для огромной коалиции угнетенных, которая готова встать под те же знамена, сделав главный постулат о праве черных на реализацию программы масштабных культурных и политических изменений девизом каждой входящей в нее категории. Поскольку черные нуждаются в особом отношении, коалиция оказывается вправе проводить свою политику по принципу «и мы тоже». В государстве, основанном на «дележе» по расовому признаку, такая трагедия для простых людей была неизбежной. Вслед за черными феминистки также потребовали особого отношения. Эту же модель взяли на вооружение испаноязычные представители левых сил. Теперь гомосексуалисты утверждают, что они во всех отношениях представляют моральный эквивалент чернокожих. В конце концов количество угнетенных увеличилось настолько, что потребовалось новое обоснование: «мультикультурализм».
Здесь сходство с немецко-фашистским мышлением становится наиболее очевидным. Исайя Берлин утверждал, что фашизм является порождением французского реакционера графа Жозефа де Местра. Берлин явно преувеличивал влияние де Местра (и нацисты, и итальянские фашисты недвусмысленно отвергали де Местра), тем не менее его позиция помогает нам понять, как фашизм и политика идентичности пересекаются и влияют друг на друга.
Неотъемлемой составляющей Просвещения считается мысль о том, что все человечество восприимчиво к разумным доводам. Философы утверждали, что все люди мира обладают способностью разумно мыслить. А вот представители правых сил в Европе полагали, что человечество распадается на группы, классы, секты, расы, национальности и другие звенья великой цепи бытия. Реакционер де Местр отрицал существование каких-либо «универсальных прав человека». Известно его изречение по этому поводу: «Сейчас в мире нет такого существа, как “человек”. В своей жизни я видел французов, итальянцев, русских и т. д. Я даже знаю, благодаря Монтескьё, что существуют персы. Но что касается человека, я заявляю, что никогда его не встречал. Если он и существует, мне об этом не известно»[503].
Де Местр утверждал, что все мы являемся узниками нашей расовой и этнической идентичности. (Он не упоминал о половой идентичности, но это имелось в виду.) Более того, современную политику идентичности практически невозможно отличить от политики идентичности фашистского прошлого. Один из сторонников фашизма в 1930-е годы сформулировал это следующим образом: «В своем понимании мы стремимся выйти за рамки фатально ошибочных представлений о равенстве всех людей и стараемся учитывать все разнообразие народов и рас»[504]. Сколько американских студентов слышат такие заявления каждый день?
Сегодня о том, что такого существа, как «человек», не существует, нам говорят представители левых сил. Зато есть афроамериканцы, латиноамериканцы и коренные американцы. Левые ученые говорят о «постоянстве расы», кроме того, во многих известных университетах и колледжах возникла совершенно новая отрасль знаний — «изучение культурной специфики белой расы», нацеленная на противодействие угрозе превосходства белой расы в Америке. Социолог Эндрю Хакер осуждает «белую логику», а некоторые другие ученые утверждают, что чернокожие и другие меньшинства показывают худшие результаты в учебе, потому что в наших учебных заведениях обучение основывается на принципе превосходства белой расы. Черные дети не хотят учиться в школе, потому что чтобы получать хорошие оценки, необходимо «вести себя, как белые». Эти абсурдные выводы подкрепляют и усиливают совокупность коллективистских представлений о главенствующей роли государства в обеспечении развития различных групп населения; те, кто выступает против данной концепции, объявляются расистами и «получают по голове». Например, представители системы муниципальных школ в Сиэттле недавно объявили о том, что делать «акцент на индивидуализме в противовес более коллективистской идеологии» — значит проявлять признаки «культурного расизма». Более того, любые доводы в защиту принципов индивидуализма и самого разума признаются противоречащими интересам меньшинств. Ричард Дельгадо, основатель критической теории расы, пишет: «Если вы негр или мексиканец, вам следует держаться как можно дальше от демократических государств, основанных на принципах Просвещения, при наличии такой возможности»[505].
В 1960-е годы, когда движение за гражданские права еще основывалось на классической либеральной позиции приоритета личных качеств при оценке людей, просвещенные либералы осуждали правило «одной капли», согласно которому наличие даже одной капли «черной» крови делает человека черным, что очень походило на представления национал-социалистов о том, кого следовало считать немцами. Теперь, как утверждают левые, если у вас есть хоть одна капля черной крови, вы должны считаться черным в целях позитивной дискриминации. Ценность привилегий, связанных с принадлежностью к черной расе, настолько велика, что некоторые черные интеллектуалы предлагают считать «расовое мошенничество» преступлением[506]. Это странная проблема расизма, когда люди желают вступить в ряды угнетенных и лоббируют законы, лишающие угнетателей возможности прикинуться «жертвами».
Прославление расового постоянства заставило представителей левых сил отказаться от узких обоснований позитивных действий в пользу доктрины мультикультурализма. Многообразие (которое, кстати, используется только для защиты интересов привилегированных групп; азиаты и евреи очень редко попадают в целевую группу данной политики) — это аргумент в пользу постоянства расы и идентичности. Другими словами, если левые добьются своих целей, предпочтения по расовому признаку больше не будут связаны с исправлением прошлых ошибок (за исключением тех случаев, когда такие предпочтения окажутся под ударом). Напротив, стремление к многообразию станет для «счетоводов» от социальной инженерии постоянной лицензией, позволяющей проводить дискриминацию любой группы по своему усмотрению для получения желаемого «баланса». Например, ранее квоты несправедливо ограничивали возможности получения евреями высшего образования, обеспечивая белым протестантам преимущество при поступлении в вузы. В настоящее время квоты ограничивают возможности получения евреями высшего образования, обеспечивая преимущество при поступлении в вузы чернокожим и латиноамериканцам. Только теперь либералы уверены, что такая политика свидетельствует о явном прогрессе в решении расового вопроса.
Многообразие также одобряет расовый эссенциализм, от которого оно зависит. Не только богатые (и все чаще рожденные в других странах) черные не менее значимы, чем бедные; в настоящее время речь идет уже о том, что общение с черными само по себе действует благотворно. Такая политика унизительна и приводит к обратным результатам, поскольку она предполагает, что черные приходят в учебные заведения не как Том Смит и Джо Джонс, а как студенты с характерным для чернокожих мировоззрением. Преподаватели ждут от чернокожих студентов «черной точки зрения», и тех из них, кто отклоняется от обозначенной линии, снисходительные белые либералы (т. е. большинство преподавателей и представителей администрации), а также исполненные расовой гордости черные считают ненатуральными. Я побывал в десятках студенческих городков и везде видел одно и то же: чернокожие едят, общаются и живут вместе с другими чернокожими. Эта добровольная сегрегация все отчетливее проявляется в политике университетов. Чернокожие образуют студенческое сообщество в рамках студенческого сообщества университета, государство в государстве. Как ни странно, но наилучшим способом наладить общение белых детей с черными и наоборот было бы уменьшение количества черных студентов или по крайней мере отказ от отдельных общежитий для чернокожих. Таким образом, черные будут вынуждены интегрироваться в культуру большинства. Хотя, конечно, интеграция в настоящее время по большей части относится к расистской доктрине.
Вы могли бы сказать, что неправомерно сравнивать современную либеральную программу, призванную помочь представителям меньшинств, с ядовитыми идеологиями фашизма и нацизма. И я согласился бы с вами, если бы речь шла о таких вещах, как холокост или даже «ночь разбитых витрин». Но на уровне философских обобщений мы говорим о категориях, определяющих гот или иной тип мышления. Оправдание какого-либо проступка на том основании, что «это характерно для черных», с точки зрения философии ничем не отличается от высказывания «это типично для арийцев». Нравственный контекст вопросов имеет огромное значение. Но оправдания по сути тождественны. Аналогичным образом отказ от Просвещения по «хорошим» причинам по-прежнему является отказом от Просвещения. И любая инструментальная или прагматическая выгода, которую вы получаете вследствие отказа от Просвещения, по-прежнему тождественна ударам кувалды по трибуне, на которой вы стоите. Без принципов Просвещения мы оказываемся в ницшеанском мире, где все важные вопросы решаются с помощью силы, а не разума. Похоже, это как раз то, что нужно левым.
И последнее замечание по поводу многообразия. Поскольку либералам свойственно то, что Томас Соуэлл называет «неограниченным восприятием», они предполагают, что все остальные видят мир через призму тех же самых категорий. Таким образом, в очередной раз, как это было с социал-дарвинизмом левых, либералы уверены, что их идеологические оппоненты называют «плохими» всех тех, кому благоволят сами либералы. Если либералы считают черных (или женщин, или геев) имманентно хорошими, консерваторы должны думать, что эти группы имманентно плохие.
Это не значит, что консерваторы не могут быть расистами. Но с философской точки зрения либерализм сражается с ветряными мельницами. Либералы постоянно утверждают, что консерваторы используют слова «с двойным дном», потому что в консерватизме как таковом нет ничего явно расистского. Более того, регулярные лингвистические манипуляции, принуждающие консерваторов (и других нелибералов) защищаться, составляют неотъемлемую часть либеральной политики. Так, например, один из государственных чиновников был уволен за вполне адекватное использование слова «скупой»[507] в своей речи[508]. Постоянно меняющиеся требования поддерживают атмосферу недовольства. Как известно, фашисты руководили при помощи страха. Политкорректность не может служить запугиванием в прямом смысле этого слова, но на самом деле основывается на страхе. Ни один серьезный человек не станет отрицать, что реализуемая американскими левыми силами политика недовольства держит порядочных людей в состоянии постоянного страха: они боятся произнести не то слово, высказать неправильную мысль, обидеть представителей какой-либо социальной группы.
Если мы сохраним наше понимание политического консерватизма как истинного наследника классического либерального индивидуализма, то вряд ли непредвзятый человек станет отождествлять его с расизмом. И тем не менее, по мнению либералов, даже расовый нейтралитет является расистским. Он возвращает нас к социал-дарвинизму былых времен, как нам говорят, потому что обрекает представителей меньшинств на жестокую борьбу, в которой выживают наиболее приспособленные.
Есть только три основных точки зрения. Существует расизм левых, проявляющийся в стремлении использовать государство для оказания помощи привилегированным меньшинствам, которые признаются превосходящими других с точки зрения морали. Существует расовый нейтралитет, который соответствует позиции консерваторов. И, наконец, существует «классический расизм», согласно которому черные объявляются неполноценными в том или ином отношении. По мнению левых, только одна из этих позиций не может быть признана расистской. Это, естественно, не расовый нейтралитет и не расизм. Так что же остается? Только либерализм. Другими словами, соглашайтесь с либералами, если не хотите прослыть расистом. Конечно, если вы станете рассуждать с позиции отказа от расовых предубеждений, многие непредвзятые либералы скажут вам, что, хотя сами вы и не расист, ваши взгляды «увековечивают» расизм. А некоторые либералы будут руководствоваться фашистским девизом: «Тот, кто не часть решения, тот часть проблемы». В любом случае безопасной гавани, позволяющей укрыться от либеральной идеологии, не существует. Поэтому в_расовом вопросе либерализм стал разновидностью мягкого тоталитаризма, а мультикультурализм — механизмом либеральной унификации. Если вы не разделяете единогласного мнения либерального большинства, вы становитесь источником зла или его пособником. Это логика национальной общности в политкорректном изложении.
Теперь, конечно, к вам не придут из гестапо и не поволокут в исправительный лагерь, если вы видите мир по-другому; если вы не думаете, что такая категория, как многообразие, тесно связана с цветом кожи, и не верите, что единственное законное общество — это то, где «мы все вместе». Но вас вполне могут отправить на консультацию к психологу или на тренинг по восприимчивости.
Глава 8. Экономика либерального фашизма
В последние годы либералам удалось сформулировать общепринятую точку зрения в отношении экономики: «корпорации слишком сильны», они «мертвой хваткой» держат за горло «систему», которая до основания поражена развращающим влиянием коммерции. Все либеральные периодические издания в Америке, от Nation и New Republic до New York Times, в той или иной степени разделяют эту точку зрения. Чем левее, тем в более карикатурной форме выражается позиция по этому вопросу. Так, например, в 2000 году Билл Мар появился на национальном съезде Республиканской партии в дешевом спортивном костюме с корпоративными логотипами, намекая на то, что республиканцы являются марионетками Уолл-стрит или чем-то в этом роде. Арианна Хаффингтон[509] якобы перешла из правого лагеря в левый вследствие отвращения к корпоративным «свиньям у корыта». Уильям Грейдер, Кевин Филлипс, Роберт Райх, Джонатан Хайт и все остальные ностальгирующие по Чарльзу Бирду «левые» американцы придерживаются аналогичных взглядов. Нас убеждают, что корпорации являются правыми по своей сути, и если их не остановить, то благодаря этим вредным и безответственным организациям мы окажемся в опасной близости к фашизму. Благородная борьба с этими нечестными «корпоративными казначеями» стала частью вечной битвы за то, чтобы фашизм (каким бы расплывчатым ни было это понятие) не смог прийти к власти.
В начале 1930-х годов сложилась традиция видеть в представителях крупного бизнеса — «промышленниках», «экономических роялистах» или «финансовой верхушке» — настоящих волшебников из фашистской «страны Оз». Современные либералы — это всего лишь последние преемники этой традиции. Например, в склонных к заговорам левых кругах считается хорошим тоном называть «нацистами» республиканцев в целом и Джорджа Буша в частности. Такие обвинения предположительно основываются на широко распространенной легенде о том, что дедушка Буша принадлежал к числу промышленников, которые «финансировали» Гитлера[510]. Но даже за пределами этого «малярийного болота» мысль о том, что либералы должны внимательно следить за тяготеющим к фашизму крупным бизнесом, ни у кого не вызывает сомнений. Роберт Ф. Кеннеди-младший писал об этом: «Подъем фашизма в Европе в 1930-е годы позволяет увидеть, как власть корпораций может подорвать демократию». Муссолини сетовал, что «фашизм на самом деле следовало бы называть корпоративизмом». Сегодня Джордж Буш и его приспешники относятся к нашей стране, как к мешку с призами для «баронов-разбойников». Так считает огромное количество людей. По словам Нормана Мейлера, Америка уже стала «почти фашистским» обществом, которым управляют корпорации и их прислужники из Республиканской партии. Политолог Теодор Лоуи заявил, что республиканцы — это «дружелюбные фашисты, главное стремление которых — объединение правительства и корпораций». Канадский писатель Джон Ралстон Саул утверждает в своей книге «Бессознательная цивилизация» (The Unconscious Civilization), что мы живем в корпоративистском фашистском обществе, но не хотим этого видеть. Саул сетует, что руководители корпораций по большей части «верные последователи Бенито Муссолини»[511].
Данный коллективный диагноз во многом верен, однако эти люди, претендующие на роль врачей, неправильно определили как симптомы, так и саму болезнь. В своей постоянной готовности дать отпор фашизму представители левых сил на самом деле создали его, хотя это и фашизм с дружелюбным лицом. Подобно средневековому врачу, который считал, что ртуть излечивает безумие, они только способствуют болезни, которую надеются преодолеть. Хорошая медицина, как и хорошая экономика, основывается на отказе от недоказанных домыслов. Тем не менее в течение почти столетия представители левого фронта и либералы используют руководства, в которых содержится множество утверждений, противоречащих фактам. Эти мифы образуют запутанный клубок. Как отдельные нити в него вплетены явно ложные представления о том, что крупный бизнес по своей сути является правым или консервативным (в американском понимании); что европейский фашизм был инструментом крупного бизнеса и лучший способ не допустить разлагающего влияния деловых кругов на правительство заключается в жестком контроле всех аспектов их деятельности со стороны правительства.
На самом деле, если определять термины «правый» или «консервативный» согласно принятой в Америке практике ассоциировать эти понятия с поддержкой власти закона и свободного рынка, то можно утверждать, что чем «правее» некоторое предприятие, тем оно менее фашистское. Между тем применительно к экономической политике по мере приближения к центру современной американской политической системы мы оказываемся все ближе к настоящему фашизму. Если считать, что слева у нас находится социализм, а справа — принцип свободы торговли, то истинными фашистами оказываются избегающие прямых высказываний центристы из совета руководства Демократической партии и Института Брукингса, потому что именно они основываются на типичном для фашизма принципе «третьего пути», который не является ни левым, ни правым[512]. Еще важнее тот факт, что эти мифы увековечивались специально для того, чтобы ускорить преобразование американского общества как раз в такое фашистское (или корпоративистское) государство, против которого выступают либералы. В определенной степени мы действительно живем в фашистской «неосознающей цивилизации», но мы оказались в ней благодаря сознательным усилиям либералов, которые заинтересованы в таком положении вещей[513].
Кому это выгодно?
Миф о том, что фашизм — это один из инструментов крупного бизнеса, был одним из самых популярных в прошлом веке. Его многократно использовали голливудские режиссеры, огромное количество журналистов и целые поколения ученых (исключение составляли историки, специализировавшиеся в данной области). Но, как сказал Честертон, заблуждения не перестают быть заблуждениями просто потому, что они становятся модными.
Доктринерский марксизм-ленинизм определял фашизм как «наиболее реакционную и открыто террористическую разновидность диктатуры финансового капитала, установленной империалистической буржуазией для того, чтобы сломить сопротивление рабочего класса и всех прогрессивных элементов общества». Троцкий, поклонник Муссолини, признавал, что фашизм — «движение плебейское по своей сути», но при этом оно всегда «направляется и финансируется влиятельными капиталистическими кругами»[514]. Такое толкование было предопределенным, поскольку к 1920-м годам коммунисты уверовали в то, что они являются свидетелями значительно запоздавшего краха капитализма. В соответствии с пророчествами Маркса предполагалось, что капиталисты не просто исчезнут с наступлением новой социалистической эпохи, а будут бороться за свои интересы. Когда фашизм в Италии оказался успешным, провидцы-коммунисты просто заявили: «Свершилось!». На IV конгрессе Коминтерна в 1922 году, менее чем через месяц после «похода на Рим» (задолго до консолидации власти в руках Муссолини), собравшиеся вместе коммунисты признали эту интерпретацию правильной, почти не вдаваясь в детали данного вопроса.
Слух о том, что их бывший товарищ предал движение за «тридцать сребреников», который распространили побежденные итальянские красные, сделал этот миф еще более правдоподобным. Убежденные в том, что только они одни были на стороне народа, красные отвечали на каждое политическое поражение вопросом: «Cui Bono?» («Кому это выгодно?»). Подразумевалось, что это было выгодно правящим капиталистам. Таким образом, слово «фашизм» стало употребляться сплошь и рядом в качестве ярлыка для обозначения «отчаявшихся капиталистов».
С тех пор всякий раз, когда левые силы терпели политическое поражение, они кричали: «Фашизм!» — и утверждали, что все дело в «жирных котах», которые тайно дергают за ниточки. Макс Хоркхаймер, марксист фрейдистского толка из Франкфуртской школы, заявил о том, что антикапиталистические теории фашизма просто не стоило принимать в расчет: «Тому, кто не готов говорить о капитализме, не следует заводить речь о фашизме». «В основе всех социалистических теорий фашизма, — пишет историк Мартин Китчен, — лежит мысль о тесной связи между фашизмом и промышленностью». Генри Эшби Тернер из Йельского университета называет это «идеологической смирительной рубашкой», которая ограничивает практически всех ученых, испытавших влияние марксизма. «Почти все без исключения... эти труды, подобно работам ортодоксальных марксистов, отличаются чрезмерной зависимостью от сомнительных, если не мошеннических, научных теорий, а также вопиющим искажением фактографической информации»[515]. В самом деле, нет никаких доказательств того, что Муссолини был «пешкой» монолитного «крупного капитализма». Поддерживая фашизм в неодинаковой степени, крупный бизнес был разобщен до тех пор, пока Муссолини не захватил власть. Кроме того, многие фашистские интеллектуалы открыто презирали капитализм и экономику свободной конкуренции.
Эта социалистическая мифология приняла еще более грубые формы с появлением нацизма. Успех Гитлера ужаснул коммунистов, но не потому, что сами они были тихими и безобидными. Тактики нацистов в 1920-е годы были не более варварскими, чем тактики коммунистов. Красных привел в ужас тот факт, что «коричневые» добились больших успехов, чем они сами. Подобно тому, как представители торговой сети «Мэйси» поливали грязью владельцев магазина «Гимбелс», большевики и их сторонники развернули отчаянную кампанию по дискредитации нацизма. Марксистские пророчества также оказались весьма эффективными средствами пропаганды. Сталин лично отдал приказ никогда не использовать слово «социалист» применительно к фашистам (несмотря на то что фашисты обычно относили себя к социалистам) и позже в соответствии с доктриной социал-фашизма поручил своим последователям называть все конкурирующие прогрессивные и социалистические идеологии «фашистскими». Между тем периодические издания левого толка в Германии и во всех западных странах стали распространять ложные слухи о том, что «безумного капрала» и его коричневорубашечников финансируют немецкие промышленники. Благодаря успеху этой пропагандистской кампании либералы продолжают связывать капитализм и нацизм, крупный бизнес и фашизм.
Как мы уже убедились, это полный вздор. Национал-социалистическая немецкая рабочая партия была во всех отношениях массовой популистской партией. Ее лидеры постоянно делали характерные для социалистов громкие заявления о необходимости отнять богатство у богатых. В гитлеровской Mein Kampf содержится множество нападок на «жаждущих дивидендов бизнесменов», «жадность», «жестокость» и «близорукая ограниченность» которых разрушали страну. Гитлер решительно встал на сторону профсоюзного движения в борьбе против «бесчестных работодателей». В 1941 году он все еще называл представителей крупного бизнеса «разбойниками» и «хладнокровными стяжателями», которые постоянно жалуются на то, что им не удается добиться своего. Когда левые заявили, что Гитлер получает финансовую помощь от капиталистов, он ответил, что это не более чем «грязная ложь». В частности, представители немецких левых сил утверждали, что довольно известный капиталист Гуго Стиннес является тайным покровителем Гитлера. Это обвинение до сих пор не имеет подтверждения. Услышав об этом, Гитлер пришел в ярость. Ведь до этого он очернял Стиннеса в своих речах и статьях в течение достаточно продолжительного времени. Мнение Стиннеса о том, что проблемы Германии решит улучшение экономического положения, а не политическая революция, Гитлер считал кощунственным[516].
Также необходимо признать, что, когда Гитлер был первым среди равных в нацистской партии в 1920-е годы, его товарищи тоже высказывались в поддержку «движения». И рядовые радикалы из «старой гвардии» были популистами, решительно настроенными против представителей крупного бизнеса. После захвата власти радикалы из профсоюза нацистской партии пригрозили поместить ведущих представителей деловых кругов в концентрационные лагеря, если они не увеличат заработную плату рабочим. Вряд ли подобного можно было ожидать от партии, которую спонсировал крупный бизнес все это время.
По данным авторитетного исследования Генри Эшби Тернера, на протяжении 1920-х годов нацисты не получали сколько-нибудь существенной поддержки от немецких (или иностранных) промышленников. Некоторые успешные профессионалы, коммерсанты и представители малого бизнеса оказывали номинальную финансовую поддержку, но это, как правило, было обусловлено причинами неэкономического характера, такими как ярый антисемитизм и популистский экстаз. Главными источниками пополнения казны нацистов были членские взносы и небольшие пожертвования сочувствующих. Остальную часть составляла выручка от продажи пользовавшихся спросом в 1920-е годы аналогов наклеек на бампер и футболок. Нацисты продавали на улицах коричневые рубашки и флаги национал-социалистической партии. Они также размещали свою символику на пачках сигарет (несмотря на ненависть Гитлера к ним) и даже на маргарине. Они брали деньги за посещение партийных митингов, которые на самом деле представляли собой молодежные «мероприятия». Представители иностранных СМИ также платили за интервью с Гитлером, что приносило все больший доход по мере роста его известности. «По сравнению с постоянным притоком денег в виде членских взносов и различных пожертвований от рядовых нацистов, — поясняет Тернер, — средства, которые попадали в партийную казну при участии крупного бизнеса, имели в лучшем случае второстепенное значение»[517].
Если Гитлер и принимал какую-то финансовую поддержку от богатых доноров, то, скорее, из-за стремления к радикальному шику, а не из желания сохранить капиталистическую систему. Эдвина Бехштайна и Гуго Брукманна часто называют в числе тех, кто оказывал нацистам материальную помощь. Но они были связаны с Гитлером только через своих жен, Элен и Эльзу. Эти дамы бальзаковского возраста были представительницами высшего общества Мюнхена. Хотя они всегда соперничали, их объединяли любовь к вагнеровской опере и страстное увлечение пылким радикалом, который заставлял их испытывать экстаз, когда, посещая их салоны, оставлял в прихожей свой пистолет в кобуре и кнут и проявлял осведомленность в самых разных вопросах — от Вагнера и большевизма до евреев. Каждую из дам приводили в ярость слухи о том, что кнут Гитлеру подарила ее соперница. На самом деле Гитлер получил в подарок по кнуту от каждой из них и при этом уверял и ту, и другую, что носит с собой именно ее подарок. Такие истории больше напоминали отчет Тома Вулфа об организованном Леонардом Бернштейном мероприятии по сбору средств для «Черных пантер», чем заседание некого тайного общества, на котором отпрыски международного капитализма планировали использовать Гитлера как меч для отражения «красной угрозы». В итоге мужья вложили в любимый проект своих жен некоторое (но не очень значительное) количество денег. А Гитлеру по-прежнему приходилось ездить на выступления в кузове старого пикапа.
Фашистская сделка
Многие либералы правы, негодуя по поводу сговора правительства и корпораций. Небезосновательно и их осуждение особых условий для корпораций Halliburton и Archer Daniels Midland, которые свидетельствуют о подступающем фашизме. При этом они совершенно не понимают, что это та система, которую они создали. Это та система, которая им нужна. Это система, в поддержку которой они выступают.
Любое обсуждение экономических вопросов в настоящее время обычно характеризуется двухпартийным идиотизмом. Демократы хотят «обуздать» корпорации, в то время как республиканцы заявляют о своей приверженности интересам деловых кругов. Проблема заключается в том, что приверженность интересам деловых кругов вряд ли может считаться тождественной поддержке принципов свободного рынка, в то время как стремление «обуздать» корпорации создает как раз такой климат, который либералы осуждают как фашистский.
Фашистская сделка выглядит примерно так. Государство говорит промышленнику: «Ты можешь продолжать заниматься делами и владеть своими заводами. В знак сотрудничества и единства мы даже гарантируем тебе прибыль и отсутствие серьезной конкуренции. Взамен мы ожидаем согласия с нашей политической программой и помощи в ее осуществлении». Моральное и экономическое содержание программы зависит от характера режима. Представители левых сил, основываясь на поддержке немецкими деловыми кругами нацистской военной машины, пришли к выводу, что деловые круги всегда поддерживают войну. Точно такого же мнения они были и об американских бизнесменах после Первой мировой войны, утверждая, что, поскольку производители оружия получили выгоду от войны, ответственность за нее ложилась на военную промышленность.
Возникает большое желание назвать кровосмесительные отношения между корпорациями и властными структурами фашистскими. В сущности, я делаю это прямо сейчас. Проблемы начинаются, если видеть в таких договоренностях правую сущность[518]. Если сговор крупного бизнеса и правительства рассматривать как факт правого толка, то Франклин Делано Рузвельт был консерватором. Если корпоративизм и пропагандистский милитаризм объявить фашистскими, то фашистами следует назвать Вудро Вильсона и тех, кто воплощал в жизнь «Новый курс». Если считать представителями правого лагеря или консерваторами тех, кто выступает за свободный рынок, конкуренцию, права собственности и другие политические ценности, отражающие изначальные намерения американских отцов-основателей, то крупный бизнес в фашистской Италии, нацистской Германии и Америке времен «Нового курса» не был правым; он был левым, и он был фашистским. Более того, он по-прежнему является таковым.
С самого начала «Прогрессивной эры» реформаторы создали целую армию «соломенных чучел»[519] и сотворили множество мифов для того, чтобы оправдать размывание границы между бизнесом и государственной властью. Согласно учебнику по основам гражданственности Эптон Синклер и его коллеги — «разгребатели грязи» породили волну общественного негодования против жестоких злоупотреблений в мясоконсервной промышленности, в результате чего Тедди Рузвельт и его коллеги-прогрессивисты быстро обуздали вышедшую из-под контроля промышленность. Точно в таком же ключе подаются достижения других «разгребателей», в том числе симпатизировавших Муссолини культовых журналистов Иды Тарбелл и Линкольна Стеффенса. Эта история передается из поколения в поколение студентами факультетов журналистики, которые мечтают предать суду общественности преступления корпораций, способствуя тем самым проведению правительственных «реформ».
Проблема в том, что это совершенно неверно. И этот факт открыто признавал сам Синклер. «С исторической точки зрения система контроля качества производимого мяса была создана по просьбе владельцев мясокомбинатов, — писал Синклер в 1906 году. — Она поддерживается и оплачивается гражданами Соединенных Штатов в интересах владельцев мясокомбинатов». Историк Гэбриэл Колко соглашается: «Суть дела, конечно, в том, что крупные мясокомбинаты были сторонниками законодательного регулирования отрасли, особенно когда принимаемые постановления в первую очередь затрагивали их бесчисленных мелких конкурентов». Представитель «большого мяса» (как мы могли бы назвать это сегодня) заявил Конгрессу: «Мы всегда были сторонниками расширения контроля за качеством мяса, а также принятия санитарных норм, которые позволят создать наилучшие условия для обеспечения качества». Крупнейшие производители мясных продуктов понимали, что система федерального контроля станет эффективным инструментом продвижения их продукции на рынке и в конечном счете — отраслевым стандартом. Мелкие фирмы и мясники, которые завоевали доверие потребителей, будут вынуждены нести обременительные затраты для соблюдения данных требований, в то время как крупные фирмы не только смогут покрывать расходы эффективнее, но также получат возможность позиционировать свои продукты как более качественные в сравнении с продукцией несертифицированных производителей[520].
Эта история неоднократно повторяется на всем протяжении «Прогрессивной эры». Пользовавшиеся дурной репутацией владельцы крупных предприятий сталелитейной промышленности — наследники «баронов-разбойников» XIX века — по большей части приветствовали государственное участие в делах отрасли. Всем известна история о том, как правительству пришлось вмешаться, чтобы ограничить аппетиты хищных монополий. На самом деле все было почти наоборот. Крупные производители стали очень испугались, решив, что свободная конкуренция приведет к разрушению их хищных монополий, поэтому они попросили помощи у правительства, которое с радостью пошло им навстречу. Руководство корпорации U.S. Steel, в состав которой входило 138 сталелитейных заводов, было озадачено падением прибыли компании в условиях жесткой конкуренции. В ответ председатель U.S. Steel, судья Элберт Гэри, созвал в 1907 году в отеле Waldorf-Astoria совещание ведущих металлургических компаний, чтобы подписать «джентльменское соглашение» о фиксации цен. Представители министерства юстиции Тедди Рузвельта присутствовали на этой встрече. Тем не менее принятые соглашения не принесли желаемых результатов, так как некоторые фирмы в нарушение договоренности реализовывали свою продукцию по заниженным ценам. «Потерпев неудачу в области экономики, — отмечает Колко, — руководство группы компаний U.S. Steel было вынуждено обратиться к политике». К 1909 году стальной магнат Эндрю Карнеги высказался на страницах New York Times в пользу «государственного контроля» в сталелитейной промышленности. В июне 1911 года судья Гэри заявил, обращаясь к Конгрессу: «Я считаю, что нам необходимо прибегнуть к принудительной гласности [социализации] и государственному контролю... даже в вопросах ценообразования». Демократы, продолжавшие цепляться за теорию классического либерализма, отклонили это предложение как «наполовину социалистическое»[521].
Достаточно взглянуть на «Обетование американской жизни» Кроули, чтобы понять, что прогрессивная экономическая система была фашистской по своей сути. Кроули с презрением относился к конкуренции. Правительственные меры против трестов были дурацкой затеей. Кроули считал, что, если корпорация укрупнилась настолько, что стала монополией, ее не следовало разделять; скорее, ее следовало национализировать. «Крупный бизнес вносит огромный вклад в американскую экономику, чтобы повысить ее эффективность», — пояснял он. «Сотрудничество» было девизом Кроули. «Все цивилизованные общества должны стремиться к замене методов ведения конкурентной борьбы на сотрудничество»[522], — писал он. С философской и практической точек зрения Кроули выступал против самого принципа нейтрального господства права по отношению к бизнесу. Так как целью любого законодательства в конечном счете являлось обеспечение преимущества одних интересов над другими (точка зрения, возрожденная критически настроенными теоретиками в области права более чем столетие спустя), государство должно отказаться от принципа нейтралитета, заменив его «национальной» программой, которая исходит из преимущества общественного блага перед личным.
Как мы уже знаем, Первая мировая война оказалась прекрасной возможностью для реализации программы Кроули. Крупный бизнес и администрация Вильсона сформировали Совет национальной обороны, который, по словам Вильсона, предполагал реорганизацию «всего механизма промышленности... наиболее эффективным способом». «Мы надеемся, — пояснял глава Hudson Motor Car Company Говард Коффин в письме к руководству компании Du Pont, — что нам удастся заложить основы для этой тесно сплоченной структуры, промышленной, гражданской и военной, которая, как понимает каждый здравомыслящий американец, имеет не меньшее значение для будущей жизни этой страны в мирное время и в делах торговли, чем в возможной войне»[523].
Когда началась война, преимущественно на основе Совета национальной обороны было сформировано Военно-промышленное управление. Возглавляемое «людьми, работавшими за доллар в год» из мира финансов и бизнеса, Военно-промышленное управление устанавливало цены, торговые квоты, заработную плату и, конечно же, прибыль. Торговые ассоциации создавались в духе синдикализма. «Бизнес определял границы своего влияния, налаживал связи и управлял процессом собственного подчинения государству», — писал член Военно-промышленного управления Гросвенор Кларксон, который фиксировал эти события. Целью данной инициативы являлась «концентрация торговли, промышленности и всех полномочий правительства». «Историки пришли к выводу, — пишет Роберт Хиггс, — что эти бизнесмены, ставшие чиновниками, использовали свое положение для создания и реализации аналогов картельных соглашений в различных отраслях промышленности»[524].
Многие промышленники хотели, чтобы Военно-промышленное управление продолжало действовать после Первой мировой войны, и политики, в том числе Герберт Гувер, пытались исполнить их желания. Война, какой бы ужасной она ни была, доказала эффективность национального планирования. Стюарт Чейз, который придумал словосочетание «Новый курс», главным образом ссылался на две модели, с которых необходимо было брать пример Америке: советский Госплан и «военный коммунизм» периода Первой мировой войны. Рексфорд Тагуэлл констатировал, что невмешательство «растаяло в яростном свете новой националистической концепции»[525].
Пропаганда «Нового курса» (направленного против «баснословно богатых злодеев» и им подобных), напротив, была всего лишь попыткой Рузвельта воссоздать корпоративизм последней войны. Адепты «Нового курса» предлагали всем отраслям промышленности самостоятельно составлять кодексы «честной конкуренции», призванные регулировать их деятельность (во многих случаях такие предложения были ответом на соответствующие просьбы). Национальная администрация восстановления прикладывала еще больше усилий, принуждая представителей различных отраслей промышленности устанавливать единые цены и совершать иные сговоры. Национальная администрация восстановления утвердила 557 основных и 189 дополнительных правил, охватывающих примерно 95 процентов всех рабочих промышленых отраслей.
Все эти меры всячески способствовали дальнейшему росту крупного бизнеса и подавлению мелких предприятий. Например, владельцы сетей кинотеатров писали правила таким образом, что частные кинотеатры фактически теряли свою долю рынка, хотя 13 571 из 18 321 кинотеатра в Америке находились в частной собственности. Все больше мелких предприятий разорялись или по крайней мере оказывались в весьма невыгодном положении во имя «эффективности» и «прогресса». Кодексы «честной конкуренции» для предприятий, торгующих хлопком, шерстью, коврами и сахаром, были скопированы («вплоть до последней запятой») с текстов соглашений торговой ассоциации, разработанных администрацией Гувера. И почти в каждом случае крупный бизнес оказался победителем. «Практически во всех правилах, которые мы рассмотрели, — сообщил Кларенс Дэрроу в своем заключительном отчете по деятельности Национальной администрации восстановления Хью Джонсона, — повторялось одно и то же условие... Во многих отраслях промышленности более крупные предприниматели иногда с помощью... [торговой ассоциации], иногда другими способами написали кодексы “честной конкуренции” в собственных интересах, а затем взяли на себя исполнение этих правил. Мы можем полагать, что Рузвельт создал “Новый курс” из соображений заботы о “забытом человеке”. Но, по словам одного историка, “главным... был принцип: кто имеет, тому дано будет”»[526].
Более того, прагматизм и экспериментаторство Рузвельта, которыми так дорожили либералы в то время и которые они ценят сейчас, имели глубокую идеологическую основу: адептам социального планирования следовало позволить делать все, пока они не добьются желаемого результата. Турман Арнольд, теоретик, создавший новую «религию правительства» и директор антитрестовского отдела Рузвельта, ушел от типичной для либералов антипатии по отношению к картелям, монополиям и трестам, сделав акцент на потреблении.
Все это происходило с молчаливого согласия либерального истеблишмента, также известного как «новый класс» менеджеров, экспертов и технократов. Идея заключалась в том, что умные люди должны быть защищены от правил хаотического капитализма и вульгарной политики. «Передовой опыт» из таких областей, как предпринимательство и инженерное дело, следовало применить в политике. Эти схемы были известны под самыми разными названиями: синдикализм, фордизм, тейлоризм, технократия, но основа была одна. Бизнесмены разделяли эту новую общепринятую точку зрения. Джерард Своуп, президент компании General Electric, является типичным представителем бизнес-элиты с присущим ей экономическим мировоззрением. За год до того, как Рузвельт стал президентом, он опубликовал свою экономическую программу под скромным названием «План Своупа» (The Swope Plan). Согласно его концепции правительство должно было согласиться приостановить действие антимонопольных законов, с тем чтобы промышленные предприятия могли договариваться друг с другом и регулировать «производство для потребления». Промышленность станет «работать не как совокупность самостоятельных единиц, но в целом, в соответствии с '‘кодексами честной конкуренции”, выработанными ассоциациями предпринимателей... под контролем некоторого федерального агентства, подобного Федеральной комиссии по торговле». Предполагалось, что с введением «свопизма» (как его называли в правительственных и общественных кругах) на государственном уровне исчезнут все неопределенности для представителей крупного бизнеса и они смогут «идти вперед решительно, а не с опаской»[527].
Характер этого высказывания явно фашистский. Это очевидно сегодня, и тем более было совершенно ясно в то время. Работники аппарата «Нового курса» внимательно изучали корпоративизм Муссолини. Такие издания, как Fortune и достаточно либеральный Business Week, не уставали печатать хвалебные статьи об итальянском «эксперименте». «Корпоративное государство для Муссолини — это то же самое, что и “Новый курс” для Рузвельта», — объявил Fortune. Во время правления Гувера и в начале президентства Рузвельта ведущие независимые экономисты, являвшиеся приверженцами самых различных идеологий, отмечали черты сходства между итальянской, нацистской и американской экономической политикой. Уильям Уэлк, ведущий ученый итальянской фашистской экономики, писал в журнале Foreign Affairs, что кодексы «честной конкуренции» Национальной администрации восстановления кажутся точными копиями их итальянских аналогов, только итальянские фашисты уделяли гораздо больше внимания вопросам социальной справедливости[528].
Взгляд из-за рубежа был во многом таким же. «Нам до сих пор не сообщили, собирается ли Британский совет профсоюзов отказаться от благословления и поддержки американской инициативы по реформированию капитализма теперь, когда режим Рузвельта стал открыто и явно фашистским», — писал в New Leader Феннер Брокуэй, британский пацифист, социалист и журналист. Джузеппе Боттаи, бывший фашистским министром корпораций до 1932 года, написал для журнала Foreign Affairs очерк под названием «Корпоративное государство и Национальная администрация восстановления» (Corporate State and the N.R.A), в котором он предположил, что, несмотря на значительное сходство режимов, в итальянской системе условия для рабочего класса были лучше[529].
Нацисты также видели черты сходства. «Существует по крайней мере один официальный голос в Европе, который выражает понимание методов и мотивов президента Рузвельта, — так начинался один из репортажей New York Times в июле 1933 года. — Это голос Германии в лице канцлера Адольфа Гитлера». Немецкий лидер сказал корреспонденту New York Times: «Я испытываю симпатию к президенту Рузвельту, потому что он идет прямо к своей цели, минуя Конгресс, лобби и упрямых чиновников»[530]. В июле 1934 года газета нацистской партии Volkischer Beobachter характеризовала Рузвельта как «абсолютного властителя и господина» Америки, человека с безупречным, чрезвычайно ответственным характером и непоколебимой волей» и «сердечного народного вождя с глубоким пониманием социальных потребностей». Книги Рузвельта «Глядя вперед» (которая, как уже упоминалось, удостоилась положительной оценки самого Муссолини) и «На нашем пути» (On Our Way) были переведены на немецкий язык и пользовались большим успехом. Рецензенты очень быстро заметили черты сходства между политикой нацистов и «Новым курсом».
Так в чем состояла суть этой «революции сверху»? В экономической сфере она чаще всего обозначалась термином «корпоративизм», скользким словом, описывавшим разделение промышленности на объединенных общими целями экономических субъектов, гильдии и ассоциации, которые сотрудничают ради достижения «национальной идеи». Корпоративизм просто казался более честной и прямолинейной попыткой достигнуть того, что адепты социального планирования и предприниматели искали на протяжении десятилетий. Также получили распространение и другие названия — от «синдикализма» и «национального планирования» до привычного «третьего пути». Предполагалось, что новое чувство национальной идеи позволит представителям деловых кругов и рабочим отвлечься от темы классовых различий и вместе создать такую модель общества, которая устраивала бы всех, во многом так же, как считали специалисты в области военного планирования в Германии, Америке и на других западноевропейских странах. «Третий путь» представлял собой в значительной мере отказ от политики и вновь обретенную веру в науку и экспертов.
Изображение фасций передает дух этой идеи: сила в единстве. Корпорации или синдикаты, представляющие различные секторы экономики, должны были, подобно прутьям, связанным воедино, объединиться на благо «интересов общества»[531]. Фашисты соглашались с марксистами, что классовый конфликт являлся важнейшей проблемой экономической жизни. Различие (часто только на теоретическом уровне) было исключительно в путях разрешения данного конфликта. Ратуя за то, чтобы граждане считали себя немцами и итальянцами, а не рабочими или руководителями, приверженцы корпоративизма надеялись претворить в жизнь мысль Гитлера, «что не существует такого явления, как классы». Гитлер на самом деле верил в классы, принимая в плане культуры и политики сторону рабочих, а не капиталистов. Но он, как и большинство фашистов, считал, что классовые различия можно использовать во имя общего блага за счет националистического порыва. Следуя «третьему пути», общество должно было получить все преимущества капитализма без единого из свойственных ему недостатков. Предполагалось, что рынок не исчезнет, но будет ограничиваться «здоровыми» и «продуктивными» рамками. По словам итальянского фашистского генерального прокурора, сенатора Сильвио Лонги, «государство признает и гарантирует права личной собственности до тех пор, пока они осуществляются таким образом, который не противоречит преобладающим общественным интересам»[532].
«Я верю, — заявил Франклин Делано Рузвельт в 1932 году, — что человек должен иметь полную свободу действий, чтобы реализовать себя как можно полнее; но я не считаю, что во имя этого священного слова представителям нескольких влиятельных кругов должно быть позволено делать пушечное мясо для нужд промышленности из жизней половины населения Соединенных Штатов». Такая риторика в духе «третьего пути» также в изобилии присутствовала в нацистской пропаганде. В типичной редакционной статье, написанной 27 мая 1929 года, Геббельс объяснял, что партия «не против капитала, а против злоупотреблений финансами... Для нас собственность также свята. Но это не означает, что мы поем в один голос с теми, кто превратил понятие собственности в уродливое страшилище... Нация свободных и ответственных владельцев — такова цель немецкого социализма»[533].
Нацистская унификация
Фашизм представляет собой культ единства во всех сферах, а также между всеми сферами. Фашисты всячески стремятся убрать органические, юридические или культурные границы между семьей и государством, общественным и личным, бизнесом и «общественным благом». В отличие от коммунистического якобинства (или якобинского коммунизма, если хотите), экспроприировавшего собственность и ликвидировавшего традиционные институты для того, чтобы переделать общество с нуля, фашизм прагматично стремился сохранить все хорошие и естественные составляющие общества и в то же время подчинить его общему благу. Предприятия или учреждения, которые стояли на пути прогресса, для надежности следовало национализировать. Но если деловые круги сотрудничали с режимом, если они «вносили свой вклад», вполне можно было оставить в их руках принадлежавшие им небольшие заводы, банки и магазины.
Показательно, что корпоративизм во многом является наследником католицизма. В папской энциклике 1891 года Rerum Novarum[534] корпоративизм или синдикализм предлагался в качестве ответа на дезорганизацию, связанную с промышленной революцией. В 1931 году обновленная энциклика Anno Quadragesimo подтвердила принципы, сформулированные в Rerum Novarum. Эти два документа заложили основу прогрессивной католической социальной мысли. Заинтересованность церкви в корпоративизме проистекала из убежденности в том, что это был лучший способ вновь запустить средневековые социальные механизмы, которые делали человеческую жизнь более осмысленной.
Одним словом, корпоративизм был в значительной степени духовным проектом. И холодные безличные силы истории Маркса, и лишенная любви догма невидимой руки Адама Смита отвергались в пользу «третьего пути», давая возможность «забытому человеку» почувствовать, что для него есть место в общественном устройстве.
У нацистов было особое слово для обозначения этого процесса: Gleichschaltung[535]. Это слово из политического лексикона, заимствованное (как и многие другие) из инженерного дела, означало «согласование». Идея была проста: все социальные институты должны были работать вместе, как если бы они были частью одного механизма. Тем из них, которые соглашались с этой концепцией, государство предоставляло значительную свободу действий. «Островки индивидуализма» — будь то предприятия, церкви или люди — постепенно подавлялись. В реке прогресса не было места камням. По сути, все общество согласилось участвовать в фашистской сделке, в рамках которой граждане получали экономическую, моральную и политическую безопасность в обмен на абсолютную лояльность по отношению к идеалам рейха. Конечно, это была ложная безопасность; фашистская сделка — это сделка Фауста. По крайней мере люди думали, что они это получают.
Ключевым механизмом унификации являлся вождизм. В соответствии с принципом вождизма все гражданское общество должно было действовать как воинское формирование, каждая ячейка которого подчиняется своему командиру, который, в свою очередь, подчиняется своему командиру и т. д. вплоть до самого Гитлера. Для предприятий переход к этой системе не представлял особых трудностей, потому что они уже внедрили в своих организациях подобный принцип. В этом смысле немецкая деловая культура способствовала становлению нацизма, отчасти заложив основу для немецкого свопизма, а также опосредованно подготовив народное сознание к такой разновидности социального контроля, которую нацисты хотели навязать нации.
Концерн Krupp Konzem (всеми осуждаемый поставщик оружия для Третьего рейха) еще в XIX веке подготовил почву для фашистской сделки благодаря «Генеральным предписаниям» (General Regulations), разработанным Альфредом Круппом. В 1870 году Крупп гарантировал своим работникам медицинское обслуживание, школы, страхование жизни, компенсации, систему пенсионного обеспечения, больницы и даже дом престарелых. Его «Генеральные предписания» служили своего рода общественным договором между ним и его работниками. В обмен на их лояльность (т. е. отказ от участия в профсоюзах и социалистической агитации) Крупп дал своим рабочим все льготы, за которые боролись социалисты. «Иностранца вполне может удивить тот факт, — пишет Уильям Манчестер, — что “Генеральные предписания” Альфреда считались, а по существу продолжают считаться, либеральными. Впервые немецкая фирма в письменной форме сформулировала свои обязанности перед работниками»[536]. «Генеральные предписания» Круппа стали одним из важнейших прогрессивных документов для реформ в Пруссии Бисмарка и, как следствие, во многих западных странах. Сегодня компании, проводящие такую политику, получают льстивые отзывы в программе «60 минут».
Проводя в жизнь политику унификации, нацисты попросту расширили эти договоренности. Государство потребовало лояльности от Круппа и иже с ним в обмен на защиту государства. Это был, по существу, еще один способ сказать, что всех членов общества следовало сделать нацистами, т. е. политизировать, с тем чтобы каждый из них вносил свой вклад в общее дело. В результате предприятия стали приводными ремнями для нацистских пропаганды и ценностей. Нацистскую «войну с раком» поддержали фирмы, которые запретили курение. Нацистская война с алкоголизмом и увлечение Гитлера натуральными продуктами питания постепенно вынуждали отрасль, выпускающую напитки, производить меньше пива и алкоголя и больше натуральных фруктовых соков. Особое внимание уделялось детям. В 1933 году нацисты запретили рекламу алкоголя, адресованную детям. В 1936 году была реализована новая система сертификации, в соответствии с которой отдельные напитки и продукты питания помечались как «пригодные» или «непригодные» для детей. (Coca-Cola была признана непригодной для детей.) В том же году четвертая часть всех минеральных вод, произведенных в Германии, была изготовлена на пивоваренных заводах. В 1938 году глава министерства здравоохранения рейха Ганс Рейтер заявил, что отныне сладкий сидр становится официальным «народным напитком» Германии.
Нацисты, которые всегда пользовались значительной поддержкой чиновников, представляющих «профессии, связанные с оказанием помощи», получили особенно рьяных пособников в лице работников здравоохранения. В стране, где демократия и гражданские свободы были отринуты, а специалисты — врачи, инспекторы и «эксперты в области промышленной гигиены» — были поставлены на руководящие должности с беспрецедентными полномочиями, нацисты предложили этим людям столь желанную возможность «выйти за пределы политики». Например, руководство входившего в состав рейха Комитета по борьбе с раком провозгласило в своем первом ежегодном докладе: «1933 год был решающим в войне против рака: национал-социалистическая революция создала принципиально новые возможности для проведения радикальных мер в области, которая до сих пор была довольно ограниченной... Энергичное и единодушное участие медицинских работников стало свидетельством того, что в новой Германии открылись новые пути для борьбы с раком»[537].
Масштабные кампании по охране общественного и нравственного здоровья проводились в жизнь для создания безопасных условий труда наряду с производством полезных натуральных продуктов питания, мерами против жестокого обращения с животными и иными прогрессивными достижениями. Хотя многие из этих реформ были навязаны социальными инженерами сверху с согласия предпринимателей, которым больше не приходилось беспокоиться о внедрении таких дорогостоящих изменений, нацисты также прилагали значительные усилия для поддержки и стимулирования потребности в таких реформах снизу. Все, от беднейшего работника до самого состоятельного магната, должны были в теории и на практике разделять убеждение, согласно которому тот, кто не является частью решения, является частью проблемы. Немецких потребителей также всячески побуждали покупать продукты, которые способствовали «общему благу».
Даже язык заставили служить тому, что можно назвать только нацистской политкорректностью. Виктор Клемперер, преподаватель романских языков в Университете Дрездена, уволенный по причине еврейского происхождения в 1935 году, посвятил свою жизнь описанию постепенных изменений речи и повседневной жизни вследствие политики унификации. «Механизация личности, — пояснял он, — в первую очередь проявляется в “унификации”». Он наблюдал за тем, как словосочетания вроде «погода Гитлера» для описания солнечного дня проникали в повседневную речь. Нацисты «изменили значения, частотность слов [и] ввели в обиход те слова, которые ранее употреблялись отдельными лицами или небольшими группами людей. Они конфисковали слова, чтобы использовать их в партийной речи, наполнили многие слова, словосочетания и предложения своим ядом. Они заставили язык служить своей страшной системе. Они поработили слова и превратили их в свои самые эффективные средства пропаганды, получившие максимальное распространение и в то же время наиболее скрытые»[538].
Массовая культура — от телевизионных программ и фильмов до маркетинга и рекламы — стала важнейшим средством для достижения данной цели. Киностудии выразили особое желание сотрудничать с режимом, который ответил взаимностью. Геббельс придавал большое значение этому виду СМИ, полагая, что «кинофильмы — это одно из самых современных и эффективных средств воздействия на массы». Но он заверил представителей киноиндустрии, что правительство не планирует национализировать эту отрасль. Предполагалось, что это будет партнерство государственного и частного секторов. «Мы не намерены препятствовать постановке фильмов, — сказал он руководителям киностудий в своем первом обращении к представителям данной отрасли, — мы также не хотим вмешиваться в деятельность частных предприятий; напротив, национальное движение призвано стать мощным стимулом для развития отрасли»[539]. Киноиндустрия сотрудничала с правительством официально и неофициально, выпуская для немецких зрителей преимущественно фильмы, отвлекающие от проблем реальной жизни, а также большое количество аллегорических фильмов, восхваляющих Гитлера. Задачей этих фильмов было незаметно заставить зрителей изменить свое мнение не только, например, об евреях и о внешней политике, но и о том, что значит быть человеком в современном мире.
Несмотря на полный контроль нацистов над обществом, многие по-прежнему считали, что монополии остаются безнаказанными. Гиммлер был особенно удручен медленными темпами реализации его усилий по преобразованию системы питания немцев: «Повсюду ненатуральное; везде продукты питания фальсифицируются с добавлением ингредиентов, которые якобы позволяют продуктам дольше храниться, или лучше обеспечивают товарный вид, или рекламируются как “витаминизированные” и обладающие такими свойствами, какими их хотят наделить специалисты по рекламе... [Мы] находимся во власти продовольственных компаний, экономическая мощь и реклама которых дают им возможность предписывать нам, как мы должны питаться... После войны мы приложим максимум усилий для предотвращения уничтожения нашего народа пищевой промышленностью»[540]. Здесь мы можем увидеть жесткую суть тоталитаризма в духе «третьего пути». Каждая проблема в жизни того или иного члена общества считается закономерным следствием недостаточного участия учреждений или отдельных лиц в его судьбе. Если бы мы только могли повернуть переключатель на еще одно деление, то — щелк, и все встало бы на свои места и все противоречия оказались бы разрешенными.
Очевидно, что главной жертвой унификации стали евреи. Они были теми «чужими», на противостоянии которым нацисты основывали свое органическое общество. Экономические успехи евреев не давали покоя деловым кругам, и они стали принимать самое активное участие в «ариизации» общества — удобный повод для захвата предпринимателями еврейских холдингов и прекрасная возможность для немецких специалистов занять места евреев в учебных заведениях, искусстве и науке. Очень многие немцы просто отказывались выполнять свои долговые обязательства перед еврейскими кредиторами. Банки отказывали в праве выкупа закладных вследствие просрочки. «Стервятники» захватывали еврейские предприятия или предлагали выкупить их за копейки, отлично понимая, что евреи беззащитны. Они также доносили на своих конкурентов, заявляя, что фирма X прилагает недостаточно усилий по очистке своего бизнеса от «пятна иудаизма».
Ничего настолько ужасного не происходило в Соединенных Штатах и навряд ли могло произойти, даже если бы осуществились самые мрачные фантазии Хью Джонсона. Но в подходах нацистов и Национальной администрации восстановления Джонсона было больше сходства, чем различий. Головорезы Джонсона выламывали двери и бросали людей в тюрьму за отказ участвовать в программе синего орла. Головорезы Гитлера поступали точно так же. «Кто не с нами, тот против нас, — ревел Джонсон, — и доказательством того, что вы являетесь частью этой великой армии “Нового курса”, служит лояльность этому символу солидарности». Лозунг сторонников «Нового курса» «Мы вносим свою лепту» перекликался с нацистским лозугом «Общественные интересы важнее личных». В конце концов именно Стюарт Чейз, а не Альберт Шпеер заявлял в своей «Экономике изобилия» (Economics of Abundance) о необходимости создания «промышленного генерального штаба с диктаторскими полномочиями»[541].
Что касается поп-культуры, этот вопрос невозможно осветить настолько полно, как он того заслуживает. Творцы «Нового курса» вложили миллионы долларов, финансируя художников и писателей, которые в ответ на такую щедрость создали огромное количество художественных и литературных произведений, пропагандирующих идеологию «Нового курса». Но один эпизод представляет особую ценность, позволяя увидеть эту эпоху в истинном свете.
Как и многие другие известные американцы, медиамагнат Уильям Рэндолф Херст считал, что Америке нужен диктатор. Сначала он поддерживал кандидата от партии «Америка прежде всего» Джека Гарнера, но впоследствии переключился на Франклина Делано Рузвельта (и утверждал, что именно он обеспечил Рузвельту первое место на съезде Демократической партии). Решив, что лучший способ повлиять на Рузвельта (и на американский народ в целом) предполагал обращение к Голливуду. Он лично переработал сценарий, основанный на книге «Гавриил над Белым домом» (Gabriel Over the White House), по которому был снят одноименный фильмом с Уолтером Хьюстоном в роли президента Джадда Хаммонда.
Пропагандистское значение фильма невозможно переоценить. Хаммонд, фанатично преданный своей партии президент наподобие Гувера, попадает в автокатастрофу, после чего ему является архангел Гавриил. Выздоровев, он принимается с религиозным пылом творить добро на благо Америки. Он увольняет всех членов своего кабинета — лакеев большого бизнеса. Конгресс объявляет Хаммонду импичмент, а он в ответ на это предстает перед совместным заседанием и заявляет: «Нам нужны действия, немедленные и эффективные действия». После этого он приостанавливает полномочия Конгресса и «временно» берет законодательную власть в свои руки. Он приказывает сформировать новую «созидательную армию», которая подчиняется только ему, тратит миллиарды долларов на одну программу, подобную «Новому курсу», за другой и национализирует продажу и производство алкоголя. Встретив сопротивление со стороны бандитов, предположительно находящихся в союзе с его политическими врагами, он приказывает судить их военным трибуналом, который возглавляет его адъютант. Сразу же после слушания дела бандитов выстраивают вдоль стены за зданием суда и расстреливают. Одержав эту победу, Хаммонд пытается установить мир во всем мире, угрожая уничтожить любое государство, которое не подчинится ему или откажется от своих долгов перед Америкой. В конце фильма он умирает от сердечного приступа и получает признание как «один из величайших президентов в истории».
Одним из ответственных консультантов по сценарию этого фильма был кандидат в президенты от Демократической партии Франклин Д. Рузвельт. Он отвлекся от своей предвыборной кампании для прочтения сценария и предложил несколько существенных изменений, которые Херст включил в фильм. «Я отправляю это сообщение, чтобы поведать вам о том, как я доволен изменениями, внесенными в фильм “Гавриил над Белым домом”, — писал Рузвельт через месяц после утверждения в должности. — Я считаю, что это очень интересная картина, которая наверняка принесет много пользы»[542].
С тех пор Голливуд также охотно помогал либеральным начинаниям и политикам. Фильм «Дэйв» (Dave) с Кевином Клайном в роли великодушного популиста, который замещает перенесшего инфаркт (консервативного) президента и устраивает социально ответственный государственный переворот, — это фактически обновленный вариант того же самого замысла.
Либерально-фашистская сделка
Сегодня мы все еще живем в фашистской по своей сути экономической системе, созданной Вильсоном и Рузвельтом. Мы действительно живем в фашистской «бессознательной цивилизации», хотя фашизм этот вполне дружественный и гораздо более мягкий, чем фашизм гитлеровской Германии, Италии Муссолини или Америки Рузвельта. Эту систему я называю либеральным фашизмом.
Если бизнес процветает в условиях капитализма, то это не означает, что всех бизнесменов надо причислять к приверженцам капитализма. Бизнесменам — по крайней мере тем, которые стоят во главе очень крупных корпораций, — не нравится риск, а капитализм по определению требует риска. Капитал необходимо заставить работать на рынке, где нет никаких гарантий. Но бизнесмены по своей природе и в силу профессиональной подготовки всячески стремятся избегать неопределенных и рискованных ситуаций, поэтому как отдельная группа они являются не убежденными капиталистами, а оппортунистами в самом буквальном смысле[543].
Наиболее успешные предприниматели предпочитают не тратить время на политику. В течение многих лет как Wal-Mart, так и Microsoft заявляли, что Вашингтон их не интересует. Глава Microsoft Билл Гейтс хвастался, что он «из другого Вашингтона» и у него в столице есть один-единственный лоббист. Гейтс изменил свое мнение, когда правительство едва не разрушило его компанию. Юридический комитет Сената пригласил его в Вашингтон, округ Колумбия, с тем, чтобы он расплатился за свой успех, а сенаторы, по свидетельству New York Times, «пришли в необычайный восторг от того, что им удалось заставить самого богатого человека Америки беспокойно ерзать на стуле»[544]. В ответ Гейтс нанял целую армию консультантов, лоббистов, адвокатов, чтобы дать правительству отпор. На президентских выборах 2000 года Wal-Mart занимал 771-е место по объему пожертвований в пользу федеральных политиков. В последующие годы эта огромная розничная сеть стала вожделенной целью для политических объединений и правительственных чиновников. В 2004 году Wal-Mart считался крупнейшим корпоративным комитетом политических действий. В 2006 году он выступил с беспрецедентной инициативой по «обучению избирателей».
Историю Wal-Mart можно назвать «иронией судьбы». Одной из наиболее важных политических проблем для нацистов был рост магазинов розничной торговли. Они даже обещали в своей партийной платформе 1920 года национализировать крупные универсальные магазины — аналоги Wal-Mart. Пункт 16 гласит: «Мы требуем создания здорового среднего класса и его сохранения, немедленной национализации больших розничных магазинов и их сдачи в аренду по низким ценам мелким фирмам, приоритета мелких фирм при заключении контрактов с государством, окружными или городскими властями». Придя к власти, нацисты не полностью выполнили свои обещания, но они действительно запретили универмагам укрупняться — именно то, что современные критиканы хотели бы сделать с розничной сетью Wal-Mart. В Америке такие фашистские движения, как возглавляемый отцом Кофлином Национальный союз за социальную справедливость, также сделали своей мишенью универмаги, считая их причиной расслоения общества и источником негативных эмоций для среднего класса[545].
На примере сети супемаркетов Wal-Mart видно, как либералы используют слово «фашистский» для обозначения всего, на что не распространяется контроль государства. Например, журналист New York Daily News Нил Стейнберг назвал эту компанию «огромным фашистским зверем, встающим на задние лапы в поисках новых миров для завоевания»[546]. Как он предлагает победить этого фашистского зверя? Конечно же, пригласить его на ковер к правительству и накинуть на него узду государственного контроля. Стоит также отметить, что как Wal-Mart, так и Microsoft сочли необходимым защититься от Вашингтона не только потому, что правительство всячески стремилось вмешаться в их дела, а потому, что их конкуренты всемерно способствовали такому вмешательству.
Это одно из недооцениваемых последствий значительного увеличения власти государства. Пока существуют компании, желающие продаться Дяде Сэму, все предприятия будут испытывать принуждение к политической проституции. Если Acme может убедить правительство взяться за Ajax, у Ajax нет другого выбора, кроме как вынудить правительство не делать этого. По сути, политики стали похожи на биржевых маклеров, которые берут комиссию и с выигравших, и с проигравших клиентов. Конкуренты Microsoft очень желали, чтобы правительство разорвало эту корпорацию на части, так как это было им на руку. Такие методы получили широкое распространение в нацистской Германии. Сталелитейные компании, проявлявшие все меньше желания плясать под дудку нацистов, настаивали на дополнительных мерах по защите их автономии. В результате химические компании проявили себя лояльными по отношению к нацистам и забрали государственные контракты у сталелитейной промышленности.
Большинство компаний подобны пчелиным ульям. Если правительство не беспокоит их, они не беспокоят правительство. Если правительство вмешивается в бизнес, рои пчел летят в Вашингтон. Но все чаще в качестве «лекарства» от проблемы с пчелами либералы используют большую палку, которой они колотят по улью. Существуют сотни представителей, лоббирующих интересы медицинских компаний применительно к конкретным заболеваниям, специальностям и методам лечения, при этом каждая из этих компаний тратит огромные средства на прямое и опосредованное лоббирование и рекламу. Знаете ли вы, представители какой медицинской специальности не расходуют почти ничего? Ветеринары. Почему? Потому, что Конгресс практически не занимается регулированием этой отрасли[547]. Почему фармацевтическая промышленность выделяет столь значительные ассигнования на политиков и инспекторов, выступающих в качестве лобби? Потому, что их деятельность контролируется правительством настолько плотно, что они не могут принять ни одного важного решения без разрешения Вашингтона.
В связи с ростом и расширением полномочий правительства увеличилось и число предприятий, обращающихся к нему с ходатайствами. В 1956 году в Энциклопедии ассоциаций значилось 4 900 групп компаний. На сегодняшний день их уже более 23 тысяч. Следует иметь в виду, что Джон Коммонс, титан либеральной экономики, почти 70 лет назад высказал мнение о том, что рост влияния торгово-промышленных ассоциаций сделал нашу политическую систему фашистской! Конечно, не все эти группы являются формальными лоббистскими организациями, но все они тем или иным образом взаимодействуют с правительством или представляют его интересы. Между тем общее количество зарегистрированных лоббистов в США утроилось с 1996 года, причем только за последние пять лет оно увеличилось в два раза. На момент написания этой книги в Вашингтоне было примерно 35 тысяч зарегистрированных лоббистов. С 1970 по 1980 год, когда было создано 20 новых федеральных агентств, число юристов в Вашингтоне увеличилось примерно в два раза и составило приблизительно 40 тысяч[548]. Эти цифры не дают полного представления о реальных масштабах данного явления. Столицу США наводнили фирмы в области связей с общественностью, юридические фирмы, группы влияния и «мозговые центры», занимающиеся «косвенным» лоббированием прессы, общественных деятелей, членов Конгресса и других организаций для создания более благоприятной «среды для решения вопросов». Когда один из моих друзей-лоббистов приглашает меня в пивной бар, он называет это «программой помощи третьим лицам».
Корпорации давно обзавелись офисами в Вашингтоне, но раньше они считались захолустьем, местом, куда вы посылали Теда, если его пьянство создавало слишком много проблем, или отправляли Фила провести оставшееся время до выхода на пенсию. Теперь это огромные и очень профессиональные организации. В период с 1961 по 1982 год количество корпоративных офисов в Вашингтоне увеличилось в 10 раз. Оклады корпоративных лоббистов растут экспоненциально в течение последнего десятилетия.
В нацистской Германии компании доказывали свою лояльность государству, действуя как хорошие «корпоративные граждане», точно так же, как они делают это сегодня. Способы демонстрации этой лояльности существенно различались, а моральное содержание различных программ имело решающее значение. Давайте в интересах нашего обсуждения предположим, что ожидания нацистского режима по отношению к «хорошим немецким предприятиям» и ожидания Америки по отношению к руководителям корпораций различались очень значительно. Однако это не отменяет некоторого существенного сходства данных политических систем.
Рассмотрим, например, в значительной степени двухпартийный и продиктованный исключительно благими намерениями Закон об американцах-инвалидах, который во всем мире считается триумфом «хорошего» правительства. В соответствии с этим законом предприятия были обязаны принять ряд мер, от незначительных до более масштабных, для обеспечения комфортных условий для клиентов и сотрудников с ограниченными возможностями. Офисы следовало модернизировать для того, чтобы облегчить перемещение людей в инвалидных колясках. Различные знаки общего пользования должны были печататься шрифтом Брайля. Также предполагалось оборудование помещений устройствами, предназначенными для «людей с нарушением слуха». И так далее.
Теперь представьте, что вы являетесь генеральным директором компании Coca-Cola. Вы против этого закона главным образом потому, что эти мероприятия связаны с большими затратами, не так ли? Вовсе нет. Если вы знаете, что генеральному директору Pepsi придется реализовать те же самые нововведения, то это действительно не проблема для вас. Все, что вам нужно сделать, это прибавить буквально один цент (или даже часть цента) к стоимости банки кока-колы. Эти дополнительные расходы лягут на ваших клиентов и на клиентов Pepsi соответственно. Увеличение стоимости продукта не будет стоить вам доли рынка, потому что ваша цена по сравнению с ценой вашего конкурента почти не изменилась. Ваши клиенты, вероятно, даже не заметят повышения цены.
Теперь представьте, что вы владеете небольшой региональной компанией по производству безалкогольных напитков. Вы усердно работаете для достижения своей мечты в один прекрасный день выйти на один уровень с Coca-Cola или Pepsi. По сравнению с этими гигантами переоборудование ваших заводов и офисов для обеспечения комфортных условий для инвалидов обойдется вам дороже не только с точки зрения инфраструктуры, но и в плане издержек на урегулирование вопросов в области нормативно-правового соответствия (в компаниях Coca-Cola и Pepsi в отличие от вашей фирмы есть огромные юридические отделы). Планы по расширению или внедрению новых технологий придется отложить, потому что у вас нет возможности перенести свои расходы на клиентов. Или представьте, что вы владелец еще меньшей фирмы, который надеется захватить часть рынка у своих региональных конкурентов. Но у вас 499 сотрудников, а в интересах нашего обсуждения допустим, что Закон об американцах-инвалидах в полной мере распространяется на предприятия со штатом в 500 и более сотрудников. Если вы наймете еще одного, вы попадете под действие этого закона. Другими словами, наем одного работника, получающего 30 тысяч долларов в год, будет стоить вам миллионы.
Закон об американцах-инвалидах, безусловно, имеет благородные цели и заслуживает одобрения. Но такие благодетельные законы по своей природе дают преимущества крупным фирмам, объединяют их с политическими элитами и служат препятствием для мелких фирм. Более того, штрафы и затраты на бюрократические формальности, связанные даже с попытками уволить кого-либо, могут оказаться менее выгодными, чем гарантированная пожизненная занятость. Обязательства по выплате зарплаты в течение неограниченного времени однозначно неприемлемы для мелких фирм, в то время как крупные компании осознают, что они на самом деле стали «слишком большими, чтобы потерпеть неудачу», так как они де-факто уже стали «руками самого государства».
Пожалуй, наиболее показательным примером воплощения в жизнь фашистской сделки является сговор правительства с табачными компаниями. Следует напомнить, что в 1990-е годы табачные компании подверглись демонизации за продажу «единственного продукта, который при правильном использовании гарантированно убьет вас». Билл Клинтон и Альберт Гор поставили на кон огромный политический капитал в своей войне против «большого табака». Эта борьба «правых» корпораций с прогрессивными реформаторами регулярно освещалась на первых страницах газет и в вечерних новостях. Генеральный прокурор штата Техас провозгласил, что «современная табачная промышленность войдет в историю наряду с худшими империями зла человеческой цивилизации». Кристофер Леманн-Хаупт высказал в New York Time Book Review предположение о том, что «только рабство перевешивает табак в числе главных проблем в истории Америки». Руководители табачных компаний были «самой преступной, отвратительной, садистской и вырожденной группой людей на земле», по словам одного широко цитируемого сторонника борьбы с курением[549]. Эта обстановка способствовала принятию неконституционного постановления, в соответствии с которым представители «большого табака» соглашались выплатить 246 миллиардов долларов органам власти штатов. Почему табачные компании согласились с постановлением, которое стоило таких денег и вынуждало их размещать в средствах массовой информации рекламу, дискредитировавшую их продукцию, а также оплачивать образовательные мероприятия, призванные убедить детей не пополнять ряды их клиентов? Причина очень проста: это было в их интересах. Табачные компании не только получили возможность урегулировать соответствующие судебные иски; они купили согласие правительства на создание нового незаконного картеля. «Большой табак» поднял цены выше уровня расходов, предполагаемых данным соглашением, обеспечив себе значительную прибыль. Небольшие компании, которые отказались выполнять данное постановление, по-прежнему вынуждены совершать значительные выплаты в пользу государства. Когда эти фирмы начали процветать, уменьшив долю рынка крупных табачных компаний, законодательные органы штатов вмешались, вынуждая их платить еще больше. «Все штаты заинтересованы в снижении продаж... [табачных компаний, не выполняющих постановления] в каждом штате», — предупредил генеральный прокурор штата Вермонт своих коллег — генеральных прокуроров из других штатов. По сути, правительство создает такие условия, которые ущемляют интересы мелких компаний в целях поддержания высоких прибылей «большого табака». Возможно, все это кажется вам вполне естественным. Но в чем состоит рыночный подход в данном случае? Чем это отличается от корпоративизма фашистской Италии, нацистской Германии и Администрации национального восстановления Хью Джонсона?[550]
Вот истинная история крупного бизнеса от железных дорог XIX века и мясоконсервной промышленности во времена правления Тедди Рузвельта до возмутительного современного картеля «большого табака»: предположительно правые корпорации тесно сотрудничают с прогрессивными политиками и чиновниками из обеих партий, чтобы вытеснить предприятия малого бизнеса, ограничить конкуренцию, обеспечить себе значительную долю рынка и выгодные цены и в целом выступают в роли «правительства по доверенности». Многие из «боевых интеллектуалов» в команде Кеннеди были бизнесменами, которые считали, что страной должны управлять надпартийные эксперты, которые могут поставить на службу правительству возможности деловых кругов путем размывания границы между бизнесом и государственной властью. Крупный бизнес сплотился вокруг Линдона Джонсона, а не вокруг реального приверженца свободного предпринимательства Барри Голдуотера. Сторонники свободного рынка часто осуждают Ричарда Никсона за политику государственного регулирования цен и заработной платы, при этом мало кто помнит, что представители крупного бизнеса приветствовали эти меры. На следующий день после того, как Никсон обнародовал свою корпоративистскую программу, президент Национальной ассоциации промышленников заявил: «Смелый шаг, предпринятый президентом для укрепления американской экономики, заслуживает поддержки и сотрудничества всех групп»[551]. Усилия Джимми Картера по борьбе с энергетическим кризисом привели к созданию Министерства энергетики США, которое стало (и остается) копилкой для корпоративных кругов. Компания Archer Daniels Midland сумела извлечь миллиарды из экологической мечты о «зеленых» альтернативных видах топлива наподобие этанола.
Более того, теперь все мы являемся последователями Кроули. Кроули пояснял: «Если вы не собираетесь экспроприировать частные предприятия, но вместо этого желаете использовать бизнес для реализации вашей социальной программы, то вы должны стремиться сделать эти предприятия как можно более крупными». Что легче: впрячь в повозку пять тысяч кошек или пару огромных быков? Высказывания Альберта Гора о необходимости «приручения большой нефти» кажутся вполне уместными. Он не хочет национализировать «большую нефть»; он хочет заставить ее действовать в интересах его политической программы. По аналогии предложенные Хиллари Клинтон реформы в сфере здравоохранения, а также большинство предложений, выдвинутых ведущими демократами (и многими республиканцами), предполагают слияние большого правительства и крупного бизнеса. Экономические идеи, высказанные в книге Хиллари Клинтон «Нужна целая деревня» (It Takes a Village), проникнуты духом корпоративизма. «Некоторые из наших самых мощных телекоммуникационных и компьютерных компаний объединили свои усилия с правительством для реализации проекта, который предполагает подключение каждой учебной аудитории в Америке к сети Интернет, — с чувством заявляет она. — Социально ориентированные корпоративные философские системы — это путь к будущему процветанию и социальной стабильности»[552]. Чтобы понять, что либералы подразумевают под «социально ориентированными корпоративными философскими системами», Розеттский камень не потребуется.
Предком всех таких «философских систем», конечно же, является промышленная политика, призрак корпоративизма, воплотившийся в современном либерализме. В 1960 году президент Кеннеди призывал к «новому партнерству» с корпоративной Америкой. В 1970-х годах Джимми Картер агитировал за «реиндустриализацию» в рамках нового «общественного договора» в целях преодоления «кризиса конкурентоспособности». Молодой помощник в администрации Картера по имени Роберт Райх начал свою карьеру в качестве генератора политических неологизмов, создав такие яркие выражения, как «стимуляторы целевой аудитории» и «индикативное планирование». Позднее «атари-демократы»[553] в очередной раз заявили, что «будущее» заключается в «стратегическом партнерстве» между государственным и частным секторами.
В 1980-е годы зависть к корпоративной Японии достигла невероятных размеров. Интеллектуальные потомки тех, кто боготворил Пруссию Бисмарка и министерство корпораций Муссолини, теперь очарованы министерством международной торговли и промышленности Японии, которое вскоре стало путеводной звездой просвещенной экономической политики. Джеймс Фэллоус возглавил список звезд либеральной интеллигенции, таких, как Клайд Престовиц, Пэт Чот, Роберт Каттнер, Ира Магазинер, Роберт Райх и Лестер Тэроу, объединившихся в поисках Святого Грааля «сотрудничества» между правительством и деловыми кругами.
Райх был одним из пионеров движения «третьего пути». Более того, Микки Каус пишет, что риторика «третьего пути» является «самой раздражающей привычкой» Райха и его «характерным способом ведения спора»[554]. В 1983 году Райх написал книгу «Следующий американский рубеж» (The Next American Frontier), в которой он отстаивал «крайнюю разновидность корпоративизма» (по словами Кауса), где в обмен на «помощь в реструктуризации» со стороны правительства представители деловых кругов «соглашались не увольнять нанятых ранее работников». Рабочие становились де-факто гражданами своих компаний в системе отношений, которая очень напоминала «Генеральные предписания» Круппа. В жутком отголоске итальянской фашистской корпоративистской мысли корпорации должны были «в значительной степени заменить географические органы власти в качестве каналов государственной поддержки экономического и культурного развития». Все социальные услуги — здравоохранение, дневной уход, образование и т. д. — должны были предоставляться работодателем. Все это было не только хорошо, но и неизбежно, потому что «коммерческие предприятия, по словам Райха, быстро становятся центральными посредническими структурами в американском обществе, заменяя географические сообщества как источник социальных услуг и, по сути, средоточие общественной жизни»[555].
При этом почему-то оказывается, что в усилении власти корпораций над нашей жизнью заинтересованы не кто иные, как представители правых сил в экономике.
В 1984 году бывший стратег республиканцев Кевин Филлипс написал книгу «Сохраняя первенство: экономическое обоснование национальной промышленной стратегии» (Staying on Top: The Business Case for a National Industrial Strategy). «Бизнесменам, — предупреждал Филлипс, — следует отказаться от старых концепций невмешательства... Соединенным Штатам пора начинать планировать свое экономическое будущее», основываясь на новой концепции «третьего пути»[556]. Забавно, но Филлипс также утверждал, что С. П. Буш, прадед Джорджа У. Буша, был военным спекулянтом, потому что служил в Военно-промышленном управлении Вудро Вильсона, а оно является образом той системы, которую отстаивает Филлипс.
В 1992 году и Билл Клинтон, и Росс Перо воспользовались господствующим в обществе стремлением к «новому альянсу» между государством и бизнесом (в 1991 году 61 процент американцев высказались в поддержку отношений такого рода). «Без национальной экономической стратегии эта страна оказалась в свободном плавании — заявил кандидат Клинтон в типичной для него речи. — А в это время наши конкуренты объединились в стремлении решить национальные задачи по сохранению, стимулированию и увеличению числа высокооплачиваемых рабочих мест, обеспечивающих быстрый профессиональный рост». Стремлению Клинтона «инвестировать» сотни миллиардов долларов в реализацию его стратегического плана поддержки промышленности в конечном счете помешали Конгресс и дефицит федерального бюджета. Но его администрация на самом деле прикладывала много усилий для оказания помощи некоторым отраслям промышленности. Однако они не принесли ощутимых результатов, если не считать «открытия» Альбертом Гором сети Интернет. Предложенный Хиллари Клинтон злосчастный план реформирования здравоохранения ставил своей целью перемещение предприятий, оказывающих медицинские услуги, во Всемирную паутину. Там невозможно определить, где начинается правительство и заканчивается частный сектор. Малым предприятиям, подобным бедным работникам химчисток и разносчикам газет времен «Нового курса», просто пришлось пожертвовать своими интересами во благо других. В ответ на замечание о том, что ее план окажется разорительным для малого бизнеса, Клинтон заявила: «Я не могу сохранить каждое предприятие с недостаточным капиталом в Америке»[557].
Демократические и большинство республиканских планов реформирования здравоохранения не предполагают экспроприации частной собственности врачей и фармацевтических компаний или даже прекращения медицинского обслуживания за счет работодателя. Скорее, они хотят использовать корпорации в качестве правительства по доверенности. Либеральные экономисты не без причины в шутку называют General Motors поставщиком медицинских услуг, который в качестве побочного продукта выпускает автомобили.
General Motors, как это ни парадоксально, служит подтверждением марксистской логики. В соответствии с постулатами ортодоксального марксизма капиталистическая система становится фашистской, когда ее внутренние противоречия выходят на первый план. С точки зрения политической экономии эта концепция не выдерживает критики. Но на уровне розничной торговли она во многом верна. Отрасли, которые ранее с гордостью говорили о своей приверженности принципам свободного рынка, вдруг начинают склоняться в сторону протекционизма, «политики развития промышленности» и стратегической конкурентоспособности, как только они обнаруживают, что не могут выстоять в условиях рынка. Предприятия сталелитейной и текстильной промышленности, некоторые автомобильные компании — Crysler в 1980-е годы, General Motors сегодня, а также многие сельскохозяйственные фирмы заявляют, что государство и бизнес должны быть «партнерами» именно в тот момент, когда становится ясно, что они неконкурентоспособны. Они быстро становятся пленниками политиков, которые стремятся сохранить рабочие места или дотации или и то и другое. Эти «капиталисты на последнем издыхании» приносят стране большой ущерб, являясь причиной перекоса политического климата в сторону модифицированной разновидности национал-социализма и корпоративизма. Они бегут от хаоса капиталистической конкуренции в теплые объятия той экономики, которую создала Хиллари Клинтон в своем бестселлере. А она называет это «прогрессом».
Давайте посмотрим, например, какие секторы сельского хозяйства оказывают наибольшее давление на правительство и какие предпочитают не заниматься лоббированием. Крупные производители сельскохозяйственной продукции на Среднем Западе и во Флориде потратили миллионы для защиты своей отрасли от иностранной конкуренции (и конкуренции на внутреннем рынке) именно в силу своей преимущественной неконкурентоспособности. И рентабельность этих инвестиций оказалась очень высокой. В 1992 году несколько владельцев сахарных заводов пожертвовали тогдашнему сенатору от штата Нью-Йорк Эл Д’Амато всего 8,5 тысячи долларов на проведение избирательной кампании. В свою очередь, Д’Амато успешно пролоббировал возврат импортных тарифов для сахарной промышленности в размере 365 миллионов долларов — прибыль в пределах 4 миллионов процентов. На сахарную промышленность приходится 17 процентов от всего лоббирования в сфере сельского хозяйства в США. Между тем производители яблок — как и большинство фермеров, занимающихся выращиванием фруктов и овощей, — проявляют относительно невысокую заинтересованность в лоббировании субсидий, потому что их отрасль является конкурентоспособной. Но им приходится оказывать влияние на правительство, чтобы предотвратить выдачу субсидий неконкурентоспособным фермерам, которые могут попытаться выйти на рынок фруктов и овощей[558].
Ни один из секторов американской экономики не пронизан духом корпоративизма больше, чем сельское хозяйство. Более того, и демократы, и республиканцы занимают определенно фашистскую позицию, когда речь заходит о «семейных фермах», делая вид, что их политика способствует сохранению некоторого традиционного народного образа жизни, тогда как на самом деле они субсидируют огромные корпорации.
Но корпоративизм — это только часть истории. Подобно корпорациям, которые были втянуты в более масштабный процесс «нацистской унификации», крупный бизнес, якобы занимающий правую позицию, играет главную роль в проведении прогрессивной унификации современного общества. Если крупный бизнес склоняется к правому крылу, почему крупные банки финансируют либеральные и левые благотворительные организации, активистов и группы влияния, а затем публично заявляют об этом в рекламных и пропагандистских кампаниях? Как объяснить, что в войнах культур нет практически ни одного важного вопроса (от абортов и однополых браков до позитивной дискриминации), по поводу которого крупный бизнес выступал бы как представитель американского правого фронта, хотя можно привести десятки примеров поддержки корпорациями либералов?
Более того, миф о правых корпорациях позволяет средствам массовой информации укреплять власть либералов и над корпорациями, и над культурой. Джон Маккейн является ярким воплощением этого парадокса современного либерализма. Маккейн презирает развращающее влияние «больших денег» в политике, но при этом он выступает за усиление государственного регулирования бизнеса. Очевидно, он не понимает, что чем активнее правительство регулирует бизнес, тем активнее бизнес будет стремиться к «регулированию» государственной власти. Вместо этого он делает вывод, что ему следует попытаться регулировать политический лексикон. Это то же самое, что возмущаться размерами мусорной свалки и затем сделать вывод, что лучший способ решения проблемы — это регулирование деятельности мух.
Такое «регулирование политического лексикона», в свою очередь, обеспечивает несправедливое преимущество для некоторых очень крупных компаний — конгломератов СМИ, киностудий и т. д., давая им возможность выражать свои политические взгляды так, чтобы избежать государственной цензуры. Неудивительно, что некоторые из этих гигантов прославляют гений и мужество Маккейна и используют свои рупоры для рассуждений о том, что ему стоило бы пойти еще дальше, а другим политикам — последовать его примеру. Этот процесс, конечно же, значительно объемнее, чем простое регулирование. New York Times выступает против запрещения абортов и поддерживает кандидатов, являющихся сторонниками их разрешения, — в открытую, в передовицах, и несколько скромнее, в новостных колонках. Сторонникам запрещения абортов приходится платить за возможность публиковать свои взгляды, однако количество платных публикаций ограничивается в значительной степени благодаря Маккейну, причем именно тогда, когда они могут повлиять на читателей, т. е. в преддверии выборов. Вместо абортов могут обсуждаться контроль над огнестрельным оружием, однополые браки, защита окружающей среды, позитивные действия, иммиграция и т. д., так как сути дела это не меняет.
Именно так действует либеральная унификация; противоположные мнения пресекаются, подавляются, запрещаются, когда это возможно, а во всех остальных случаях высмеиваются и подаются как маргинальные. Прогрессивные мнения поощряются, восхваляются, преувеличиваются во имя «многообразия», или «освобождения», или «единства» и прежде всего «прогресса».
Зайдите при случае в одну из кофеен Starbucks и возьмите с собой брошюру с отчетом о корпоративной социальной ответственности. Этот отчет охватывает все проблемы, которые заботят сторонников прогресса: охрану окружающей среды, торговлю, устойчивое развитие и т. д. «Приверженности принципу многообразия» посвящен целый раздел, в котором эта огромная мультинациональная корпорация хвастливо заявляет о своем «стремлении увеличить многообразие персонала, работающего на территории США». 32 процента вице-президентов компании — женщины, а 9 процентов — представители неевропеоидных рас. Они тратят 80 миллионов долларов в год на взаимодействие с компаниями-поставщиками, которые принадлежат женщинам и представителям меньшинств, и проводят «большое количество тренингов, посвященных реализации принципов многообразия, в интересах деловых партнеров». «Кроме того, — отмечается в отчете, — принцип многообразия лежит в основе всех наших образовательных инициатив». Кстати, оруэлловским термином «партнеры» они обозначают «сотрудников»[559]. В конце концов в рамках новой корпоративной идеологии все мы являемся «партнерами».
Движение в защиту окружающей среды отличает пугающее сходство с некоторыми инициативами фашистов, в том числе его способность служить универсальным обоснованием корпоративистской политики. В соответствии с идеологией фашизма, для того чтобы можно было обходить общепринятые правила, необходимо поддерживать атмосферу кризиса. Сегодня, в то время как Голливуд и пресса неустанно твердят об угрозе глобального потепления, крупный бизнес усердно создает альянсы и партнерства с правительством, как будто борьба против глобального потепления является моральным эквивалентом войны. Более того, Альберт Гор, который повсюду создает партнерства государственного и частного секторов, утверждает, что глобальное потепление эквивалентно холокосту, а все, кто отрицает это, являют собой моральный эквивалент отрицателей холокоста. Между тем нефтяные компании одна за другой позиционируют себя в качестве необычайно значимых союзников в борьбе против глобального потепления. British Petroleum выпустила в телеэфир пропагандистские по своей сути рекламные ролики, в которых представители компании уверяют зрителей, что они развернули масштабную экологическую кампанию и выходят «за рамки добычи нефти». Когда Джулиан Саймон, один из участников позднего либертарианского движения, посетил нефтедобывающий комплекс на Аляске, ему так надоело слушать, как менеджеры расписывают «экологические выгоды» своей работы, что он в конце концов спросил: «Что вы здесь производите? Нефть или экологические выгоды?»[560].
General Electric, родина свопизма, в настоящее время тратит миллионы долларов на продвижение собственной программы Ecomagination[561], при помощи которой эта компания надеется доказать свою прогрессивность. Генеральный директор General Electric заявил на презентации своей «зеленой» инициативы: «Теперь это уже не игра с нулевой суммой — то, что хорошо для окружающей среды, хорошо и для бизнеса». Присутствующие на данном событии, пробуя органические закуски и вино, произведенное на винзаводе, который работает от солнечных батарей, с восторгом слушали выступление главы крупнейшего в Америке промышленного предприятия, который объяснял: «Промышленность не может решить проблемы мира в одиночку. Мы должны работать в согласии с правительством»[562]. Поэтому неудивительно, что это мероприятие проводилось в вашингтонском офисе General Electric. Более того, программа Ecomagination предполагает вложение средств в «чистые» и «зеленые» технологии с последующим лоббированием правительственных льгот в виде снижения налогов или прямых субсидий.
Способность корпораций использовать своих рабочих для достижения более глобальных политических целей представляет собой в значительной мере недооцененный аспект современной американской цивилизации. Отличным примером в этом смысле является многообразие. Ведущие корпорации весьма заинтересованы в поддержке принципа многообразия по многим уважительным причинам. Так, например, вряд ли найдется такая компания, которая захочет казаться враждебной своим потенциальным клиентам. Также глупо отворачиваться от квалифицированных специалистов из соображений расовой неприязни. Кроме того, правовой режим требует от компаний придерживаться принципа многообразия, когда это возможно. Точно так же, как законы, подобные Закону об американцах-инвалидах, дают преимущество крупным предприятиям перед мелкими, позитивная дискриминация приводит к таким же последствиям. По словам преподавателя юридического факультета Йельского университета Питера Шака, программы позитивных действий «также обеспечивали преимущество больших компаний за счет дополнительных затрат, связанных с обеспечением соответствия новым стандартам бухгалтерской, кадровой и других видов отчетности, которые гораздо более обременительны для конкурирующих с ними небольших компаний»[563]. Выборочные данные подтверждают, что руководители крупных фирм охотнее внедряют обязательные программы позитивных действий, чем руководители малых предприятий.
Таких прогрессивных руководителей невозможно получить, если не вкладывать значительные инвестиции в их обучение. Почти все управленцы среднего и высшего звеньев в корпоративной Америке прошли через «тренинги по освоению принципов многообразия» и/или «тренинги по предотвращению сексуальных домогательств». При этом их нередко направляют для дальнейшего обучения (обычно вследствие расширения понятия «толерантность»). Корпорации приняли логику гуру идеологии многообразия, которые настаивают на том, что отсутствие усилий по внедрению принципов многообразия (определяя цели, сроки и т. д.) равнозначно активному противодействию данной концепции. Тоталитарному характеру этого обучения уделяется недостаточно внимания отчасти потому, что сами журналисты тщательнейшим образом «перепрограммируются» руководством гигантских корпораций, на которые они работают.
Спросите себя, что будет с бизнесменом, который просто отказался принять на работу допустимое количество черных или, например, гомосексуалистов из числа претендентов. Давайте предположим, что этот бизнесмен — человек злой, скупой, придирчивый и в придачу расист. Однако некогда считалось, что свобода предоставляет человеку право быть плохим. Итак, представим, что этот бизнесмен отказывается нанимать черных, гомосексуалистов, евреев или членов других «угнетенных» групп. Что происходит дальше? Сначала он получает письмо от правительства, в котором говорится, что его рабочие должны соответствовать американским стандартам. Затем он получит еще одно письмо. Возможно, он также получит письма от кого-либо из разочарованных претендентов на рабочее место с угрозой судебного преследования. В конце концов он окажется в суде, где ему скажут, что он должен нанять людей, которых он не хочет нанимать. Если он по-прежнему будет отказываться, то может потерять много денег в гражданском процессе. Или же у него отнимут компанию и передадут ее в конкурсное управление. Если он будет продолжать настаивать на своей независимости, государство так или иначе лишит его возможности управлять компанией. Без сомнения, последователи Роберта Райха скажут вам, что вы вправе нанимать тех, кого пожелаете, если ваши права не нарушают принципа «общего блага».
Мы могли бы даже согласиться с Райхом, потому что мы считаем, что дискриминация — это зло. Но почему такой подход является менее фашистским, чем принуждение бизнесмена уволить всех евреев, которые у него работают? Если такой пример кажется вам слишком сомнительным, приведу другой: сеть ресторанов Hooters едва не заставили нанимать мужчин на роль «девочек из Hooters»[564]. Это звучит смешно, но если что-то делается во имя многообразия, оно от этого не становится менее фашистским. В таком случае мы получаем более мягкую разновидность фашизма.
Глава 9. Дивная новая деревня: Хиллари Клинтон и смысл либерального фашизма
Либерализм, так же как консерватизм, — это культура и догма. Некоторые либералы полагают, что они пришли к своим выводам после долгих размышлений. И, несомненно, во многих случаях это действительно так. Тем не менее история и культура оказывают влияние на всех без исключения. Идеи и идеология проникают в нашу жизнь и сознание различными путями, и незнание их происхождения не означает, что они появились из ниоткуда.
Конечно, из этого не следует, что прошлое всецело довлеет над настоящим. Например, я убежденный сторонник принципа «прав штатов»[565]. Было время, когда расисты поддерживали принцип «прав штатов», чтобы прикрывать свои действия по увековечиванию сегрегации и дискриминации Джима Кроу. Но это не значит, что я заодно с Джимом Кроу. Тем не менее, как уже говорилось ранее, консерваторам пришлось приложить немало усилий, объясняя, почему «права штатов» больше не могут рассматриваться как довод в пользу дальнейшего существования Джима Кроу. Когда кто-то спрашивает, почему моя поддержка принципа федерализма не приведет к Джиму Кроу, у меня есть готовый ответ: у представителей левых сил просто нет такого стремления. Либералы уверены, что они всегда были сторонниками правого дела. Джордж Клуни выражает общее мнение либералов, когда говорит: «Да, я либерал, и я устал от того, что это слово считается плохим. Я не помню случая, когда мнение либералов по социальным вопросам было неверным»[566].
Вот одна из основных причин, побудивших меня написать эту книгу: желание поколебать самодовольную убежденность в том, что принадлежность к либералам сама по себе уже есть признак добродетельности. В то же время я должен повторить, что не пытаюсь прокручивать кино в обратном направлении. Современные либералы отвечают за ошибки прошлых поколений не более, чем я за бездушие некоторых консерваторов, которые отстаивали права штатов ради неправого дела задолго до моего рождения. Нет, источником проблем современного либерализма является он сам. В отличие от консерваторов, которые копаются в прошлом, выискивая ошибки и извлекая для себя уроки, либералы не видят необходимости в этом. Нисколько не сомневаясь в своих добрых намерениях, они с легкостью переходят границы, от которых следовало бы держаться подальше. Они воссоздают идеологические построения, которые мы уже видели в прежние времена, не подозревая о подводных камнях, в беспечной уверенности в том, что хорошие парни никогда не могли сказать или сделать чего-либо «фашистского», потому что фашизм по определению относится ко всему нежелательному, а либерализм — это не что иное, как организованное стремление к желаемому.
Привлекательность Хиллари Клинтон объясняется не ее скучной и ничем не примечательной личностью, а тем, что в ней, как в зеркале, отражается историческая преемственность современного либерализма, так что мы можем увидеть хотя бы один из возможных путей его развития в будущем. Она и ее муж были поистине вездесущими представителями либерального левого лагеря. Они появлялись везде и взаимодействовали со всеми, кто оказывал влияние на либерализм на протяжении десятилетий. Будучи умной и амбициозной женщиной, Хилари умело сочетает идеализм с цинизмом, а идеологию — с расчетом. Это, конечно же, характерно для очень многих политиков. Но если Хиллари Клинтон и заслуживает внимания, то лишь потому, что эксперты верят в ее способность выбирать выигрышные комбинации вследствие личной проницательности, а также помощи советников и институциональной власти.
Уолдо Фрэнк и Дж. Т. Флинн были правы, заявляя о том, что американский фашизм будет отличаться от своих европейских аналогов в силу своего аристократизма и респектабельности, и Хиллари Клинтон — реальное воплощение их пророчеств. Кроме того, она является знаковой фигурой, ведущим представителем целого поколения элитных либералов, которые (неосознанно, конечно) украсили традиционный либерализм фашистскими мотивами. В частности, она и ее соратники воплощают материнский аспект фашизма, который именно по этой причине трудно распознать.
Далее следует групповой портрет Хиллари и ее друзей — ведущих сторонников и образцовых представителей либерального фашизма в наше время.
Политика реконструкции человека
Сторонники Хиллари Клинтон традиционно считают ее либералом, а их консервативные оппоненты — левым радикалом, прячущимся под личиной либерала; но было бы гораздо уместнее считать ее представительницей старого Прогрессивного движения и прямым потомком движения «Социальное Евангелие» 1920-1930-х годов.
Об этом свидетельствуют откровенно религиозные корни ее политического призвания. Родившись в семье методистов в городе Парк-Ридж, штат Иллинойс, она всегда отличалась особой привязанностью к социальному евангелизму. Она была активным членом молодежной группы своей церкви в подростковом возрасте. Хилари единственная из всех детей семейства Родхэм регулярно посещала воскресные службы. «Она стала воцерковленной по собственному призванию», — поведал преподобный Дональд Джонс, ее бывший исповедник и духовный отец, в интервью журналу Newsweek[567].
Джонс скромничал. На самом деле он пользовался огромным влиянием, будучи самым значимым человеком в ее жизни, за исключением ее родителей, как считают многие биографы. Ученик эмигрировавшего в США немецкого теолога-экзистенциалиста Пауля Тиллиха, Джонс был радикальным пастором, который в конце концов потерял свою кафедру вследствие чрезмерного увлечения политикой. Хиллари регулярно писала Джонсу, пока училась в колледже. Переехав в Арканзас, Клинтон стала вести занятия в воскресной школе и часто выступала во время воскресной службы с проповедями на тему «Почему я выбрала Объединенную методистскую церковь». «Даже сегодня, — заявил Джонс в интервью Newsweek, — когда Хиллари выступает, возникает ощущение, что находишься на уроке Методистской воскресной школы»[568].
Джонс подарил Хиллари подписку на методистский журнал motive по случаю окончания школы незадолго до ее отъезда в Колледж Уэлсли. Этот журнал, название которого пишется со строчной «м» по причинам, известным, возможно, только его издателям, в конце 1960-х — начале 1970-х годов (когда он прекратил свое существование) был бесспорно радикальным левым изданием, как уже упоминалось ранее.
Три десятилетия спустя Клинтон в беседе с журналистами Newsweek вспомнила, что ее мнение о войне во Вьетнаме действительно изменилось, когда она прочла опубликованное в журнале motive эссе Карла Оглсби. Редакция Newsweek решила подать это как умилительные воспоминания представительницы духовного либерализма, назвав Оглсби «методистским богословом». Однако такая формулировка не соответствует действительности[569]. Оглсби, избранный в 1965 году президентом организации «Студенты за демократическое общество» был одним из ведущих активистов антивоенного движения. Его доводы против войны во Вьетнаме можно назвать богословскими только если считать либеральный фашизм политической религией. По мнению Оглсби, коммунистические страны были хорошими потому, что они прагматично пытались «кормить, одевать, обеспечивать жильем и лечить свой народ», преследуемые «вирулентным штаммом» американского империализма и капитализма. Насилие со стороны угнетенных народов в странах «третьего мира» или в американских гетто было совершенно обоснованным и даже достойным одобрения[570].
Хиллари Клинтон придерживалась мнения, что такая радикальная политика основана на тех же принципах, что и ее религиозная миссия. В конце концов она читала все это в официальном издании методистской церкви, которое ей дал ее духовник. «Я до сих пор храню все выпуски, которые они мне присылали», — сказала она в интервью Newsweek[571].
В 1969 году Хиллари стала первой студенткой в истории Колледжа Уэллсли, выступившей с напутственной речью по завершении учебы. Неизвестно, считала ли она себя одним из лидеров феминистского движения уже в то время или же этот опыт направил ее на такой путь. Но с того момента Хиллари все чаще использовала риторику движения — молодежного движения, женского движения, антивоенного движения — и тяготела к тем людям, которые верили, что ее поколению и полу судьба уготовила особую роль. Эта речь имела такой успех, что ее фотография попала в журнал Life, который выбрал ее в качестве одного из лидеров нового поколения (Айра Магазинер, студент из Университета Брауна и будущий гуру Хиллари в области здравоохранения, также привлек внимание редакции).
Если отбросить пустословие в духе «Новой эры», напутственная речь Хиллари Клинтон представляла собой страстный поиск смысла и выражала уже известные нам настроения: «Все мы исследуем мир, который никто из нас даже не понимает, и пытаемся созидать в условиях этой неопределенности. Но есть такие вещи, которые мы чувствуем: склонный к доминированию, основанный на корысти и соревновании корпоративный образ жизни, который, к сожалению, характерен и для наших учебных заведений, нам не подходит. Мы находимся в поиске более непосредственного, жизнерадостного и вдумчивого образа жизни». Затем она продолжила: «Мы не заинтересованы в реконструкции общества; речь идет о реконструкции человека». Университетская жизнь, объясняла она, на время освобождает от «бремени неестественной реальности». Она дала студентам возможность поиска подлинного существования. «Каждый протест, каждое проявление несогласия, будь то конкретная научная работа или демонстрация на парковке имени основателя, по сути, является попыткой проявить свою индивидуальность в эту эпоху», — заявляла она[572]. В ее коротких репликах выражается стремление к единству, взаимосвязи, отрицанию «ненастоящих» чувств и учреждений в тотальном объединении, которое «преобразует будущее в настоящее» так, что «ограничения исчезают» и «пустые люди» становятся цельными натурами[573]. Эти рассуждения вполне соответствуют девизу Колледжа Уэллсли «Non ministrari sed ministrare» («Не быть ведомым, но вести»).
Тоталитарное искушение
После окончания университета Хиллари получила приглашение пройти стажировку у ее героя Саула Алинского — знаменитого автора книги «Правила для радикалов» (Rules for Radicals), о котором она писала диссертацию под названием «Есть только бой: анализ модели Алинского» (There Is Only the Fight: An Analysis of the Alinsky Model). Беспрецедентным было решение администрации Колледжа Уэллсли о секвестировании этой диссертации в 1992 году, при этом даже название этой работы не разглашалось, пока Клинтон не покинула Белый дом.
Читатели, знакомые с Алинским и его временем, понимают, насколько значимой фигурой в стане левых был «крестный отец» общественной деятельности. Сын русских иммигрантов еврейского происхождения Алинский начал свою карьеру в качестве криминолога, но в 1936 году, устав от неудач социальной политики, он посвятил себя противодействию истинным причинам преступности. В конце концов он стал профоргом в родном Чикаго, работая как раз в том районе, который описан в романе Эптона Синклера «Джунгли». «Именно здесь, — пишет П. Дэвид Финке, — Саул Алинский изобрел свой знаменитый “метод” организации сообщества, сведя воедино тактики католической церкви, бандитов Аль Капоне, социологов Чикагского университета и профоргов Джона Л. Льюиса»[574]. Его резкие, жесткие выступления часто очень походили на речи Хорста Весселя или его противников-коммунистов на улицах Берлина.
Алинский объединил усилия с церквями и Конгрессом производственных профсоюзов (который в то время был вотчиной сталинистов и других коммунистов), стремясь овладеть искусством организации широких масс. В 1940 году он основал Фонд промышленных зон США, который положил начало общественной деятельности на местах. Он стал наставником для бесчисленных местных активистов (в ряду которых выделялся Сезар Чавес, заложив основу нейдеризма[575] и СДО. Он верил в возможность использования моральных устоев среднего класса для достижения своих политических целей, вместо того чтобы попирать их, как делали длинноволосые хиппи. Кроме того, Алинский считал, что сущность политической организации заключалась в захвате позиций врага через дружественные или уязвимые учреждения. Кроме того, по общему мнению, он был «гениальным организатором». Он работал в тесном контакте с представителями духовенства реформистского и левого толка, которые на протяжении большей части его карьеры были его главными покровителями. Возможно, вследствие этого он овладел искусством использования проповедников в качестве активистов на переднем крае его миссии по «расчесыванию язв недовольства»[576].
Во многих отношениях методы Алинского вдохновили целое поколение новых левых агитаторов 1960-х годов (Барака Обаму, который в течение многих лет работал общественным организатором в Чикаго, обучали ученики Алинского). Однако стоит отметить, что Алинский не был поклонником «Великого общества», которое он называл «призовой политической порнографией» в силу его чрезмерной робости и в то же время исключительной щедрости по отношению к «индустрии социального обеспечения». Кроме того, не могло не вызывать восхищения презрение Алинского как к этатизму либеральной элиты, так и к радикальному шику «новых левых», проводивших все свое время «за повторением бесчисленных цитат из Мао, Кастро и Че Гевары, которые настолько же уместны в нашем высокотехнологичном, компьютеризированном, кибернетическом, ядерном и насыщенном средствами массовой информации обществе, как дилижанс на взлетно-посадочной полосе в аэропорту Кеннеди»[577].
Тем не менее совершенно очевидно, что значительная часть содержания его произведений ничем не отличается от фашистской риторики 1920-1930-х годов. Его высказывания о Соединенных Штатах напоминают критику коррупционного веймарского режима, которую можно было услышать от коричневорубашечников на каждом углу. У него явно фашистское мировоззрение. Жизнь общества определяется войной, борьбой за власть, навязыванием чьей-то воли. Кроме того, с фашистами и прагматиками былых времени Алинского роднит исключительная враждебность по отношению к догмам. Он верит только в цели движения, которое он рассматривает как источник смысла жизни. «Изменение — это движение. Движение — это взаимодействие, — пишет он. — Только в лишенном взаимодействий вакууме несуществующего абстрактного мира движение или изменение может происходить без присущего всякому конфликту резкого антагонизма». Но сильнее всего проявляется его необузданная жажда власти. Для Алинского власть по определению благо. «Наш мир — это мир не ангелов, но углов, — заявляет он в “Правилах для радикалов”, — где люди говорят о моральных принципах, но действуют в соответствии с принципами власти»[578].
Хиллари отклонила предложение Алинского, потому что решила поступить в Йельскую школу права. Он сказал ей, что это большая ошибка, но Хиллари ответила, что только пройдя через элитные учреждения Америки, она сможет достичь реальной власти и изменить систему изнутри. Такое логическое обоснование было типичным для студентов из высших слоев общества в 1960-е годы, которые высоко ценили свой статус радикалов, но вместе с тем не желали отказываться от преимуществ высокого социального положения. Тем не менее в своей диссертации Хиллари критикует Алинского прежде всего за неспособность создать национальное движение на основе своих идей. Но Хиллари в отличие от многих не отказалась от своих убеждений. Она осталась верна своим радикальным принципам. В Йельском университете (где она впоследствии встретила Билла Клинтона) она быстро влилась в ряды представителей левых сил.
Соответствие принципов и идей в Йельском университете в конце 1960-х — начале 1970-х годов было почти полным. Билл Клинтон изучал конституционное право под руководством Чарльза Райха, гуру «сознания третьего уровня». Райх, в свою очередь, был коллегой знаменитого юриста и интеллектуала эпохи «Нового курса» Турмана Арнольда (ученика верных идеям Кроули либералов из New Republic), который пропагандировал новую «религию государственной власти». В 1930-е годы критики считали, что в работах Арнольда содержатся все основы учения об американской разновидности фашизма. Впоследствии он стал соучредителем юридической фирмы Arnold, Fortas & Porter[579].
Хиллари помогала редактировать журнал Yale Review of Law and Social Action, который в то время был преимущественно радикальным изданием, поддерживавшим «Черных пантер» и публиковавшим статьи, где скрыто одобрялось убийство полицейских. В одной из статей под названием «Джеймстаун семьдесят» (Jamestown Seventy) радикалам предлагалось принять программу, которая предполагала переселение всех «политических мигрантов в один штат с целью захвата власти и создания лаборатории для экспериментов в реальных условиях»[580]. На обложке одного из номеров этого журнала полицейские изображались в виде свиней, причем один из них — с отрубленной головой. Пантеры стали притчей во языцех на территории университетского городка, потому что «председатель» «пантер» Бобби Сил был отдан под суд в Нью-Хейвене вместе с еще несколькими головорезами за убийство одного из своих. Хиллари добровольно помогала адвокатам «Черных пантер» и даже присутствовала на судебных слушаниях, делая заметки, с тем чтобы помочь защите. Она так хорошо проявила себя в качестве организатора студентов-волонтеров, что ей предложили пройти летнюю стажировку в Беркли, штат Калифорния, в адвокатском бюро Роберта Тройхафта, одного из адвокатов Сила. Тройхафт в течение всей своей жизни был членом Коммунистической партии Америки, который приобрел первый опыт политической борьбы в сталинской фракции рабочего движения в Калифорнии[581].
Влечение Хиллари к радикальным группам и фигурам, таким как «Черные пантеры», Алинский и, по мнению некоторых биографов, Ясир Арафат, прекрасно согласуется с исторической слабостью либерализма к людям действия. Подобно Герберту Кроули, лояльно относившемуся к Муссолини, и многим другим, которые аплодировали «жестким решениям» Сталина, поколение либералов 1960-х годов изначально питало слабость к людям, которые «преодолели» буржуазную мораль и демократию во имя социальной справедливости. Эта любовь к жестким лидерам — Кастро, Че, Арафату, — очевидно, связана с одержимостью левых фашистскими ценностями подлинности и воли[582].
Тем не менее по окончании учебы на юридическом факультете Хиллари предпочла такой радикальной подлинности прагматизм. Она работала юристом в Литл-Рок и занимала активную либеральную позицию, возглавляя финансируемую государством радикальную организацию под названием «Корпорация юридических услуг», а также некоммерческий Фонд защиты детей. До этого она была штатным сотрудником юридического комитета Палаты представителей от Демократической партии. Ее брак с Биллом Клинтоном, который является, пожалуй, самым обсуждаемым в Америке, не имеет отношения к нашему разговору. Однако умные люди согласятся, что какими бы ни были ранее и теперь их романтические чувства, этот союз также в значительной степени являлся политическим.
В карьере Хиллари Клинтон до ее прибытия в Вашингтон наиболее показательны ее выступления в защиту интересов детей. Клинтон писала авторитетные статьи, часто осуждавшиеся критиками как пропаганда права детей «разводиться» со своими родителями. Она никогда не делала подобных заявлений прямо, однако явно имела это в виду. Но дебаты по поводу права детей на «развод» всегда имели второстепенное значение. Гораздо важнее то, что в трудах Хиллари Клинтон о детях прослеживается четкое, непримиримое и принципиальное желание обеспечить государству важную роль в жизни каждой семьи — цель, которая находится в полном согласии с аналогичными усилиями тоталитарных режимов прошлого.
У этого мнения немало сторонников, кроме меня и представителей американского правого лагеря. Как писал покойный ныне Майкл Келли в краткой биографии первой леди в то время, она является наследницей «политики благодеяний, берущей свое начало из мощного и постоянного потока, который проходит через американскую историю, начиная с Гарриет Бичер-Стоу и Джейн Аддамс и заканчивая Дороти Дэй... Мир, который она жаждет восстановить... [это] место безопасности, общности и ясных моральных ценностей»[583].
Покойный Кристофер Лаш пришел к аналогичному выводу. Лаш, один из самых проницательных исследователей американской социальной политики в XX веке и представитель правых сил, не причисляющий себя ни к одной из партий, изучил все соответствующие работы Хиллари Клинтон и написал статью, которая была опубликована в левом журнале Harper’s в 1992 году. Результатом его исследования стало трезвое (и отрезвляющее) обсуждение мировоззрения Хиллари Клинтон. Лаш называет Клинтон современной «спасительницей детей». Этим термином критически настроенные историки обозначают прогрессивистов, которые хотят распространить влияние государства-Бога на сферу семьи. Хотя Клинтон и настаивает на том, что она сторонница вмешательства государства только в «оправданных случаях», ее реальная цель, как признает она сама, заключается в создании целостной и универсальной «теории, которая должна адекватно определять роль государства в воспитании детей». С этой целью она выступает за отмену «несовершеннолетия», т. е. правовой кодификации, которая определяет, чем ребенок отличается от взрослого. По словам самой Клинтон, это было бы величайшим прогрессивным достижением, сопоставимым с «отменой рабства и эмансипацией замужних женщин». Предполагалось, что «дети, подобно другим лицам», будут считаться «способными осуществлять права и брать на себя ответственность, пока не будет доказано обратное»[584].
Что характерно, Клинтон фокусирует свое внимание на деле «Висконсин против Йодер». Рассмотрев это дело в 1972 году, Верховный суд разрешил трем семьям амишей не отдавать своих детей в школу вопреки законам об обязательном среднем образовании. Судья Уильям О. Дуглас отметил, что желания детей никогда не принимаются во внимание. «Дети должны иметь право высказывать свое мнение», — заявил он. Клинтон опирается на эти слова Дугласа и заявляет, что дети должны быть «хозяевами своей судьбы». При этом предполагается, что суды должны учитывать в первую очередь мнение детей, а не родителей. Хиллари Клинтон делает следующее заключение: для того, чтобы стать «пианистом, космонавтом или океанографом» ребенок должен «отойти от традиций амишей», а если он «ограничен образом жизни амишей», то скорее всего его ждет «чахлое и ущербное» будущее. Кристофер Лаш приходит к поразительному выводу: «Она оправдывает принятие государством на себя родительских обязанностей, потому что она выступает против принципа родительской власти в любой форме». Работы Клинтон «создают стойкое впечатление, что семья ограничивает детей, а государство делает их свободными». Для Хиллари Клинтон, считает Лаш, «движение за права детей... тождественно очередному этапу в многолетней борьбе против патриархата»[585].
От «Республики» Платона до наших дней политики, ученые и священники одержимы идеей «захвата» детей в целях социальной инженерии. Именно поэтому Робеспьер высказывался за то, что детей должно воспитывать государство. Гитлер, который не хуже других понимал важность завоевания сердец и умов молодежи, однажды заметил: «Когда кто-либо из моих противников говорит: “Я не перейду на вашу сторону”, я спокойно отвечаю: “Ваш ребенок уже с нами... Вы тоже присоединитесь. Сейчас ваши потомки стоят в рядах нового движения. В скором времени они не будут знать ничего, кроме этого нового сообщества”». Вудро Вильсон открыто заявлял, что главная задача педагога заключается в том, чтобы сделать детей настолько отличными от их родителей, насколько это возможно. Шарлотта Перкинс Гилман сформулировала эту мысль еще конкретнее. «Сегодня на всей земле не существует более радужной надежды, — заявила эта культовая феминистка, — чем эта новая мысль о детях, о признании детей как класса, детей как граждан с правами, гарантом которых может выступать только государство; вместо нашего господствовавшего ранее отношения к ним как к абсолютной личной [т. е. родительской] собственности — неограниченной тирании... в каждом доме»[586].
У прогрессивного образования два родителя: Пруссия и Джон Дьюи. Детский сад был заимствован Соединенными Штатами из Пруссии в XIX веке, потому что американские реформаторы были просто очарованы порядком и патриотическим воспитанием, которое дети младшего возраста получали за пределами дома (прекрасная возможность нивелировать неамериканские черты иммигрантов)[587]. Одним из основных принципов американских детских садов на начальном этапе их развития была догма, согласно которой «правительство является истинным родителем детей, а государство превыше семьи». Прогрессивные последователи Джона Дьюи расширили эту программу, стремясь превратить государственные школы в инкубаторы национальной религии. Они отказались от милитаристской жесткости прусской модели, но сохранили принцип идеологического воспитания детей. Эти методы были неформальными, продиктованными искренним желанием сделать обучение «интересным», «соответствующим» и «дающим новые возможности». Одержимость чувством собственного достоинства, характерная для наших школ в настоящее время, напоминает о реформах Дьюи, начатых до Второй мировой войны. Но за риторикой индивидуализма скрывается стремление к демократической социальной справедливости, которое сам Дьюи считал религией. Для других прогрессивистов влияние на детей в школах являлось частью более глобальной задачи по подрыву основ нуклеарной семьи, наиболее устойчивого к индоктринации института.
Педагоги в нацистской Германии ставили перед собой аналогичные цели. И как ни странно, они также отказались от прусской дисциплины прошлого и сделали ставку на чувство собственного достоинства и расширение возможностей во имя социальной справедливости. В первые дни Третьего рейха ученики начальных классов жгли свои разноцветные кепки в знак протеста против классовых различий. Родители жаловались: «У нас больше нет прав на наших детей». По словам историка Майкла Берли, «Их дети стали чужими, презрительно относящимися к монархии и религии, постоянно рявкающими и кричащими, как прусский старшина... Доносы детей на родителей всячески поощрялись, в том числе учителями, которые заставляли детей писать сочинения на тему «О чем говорят в нашей семье?»[588].
Современный либеральный проект, который представляет Хиллари Клинтон, ни в коей мере не может считаться нацистским. Она и не помышляет о поощрении этнического национализма, антисемитизма или агрессивных захватнических войн. Но при этом следует иметь в виду, что, хотя эти вещи имели огромное значение для Гитлера и его идеологов, они были во многом вторичными по отношению к главной цели нацизма, которая заключалась в создании новой политики и новой нации, преданной идеям социальной справедливости, радикального эгалитаризма (хотя только для «истинных немцев») и необходимости разрушения традиций старого порядка. Поэтому, несмотря на колоссальные различия между программами либералов и нацистов, итальянских фашистов или даже националистически настроенных прогрессивистов былых времен, главный мотив, тоталитарное искушение, присутствует в обеих.
Китайские коммунисты во главе с Мао следовали китайскому пути, русские при Сталине — своей собственной версии коммунизма в отдельно взятом государстве. Но мы без всяких сомнений продолжаем называть эти страны коммунистическими. Гитлер хотел уничтожить евреев, Муссолини не желал ничего подобного. И все же мы без всяких сомнений называем их фашистами. Либеральные фашисты не хотят подражать фашистам или коммунистам, но для них также характерно стремление к социальной справедливости и общности, как и мысль о том, что государство должно способствовать реализации этих целей. Одним словом, коллективистов всех мастей объединяет одно и то же тоталитарное искушение создать политику смысла; единственное различие между ними — самое важное из всех — состоит в том, во что это выливается.
Первая леди либерального фашизма
Когда Билл Клинтон был избран президентом, его жена прибыла в Вашингтон, как, возможно, самый мощный неизбранный (и неназначенный) социальный реформатор со времен Элеоноры Рузвельт. Она призналась корреспонденту газеты Washington Post, что у нее всегда было «страстное желание сделать мир лучше... для всех». Это желание появилось у нее еще в те дни, когда Дон Джонс показал ей, что бедным и угнетенным живется не так хорошо, как ей самой. И Хиллари для исцеления этих недугов общества требовалась власть. «Я вижу, что Хиллари в полной мере понимает правду человеческого существования, которая заключается в том, что невозможно полагаться на веру в изначальную доброту человека, как нельзя полагаться на то, что его можно уговорить встать на путь добра, — говорил Джонс Майклу Келли. — Необходимо применять власть. В обладании властью нет ничего плохого, если эта власть используется для реализации такой политики, которая пойдет на благо людям. Я думаю, что Хиллари знает это. Она принадлежит к числу христиан, понимающих, что использование власти для достижения общественного блага вполне законно»[589]. Влияние Алинского в данном случае очевидно. Однако не вполне ясно, кто определяет, каким должно быть общественное благо и каким образом его следует достигать.
Тем не менее Хиллари не пользовалась христианскими понятиями при изложении своей позиции, за исключением тех случаев, когда она обращалась к преимущественно христианской аудитории. Вместо этого она создала словосочетание, вобравшее в себя суть современного либерального фашизма: «политика смысла».
Сейчас, когда я говорю, что политика смысла и идеи Хиллари Клинтон по своей сути являются фашистскими, я должен еще раз уточнить, что они не выглядят зловещими. Современный человек не видит в них ничего фашистского — в том-то и дело. Сегодня мы отождествляем фашизм с милитаристским языком и расизмом, хотя войны в конце XIX и начале XX века способствовали появлению огромного количества метафор в политическом лексиконе и в повседневной речи в целом. В нашей разговорной речи мы используем такое множество подобных слов и словосочетаний, что даже не осознаем, что они рождены в кровопролитных сражениях («круговая оборона», «грозовой фронт», «попадание в цель» и т. д.). Милитаризм не характерен для либерального фашизма, но за современной либеральной риторикой стоят те же страсти, которые побуждали прогрессивистов изъясняться в терминах «промышленных армий» и необходимости «идти в атаку» во имя «синего орла». Война рассматривалась как коллективный, объединяющий опыт. Его положительное значение заключалось в том, что общественное сознание фокусировалось на общем благе, а характерные для этого периода энтузиазм и дисциплина применялись в социально «полезных» целях. Сегодня представители современных левых сил часто выступают как явные противники войны и убежденные пацифисты. Но либералы все еще ностальгируют по чувству единения, которым были проникнуты рабочее движение и движение за гражданские права. Теперь выражения стали более изысканными, а намерения — еще «более благими». Но по существу политика смысла стоит на «плечах» Муссолини.
Что касается расизма, то современному либерализму он присущ в значительной мере, хотя, возможно, более уместным было бы использовать слово «расовость». Государство относится к «цветному населению» не так, как оно относится к белым людям. Ближе к левому крылу расовый эссенциализм становится основой бесчисленных идеологических проектов. В левом лагере антисемитизм также проявляется ныне более явственно, чем в недавнем прошлом. Очевидно, что это не тот же самый вид расизма или антисемитизма, который был характерен для нацистов. К тому же расизм нацистов не определяет фашизма. Как мы помним, расизм нацистов, подобно расизму прогрессивистов, имел тенденцию определять личность в ее связи с коллективом.
Позвольте мне предвосхитить еще одно критическое замечание. Кое-кто наверняка скажет, что пропагандируемая Хиллари Клинтон политика смысла далеко не нова. Клинтон уже достаточно давно не употребляет этого словосочетания, спрятав его под сукно из соображений политической целесообразности, как и память о ее катастрофическом плане реформирования системы здравоохранения. Это критическое замечание было бы более существенным, если бы я задался целью предложить список тезисов против Хиллари Клинтон для предвыборной президентской кампании 2008 года. Но у меня другие задачи. Для меня больший интерес представляет способность Клинтон пролить свет на преемственность либеральной мысли. Если то, что либералы думали и делали в 1920-е годы актуально в настоящее время (а я придерживаюсь именно такого мнения), тогда то, что либералы думали и делали в 1990-е годы, не менее актуально. Наряду с этим нет никаких доказательств в пользу того, что ее идеология претерпела какие-либо значительные изменения в лучшую сторону. В своей книге 1996 года под названием «Нужна целая деревня» Клинтон не отказалась от своих радикальных взглядов применительно к детям, несмотря на то, что эти взгляды стали политической помехой в 1992 году. Тем не менее она облекла свои идеи в более привлекательную форму благодаря помощи «автора-призрака».
Наконец, предложенная Хиллари Клинтон политика смысла была, пожалуй, самым интересным и серьезным выражением либерализма в 1990-е годы, появившись на пике либерального оптимизма. Реакция либеральных кругов на избрание Буша и террористические акты 11 сентября выразилась в основном в проявлении антипатии к Бушу. В таком случае неплохо бы выяснить, что либералы говорили, когда плясали под свою собственную дудку.
В апреле 1993 года Клинтон выступила с напутственной речью в Университете штата Техас в Остине, в которой она заявила: «Нам нужна новая политика смысла. Нам нужно новое чувство личной ответственности и заботы. Нам нужно новое гражданское общество, которое ответит на тупиковые вопросы, поставленные как рыночными силами, так и государством, и позволит понять, как мы можем построить общество, которое обновит нас и заставит поверить, что мы являемся частью чего-то большего»[590].
Фраза «обновит нас» особенно показательна — в 1969 году она означала, что нам требовалась политика, призванная сделать «пустых людей» цельными личностями. Похоже, имелось в виду, что без какой-либо общественно значимой задачи или миссии, «обновляющей» ее, жизнь Хиллари (и наша с вами) пуста и бесцельна. Казалось бы, Хиллари на протяжении всей своей жизни считала прагматические вопросы наиболее значимыми, но всякий раз, когда ей предоставляется возможность честно выразить свою точку зрения, на первый план почему-то выходят одни и те же побуждения: значение, подлинность, действие, преобразование.
Политика смысла во многих отношениях представляется наиболее тоталитарной политической концепцией из всех предложенных ведущими американскими политическими деятелями за последние полвека. Взгляды Хиллари отличаются большим сходством с тоталитарными христианскими идеологиями Пэта Робертсона и Джерри Фалуэлла, чем со «светским атеизмом», приписываемым ей такими христианскими консерваторами. Но у них даже больше общего с прогрессивными концепциями государства-бога Джона Дьюи, Ричарда Илая, Герберта Кроули, Вудро Вильсона и других левых гегельянцев. По мнению Хиллари, Америка страдает от глубокого «духовного кризиса», который требует создания нового человека в рамках глобального восстановления и переустройства общества, призванного дать жизнь новому национальному сообществу, которое предоставит каждому человеку возможность обрести смысл и подлинность. Ее подход — это подход в духе «третьего пути», который обещает быть не левым, не правым, но объединить эти два лагеря таким образом, чтобы государство и крупный бизнес работали сообща. Это скрывающаяся в троянском коне социальной справедливости принципиально религиозная концепция, которая стремится наполнить социальную политик}' духовными императивами.
Чтобы лучше понять политику смысла, нам необходимо познакомиться с карьерой самопровозглашенного гуру Хиллари Клинтон, прогрессивного активиста и раввина Майкла Лернера. Лернер родился в семье неортодоксальных евреев в Нью-Джерси. Его мать была председателем регионального представительства Демократической партии. Окончив Колумбийский университет в 1964 году, он получил докторскую степень в Беркли, где он работал в качестве ассистента Герберта Маркузе и возглавлял СДО. Будучи любителем ЛСД, «прогрессивного наркотика», он считал, что прием галлюциногена был единственным способом по-настоящему понять социализм (он явно упускал из виду иронический смысл данного высказывания). Когда его сестра вышла замуж за успешного адвоката, на свадьбе присутствовали некоторые известные политики. Лернер не мог упустить такую возможность. Он прервал торжество речью, в которой он осуждал гостей, называя их «убийцами» с «кровью на руках» потому, что они прилагали недостаточно усилий для того, чтобы остановить войну во Вьетнаме[591].
Когда Амур поразил его стрелой, он сказал своей любовнице: «Если ты хочешь быть моей подругой, то сначала тебе придется организовать foco». (Foco — это впервые примененная Че Геварой разновидность вооруженных формирований, чрезвычайно популярная в теории марксизма-ленинизма, предназначенная для проведения молниеносных повстанческих операций.) Во время свадебной церемонии в Беркли они обменялись кольцами, выплавленными из фюзеляжа американского самолета, сбитого над Вьетнамом. Свадебный торт был украшен девизом «Метеорологов» «Круши моногамию». (Брак просуществовал менее года.) Лернер утверждает, что он был одним из лидеров ненасильственного крыла «новых левых». Будучи преподавателем в Университете Вашингтона, он основал Фронт освобождения Сиэтла, который, как он утверждал позднее, в отличие от «Метеорологов» пропагандировал ненасильственные методы борьбы. Тем не менее он был арестован по делу «семерых из Сиэтла»[592]. Обвинения были сняты лишь после того, как шеф ФБР Дж. Эдгар Гувер назвал его (без сомнения, нарочито преувеличенно) «одним из самых опасных преступников в Америке»[593].
В 1973 году Лернер написал труд «Новая социалистическая революция» (The New Socialist Revolution). Это была ода грядущему социалистическому перевороту, изобиловавшая избитыми фразами. Его риторика удивительно напоминала речи Муссолини: «Главной задачей революционного движения... является разрушение гегемонии буржуазии и развитие радикального сознания у представителей всех кругов, заинтересованных в революционных изменениях»[594].
С годами мышление Лернера развивалось. Во-первых, он стал серьезно интересоваться психологией масс (он лицензированный психотерапевт), впитывая все бредовые идеи Франкфуртской школы о фашистских типах личности (консерватизм Лернер считал излечимой болезнью). Во-вторых, он стал раввином. И хотя его приверженность прогрессивизму не слабела, он все более проникался «духовным» аспектом политики. В конце концов он отказался от диалектического материализма в пользу воинствующего потребительского материализма и тех душевных мук, которые он порождает. В 1986 году он основал довольно эксцентричный журнал под названием Tikkun. Статьи в журнале посвящались преимущественно созданию нового социального евангелизма с сильным еврейским и экуменическим уклоном.
После речи Хиллари Клинтон о политике смысла, которая была отчасти вдохновлена Лернером (которому удалось втереться в доверие к бывшему тогда губернатором Клинтону), этот радикальный раввин-психотерапевт резко активизировался, позиционируя себя в качестве придворного провидца администрации Клинтона. Ему суждено было стать Гербертом Кроули новой «Прогрессивной эры». Хотя многие журналисты сразу признали в нем жулика, он тем не менее получил внимание, к которому стремился. New York Times провозгласила его «пророком этого года». Однако когда стало ясно, что политика смысла слишком походит на пустословие в духе «Новой эры», пресса и Клинтоны отвернулись от него. В ответ Лернер опубликовал свой опус «Политика смысла: восстановление надежды и возможностей в эпоху цинизма» (The Politics of Meaning: Restoring Hope and Possibility in an Age of Cynicism).
Эта книга эксплуатирует многие принципы фашизма. Лернер приводит длинный и скучный перечень давно известных прогрессивных идей и задач. Он призывает дать больше возможностей бесправным, отбросить багаж прошлого, отвергнуть догмы и принять идею национального сообщества, отказаться от слишком рационального опыта врачей и ученых. Он красноречиво говорит о различных кризисах (духовном, экологическом, моральном и социальном), поразивших западные буржуазные демократии, которые необходимо излечить при помощи политики освобождения. Он также ведет речь о создании новых мужчин и женщин, отказываясь от ложных противопоставлений «работа-семья», «бизнес-правительство», «частное-государственное». Прежде всего он настаивает на том, что его новая политика смысла должна проникнуть в каждый уголок нашего бытия, преодолевая разобщенность американского общества. Такие понятия, как мораль, политика, экономика, этика, нельзя отделять друг от друга. Наша философия должна проявляться в любых взаимодействиях и встречах с людьми.
Эти воззрения перекликаются с тезисом Гитлера о том, что «экономика вторична» по отношению к революции духа. Лернер пишет: «Если бы между людьми существовали другие этические и духовные связи, экономическая реальность была бы другой... И именно поэтому смысл не может иметь более низкий приоритет, чем экономика»[595]. Излишне говорить, что это явное отклонение от марксистского материализма его молодости. В программе Лернера, конечно же, повторялись многие пункты из перечня гарантий, сформулированного немецко-фашистской партией в 1920 году, в том числе о равных правах, гарантированном медицинском обслуживании, увеличенных налогах на имущество состоятельных граждан и строгих законах, регулирующих деятельность крупных корпораций. Вот некоторые пункты программы, опубликованной в журнале Tikkun в 1993 году:
«Министерство труда должно подготовить распоряжение, согласно которому... каждому рабочему должен быть предоставлен оплачиваемый отпуск для участия в 12 двухчасовых занятиях, посвященных борьбе со стрессом...
Министерство труда должно спонсировать кампании “Слава труду”, призванные воздать людям должный почет за их вклад в общее благо...
Министерство труда должно создать программу по подготовке корпуса профсоюзного персонала, представителей рабочих и психотерапевтов с соответствующими навыками, которые будут способствовать становлению нового духа сотрудничества, взаимной заботы и преданности работе»[596].
Именно такие идеи впервые были отражены в программе Германского трудового фронта Роберта Лея. Это сравнение более чем поверхностно. Национал-социалистическое государство, так же как прогрессивное и фашистское, основывалось на гегелевской идее о том, что свобода может быть достигнута только за счет существования в гармонии с государством, которое обязано обеспечить такую гармонию. Частных лиц не существовало. (Лей говорил, что единственное частное лицо в нацистском государстве — это человек, который спит.) В работе «Политика смысла» (Politics of Meaning) Лернер утверждает, что «значение рабочего места должно быть переосмыслено, оно должно стать отправной точкой в процессе человеческого развития». Еще в одной книге, «Дух имеет значение» (Spirit Matters), он выражает (одной пространной фразой) мысль о том, что в соответствии с его новым «освободительным движением за духовность» «правительство должно быть переосмыслено как общественный механизм, посредством которого все мы показываем, что заботимся обо всех остальных, а членов правительства следует оценивать, вознаграждать и продвигать лишь в той степени, насколько они способны создать такие условия, которые позволят людям вследствие этих взаимодействий обрести новое чувство надежды и глубокое убеждение в том, что другим людям их судьба действительно не безразлична, о чем свидетельствует сам факт создания такого чуткого и заботливого правительства».
Идеалом Лернера является израильский кибуц, где даже ощипывание кур имеет трансцендентный смысл для работника. Он жаждет найти способ, который позволил бы воссоздать чувство общей цели, объединяющее людей в таких кризисных ситуациях, как наводнение или иное стихийное бедствие. Свобода у Лернера переосмысливается в духе воззрений Дьюи как совместное социальное «строительство». Нацисты сформулировали это более точной фразой: «Работа делает вас свободными»[597].
В соответствии с политикой смысла все социальные институты охватывают государство подобно тому, как прутья охватывают фашистскую секиру. Каждый человек несет ответственность за сохранение не только своей собственной идеологической чистоты, но и идеологической чистоты своих ближних. Лернера следует отнести к проповедникам либеральной унификации, нацистской идеи согласования каждого института в обществе. Это становится очевидным, когда он переходит к обсуждению того, как эти реформы должны быть реализованы. Лернер пишет, что все государственные учреждения и частные предприятия должны издавать «ежегодные отчеты об этическом воздействии», позволяющие оценить «их влияние на этическое, духовное и психологическое благополучие нашего общества, а также на людей, которые работают в этих учреждениях или взаимодействуют с ними»[598]. Возможно, его намерения имели более положительный смысл, но на самом деле так ли они сильно отличаются от бюрократизации идеологической лояльности, которая требовала от немецких предприятий и учреждений постоянно предоставлять документы, подтверждающие их преданность духу новой эпохи? Духовные бездельники в Америке XXI века, несомненно, посчитали бы такое наблюдение фашистским, несмотря на его очень мягкий и заботливый характер.
Лернер считает, что в задачу представителя каждой профессии (естественно, с учетом государственных интересов) входит «осмысление» своего личного вклада в духовное и психическое здоровье национальной общности. «Такое осмысление, например, побудило некоторых юристов, работающих в русле политики смысла, задуматься о возможности второго этапа судебных слушаний, в ходе которого система состязательности на время перестает действовать и главной целью становится исцеление тех болезней, которые первоначальное судебное разбирательство обнаружило в обществе»[599]. Некоторым людям все это может показаться достаточно глупым, и, как представляется, такие идеи вряд ли чреваты фашистским переворотом. Но если даже фашистский переворот когда-либо произойдет в Америке, он примет вид не штурмовиков, выламывающих двери, а юристов и социальных работников, заявляющих: «Мы из правительства, и здесь для того, чтобы помочь».
Как ни странно, Лернер, похоже, не видит связи между своей идеологией и фашизмом. По иронии судьбы, он признает, что ранее «не мог понять, почему представители левых сил в Европе ничего не смогли противопоставить популярности фашистов». Фашистская «ненависть к другим основывалась на том, в какой степени они верили (как правило, ошибочно), что эти достойные всяческого осуждения “другие” подрывали их сообщества, объединенные общностью смысла и целей». Лернер отмечает, что многие бывшие либералы «в настоящее время повернулись вправо в поисках чувства общности и смысла, которые либералы, социал-демократы и левые всегда считали незначимыми или обязательно реакционными»[600]. Он пишет, что в 1990-е годы мы стали свидетелями появления «фашистских» правых движений, которым можно противопоставить только его политику смысла.
Аргументация Лернера распадается на несколько частей, в основном вследствие неадекватности его понимания истинной природы фашизма[601]. Но гораздо важнее то, что он в основном признает, что политика смысла, по сути, является попыткой найти альтернативу вымышленной политике смысла правых сил, которую он считает фашистской. Он видит воображаемых фашистов справа и в ответ чувствует себя вправе создать реальный — хороший — фашизм слева. Сопровождается все это огромным количеством религиозных наставлений, при этом он утверждает, что его политика — это «политика по образу Божьему», мысль, которую он также всеми силами пытается донести до читателей в своих недавно вышедших книгах «Левая рука Бога» (The Left Hand of God) и «Дух имеет значение» (Spirit Matters)[602].
Такие защитники политики смысла, как Корнел Уэст, Джонатан Козол, и даже такие традиционные историки, как Джон Мильтон Купер, отвергают или игнорируют радикальный этатизм проекта Лернера. Тем не менее они защищают свою политическую религию, приводя в качестве аргументов множество классических высказываний в духе «третьего пути» о необходимости отказа как от анархии свободного рынка, так и от этатизма в пользу нового синтеза, уравнивающего интересы общества и отдельных лиц. «Грубо говоря, — пишет Лернер, — ни капитализм, ни социализм в том виде, который они приняли в XX веке, не кажутся мне особенно привлекательными». Его гораздо больше привлекают прагматические подходы, «отличающиеся от традиционного разделения на левых и правых, которое необходимо преодолеть, когда мы разрабатываем политику для XXI века»[603]. Все это так неоригинально. Лозунг французских фашистов был гораздо более запоминающимся: «№ droitе ni gauche!»[604].
Как мы уже знаем, с точки зрения идеологии фашистский и прогрессивный тоталитаризм никогда не был простой доктриной этатизма. Скорее, утверждалось, что государство представляет собой природный мозг органического политического тела. Этатизм вторичен по отношению к коллективизму или эгалитаризму. Правительство было просто тем местом, где духовная воля народа преобразовывалась в действие (марксисты любили использовать слово «практика» для описания этого единства теории и действия). Из этой позиции следовало, что учреждения и отдельные личности, которые стоят в стороне от государства или «прогрессивной волны», изначально вызывают подозрение и объявляются эгоистичными, социально-дарвинистскими, консервативными, или, как ни парадоксально, фашистскими. Государство представляется не главным распорядителем, а, скорее, метрономом для унификации и гарантирует, что правители единодушны в выборе направления развития общества. Если жизнь прогрессивного общества должным образом упорядочена, государству нет необходимости прибирать к рукам Гарвард или «Макдоналдс», но в любом случае оно должно убедиться, что эти учреждения верно расставляют приоритеты. Политику смысла в конечном счете можно рассматривать как теократическую доктрину, поскольку она пытается ответить на главные вопросы бытия, утверждает, что ответы на них можно найти только вместе, и настаивает на том, что воплощать эти ответы в жизнь должно государство.
Это либерально-фашистское мышление четко проявляется в перепалке между телевизионным продюсером Норманом Лиром и консервативным обозревателем Чарльзом Краутхаммером, имевшей место в 1993 году. Краутхаммер охарактеризовал обращение Хиллари Клинтон, в котором она представила политику смысла, как «нечто среднее между “речью о национальном недуге”[605] Джимми Картера и защитой курсовой работы по Сидцхартхе Гаутаме[606]», поданное публике с «самоуверенностью и чувством превосходства, характерными для высказываний студента колледжа»[607].
Норман Лир бросился защищать Хиллари. Создатель телевизионных шоу «Все в семье», «Мод», «Сэнфорд и сын» и «Хорошие времена», Лир также был основателем организации «Американцы за американский путь», которая по иронии считалась в некотором роде консервативной. Он создал эту организацию, стремясь отразить наступление «новых правых», которые якобы пытались разрушить легендарную «разделительную стену» между церковью и государством. Но в конце 1980-х годов мировоззрение Лира начало меняться. В 1989 году в своем обращении к ежегодному собранию Американской академии религии в Анахайме, штат Калифорния, он сетовал на «духовную пустоту в нашей культуре». «Среди представителей светских кругов, — отметил он, — отвращение к обсуждению нравственных ценностей, не говоря уже о религии, может доходить до крайности, граничащей с абсурдом»[608].
Неудивительно, что такой левый защитник гражданских свобод, как Лир, приветствовал приход политики смысла почти как дар провидения. Лир написал исполненный горечи ответ в Washington Post, осуждая цинизм Краутхаммера по отношению к блестящему обобщению духовного кризиса в Америке, выполненному Хиллари Клинтон. «Светила нашей политики, нашей культуры и средств массовой информации, — заявил Лир, — стесняются серьезно говорить о жизни духа... Наша одержимость цифрами, тем, что поддается количественному определению, происходящим здесь и сейчас стоила нам связи с тем местом в каждом из нас, где в почете то, что нельзя выразить в количественной форме, и вечное — наша способность благоговеть, удивляться и постигать сокрытое; тем местом, где акты веры в превосходящем нас процессе в свое время приносят желаемый результат»[609].
Крик души Лира представляет собой почти буквальное воспроизведение неоромантических возражений против современного общества, которые вдохновляли фашистские движения в Европе и поиски «дела, большего, чем мы сами» американских прогрессивистов. Его слова вполне могли найти отклик у раннего Поля де Мана, Эзры Паунда и огромного количества других теоретиков и идеологов фашизма, которые осуждали чрезмерное увлечение Запада (в особенности это касалось евреев) цифрами и техническими абстракциями. Но еще более красноречив тот факт, что организация Лира «Американцы за американский путь» уступает, пожалуй, только Американскому союзу защиты гражданских свобод в деле пропаганды либеральной унификации. В судебных разбирательствах, взносах в пользу избирательной кампании, заключениях друзей суда, политической рекламе и благочестивых пресс-конференциях эта общественная организация подобно трудолюбивому каменщику возводит стену между церковью и государством, сокращая общественное пространство для традиционной религии и закладывая основу светской церкви либерализма.
Другими словами, Лир — убежденный сторонник «одухотворения» политики; но в его идеальной политической системе нет места для традиционной религии, ибо освятить поиск смысла и духовности должны не церкви или синагоги, а прогрессивное духовенство. Независимые источники моральной веры «сеют раздор» и должны быть подорваны, отгорожены, исключены из нашего «совместного проекта». Это означает, что с либеральными церквями проблем нет, потому что они воспринимаются (справедливо или несправедливо) как подчинившие религиозную доктрину политической. Как сказал Джон Дьюи в своем обзоре, посвященном светской религии государства, «если наши номинально религиозные учреждения научатся использовать свои символы и обряды для выражения и упрочения такой веры, они смогут стать полезными союзниками концепции жизни, которая находится в гармонии со знаниями и социальными потребностями». Гитлер выразился более кратко: «Против церкви, которая отождествляет себя с государством... я не имею никаких возражений»[610].
Консерваторы любят критиковать либералов за их «потребительское христианство», в соответствии с которым они выбирают из религиозного меню то, что им нравится, воздерживаясь от более грубых блюд. Однако это не только проявление лицемерия. То, что кажется несоответствием, на самом деле представляет собой дальнейшее развертывание гобелена «Социального Евангелия», обнаруживающее религию без Бога. Либералы, придерживающиеся принципа «потребительства», являются не столько непоследовательными христианами, сколько последовательными прогрессивистами.
Все в деревне...
Пожалуй, ни в одной работе нельзя найти более подробного изложения политической программы либерального фашизма, чем в бестселлере Хиллари Клинтон «Нужна целая деревня». Под ее обложкой скрываются все отличительные признаки фашистского мировоззрения. Тем не менее язык этой книги не представляется враждебным, националистическим, расистским или агрессивным. Напротив, книга изобилует выражениями любви и демократической симпатии. Но это только отвлекает от ее фашистской сущности, если фашизм сам по себе обозначает только зло или агрессию (или расизм и национализм). Фашистская суть книги «Нужна целая деревня» проявляется уже в ее названии. Оно восходит к мифическому и общинному прошлому. «Чтобы воспитать ребенка, нужна целая деревня» — это предположительно африканская пословица, авторство которой теряется в глубине веков. По словам П. Дж. О’Рурке, она дошла до нас из «древнего африканского царства Холлмаркардия»[611]. Клинтон обращается к этому древнему, но, по ее мнению, авторитетному источнику, чтобы оправдать необходимость реорганизации современного общества. Возможно, этот троп менее эффектен в сравнении с прагерманскими образами, которые были в ходу у национал-социалистов. Но разве он более рационален? Или менее романтичен? Еще более важно, что метафора деревни используется точно так же, как символ фасций ранее. Разница лишь в том, что фасции были символом военной эпохи; деревня же символизирует «эпоху материнства».
В представлении госпожи Клинтон деревня — это прекрасное место, где все получают поддержку, воспитание и заботятся друг о друге. Ее идея сводится к следующему: от принципа «все в государстве, ничего вне государства» к принципу «все в деревне, ничего за пределами деревни». «Деревня, — пишет она, — больше не может определяться как место на карте, или список лиц, или организаций, но ее суть остается прежней: это совокупность ценностей и отношений, которые поддерживают нас и влияют на нашу жизнь»[612]. В деревне Хиллари концепция гражданского общества гротескно деформирована. Традиционно гражданское общество — это свободное и открытое пространство, заполненное тем, что Бёрк называл «маленькими группами», независимыми объединениями граждан, которые преследуют свои собственные интересы и цели при отсутствии вмешательства или принуждения со стороны государства.
Хиллари понимает гражданское общество иначе. В книге, изобилующей похвалами в адрес всех мыслимых общественных организаций Америки, госпожа Клинтон упоминает о «гражданском обществе» только один раз. В одном-единственном абзаце она определяет это понятие как, по сути, еще один способ описания деревни. «Гражданское общество, — пишет она, — это просто термин, который социологи используют, чтобы описать, как мы работаем вместе для достижения общих целей»[613]. Нет, нет и еще раз нет. «Гражданское общество» — это термин, который социологи используют для описания того, как различные группы, отдельные личности и семьи работают для достижения своих собственных целей, вследствие чего общество становится в должной мере демократическим. Гражданское общество представляет собой развитую экосистему, состоящую из автономных образований — церквей, предприятий, добровольных и районных ассоциаций, профсоюзов и т. д., — которая помогает регулировать жизнь за рамками государственного контроля. Боулинг-лиги благодаря гарвардскому социологу Роберту Патнэму считаются архетипическим институтом гражданского общества. Они не выполняют функцию механизмов сотрудничества для достижения «общих целей». Покойный ныне Сеймур Мартин Липсет даже показал, что многие профсоюзы являются коррумпированными и нелиберальными, но пока они остаются независимыми от государства (и наоборот) они способствуют укреплению демократии.
Однако в деревне Хиллари Клинтон нет городской площади, где свободные мужчины и женщины и их добровольные объединения взаимодействуют друг с другом на своих собственных условиях без опеки государства. Частных деловых отношений нет в принципе, есть только «духовное сообщество, которое связывает нас с некоторой высшей целью» и которым управляет государство[614]. Этот принцип социальной общности возрожденный в облике социально-евангелического детского сада.
Давайте еще раз вспомним образ фасции, где множество слабых прутьев или тростинок собраны в вязанку как олицетворение силы в единстве. Первая глава книги госпожи Клинтон начинается с цитаты поэта Верны Келли: «Снежинки — это одно из самых хрупких творений природы, но посмотрите, что получается, когда они соединяются в единое целое»[615]. Это поэтичный образ, но разве от этого меняется его смысл? Клинтон снова и снова использует «бархатный молоток», чтобы вбить в головы читателей мысль о том, что только единство и партнерство могут спасти Америку.
Наиболее очевидной областью, где пересекаются теория и практика, является экономическая политика. Корпорации были в числе наиболее важных прутьев в фашистской вязанке, также известной как корпоративизм. В деревне Хиллари Клинтон мы видим то же самое. «Социально-ориентированные компании уже делают некоторые вещи, которые общественность должна поддерживать, а правительство по возможности поощрять путем внесения изменений в законодательство, призванных сделать их более привлекательными», — заявляет она. Сюда относятся меры из обычного списка пожеланий — от запрета на увольнение сотрудников до предоставления работодателем дневного ухода за детьми. Снова и снова Клинтон высвечивает уже довольно тонкую грань между корпорациями, университетами, церквями и правительством, надеясь сиянием своего взгляда стереть даже ее след. Оборонные предприятия работают под эгидой государства над созданием мирной продукции. Ура! Автомобильные компании сотрудничают с Управлением по охране окружающей среды для создания экологичных автомобилей. Да здравствуют автомобильные компании! Такие «социально-ориентированные корпоративные философские концепции — это путь к будущему процветанию и социальной стабильности»[616]. Все жители этой уютной «деревни» будут счастливыми и защищенными.
В целом все это выглядит просто замечательно. Но когда Клинтон попыталась реализовать именно такую концепцию в соответствии со своим планом реформирования здравоохранения, она действовала более жестко. Достаточно вспомнить ответ Хиллари на замечание о том, что ее план уничтожит огромное количество малых предприятий: «Я не могу сохранить каждое предприятие с недостаточным капиталом в Америке»[617]. Если они не могут быть частью решения, то кого заботят их проблемы?
Вечный корпоративизм
Я считаю, что нельзя говорить о Хиллари Клинтон, не упоминая ее плана реформ в области здравоохранения. Этот вопрос так подробно освещен, что навряд ли стоит во всех деталях описывать попытку Хиллари Клинтон взять под контроль 1/7 часть экономики США. Гораздо полезнее объяснить, почему ее план был неизбежным следствием усиления власти либерального правительства. В соратниках Клинтонов было нечто эзоповское. Например, когда Хиллари назначила своего старого друга, приятеля Билла и стипендиата Родса Айру Магазинера на пост главы специальной группы по реформированию системы здравоохранения, было понятно, что этот «колбасник» неизбежно создаст большой, управляемый государством корпоративный продукт. Почему? Потому что Магазинер занимается именно этим. Скорпион должен жалить лягушку, а Магазинер должен предлагать радикальные новые партнерства государственного и частного секторов, где все важные решения принимают эксперты.
Магазинер, который в 1969 году вместе с Хиллари попал на страницы журнала Life в роли лидера, был настоящим феноменом в Университете Брауна (тема его дипломной работы, как он сообщил Newsweek, предполагала не менее чем кантовский «поиск новой метафизики», нового ответа на вопрос «зачем быть хорошим»). На предпоследнем курсе он занялся изучением учебных программ своего университета и предложил альтернативный вариант, более «актуальный» и прагматичный, дающий возможность студентам самостоятельно определять содержание своего образования. Он создал собственный основной курс «Изучение человека» и написал доклад объемом почти в 500 страниц. Удивительнее всего то, что его учебный план в русле воззрений Дьюи (минимум оценок, максимум самопознания) был одобрен. С тех пор благодаря этой учебной программе Университет Брауна стал объектом насмешек для традиционалистов из «Лиги плюща» и предметом особой гордости для прогрессивистов[618].
В Оксфорде Магазинер возглавил выступления против войны во Вьетнаме и стал союзником потерпевшей поражение Ванессы Редгрейв. Джеймс Фэллоус, стипендиат Родса и в будущем составитель речей для Джимми Картера, а также специалист в области промышленного планирования, пояснил, что основное различие между Клинтон и Магазинером сводилось к «разнице между тем, кто планировал баллотироваться на должность президента, и тем, у кого не было таких планов». Когда Магазинер перебрался в Бостон, столицу штата Массачусетс, он создал в городе Броктон местную общественную организацию в духе Алинского — Хейдена. Позже он устроился на работу в Бостонскую консультационную группу, где объяснял представителям компаний, как следует вкладывать деньги в технологии будущего. Вскоре он стал предоставлять аналогичные консультации иностранным правительствам. В 1977 году ему поручили консультировать правительство Швеции. Конечный результат его усилий получил название «Основы шведской промышленной политики» (A Framework for Swedish Industrial Policy), где он призывал Швецию перестроить свою экономику сверху донизу, отказываясь от старых отраслей и инвестируя значительные средства в будущих победителей. Даже шведы (!) отклонили этот проект как наивный и негибкий. Руководство Бостонской консультационной группы было смущено настолько, что попыталось избавиться от этого отчета[619].
Один из представителей этой организации обрушился с гневной речью на Магазинера, обвинив его в неспособности осуществлять государственное планирование. Выслушав его, Магазинер решил создать собственную фирму. В 1979 году была основана компания Telesis, что в переводе означает «разумно планируемый прогресс». Этими же словами можно охарактеризовать в обобщенном виде суть содержания книги, которую вы держите в руках. В 1980 году Магазинер написал труд под названием «Японская промышленная политика» (Japanese Industrial Policy). В 1982 году в соавторстве с Робертом Райхом, сокурсником Клинтонов в Йельской школе права, а также стипендиатом Родса он выпустил еще одну книгу о промышленной политике. В 1984 году в возрасте 36 лет он составил масштабный план развития штата Род-Айленд. Этой был самый амбициозный проект такого рода за всю историю Америки. В плане, получившем название Greenhouse Compact, штат был представлен в виде «парника» для «выращивания» технологий, которые были выбраны благодаря проницательности правительства, но оказались невостребованными на рынке. Избиратели штата Род-Айленд без лишних раздумий отклонили этот проект. Продолжать в том же духе можно еще очень долго, но вы уже поняли суть.
Итак, можно ли поверить, что Клинтоны, знавшие Магазинера в течение 20 лет, считали, что он способен создать что-нибудь, кроме еще одной корпоративистской стратегии для американского здравоохранения, когда они выбрали его? Все исследования, совещания, штабеля отчетов и горы папок — все это были реквизиты в танце кабуки, который был спланирован и отрепетирован заблаговременно.
Или взять, например, еще одного выпускника Йельского университета, Роберта Райха. Мы уже говорили о его взглядах относительно промышленной политики и «третьего пути». Но Райха в первую очередь следует рассматривать как истинного последователя религии правительства. В предыдущих главах я сознательно пренебрегал психологическим теоретизированием, но ведь, по сути, Роберт Райх — это не кто иной, как ходячий сорелианский миф, человек-оркестр, выдающий порции благородной лжи на благо своего дела.
В своих мемуарах о правлении Клинтона «Запертый в кабинете» (Locked in the Cabinet) Райх описывает карикатурный мир в духе творений Томаса Наста, где он постоянно ведет борьбу с жадными «жирными котами», социальными дарвинистами и господином Монополистом. В одной из сцен повествуется о том, как он говорил горькую правду представителям Национальной ассоциации промышленников. Это происходило в заполненной клубами сигарного дыма комнате, где его окружали враждебные люди, неодобрительные возгласы и шиканье которых перемежались с проклятиями. Джонатан Раух, один из лучших журналистов и мыслителей Вашингтона, посмотрел видеозапись заседания. Атмосфера была вежливой и даже теплой. Никто из присутствующих не курил. Кроме того, третья часть аудитории была женской. В другом эпизоде Райх писал о том, как во время одного из враждебных слушаний некий конгрессмен подскакивал и орал: «Доказательства! Доказательства!». Раух снова обратился к записи. Вместо допроса имело место обычное «скучное, вполне занудное заседание», а большинство заявлений, которые Райх приписывал своему мучителю, были просто «сфабрикованы» им самим. Более того, значительная часть его книги — это сплошной вымысел, который тем не менее очень узнаваем. На каждом шагу люди говорят вещи, подтверждающие карикатурную версию реальности Райха. Член палаты представителей Роберт Мишель, бывший лидер республиканцев в Конгрессе, якобы заявил Райху, что Ньют Гингрич и компания «говорят так, как будто они заинтересованы в идеях, благоприятных для Америки. Но не обманывайте себя. Они намерены разрушать. Они попытаются уничтожить все, что окажется на их пути, используя любые доступные средства». Мишель никогда не говорил ничего подобного[620].
На просьбу журнала Slate объяснить это противоречие, Райх сказал: «Понимаете, эта книга — мемуары. Это не журналистское расследование». Раух, в свою очередь, спросил его о его байках: «Ты просто выдумал их?». Райх ответил: «Они из моего дневника». Наконец, Райх просто прибег к чистому релятивизму: «Больше всего я верю своему восприятию»[621]. Иными словами, он говорит в свою защиту, что на самом деле видит мир таким. И снова, если Райх способен изменять реальность так, чтобы она соответствовала его политической и моральной концепции, если он склонен видеть мир как совокупность жизненной лжи и полезных мифов, как же Клинтоны могли ожидать, что он сделает что-либо, что будет отличаться от его принципов? Навряд ли Клинтонам не были знакомы убеждения их старых друзей. Политический манифест Билла Клинтона «Интересы народа прежде всего» (Putting People First), по сути, представляет собой юбилейный сборник Магазинера-Райха.
Такими людьми, как Райх, движет стойкая убежденность в том, что они делают правое дело. Они должны помочь людям и поэтому не обязаны играть по правилам. Кроме того, по их утверждениям, они являются не только представителями светских кругов, но и прагматиками, которых не сковывают догмы, в отличие от закоснелых консерваторов. Обстоятельства меняются, поэтому наши идеи также должны изменяться. Или, как говорит Джонатан Чейт из New Republic, «непоследовательность — это всего лишь естественный побочный продукт философии, основанной на экспериментировании и отказе от идеологической определенности». Это немного напоминает высказывание Муссолини, цитируемое в том же журнале Чарльзом Бирдом. «Фашисты, — объявил дуче, — это цыгане итальянской политики; не связывая себя какими-либо жестко определенными принципами, они продолжают неустанно идти к единственной цели, будущему благополучию итальянского народа»[622].
Подумайте о детях
Такая самоуверенность не может действовать в вакууме. Ей требуется определенный механизм, позволяющий убедить или заставить других отказаться от своих интересов ради общего блага. Бывший редактор New Republic Джордж Соул, автор книги «Планируемое общество» (A Planned Society) (которая сделала популярной фразу «мы запланировали войну») хорошо объяснила это. Важнейший из «уроков нашего военного планирования» состоит в том, что «нам необходима цель, которая способна обеспечить всеобщие лояльность и энтузиазм». В книге «Нужна целая деревня» Клинтон восхищается способностью кризисов стирать границы между бизнесом и правительством, но сетует, что социальные выгоды от стихийных бедствий и войн являются временными. «Почему для пробуждения человечности нам необходим кризис?»[623] В ответ на этот вопрос либералы создавали один «кризис» за другим в поисках нового морального эквивалента войны, от войны с раком и глобального потепления до бесчисленных предполагаемых экономических кризисов. Более того, краткое прочтение левой экономической периодики за последние сто лет создает впечатление, что век наибольшего процветания в человеческой истории представляет собой один глобальный продолжительный экономический кризис.
Но нам следует вернуться к избранному кризису Хиллари Клинтон — детям. Само понятие «дети» было создано для того, чтобы обойти традиционные политические процессы. Об этом свидетельствует вводная статья, где выделяется целая категория человеческих существ, ради блага которых могут считаться оправданными любые нарушения принципа ограниченного правительства.
Конституционно упорядоченные либеральные общества, как правило, считают гражданами взрослых людей, которые несут ответственность за свои действия. Но дети — это «ахиллесова пята» любого общества (если бы теория либертарианства учитывала интересы детей и решала проблемы внешней политики, она стала бы идеальной политической философией). К детям мы относимся лояльно. Мы вполне обоснованно расцениваем их поступки по другим правилам и обычно не привлекаем их к ответственности за их решения. «Спасители детей» «прогрессивной эры» превосходно использовали эту слабость в своих интересах. В современную эпоху вторую жизнь этой традиции дала Мэриан Райт Эдельман, основательница Фонда защиты детей, давняя подруга и наставница Хиллари Клинтон.
Эдельман по праву может считаться ведущей либеральной активисткой. Журнал Harper's Bazaar назвал ее «матерью всей Америки». Подобно рождественской елке, которая сгибается под тяжестью огромного количества украшений, ее послужной список изобилует почетными званиями и наградами, такими как Президентская медаль Свободы, стипендия Фонда Макартуров, премия Альберта Швейцера за гуманизм, премия Роберта Ф. Кеннеди за выдающиеся достижения и т. д. Ее организация получает щедрые взносы от огромных корпораций, жаждущих купить благодать подешевле. Эдельман начала свою карьеру с работы в Национальной ассоциации содействия прогрессу цветного населения и в конце концов оказалась в Йельской школе права и в Вашингтоне как политический деятель и основательница Фонда защиты детей. Это, несомненно, добрая и самоотверженная женщина, глубоко религиозная и чтящая традиции «Социального Евангелия». Вдохновляющие высказывания Эдельман затрагивают вопросы социального обеспечения, защиты гражданских прав и прав женщин. Социальная «индустрия» — самое подходящее название для этих сетей, способствующих росту самоуважения, призывающих оказывать взаимные услуги, создавать официальные фонды по сбору средств. Цитаты из Эдельман настолько часто встречаются в данной сфере, что их вполне можно объединить в либеральное подобие маоистской маленькой красной книжки для истовых приверженцев общественных инициатив. «Служение — это плата за право жить. Это цель жизни, а не то, что вы делаете в свободное время», — заявляет она. «Кто сказал, что кто-либо вправе сдаться?» — вопрошает она. «Никто не имеет права подвергать сомнению ваши мечты», — утверждает она.
Хотя вряд ли кто-то станет отрицать правильность ее кампаний за равноправие негров и десегрегацию, наибольшее влияние Эдельман оказала на политику в области социального обеспечения, где ее идеи о том, как следует организовать общество и американскую политику, оказались абсолютно неверными. Во многих отношениях Эдельман была типичным либералом, исповедующим принципы государства всеобщего благосостояния, считая, что чем больше размер компенсаций и субсидий, тем лучше. Главным ее нововведением стала защита системы социального обеспечения от эмпирической критики — предметом которой являлось отсутствие желаемых результатов за счет использования образа бедных детей. «Когда вы говорите о бедных или черных людях, число ваших слушателей уменьшается», — сказала она. «Я подумала, что дети могут быть очень эффективным средством для расширения базы изменений». Кроме того, Эдельман более, чем кого-либо другого, можно винить в набившей оскомину вездесущности слова «дети» в американской политической риторике[624].
В глобальном смысле эта тактика была превосходной, однако суть проблемы в том, что она привела к невозможности проведения ответственных реформ. В конце концов причиной «уменьшения» количества «слушателей», желающих внимать речам о необходимости расширения государства всеобщего благосостояния, стала очевидность того, что государство всеобщего благосостояния способствует иждивенчеству среди чернокожих женщин и отчуждению среди черных мужчин. В результате защитники существующего положения вещей стали еще решительнее критиковать своих оппонентов. Это и привело к использованию слова «дети» и злоупотреблению им.
Традиционные возражения против системы социального обеспечения, которая якобы нарушала конституционные принципы и способствовала подрыву гражданских ценностей (эти возражения только в конце 1970-х годов восстановили свои позиции), вдруг потеряли актуальность. Эдельман, Клинтон и другие преобразовали этот спор в дебаты о детях. Какая разница, если, как считал и Франклин Делано Рузвельт, «пособия» в конечном счете пагубно отражаются на взрослых, подрывая их инициативу? Влияние социальной помощи на взрослых не имело значения. Чеки на получение пособий предназначались для детей, а не для их родителей (даже если обналичивали их родители). Кроме того, одним из трагических последствий этой стратегии было использование детской бедности для подавления чувств независимости и гордости среди городских чернокожих. Джеймс Бовард отмечает, что, когда Конгресс издал распоряжение о выпуске продовольственных талонов, «вербовщики» из системы социального обеспечения (сто тысяч таких рабочих мест было создано в рамках «Войны с бедностью») пошли в города, для того чтобы убедить бедных людей принять участие в этой программе. В одном из журналов департамента сельского хозяйства сообщалось, что служащие, занимавшиеся реализацией программы продовольственных талонов, нередко подавляли гордость людей, сообщая родителям: «Это для ваших детей». Дальше говорилось: благодаря «значительным усилиям в области работы с местной общественностью сопротивление “слишком гордых” слабеет»[625].
Возможно, не менее важно то, что такие действия создавали прекрасные условия для пропаганды либералов. Рональд Рейган получил шанс для нападения на «королев на пособии» (welfare queens). Но никто не осмелился бы напасть на несчастное потомство этих женщин. Совершенно неожиданно критика политики социального обеспечения стала превращать того, кто ее высказывал, в «противника детей», породив таким образом все эти либеральные тезисы о переложении дефицита бюджета на «спины детей». Это отлично соответствовало психологической пропаганде, согласно которой консерваторы — это просто плохие люди, а любые отклонения от политики государства всеобщего благосостояния обусловлены «ненавистью». Уязвимым оказался даже Билл Клинтон. Когда он подписал законопроект реформы системы социального обеспечения, Питер Эдельман ушел с поста помощника министра здравоохранения и социальных служб, а Мэриан Эдельман назвала действия Клинтона «моментом позора». «Никогда не следует путать то, что является законным, с тем, что является правым», — провозгласила она, многозначительно добавив: «Все, что Гитлер делал в нацистской Германии, было законным, но это не было правым». Фонд защиты детей осудил этот шаг как акт «оставления детей государством», в то время как Тед Кеннеди назвал его «жестоким обращением с детьми с согласия закона». Обозреватель New York Times Анна Квиндлен окрестила этот законопроект «политикой подлости»[626].
Однако Фонд защиты детей и другие подобные организации, выросшие как грибы на почве Великого общества, проводили довольно нечистоплотную политику. В результате государство всеобщего благосостояния, несмотря на то, что оно основывалось на принципах любви, заботы и доброты, принесло больше вреда черным семьям и особенно черным детям, чем расистское пренебрежение. Сегодня у черных детей меньше шансов на воспитание в полной семье, чем в эпоху рабства.
Хотя Хиллари Клинтон, возможно, научилась у Эдельман использовать детей в качестве средства пропаганды для ее идеологической программы, она далеко превзошла своего учителя в масштабах своих честолюбивых замыслов. Для Клинтон политика социального обеспечения была просто одним из фронтов в более глобальной войне. Кризис, с которыми сталкиваются дети, был не только проблемой бедных обитателей центральной части города. Для Хиллари само детство является кризисом, и правительство должно прийти на помощь. В этом вопросе она остается удивительно последовательной. В своей статье «Дети согласно закону» (Children Under the Law), опубликованной в 1973 году в журнале Harvard Educational Review, она критиковала «притворство», в соответствии с которым «проблемы детей каким-то образом оказываются вне сферы политики» и с презрением отвергла мысль о том, что «семьи — это частные, неполитические единицы, интересы которых включают в себя интересы детей». 23 года спустя, 24 апреля 1996 года, в своем обращении к Генеральной конференции объединенных методистов она заявила: «Как взрослые люди мы обязаны начать думать и понимать, что на самом деле чужих детей не бывает... По этой причине мы не можем допустить, чтобы обсуждение детских и семейных проблем подрывалось политическими или идеологическими дискуссиями»[627].
Эти две цитаты на первый взгляд противоречат друг другу, но обе они подчинены одной цели. Все дело в том, что в 1996 году Хиллари Клинтон была политиком, тогда как в 1973 году она была радикальным адвокатом. Говоря о том, что мы не можем допустить того, чтобы идеологи «подрывали» дискуссии о детях, она подразумевала, что не может быть никаких обсуждений по поводу того, что следует делать с детьми. Что нужно сделать, так это уничтожить неограниченную тиранию, царящую в каждом доме, по словам необычайно популярной у прогрессивистов Шарлотты Перкинс Гилман.
Эту «сияющую надежду» (по образному выражению Гилман) можно воплотить только в том случае, если дети будут определены как класс, который постоянно находится в состоянии кризиса. Во многом подобно тому, как пролетариат изображался марксистами в постоянном состоянии войны ввиду угрозы, которую представляли для нации классические фашисты, с точки зрения Хиллари, жизнь детей подвергается невероятной опасности. В доказательство она приводит слова психолога из Корнеллского университета Ури Бронфенбреннера: «Современное состояние детей и семей в Соединенных Штатах представляет собой самую значительную проблему нашей страны с момента основания республики. Оно подрывает наши основы». В заключение она говорит: «В то время, когда благосостояние детей находится под беспрецедентной угрозой, соотношение сил явно не в их пользу». Правительство должно сделать все возможное, чтобы «справиться с кризисом, затронувшим наших детей. Дети в конце концов тоже являются гражданами»[628].
Наконец-то был найден «моральный эквивалент войны», вокруг которого могли сплотиться современные либералы, «кризисный механизм», который никто не посчитал бы фашистским, потому что когда вы говорите «дети», штурмовики — это последнее, что может прийти вам в голову. Никто не хочет, чтобы его считали противником детей. «Детский кризис» не нуждался в определении, потому что у него не было границ. Даже бездетные люди должны заботиться о детях других людей. «Быстрая еда» оказалась под ударом потому, что она делает детей толстыми, а решения в области питания нельзя оставлять на усмотрение родителей. «Всемерно осуждаемые изделия “большого табака”, большие порции и “большая еда” — все это угроза номер один для детей Америки», — предупреждал журнал Nation. Администрация Клинтона и ее активисты оправдывали политику контроля за производством огнестрельного оружия тем, что оно представляет угрозу для детей. «Мы больше не будем молчать, когда лобби производителей оружия отказывается ставить здоровье и безопасность наших детей на первое место», — жестко заявила Хиллари Клинтон во время дебатов в сенате в 2000 году[629].
Сейчас об этом не помнят, но в начале правления Клинтона такое мышление было распространено очень широко. Джанет Рино, занявшая пост главы правоохранительных органов США в рамках гендерных квот, сделала защиту детей своей главной задачей. «Я хотела бы использовать закон этой страны, чтобы сделать все, что в моих силах, — заявила она после вступления в должность, — и дать каждому из них возможность стать сильным, здоровым и самодостаточным гражданином этой страны». Рино, хотя помнят об этом далеко не все, привлекла к себе внимание всей нации как прокурор, которому удалось добиться обвинительных приговоров в серии громких судебных дел о применении сексуального насилия в отношении детей. Многие из них, как позже выяснилось, были сфабрикованы, вследствие чего рвение Рино в ретроспективе не вызывает особого восхищения. Когда она прибыла в Вашингтон как первая женщина, занявшая один из четырех главных постов в правительстве, она была полна решимости в первую очередь посвятить себя защите интересов детей, предложив свою «государственную детскую программу». «У детей Америки, двадцать процентов из которых живут в нищете, нет никого, кто мог бы их защитить», — заявила Рино[630]. Рвение Рино в качестве защитницы детей, несомненно, повлияло на ее решение относительно окончившегося катастрофой штурма укрепленной базы воинственной секты «Ветвь Давидова» в городе Уэйко, штат Техас.
Тем не менее Джанет Рино была как раз таким генеральным прокурором, который, по крайней мере в теории, требовался автору книги «Нужна целая деревня». Клинтон описывает огромную сеть активистов, адвокатов, организаций, ассоциаций, доброхотов, бюрократов и любителей вмешиваться во все подряд, составляющих армию «квалифицированных граждан», задача которой состоит в защите интересов деревни применительно к нашим детям. «Невозможно переоценить значение посещения на дому», — заявляет она в избытке чувств. «Деревне нужен глашатай — а также тот, кто будет напоминать и подгонять»[631]. Опять же, снимите налет притворства с этого заявления и уловите суть. Представьте себе, что, например, бывший генеральный прокурор Джон Эшкрофт заявил: «Невозможно переоценить значение посещения на дому». На него тотчас бы обрушился целый шквал обвинений в фашизме.
Наиболее важным «фронтом» на «войне» во имя защиты детей объявляются первые три года жизни ребенка. Эти драгоценные моменты настолько важны, что мы не можем оставить родителей один на один с возникающими проблемами. Соответственно необходим широкий спектр программ, которые позволят включить родителей в систему социальных связей, призванную облегчить выполнение их обязанностей. Как отметил Кристофер Лаш задолго до выхода в свет книги «Нужна целая деревня», Клинтон «верит в “программы”. Внедрение таких детских проектов, как федеральная программа развития сети дошкольных учреждений, детские сады, центры медицинского обслуживания беременных и охраны здоровья матери, детские клиники, программы оценки стандартов в государственных школах, программы вакцинации, программы детского развития, — надежный показатель прогресса, по мнению Хиллари Клинтон»[632].
XX век дал нам две концепции мрачного будущего: «О дивный новый мир» Олдоса Хаксли и «1984» Джорджа Оруэлла. На протяжении многих лет роман «1984» считался более пророческим. Но теперь ситуация изменилась. Тоталитаризм романа «1984» был продуктом эпохи Сталина, Ленина, Гитлера и Муссолини, диктаторов континента с давней традицией политического и религиозного абсолютизма. «О дивный новый мир» был антиутопией, основанной на представлении о будущем Америки, где Генри Форда вспоминают как мессию (действие романа происходит в год «632 A.F.», т. е. «после Форда»), а глубоко презираемый Хаксли культ молодости описывается как определяющая черта общества. Во Всемирном Государстве нет никаких проблем. Все счастливы. Более того, главной дилеммой для читателей становится поиск ответа на вопрос, что не так в этом «дивном новом мире».
Между этими двумя антиутопиями есть еще одно важное различие: «1984» представляет собой мужскую концепцию тоталитаризма. Можно даже сказать, что это концепция мужского тоталитаризма. Тоталитаризм Хаксли вовсе не «сапог, навечно оставляющий на человеческом лице отпечаток», как написано в «1984». Это тоталитаризм с созданными усилиями биоинженеров улыбающимися, счастливыми людьми, жующими гормональную жевательную резинку и жизнерадостно выполняющими то, что им говорят. Демократия — это забытая причуда, потому что жизнь намного проще, когда государство принимает за тебя все решения. Одним словом, тоталитаризм Хаксли по своей сути является женским. Антиутопия Оруэлла была антиутопией отцовского типа, где государство использует методы насилия и запугивания и сохраняет свою власть, поддерживая атмосферу войны и создавая «удобных» врагов. У Хаксли мы видим материнский вариант тоталитаризма, когда человек подавляется не жестокостью, а заботой. Но, несмотря на все наши современные разговоры о мужественности, индивидуализме и даже «государстве-няне», у нас все еще нет терминов, позволяющих противостоять хорошему тоталитаризму, либеральному фашизму.
Учитывая это различие, давайте снова обратимся к книге «Нужна целая деревня». На протяжении многих страниц Клинтон восхваляет идею, согласно которой почти все проблемы относятся к сфере здравоохранения. Развод следует воспринимать как «проблему общественного здоровья» в силу того, что он порождает у детей стресс. Вопросы здравоохранения относятся к основам воспитания, потому что от того, «как младенцев держат, прикасаются к ним, кормят, разговаривают с ними и смотрят на них», зависит, насколько нашим сознанием могут овладеть эмоции, толкающие нас на совершение насилия. Госпожа Клинтон говорит нам о том, что Джанет Рино опубликовала доклад, согласно которому групповое насилие и применение огнестрельного оружия свойственно людям, не получавшим в раннем возрасте достаточного внимания, которым для потери контроля над своими эмоциями достаточно малейшего повода. Ссылаясь на мнения врачей, активистов, социальных работников и случайно выбранных обычных американцев, во многих главах своей книги она выступает за вмешательство в семейную жизнь американцев в интересах детей буквально с момента их рождения. Дети нуждаются в «мягком, близком, последовательном взаимодействии», позволяющем снизить риск возникновения стрессовых ситуаций, которые могут «породить чувство беспомощности, что повлечет за собой в дальнейшем проблемы в развитии». Даже обеспеченным родителям требуется помощь, потому что стресс так или иначе испытывают все, при этом «нам известно, что младенцы реагируют на стресс»[633].
Справедливости ради стоит сказать, что если государство своей властью может снять родительский стресс, то это государство с полномочиями в духе антиутопии Хаксли. И государство с максимальными полномочиями должно по логике идти на крайние меры. Поэтому Клинтон ратует за то, чтобы обучение родителей шло на всех уровнях общественной жизни. Вот одно из таких предложений: «Видеоролик по основам ухода за младенцами, показывающий, как вызвать отрыжку у новорожденных, что делать, когда мыло попадает в глаза, как успокоить ребенка с болью в ухе, можно было бы непрерывно демонстрировать в кабинетах врачей, клиниках, больницах, в автотранспортных ведомствах или любых других местах, где собирается много людей, которые вынуждены ждать»[634]. Представьте себе, что идеи такого рода были бы реализованы в полном объеме на транспорте, в паспортных столах и в других местах, «где собирается много людей, которые вынуждены ждать». Гигантские плоские экраны в аэропорту, демонстрирующие советы по грудному вскармливанию. Огромные телевизоры на футбольных матчах. В какой момент вам покажется, что «дивный новый мир» уже совсем рядом?
Наконец, есть жилищные инспекторы, консультанты, учителя, социальные работники. Клинтон полагается на свою преданную армию экспертов, готовых в любую секунду дать совет по любому, самому незначительному аспекту воспитания детей; существенна малейшая деталь, любое побуждение представляется полезным и важным. «Активисты кампании за повышение качества ухода за детьми... говорят о том, что паззлы и карандаши хороши для дошкольников, но не подходят для детей младшего возраста». «Комиссия по безопасности товаров широкого потребления, — любезно сообщает Хиллари Клинтон, — пришла к выводу, что вечеринки для будущих матерей с особым акцентом на безопасности — это прекрасная возможность помочь недавно родившим и беременным женщинам сделать безопасными для детей все комнаты в своем доме»[635].
Руссо намеревался забрать детей у родителей и воспитывать их в государственных школах-интернатах. Клинтон не заходит так далеко, но, с другой стороны, она считает, что к тому времени, когда детям пора идти в школу-интернат, принимать меры уже слишком поздно. Этим объясняется ее приверженность дневному уходу за детьми. Конечно, здесь есть еще один важный момент. Тема «дневного ухода» — это также Святой Грааль для феминисток, родившихся в период всплеска рождаемости, которые считают, что освобождать следует не детей от семьи, а матерей — от детей.
Для того чтобы победить в войне против засилья патриархата, феминисткам пришлось полагаться на сорелианские мифы, благородную ложь и кризисные механизмы. Например, в 1998 году президент Клинтон предложил потратить 22 миллиарда долларов на реализацию федеральной программы дневного ухода для преодоления того, что Хиллари назвала «тихим кризисом» в системе дневного ухода за детьми. Клинтон также использовала выражение «тихий кризис» в своей книге «Нужна целая деревня», описывая тяжелое положение детей в целом. Эти кризисы являются тихими по той же причине, по которой «молчат единороги», — их не существует. Вернее, существуют, но только в сердцах и умах прогрессивных «реформаторов». Хотя о восьми из десяти детей заботятся члены их семей, только 13 процентов опрошенных родителей назвали поиск учреждений по уходу за детьми «серьезной проблемой». Незадолго до того, как Белый дом провел проповедующую идею кризиса конференцию по вопросам ухода за детьми, которая была призвана заложить основу для плана Хиллари, лишь один процент американцев назвали уход за детьми одной из двух или трех наиболее насущных проблем, требующих решения правительства. А опросы женщин, проводившиеся с 1974 года, показали, что все большее количество замужних женщин хотят оставаться дома со своими детьми при наличии такой возможности.
Стремление женщин самостоятельно воспитывать своих детей скорее всего обусловлено интуитивным пониманием того, что при прочих равных условиях дневной уход, предоставленный государством, не самый лучший вариант для детей. Доктор Бенджамин Спок знал об этом еще в 1950-е годы, когда писал, что детские сады «не годятся для детей». Но когда он переиздал свое знаменитое руководство «Ребенок и уход за ним» (Baby and Child Care) в 1990-е годы, он убрал этот совет под давлением феминисток. «Я поступил как трус, — признается он. — Я просто выбросил этот пункт из последующих изданий». Если, как часто заявляют либералы, подавление науки ради достижения политических целей есть проявление фашизма, то кампанию, нацеленную на сокрытие темных сторон воспитания детей в дошкольных детских учреждения, безусловно, следует считать фашистской. Например, в 1991 году доктор Луиза Силверстайн написала в журнале American Psychologist о том, что «психологи должны отказаться от проведения любых исследований, нацеленных на выявление негативных последствий других видов ухода за детьми, кроме материнского». По ее мнению, традиционная концепция материнства — это не более чем «идеализированный миф», выдуманный сторонниками патриархата для «прославления материнства в их стремлении поощрить белых представительниц среднего класса иметь больше детей»[636].
Речь не идет о том, что Клинтон и другие пропагандируют политику, которую они считают плохой для детей. Это уподобило бы их карикатурным злодеям. Скорее, они искренне верят, что общество было бы гораздо лучше, если бы все мы воспринимали детей других людей как своих собственных. Они на самом деле убеждены, по словам философа-феминистки Линды Хиршман, что женщины не могут стать «полностью реализованными человеческими существами», если материнство для них более важно, чем работа. В некотором смысле Хиршман является феминистским аналогом Майкла Лернера, который считает, что в ее работе сфокусирован весь смысл. Ее презрение к женщинам, которые не полностью посвящают себя работе, почти осязаемо[637]. И, как отмечают другие феминистки, если выбор в пользу дневного ухода будет связан для женщин с ощущением стыда или осуждением со стороны других людей, эти отрицательные эмоции получат выход в виде деформирующего мозг стресса.
Некоторые выражают свой прогрессивный утопизм на языке прагматизма. Сандра Скарр, возможно, самый цитируемый специалист в области альтернативных материнскому вариантов ухода за детьми в Америке и в прошлом — президент Американского психологического общества. «Каким бы желательным или нежелательным ни был идеал материнского ухода, — говорит она, — он совершенно нереален в мире в конце XX века». Это утверждение выглядит достаточно оправданным. Но главная ее мысль остается скрытой. Нам необходимо создать «идеальных детей нового века». Ой-ой! Остерегайтесь социальных инженеров, которые хотят «создать» новый тип человека. Эти новые дети должны научиться любить всех как членов свой семьи. «Множество привязанностей к другим людям станут идеалом. Застенчивость и исключительная привязанность к матери будут казаться отклонением. Для детей с исключительной привязанностью к матери будут разработаны новые методы лечения»[638]. Вы уже видите на горизонте «дивный новый мир»?
К числу этих «методов лечения» (один из вариантов обозначения пропаганды) относятся книги, которые пытаются установить дистанцию между матерями и детьми, такие как «Мама, уходи!» (Mommy Go Away!) и «Почему ты все время ко мне пристаешь?» (Why Are You So Mean to Me?). В своей книге «Нужна целая деревня» Клинтон приводит пример районного дошкольного воспитательного учреждения Вашингтон-Бич, Рослиндейл, штат Массачусетс, где «директор Эллен Вольперт побуждает детей играть в такие игры, как Go Fish[639] и Concentration, используя при этом карточки с картинками, на которых изображены мужчины с детьми на руках, забивающие гвозди женщины, пожилые мужчины на лестницах, седые женщины на скейтбордах и которые не соответствуют привычным образам»[640]. Такие вещи также нашли применение в прогрессивных начальных школах, где гендерные нормы часто подвергаются критике, как описано в книге Кристины Хофф Соммерс «Война против мальчиков» (War Against Boys).
Одним словом, дневной уход не плох для детей. Плохи традиционные буржуазные стандарты, в соответствии с которыми мы судим о том, что хорошо для детей, а что плохо; облагороженный аналог усилий нацистов, нацеленных на отлучение молодых людей от закоснелых традиций их родителей. Нацистам блестяще удалось заменить традиционные рассказы и сказки байками об арийской храбрости, божественности Гитлера и т. п. Математические задачи стали средством идеологической обработки, действующей на уровне подсознания; дети по-прежнему изучали математику, только теперь в задачах речь шла об артиллерийских траекториях и количестве продовольствия, которое тратится на дефективных и других представителей меньшинств. Христианская мораль постепенно изгонялась из школ, а преподаватели были обязаны основывать свои моральные наставления на «светских» патриотических идеях. «Идея верности была настолько же значима для германского народа, насколько она значима сегодня для нас», — говорили учителя своим ученикам. Действительно, преданность Гитлеру и государству всячески внедрялась в сознание детей, а лояльность по отношению к собственным родителям искоренялась всеми возможными способами. Эти дети должны были стать новыми мужчинами и новыми женщинами новой эпохи.
Очевидно, что содержание слащавого либерализма, который внушается современным детям, совершенно иное. Но есть и такие черты сходства, которые вызывают тревогу. Хорошими будут считаться те дети, которые в большей степени привязаны к «сообществу» и в меньшей — к своим родителям. Фашистские поиски нового человека, живущего в новом, тоталитарном обществе, в котором каждый человек чувствует теплые и любящие объятия государства, снова востребованы.
Последний шаг в будущее в духе Хаксли для Хиллари Клинтон можно считать философским, даже метафизическим. Представления Клинтон о детях отличаются большей универсальностью, чем ей кажется. Клинтон говорит: «Я никогда не встречала глупого ребенка» и утверждает: «В числе самых лучших богословов, которых мне когда-либо приходилось видеть, были пятилетние дети»[641]. Не позволяйте сентиментальной оболочке скрыть от вас суть данного высказывания. Завышая интеллектуальный статус детей, она одновременно занижает авторитет и самостоятельность взрослых. В мире, где дети неотличимы от взрослых, не станут ли взрослые подобными детям?
В либеральном культе детей явно прослеживается фашистская мысль. Дети и молодежь движимы страстью, чувствами, эмоциями, свободолюбием. Эти ценности были в почете у фашистов. Юность — это период, когда хочется совершать «необдуманные» поступки. Эти настроения, в свою очередь, тесно связаны с имеющим нарциссическую природу популизмом, который главным образом ориентируется на инстинкты масс. «Я хочу это сейчас, и мне все равно, если это против правил» — это в сущности детское популистское желание. Фашизм — это разновидность популизма, потому что лидер устанавливает «родительскую» связь со своими «детьми». Без эмоциональной связи между лидером и «народом», фюрером и нацией фашизм невозможен. «Я на вашей стороне», «я один из вас», «это наше общее дело», «я знаю, что такое быть в вашей ситуации» — вот типичные заявления любого фашистского и популистского демагога. Как говорит герой романа Роберта Пенна Уоррена «Вся королевская рать» (All the King’s Men) Вилли Старк, обращаясь к внимающей ему толпе: «Ваша воля — это моя сила. Ваша нужда — это моя справедливость». Аргументы, факты, разум — все это вторично. «Народ штата Небраска выступает за свободную чеканку серебряных монет, и я тоже являюсь сторонником свободной чеканки серебряных монет», — заявлял Уильям Дженнингс Брайан, самый любимый популист Америки. — Аргументы я найду позднее»[642].
Билл Клинтон постоянно заявлял о своей способности «чувствовать нашу боль». Многочисленные наблюдатели удивлялись его способности «подпитываться» от толпы, черпать энергию масс. Журналисты часто называли его «эмпатией» за его способность предугадывать желания аудитории. Это очень важное умение в политике, но никогда не следует забывать о том, что демагоги являются в первую очередь необычайно ловкими политиками.
Конечно, демагогия Клинтона по своей природе была явно женской. Он обещал раскрыть вам свои объятия, почувствовать вашу боль и защитить вас от «злых ребят» (республиканцев и «озлобленных белых мужчин»). Его девизом стало слово «безопасность» — экономическая безопасность, социальная безопасность, защищенность от глобализации, преступности, потери рабочих мест, чего угодно. Он был «первым президентом-женщиной», по мнению феминистской писательницы Мэри Гордон. Когда его обвиняли в провале или ошибке, его типичным ответом была фраза, характерная для перегруженной матери-одиночки: «Я так много работаю» — словно это было адекватной заменой правоты и эффективности. Его защитники, по существу, утверждали, что он выше закона, потому что, по словам Кэтлин Салливан из Стэнфордского университета, он был единственным человеком, который работает для всех нас двадцать четыре часа в сутки. Другими словами, он не был человеком; он был государством в его материнском воплощении. Безусловно, многим американцам нравилась его политика — или же им так казалось, потому что экономическое положение страны было стабильным — но они любили его за его удивительную материнскую заботу. Политическая эстетика в данном случае не отличалась новизной. Как отмечал Геббельс, говоря о популярности своего фюрера, «весь народ любит его, потому что чувствует себя в безопасности в его руках, как ребенок на руках своей матери»[643].
Был ли Билл Клинтон фашистским президентом? Он, конечно же, верил в первичность эмоций и в превосходство своего интеллекта. Он изрекал благородную ложь с безрассудной несдержанностью. Будучи поклонником Хьюи Лонга, он разделял презрение «диктатора кукурузных лепешек» к правилам и обладал таким же талантом к демагогическим призывам. Он был преданным сторонником «третьего пути», если таковой когда-либо существовал, и искренне поддерживал «новую политику» Кеннеди. Но я думаю, что если мы можем назвать его фашистом, то лишь в том смысле, что он был «губкой» для идей и эмоций либерализма. Сказать, что он сам был фашистом — это значит необоснованно наделить его принципами и идеологией, которые не были ему присущи. Он был таким президентом, которого либеральный фашизм мог произвести только в скучную и невыразительную эпоху. Но самое главное, если он и был фашистом, то лишь потому, что именно этого хотели американцы. Мы жаждали участия, потому что чувствовали, что мы заслуживаем того, кто станет о нас заботиться.
Хиллари Клинтон хорошо усвоила этот урок, когда решила баллотироваться на государственную должность в первый раз. Госпоже Клинтон всегда будет недоставать природного политического таланта ее мужа. Она слишком холодна, слишком рассудочна для его политического стиля с похлопыванием по спине и другими эмоциональными проявлениями. Вместо этого она преобразовала политические инстинкты Билла Клинтона в идеологическую привлекательность. В 2000 году, когда она принимала участие в выборах в Сенат в Нью-Йорке как «пришлый кандидат», главной проблемой госпожи Клинтон был ее послужной список. По сути, у нее не было особых достижений, по крайней мере таких, которые касались бы Нью-Йорка. Поэтому она придумала блестящий лозунг и обоснование для своей избирательной кампании: она была кандидатом, которого «больше заботили те вопросы, которые интересуют жителей Нью-Йорка». Ее упорное следование этому девизу удивило даже бывалых политических обозревателей. Эти вопросы не были проблемой, как говорили в 1960-е годы. Главное было понять, кто больше озабочен данными вопросами. «Я думаю, что главный вопрос в том, кто беспокоится о детях Нью-Йорка», — заявила она в типичной для нее манере[644].
Вполне уместно спросить: с каких пор «озабоченность» считается самым важным качеством? Водопроводчик вполне может быть в большей степени озабочен тем, как успешно удалить селезенку, чем хирург. Означает ли это, что нормальный человек предпочел бы водопроводчика врачу? Банки дают кредиты заявителям, которые максимально озабочены успешным ведением бизнеса, или тем, кто с наибольшей вероятностью вернет деньги? Должен ли студент, наиболее заинтересованный в получении хороших оценок, получать одни «пятерки»?
Ответ на все эти вопросы прост: забота — это то, что дети (и остальные из нас) ищут в родителях. С точки зрения либерального фашизма дети являются гражданами, а граждане — детьми (одна из глав книги Хиллари так и называется: «Дети тоже являются гражданами»), откуда следует, что лидеры должны вести себя как родители. «Я считаю, что моя задача заключается в том, чтобы руководить, — отмечал Билл Клинтон, когда находился у власти, — и заботиться о стране. И я полагаю, что чем старше я становлюсь, тем больше я выступаю в роли отца, а не старшего брата»[645].
В соответствии с этой точкой зрения даже ваши собственные деньги вам не принадлежат. Это ваши карманные деньги. Когда его спросили, почему он против того, чтобы школьные округа тратили деньги налогоплательщиков так, как они считают нужным, Билл Клинтон огрызнулся: «Потому что это не их деньги». В 1997 году он высмеял избирателей Вирджинии, которые хотели добиться снижения налогов, назвав их «эгоистами», а затем упрекнул, как детей: «И вспомните свои ощущения всякий раз, когда вы испытывали искушение поступить эгоистично, но не делали этого, и на следующий день вы чувствовали себя прекрасно». В 1999 году, когда бюджет был профицитным, многие налогоплательщики считали, что правительство должно вернуть им часть их денег. Когда его спросили, что он думает об этом, президент Клинтон ответил: «Мы могли бы вернуть вам все эти деньги в надежде на то, что вы распорядитесь ими правильно». Сенатор Клинтон была более прямолинейной. Говоря о реализованном Джорджем У. Бушем сокращении налогов, которое на самом деле позволило вернуть избыточные средства людям, создавшим этот профицит, госпожа Клинтон на классическом арго социального евангелизма заявила, что с такими сокращениями должно быть покончено. Ее мысль была проста: «Мы возьмем часть ваших средств в интересах общего блага»[646].
Хиллари не фюрер, и ее понятие «общего блага» не связано с принципом расовой чистоты и концентрационными лагерями. Но, без сомнения, в основе ее концепции лежит все то же вечное стремление навести порядок в обществе, для того чтобы создать всеобъемлющее сообщество, покончить с бесконечными дрязгами и укутать каждого человека в обеспечивающее безопасность одеяло государства. Она исповедует политическую религию, обновленный социальный евангелизм — с акцентом на слове «социальный», — облеченную в участливые слова и создающую обнадеживающую перспективу сотрудничества и общности. Но при этом ее концепция остается исключительной, и в ней нет места для тех, кто все еще страдает от «глупости умов, связанной привычкой», если заимствовать выражение Дьюи. Возможно, деревня и заменила фасции объятиями, но ненужные вам объятия, из которых вы не можете вырваться, — это просто более мягкая форма тирании.
Глава 10. Новая эра: все мы теперь фашисты
Бытует мнение, будто национал-социализм выступает только с позиций брутальности и устрашения. Это не так. Национал-социализм — и более глобально, фашизм — включает и идеалы, которые сегодня существуют под другими знаменами: идеал жизни как искусства, культ красоты, фетишизм мужества, растворение отчуждения в экстатических чувствах коллектива; унижение разума; объединение в единую человеческую семью (при отцовстве вождей). Эти идеалы живы и действенны для многих людей... потому что в их основе — романтический идеал, которому привержены многие и который может облекаться в разнообразные формы культурного диссидентства или пропаганды новых форм общественного устройства, такие как молодежная рок-культура, первичная терапия, антипсихиатрия и оккультные верования.
Сьюзен Зонтаг, «Магический фашизм» (Fascinating Fascism)Либералы постоянно жалуются, что консерваторы пытаются навязать обществу свои культурные ценности. Сами же они, наоборот, озабочены только решением «реальных» классовых и экономических проблем. Томас Франк, автор бестселлера «Что случилось с Канзасом?» (What’s the Matter With Kansas?) возглавляет целую школу либералов, которые утверждают, что избиратели среднего достатка, голосующие за республиканцев, были введены в заблуждение стратегами Республиканской партии, продвигающими искусственные «ценности». Доводы Франка опираются на старую марксистскую доктрину «ложного сознания», в соответствии с которой несогласие с представителями левых сил относительно природы личной заинтересованности политического и экономического характера рассматривается как один из способов «промывания мозгов» или признак слабоумия.
Но на самом ли деле либералы и левые охотнее обсуждают проблему экономической справедливости, а не такие спорные темы, как однополые браки или прерывание беременности на поздних сроках. Если вы будете внимательными, то заметите, что либералы избегают «вопросов о политических ценностях», если могут предстать в невыгодном свете. Когда либералы обороняются, они используют марксистские или, если хотите, социалистические аргументы для делегитимации культурной программы оппозиции. Когда консерваторы имеют превосходство по тому или иному культурному вопросу, либерализм оказывается целиком сосредоточенным на «решении проблем» среднестатистического Джо, связанных с зарплатой и здравоохранением. Но когда либералы переходят в наступление, на первый план выходят расовые квоты, учет гей-культуры, очистка общества от христианства, а также множество тем, имеющих непосредственное отношение к культуре.
Эта тактика социалистического парирования и активной культурной политики напоминает аналогичные мероприятия нацистов. Когда нацисты обсуждали традиционалистов, монархистов и немногочисленных классических либералов, оставшихся в Германии, их речи очень походили на высказывания социалистов, сокрушавшихся о том, что «крупный капитал» разоряет мелкие предприятия. Гитлер заявлял, что другие партии разделяли нацию границами классовой и конфессиональной принадлежности, тогда как он хотел сфокусироваться на решении экономических проблем. Национал-социалисты отказались от экономических аргументов в пользу установления нового культурного порядка только тогда, когда они победили.
Подход в духе «экономика обороняется, а культура наступает» оставался важной тактикой для Гитлера даже после сосредоточения власти в его руках. Например, в 1938 году, когда он понял, что нацистскую культурную программу отторгают многие слои населения, он поспешил дать объяснения: «Национал-социализм — это рациональная, ориентированная на реальность доктрина, основанная на самых достоверных научных знаниях и их ментальном выражении. Обратившись с ней к сердцам людей и продолжая делать это сейчас, мы не хотим прививать людям мистицизм, который не входит в цели и задачи нашей доктрины». Такая манера выражаться хорошо знакома либералам, которые любят называть себя членами «сообщества, основанного на реальности»[647].
Невозможно отрицать тот факт, что либерализм всегда стремится к созданию и навязыванию своей культуры. Более того, совершенно очевидно, что либералы в первую очередь заботятся о культуре. Так, например, в 1990-е годы либерализм с головой погрузился в формирование культуры, не оставив без внимания ни одну из сторон общественной жизни — от «политики смысла» Хиллари Клинтон и гендерных квот в спортивных командах высших учебных заведений до проблемы геев в армии и борьбы с курением. Например, сравнительно недавно, в 2007 году, администрация одного из прогрессивных центров по уходу за детьми в Сиэтле запретила конструкторы LEGO, потому что «представления детей о собственности и связанной с ней социальной власти оказываются характерными для классового капиталистического общества, которое мы, учителя, считаем несправедливым и деспотичным». Взамен они предложили такую организацию досуга детей, которая отражала более высокие в нравственном отношении стандарты «коллективизма»[648].
Суть проста: либералы участвуют в войнах культур в качестве агрессоров. Не совсем понятно, как данный момент может казаться спорным. Очевидно, что традиционалисты защищают свой образ жизни против так называемых сил прогресса. Когда группам феминисток наконец удалось убедить суды принудить Вирджинский военный институт принимать женщин, кто был агрессором? Чьи ценности навязывались? Активисты какого лагеря хвалятся тем, что они являются «движущей силой изменений»? Я не хочу сказать, что реформисты всегда неправы. Совсем нет. Я говорю лишь о том, что представители левых сил поступают нечестно, делая вид, что они не пытаются навязывать свои ценности другим.
Мы уже видели, как в 1950-е годы левые обновили ту традиционную критику капитализма, которую много лет применяли марксисты. Они сделали вывод, что «фашистская реакция» — это на самом деле психологическая реакция на прогресс. Если раньше левые силы утверждали, что фашизм представляет собой политическую реакцию экономически господствующих классов на выступления революционных рабочих, то теперь они стали видеть в фашизме проявление одной из многих «фобий» или просто «ярости», направленной на продвижение тех или иных групп и доктрин. Этим фобиям и ярости подвержены исключительно белые гетеросексуальные мужчины (и женщины, которые любят их), потомки тех самых отвратительных «мертвых белых европейских мужчин»[649]. В 1930-е годы левые утверждали, что фашисты хотят защитить свои заводы и дворянские титулы; теперь нам говорят, что фашисты — известные также как «сердитые белые мужчины» — хотят сохранить свои незаслуженные «привилегии». Гомофобия, расизм, национализм наряду с их точными моральными эквивалентами, такими как исламский экстремизм и исламофобия, являются инстинктивной фашистской реакцией структуры власти белых мужчин на шок от нововведений.
Такие аргументы, выражаясь словами Карла фон Клаузевица, представляют собой продолжение войны посредством культуры. И действительно, нигде это логика не прослеживается так явно, как в поп-культуре.
Взять хотя бы фильм «Плезантвиль» (Pleasantville). Выдуманный город, погруженный в глубокую спячку 1950-х годов, когда у власти находились белые мужчины, подавляющие любые проявления инакомыслия, просыпается с появлением свободолюбивых, сексуально свободных молодых людей из 1990-х годов. Мы снова оказываемся в атмосфере 1960-х годов. Городские старейшины не могут справиться с этой проблемой. Когда они приходят домой в конце дня, их больше не ждут привычный стакан мартини и тапочки, приготовленные женами, которые стали свободными женщинами. В ответ на такие перемены представители белой мужской элиты (под руководством Торгово-промышленной палаты, разумеется) все больше уподобляются фашистам. В фильме довольно удачно использован прием смены цветных и черно-белых кадров: консервативные обитатели Плезантвиля показаны в черно-белых тонах, а полностью реализовавшие себя личности расцвечиваются яркими красками. Это побуждает монохромных фашистов к тому, чтобы начать относиться к «цветным» как к гражданам второго сорта.
Подобную тему можно найти и в довольно озорном фашистском фильме «Падение» (Falling Down)[650]. Принадлежащий к среднему классу белый работник оборонного завода (его играет Майкл Дуглас), потеряв работу в результате сокращения, в отчаянии совершает ряд эксцентричных поступков. В картине «Красота по-американски» (American Beauty) служивший ранее во флоте сосед героя Кевина Спейси срывается и становится убийцей, не в силах смириться с мыслью о том, что его сын может быть гомосексуалистом. То, что Голливуд продолжает плодить такие избитые сюжеты, не вызывает удивления. Удивительно то, что каждый раз при выходе на экран очередного «шедевра» множество критиков восхищаются оригинальной и новаторской интерпретацией, хотя на самом деле речь идет всего лишь о совокупности переработанных клише.
Но за стремлением представить противников перемен в жизни общества фашистами стоит более глобальная цель: сделать сами перемены естественным порядком вещей за счет высмеивания самого понятия естественного порядка. Эти фильмы основываются на догматических представлениях о том, что социальные и гендерные роли не могут быть определены раз и навсегда, что ни традиции, ни религия, ни законы природы не должны ограничивать волю к власти отдельной личности и в тот день, когда мы ошибочно посчитали, что верно обратное, мы свернули не туда.
Борьба за культуру, тогда и сейчас
Словосочетание «война культур» впервые встречается в работах двух очень разных мыслителей. Более современный из них — марксист Антонио Грамши, который утверждал, что единственный путь, который поможет освободиться от старого порядка, это «великий поход» против элитных институтов культурной жизни. Такую стратегию избрали повстанцы из рядов «новых левых» в 1960-е годы, которые в короткие сроки захватили английские ведомства, издательства, киностудии и т. п. Но еще раньше вел свою «борьбу за культуру» (Kulturkampf) Отто фон Бисмарк.
Образованные либералы имеют тенденцию обозначать термином Kulturkampf предполагаемое стремление правых сил навязывать свои ценности остальной части страны, демонизируя либералов. Немецкие обертоны явно используются для того, чтобы провести параллели с гитлеризмом. Однако на самом деле изначально борьба за культуру представляла собой не подавление консерваторами либеральных диссидентов или подвергающихся опасности меньшинств, но натиск слева против сил традиционализма и консерватизма. Принято считать, что борьба за культуру была направлена против немецких католиков, которых «поглотила» большая Германия. Бисмарк опасался, что они могут оказаться недостаточно лояльными по отношению к Германии во главе с Пруссией и с более прагматичной точки зрения хотел предотвратить создание немецкой католической политической партии.
Намерения Бисмарка основывались на реальной политике и политической триангуляции. Истинно верующими были только силы в рейхстаге. Прогрессивные немцы считали католицизм чуждым, устаревшим, отсталым и антинемецким. Он стоял на пути национализма, сциентизма и прогресса. Само слово «Kulturkampf» придумал влиятельный ученый Рудольф Вирхов, известный либерал, который надеялся, что «борьба за культуру» вырвет людей из лап христианских суеверий и переориентирует их на прогрессивные принципы. Однако на самом деле это намерение основывалось на желании навязать новую, прогрессивную религию народного государства.
Первые законы в русле борьбы за культуру, принятые с большой помпой в 1873 году, провозглашались огромным шагом вперед в деле отделения церкви от государства. Эмиль Фридберг, либеральный архитектор антикатолических «майских законов», объяснил обязательства государства по отношению к католической церкви следующим образом: «Подавить ее, уничтожить ее, сокрушить ее с применением насилия». В неоякобинском угаре либералы преследовали и закрывали католические школы. Обязательные гражданские браки ослабили власть и влияние церкви. Государство заявило о своем праве назначать, продвигать, наказывать и даже депортировать служителей церкви. Большинство католических епископов были либо брошены в тюрьмы, лишены своих должностей, либо отправились в изгнание. В конце концов борьба за культуру исчерпала себя; но мысль о том, что традиционное христианство представляет собой угрозу для развития нации, прочно укоренилась[651].
В 1870-х годах эта «кислота» вполне предсказуемо прошла сквозь «тело» политики и трансформировалась в антисемитизм. Действительно, слово «антисемитизм» было придумано в 1879 году атеистом и левым радикалом Вильгельмом Марром и появилось в его трактате «Путь к победе германизма над иудаизмом» (The Way to Victory of Germanicism over Judaism). Вклад Марра заключался в том, что ему удалось превратить ненависть к евреям из богословской страсти в «современную» расовую и культурную (например, он ненавидел ассимилированных евреев больше, чем ортодоксальных). «Антисемитизм» в отличие от более метафизической ненависти к евреям должен был обосновать ненависть к евреям в прогрессивном языке научной евгеники.
Во время консолидации власти Гитлер, который во многом был наследником бисмарковских прогрессивистов, вряд ли мог начать широкомасштабное наступление на христианство. В конце концов национал-социализм ставил своей целью объединение всех немцев. «Сейчас не тот момент, чтобы бросаться в бой с церковью. Лучше всего позволить христианству умереть естественной смертью, — объяснял Гитлер своим помощникам. — В медленной смерти есть что-то утешительное. Перед лицом достижений науки догмы христианства истончатся. Религия будет вынуждена идти на все большие уступки. Постепенно мифы отомрут. Нам всего лишь нужно доказать, что в природе не существует границы между органическим и неорганическим»[652].
В 1937 году Немецкая социал-демократическая партия, действовавшая в изгнании в Праге, завербовала шпиона, который должен был регулярно докладывать из Германии об успехах нацистов. Этот секретный осведомитель предоставлял важную информацию о том, что на самом деле задумали нацисты. Национал-социалистическая немецкая рабочая партия занималась созданием новой религии, «антипода церкви» с собственными священниками, догматами, праздниками, ритуалами и обрядами. Для пояснения намерений нацистов агент использовал очень удачную метафору. «Антицерковь» создавалась так же, как строят новый железнодорожный мост. При строительстве нового моста вы никак не можете просто взять и снести старый. Перевозка пассажиров и грузов прекратится. Общественность будет протестовать. Вместо этого вам нужно медленно, но верно обновлять мост постепенно. Замените старые болты новыми. Затем обновите балки, и в один прекрасный день у вас будет совершенно другая конструкция, при этом вряд ли кто-либо заметит произошедшие перемены.
Подобно инженерам этого метафорического железнодорожного моста нацисты усердно трудились, стремясь заменить «гайки и болты» традиционного христианства новой политической религией. Самым разумным средством, позволяющим достигнуть этой цели, являлось кооптирование христианства посредством унификации с одновременным снижением роли традиционной религии в гражданском обществе. В этом плане Гитлер точно следовал линии Бисмарка. Немецкий историк Гетц Али объясняет, как Гитлер приобрел популярность благодаря щедрым программам социального обеспечения и привилегиям для среднего класса, которые нередко реализовывались за счет средств, украденных у евреев, а также за счет высоких налогов на имущество богатых. Гитлер запретил религиозную благотворительность, подрывая тем самым роль церкви как противовеса государству. Духовенство получало зарплату от государства и соответственно должно было подчиняться государственной власти. «Священники сами выроют себе могилы, — довольно посмеивался Гитлер. — Они выберут нас, предав своего Бога. Они предадут абсолютно все ради своих жалких рабочих мест и доходов»[653].
Следуя примеру якобинцев, нацисты заменили традиционный христианский календарь. Новый год теперь начинался 30 января в День захвата власти[654]. В ноябре на улицах в центре Мюнхена нацисты проводили свои мистерии, посвященные «пивному путчу» Гитлера. Мученическая смерть Хорста Весселя и его «товарищей из старой гвардии» уподобила их Иисусу и апостолам. Пьесы и официальная история были переписаны в духе прославления языческих арийцев, которые храбро сражались с чужеземными армиями, насаждавшими христианство. Предвосхитив некоторые моменты феминистской псевдоистории, ведьмы стали мученицами эпохи кровожадного христианского угнетения.
Во время правления прогрессивистов христианский Бог был превращен в Бога сниженных цен на продукты питания. При нацистах христианский Бог принял вид арийского офицера СС, правой рукой которого был сам Гитлер. Так называемые немецкие христианские пасторы проповедовали, что, «подобно тому как Иисус освободил человечество от греха и ада, Гитлер спасает немецкий народ от разложения». В апреле 1933 года нацистский Конгресс немецких христиан объявил, что все церкви должны внушать своим прихожанам следующую мысль: «Бог создал меня немцем; быть немцем — это дар Божий, Бог хочет, чтобы я сражался за Германию. Военная служба ни в коей мере не вредит христианской совести, но является послушанием Божьим»[655].
Когда несколько протестантских епископов прибыли к фюреру с протестами, гнев Гитлера не знал границ. «Христианство исчезнет из Германии так же, как оно исчезло в России... Немецкая раса существовала без христианства на протяжении тысяч лет... и будет продолжаться после исчезновения христианства... Мы должны привыкнуть к учениям крови и расы». Когда епископы возразили, что они поддерживают светские цели нацизма, но не его религиозные нововведения, Гитлер вышел из себя: «Вы предатели нации. Враги отечества и разрушители Германии»[656].
В 1935 году были отменены обязательные молитвы в школе, а в 1938 году были полностью запрещены рождественские колядки и инсценировки. К 1941 году было полностью ликвидировано религиозное образование для детей старше 14 лет и воцарилось якобинство. У костров можно было часто услышать следующую песню гитлерюгенда:
Мы счастливая гитлеровская молодежь, Нам не нужна христианская добродетель, Потому что Адольф Гитлер наш заступник И наш спаситель. Ни священник, ни сам дьявол Не могут нам помешать Чувствовать себя детьми Гитлера. Мы следуем не за Христом, а за Хорстом Весселем! Долой ладан и святую воду![657]Между тем сироты получили новые слова для песни «Тихая ночь» (Silent Night):
Тихая ночь! Святая ночь! Все спокойно, все ясно, Только канцлер, который преданно сражается, Следит за Германией днем и ночью, Всегда заботясь о нас.Американская борьба за культуру в 1960-х годах тоже начиналась не с хиппи, войны во Вьетнаме и даже не с гражданских прав. Как правило, любая попытка расчистить путь для новой политической религии начинается со стремления ликвидировать молитвы в школе. Как утверждает Джереми Рабкин, принятые в 1960-е годы решения по поводу молитвы в школе следует рассматривать как взятие на себя Верховным судом роли главной движущей силы американской борьбы за культуру.
Так, фундаментальная логика решений Верховного суда по делам, связанным с легализацией абортов, зиждется не на «праве выбора», но на мысли о том, что религии и религиозной морали нет места в государственных делах. Дело «Роу против Уэйда» и связанное с ним дело Доу непосредственно следовали из рассматривавшегося в 1965 году дела «Грисуолд против штата Коннектикут». В своем решении по этому делу суд признал незаконным запрет контроля за рождаемостью (который почти никогда не исполнялся) на том основании, что право на неприкосновенность частной жизни содержится в Конституции. Но в подтексте этого судебного решения явно прослеживалось сомнение в истинности законов, в основе которых лежат религиозные принципы (значительную часть населения Коннектикута составляют католики). Всего лишь за два года до дела Роу в одном из дел штата Пенсильвания суд отменил государственную помощь католическим приходским школам на том основании, что такая помощь способствует разделению общества на религиозной почве. Кроме того, суд постановил, что религиозные соображения, «как правило, вносят неясность и беспорядок в другие необычайно актуальные вопросы». Когда дело «Роу против Уэйда» наконец дошло до суда, судьи уже пришли к выводу, что традиционные религиозные соображения не могут иметь большого веса в общественных делах. Лоуренс Трайб, ведущий либеральный юрист Америки в области конституционного права, утверждал в обозрении Harvard Law Review в 1978 году, что религиозные взгляды изначально суеверны и, как следствие, менее законны, чем «светские».
В 1987 году Верховный суд постановил, что минуты молчания в начале учебного дня означают одобрение правительством молитвы. В 1992 году он постановил, что не связанная с какой-либо конкретной конфессией молитва по случаю окончания школы (предложенная реформистским раввином) является недопустимым одобрением религии. В 1995 году Девятый окружной апелляционный суд постановил, что осуществлению «права на смерть» нельзя препятствовать просто «для удовлетворения моральных или религиозных запросов некоторой части населения». И неважно, что законы против убийства, кражи и лжесвидетельства восходят непосредственно к тем же самым «религиозным принципам».
Совсем недавно мы стали свидетелями признания судами неконституционности клятвы верности, демонстрации десяти заповедей и рождественских яслей вблизи общественных зданий и сооружений. Судья Антонин Скалиа сделал верное замечание применительно к делу 1996 года «Роумер против Эванса» (где речь шла о гражданском статусе гомосексуалистов в Колорадо). «Суд ошибочно принял борьбу за культуру за припадок злобы», — заявил он. Далее он осудил своих коллег за «пристрастность» в «войнах культур».
Зачем так подробно говорить о религии? Потому что культурную программу либерализма невозможно понять, не осознавая, что современный либерализм строит свой собственный железнодорожный мост, заменяя кирпичи и балки традиционной американской культуры чем-то другим. Я не утверждаю, что все в новом либеральном сооружении плохо или неправильно. Но я отвергаю ловкие аргументы либералов, которые утверждают, что их действия имеют исключительно «прагматический» или фрагментарный характер. «А, так это всего лишь один кирпич. Что с ним не так?» — так либералы говорят о каждом этапе своего проекта. Но это не только «один кирпич». Также консерваторам не стоит думать, что это всего лишь скользкий путь. Этот образ предполагает, что под воздействием сил, находящихся вне нашей власти, мы движемся в том направлении, которого мы не выбирали. Если общество движется в направлении, которое оно не выбирало, это часто происходит потому, что в этом направлении его толкают самозваные силы прогресса.
Том Вулф в своем эссе «Великое переучивание» (The Great Relearning) подробно описывает, как представители контркультуры, вдохновленные немецкой школой Bauhaus, хотели начать все сначала, объявить новый «нулевой год» (подобно якобинцам и нацистам), вернуться к той развилке, где западная цивилизация якобы повернула не в ту сторону. Автор контркультуры Кен Кизи даже организовал паломничество в языческую Мекку Стоунхендж, полагая, что это последнее место, где западный человек был еще на верном пути и предположительно выбрал неправильное направление, отказавшись от язычества. Далее мы рассмотрим, как это всеобъемлющее видение нашло отражение в движениях и идеях как классического фашизма, так и левого полюса современной американской культуры в нескольких областях, таких как идентичность, нравственность, сексуальные отношения и окружающая среда.
Либерально-фашистская борьба за культуру
Исайя Берлин следующим образом сформулировал суть неоромантического мировоззрения, давшего начало нацизму: «Если я немец, то я следую немецким ценностям, пишу немецкую музыку, вновь открываю древние немецкие законы, культивирую в себе все то, что делает меня настолько богатым, выразительным, многосторонним и соответствующим немецкому духу, насколько это возможно... Это романтический идеал в его полном выражении». Такие взгляды закономерно привели к нацистской концепции добра и зла. «Справедливость, — объяснял Альфред Розенберг, — это то, что ариец считает справедливым. Несправедливо то, что он считает таковым»[658].
Эта точка зрения наиболее конкретно проявлялась в стремлении очистить нацистскую Германию от влияния еврейского типа сознания. Евреи были олицетворением всего, что задерживало развитие немецкого народа. Даже «совесть», по словам Гитлера, — «еврейское изобретение», от которого, совершая акт самоосвобождения, необходимо отказаться. В итоге нацисты вели против евреев ту же самую игру, которую современные левые силы ведут против «евроцентризма», «белизны» и «логоцентризма». Когда вы слышите, как радикально настроенная студентка осуждает «белую логику» или «мужскую логику», она стоит «на плечах» нацистов, которые осуждали «еврейскую логику» и еврейскую заразу. Еще сотрудничавший в то время с нацистами Поль де Ман — почитаемый теоретик постмодернизма, который впоследствии стал преподавать в Йельском и Корнеллском университетах, — писал о евреях следующее: «Их рассудочность, их способность усваивать доктрины, не попадая в зависимость от них, — отличительные особенности еврейского ума»[659].
Белый мужчина — это еврей либерального фашизма. «Ключом к решению социальных проблем нашего времени будет упразднение белой расы», — пишет исследователь культурной специфики белой расы и историк Ноэль Игнатьев. Изучение культурной специфики белой расы считается передовой научной дисциплиной в американском высшем образовании, которая стремительно набирает популярность. Соответствующие кафедры есть примерно в 30 университетах, при этом во многих других вузах основы этой дисциплины преподаются в рамках других курсов. Исполнительный директор Центра по изучению белой американской культуры объясняет: «Представители белой расы совершили все преступления против цветных людей, которые только возможны... Белые также виновны в реализуемых ныне принципах... которые вредят и препятствуют проявлению человечности в каждом из нас»[660]. Журнал Race Traitor (что в переводе означает «предатель расы», по иронии судьбы это нацистский термин) призван «выступать в качестве интеллектуального центра для тех, кто стремится упразднить белую расу». В настоящее время это движение не связано с геноцидом; никто не предлагает согнать всех белых людей в лагеря. Но принципы, страсти и аргументация отличаются пугающим сходством.
В первую очередь следует упомянуть шокирующее оправдание левыми исповедуемой черными идеологии мятежа и бандитизма. Прославление насилия, романтика улицы, осуждение «системы», склонность к заговорам, возвеличивание расовой солидарности, женоненавистничество культуры хип-хопа — все эти явления порождают тревожное ощущение дежавю. Хип-хоп культура вобрала в себя огромное количество фашистских мотивов. В студенческих городках администрация обычно не обращает внимания на типично фашистское поведение студентов, которые сначала жгут газеты, а потом угрожают физической расправой тем, кто выражает несогласие. В основе такого отношения лежит обывательское мнение о том, что белые люди, подобно евреям, олицетворяют все зло и весь деспотизм человечества. Как заявила в 1967 году Сьюзен Зонтаг, «белая раса — это рак человеческой истории». Между тем порожденные эпохой Просвещения понятия о единстве человечества регулярно высмеивались в левых научных кругах как обман, который использовался для прикрытия укоренившихся привилегий мужской части белой расы.
Подобно тому как нацистское наступление на христианство было частью более масштабной войны за идею универсальной истины, целые постмодернистские космологии были созданы для того, чтобы доказать, что традиционная религиозная мораль является жульничеством, что не существует непреложных истин или «естественных» категорий и все знание порождено обществом. Или, если воспользоваться фразой из романа «Код да Винчи» (Da Vinci Code), «как темен он, людской обман».
На самом деле речь идет о заговоре католической церкви с целью обмануть всех людей в мире, скрыв от них истинную природу Иисуса и его брак с Марией Магдалиной. Книга разошлась по всему миру тиражом около 60 миллионов экземпляров. Роман и фильм породили споры, документальные фильмы, сопутствующие книги и т. п. Но мало кто обратил внимание на зловещие параллели с нацистской мыслью.
Дэну Брауну следовало посвятить свою книгу «мадам» Елене Блаватской, гуру теософии, которую многие считают «матерью» духовных поисков «Новой эры», а также примером для создания нацистской версии язычества и главным популяризатором свастики как мистического символа. Ее теософия вобрала в себя огромное количество культовых понятий: от астрологии до веры в то, что христианство представляет собой грандиозный заговор, цель которого в сокрытии истинного смысла и истории сверхъестественного. Ее вышедшая в 1888 году книга «Тайная доктрина» была попыткой раскрыть во всей полноте гротескный заговор Запада, который «Код да Винчи» освещает лишь в малой степени. Христианство было виновно во всех ужасах современного капитализма и неестественной жизни, не говоря уже о гибели Атлантиды.
«Миф XX века» (Myth of the Twentieth Century) Альфреда Розенберга, вторая по важности книга в нацистском каноне, включает в себя многие идеи Блаватской. Розенберг излагает один христианский заговор за другим. «Не успев расцвести, радостная идеология немецкого мистицизма была задушена европейской церковью всеми средствами, которые имелись в ее распоряжении», — настаивает он. Подобно Блаватской и Брауну, он высказывает предположение о существовании тайного Евангелия, способного, если бы церковь его не скрыла, развенчать «поддельный великий образ Христа», который мы находим в Евангелии от Матфея, Марка, Луки и Иоанна. «Христианство, — пишет Гитлер в Mein Kampf, — не удовольствовалось возведением собственного алтаря. Сначала требовалось уничтожить языческие алтари». Именно «приход христианства» положил начало «духовному террору» против «гораздо более свободного древнего мира»[661].
Многие представители левого культурного фронта сегодня разделяют эти идеи. Например, викканство и язычество представляют собой наиболее быстро развивающиеся религию и религиозную категорию в Америке, при этом число их сторонников колеблется, по разным источникам, от 500 тысяч до 5 миллионов. Если учитывать адептов «духовных поисков “Новой эры”», то количество американцев, участвующих в таких практиках, достигает 20 миллионов и продолжает увеличиваться. В частности, феминистки кооптировали викканство как религию, идеально подходящую для их политики. Глория Стайнем восторгается превосходными политическими и духовными качествами «дохристианского» и «матриархального» язычества. В «Революции изнутри» (Revolution from Within) она вполне серьезно оплакивает «убийство девяти миллионов целительниц, язычниц и инакомыслящих женщин в эпоху перехода к христианству»[662].
Рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер был убежден, что «охота на ведьм» была антинемецким заговором, за которым по большей части стояла католическая церковь: «Охота на ведьм стоила немецкому народу жизней сотен тысяч матерей и женщин, которых жестоко пытали и казнили»[663]. Он вложил немалые средства в предпринятое СС расследование случаев «охоты на ведьм», которое должно было доказать, что речь шла о попытках уничтожения арийской цивилизации и истинной немецкой веры. В рамках СС было создано секретное ведомство под названием «Особое подразделение Н» (буква «Н» соответствовала слову Hexen, т. е. «ведьмы»), которое выявило более 33 тысяч случаев сжигания «ведьм», в том числе в таких дальних странах, как Индия и Мексика.
Более того, большинство основателей национал-социализма с большим удовольствием беседовали о колдовстве и астрологии с поклонявшимися магическому кристаллу радикальными вегетарианцами, вместо того чтобы посещать церковные собрания. Следует обратить внимание на общество Туле, названное в честь потерянной расы северных народов, упоминавшейся в древнегреческих текстах. Общество Туле действовало как мюнхенское отделение Немецкого ордена, и хотя его устав формально опирался на оккультные и теософские доктрины, главным связующим элементом этой организации был расистский антисемитизм. Наставник Антона Дрекслера доктор Пол Тафель, лидер общества Туле, вдохновил его на создание Немецкой рабочей партии, которая вскоре стала Национал-социалистической немецкой рабочей партией. По словам биографа Гитлера Яна Кершоу, членами этого общества были многие из основателей нацизма.
Дитрих Эккарт, поэт, художник, оккультист, морфинист, драматург, любитель магии и приверженец расовой мистики Хьюстона Стюарта Чемберлена, был центральной фигурой в этом богемном обществе. Эккарт был «вторым отцом» и наставником Гитлера: он научил его основам риторики, подарил ему его первый тренч и познакомил с виднейшими представителями мюнхенской аристократии. На посту редактора Эккарт превратил газету общества Туле в официальный орган нацистской партии и написал гимн «Германия, проснись!». Гитлер посвятил ему Mein Kampf, написав в эпилоге, что он был «человеком, который посвятил свою жизнь пробуждению своего и нашего народа».
Миф о «повороте не в ту сторону», лежащий в основе идеологии либерального фашизма, не просто порождает экзотические теории заговора и псевдоисторию, но, как уже говорилось, способствует глубокому нравственному релятивизму. Более того, принятие феминистками викканства является прекрасной иллюстрацией языческого нарциссизма, о котором упоминалось ранее. Многие обряды викканства заканчиваются заклинанием: «Ты богиня». В викканстве нет каких-либо четких правил, кроме призывов к культивированию «богини внутри себя», чтобы создать у человека духовный настрой, наиболее полно соответствующий уже сформировавшимся в его сознании предрассудкам, желаниям и инстинктам.
Нацистский философ Хайдеггер и великий писатель Томас Манн, который поначалу использовал фашистские темы, но впоследствии стал страстным антифашистом, представляли философский и литературный аспекты движения против буржуазных морали и обычаев. Хайдеггер (вторя Ницше) утверждал, что настоящий человек сам выбирает свой путь, вне зависимости от того, согласуется ли он с общепринятыми или его собственными моральными нормами. Даже правильный выбор будет неправильным, если он делается под влиянием других. «Отказ от естественного выбора и принятие одного из тех вариантов, которые предлагаются миром или другими людьми», по словам Хайдеггера, является признаком «неестественности». Манн считал, что притягательность фашизма для людей творческих профессий заключается в его приглашении «следовать собственным инстинктам». Любимый скульптор Гитлера объяснил, что его обнаженные работы представляют собой «чистый дух инстинктивных побуждений» и изображают «современную революционную молодежь, сбросившую с себя покрывало стыда»[664].
Голливудские фашисты
Эти некогда считавшиеся радикальными взгляды сейчас все больше проникают в массовую поп-культуру. Ниже приводится краткий обзор, показывающий, насколько они распространены среди сценаристов и продюсеров фильмов, создаваемых в Голливуде — самом мощном агентстве пропаганды в истории человечества.
В удостоившемся пяти «Оскаров» фильме «Красота по-американски», о котором уже упоминалось выше, Кевин Спейси играет роль Лестера Бернема, служащего буржуазной компании, живущего со своей женой, которая также работает в буржуазной компании, и с дочерью, по канонам жанра замкнувшейся в себе. Лестер понимает, что он ненавидит свою рутинную жизнь, когда вдруг начинает испытывать непреодолимое влечение к подруге своей несовершеннолетней дочери. «Я чувствую, что в течение последних двадцати лет я был в коме. И только сейчас я начинаю пробуждаться», — заявляет он. Затем он направляет все усилия на «самосовершенствование» и, с одержимостью Нарцисса стремясь довести до идеала красоту своего тела, отметает все социальные условности, препятствующие исполнению любых его желаний, вопреки разуму.
«Дженни, сегодня я уволился. Я грубо послал своего босса и потребовал у него шестьдесят тысяч долларов, угрожая ему. Дай-ка мне спаржи», — говорит Лестер своей дочери за обеденным столом.
«Твой отец, похоже, гордится своим поведением», — так реагирует властная и прагматичная жена Лестера.
«А твоя мать, кажется, предпочла бы, чтобы я шел по жизни в кандалах, в то время как она хранит мой член в банке из-под варенья под раковиной», — отвечает он.
Складывается впечатление, что «настоящий» человек проявляется не в голове или сердце, а в промежности. И это считается в Голливуде высшей мудростью.
Конечно, бывает и так, что белого человека приводят к спасению не психосексуальные прорывы, но физические аномалии или травмы, вследствие которых он обычно теряет разум. В фильме «Форрест Гамп» (Forrest Gump) умственно отсталый белый человек оказывается единственным оплотом нравственности во время хаоса 1960-1970-х годов. В фильме «Генри» (Henry) Харрисон Форд играет неравнодушного к женскому полу, помешанного на карьере предприимчивого корпоративного дельца, уделяющего своей семье минимум внимания, который возвращается к подлинной жизни благодаря пуле в лобной доле и прозорливости чернокожего физиотерапевта, который помогает перенесшему лоботомию герою Форда понять, что статус ребенка является предпочтительным с точки зрения морали. В фильме «Лучше не бывает» (As Good as It Gets) Джек Николсон играет злобного фанатика, который в результате приема сильнодействующего препарата излечивается от своей «белизны» (Адорно мог бы назвать это лекарство «таблетками против фашизма»), становится терпимым к геям и черным и способным любить. В фильме «Меня зовут Сэм» (I Am Sam) с Шоном Пенном в главной роли нам говорят, что интеллект, знания и основные навыки социальной адаптации не влияют на способность успешно воспитывать детей, если даже отсталый в умственном развитии родитель любит своего ребенка. Поговорите с людьми, дети или родные которых значительно отстают в умственном развитии, и они скажут вам, насколько пагубна такая логика.
Через многие произведения красной нитью проходит мысль о необходимости пробудиться от комфортного кошмара, который мы называем жизнью, или того, что Хиллари Клинтон в молодости называла «сонной болезнью нашей души». Все мы «рабы инстинкта постройки гнезда в духе IКЕА», по мнению главного героя «Бойцовского клуба» (Fight Club), фильма, фашистские претензии которого обсуждались настолько широко и подробно, что нет необходимости возвращаться к ним здесь. Мысль о необходимости вывести дремлющие массы из состояния бездействия занимает центральное место в идеологии фашизма. Первый футуристический манифест Маринетти начинается так: «До сих пор литература воспевала задумчивую неподвижность, экстаз и сон. Мы же намерены прославить агрессивное действие, лихорадочную бессонницу, стремительное движение вперед, смертельный прыжок, удар и пощечину»[665]. Брошюра, которая впервые привлекла внимание молодого Адольфа Гитлера к национал-социализму, называлась «Мое политическое пробуждение» (Му Political Awakening). Многие пронацистские и граничащие с фашизмом фильмы и романы основывались на образе полусонных молодых людей, пробудившихся от пассивного принятия всего того, что несла с собой западная буржуазная демократия.
Усомнится ли кто-нибудь в том, что молодой Гитлер рукоплескал бы фильму «Общество мертвых поэтов» (Dead Poets Society) стоя? Этот фильм начинается с обучения студентов поэзии по формуле, предполагающей представление «совершенства стихотворения на оси абсцисс», а его «значимости» — на оси ординат для того, чтобы определить «меру его величия». Легко можно представить себе Гитлера, осуждающего такой «еврейский» метод измерения искусства. И вот появляется господин Китинг в исполнении Робина Уильямса, который приказывает своим ученикам просто вырвать эти страницы из книги! Господин Китинг призывает студентов к еще более серьезному нарушению общепринятых правил поведения, предлагая им встать на стол учителя, демонстрируя одновременно превосходство и пренебрежение к традиционным социальным ролям.
Одного мальчика по имени Тодд особенно пугает новый подход господина Китинга. Но господин Китинг принуждает парня издать свой «варварский клич». Закрыв глаза, он заставляет парня извлечь из недр своей души стихотворение. У Тодда возникает образ «потного безумца с оскаленными зубами», и, воодушевляемый господином Китингом, он придает ему форму. «Он вытягивает свои руки и душит меня... Истина... Истина подобна одеялу, под которым у вас всегда мерзнут ноги».
Китинг призывает своих вопящих варваров жить по принципу «лови момент», возводя его в прекрасный культ действия. Следуя его примеру, по-настоящему «свободные» студенты присоединяются к тайному обществу, где присваивают себе языческие имена и встречаются в старой индейской пещере, «постигая смысл жизни», создавая новых богов и читая романтическую поэзию.
Господину Китингу удается пробудить еще одного студента, Нила, который восстает против давления своего буржуазного отца, заставляющего его стать врачом. А он хочет жить страстной жизнью актера. «Впервые в своей жизни я знаю, что хочу сделать! — кричит он. — И в первый раз я сделаю это! Хочет этого мой отец или нет! Лови момент!» Мальчик находит свое истинное призвание, играя роль языческого лесного духа Пака в пьесе «Сон в летнюю ночь». Когда отец запрещает ему предаваться своим страстям, Нил предпочитает компромиссу самоубийство — совсем как в любимой пьесе Гитлера «Король» (как уже упоминалось ранее, Гитлер за три года посмотрел эту пьесу 17 раз). Нил изображается подобным Христу, несмотря на его эгоизм.
Трагедия самоубийства Нила потрясает школу, и господина Китинга увольняют. Оставшиеся в живых члены Общества мертвых поэтов рискуют быть исключенными, если они только посмотрят на господина Китинга, однако они не могут противостоять его харизме. Один за другим они встают на парты, бросая вызов своему новому учителю. Эти красивые молодые сверхлюди, единые в своем стремлении, смотрят на своего «капитана» и отворачиваются от традиционной власти. Не хватает только нацистских приветствий.
В «Матрице» (The Matrix), истинно фашистской аллегории (с некоторыми элементами марксизма), Киану Ривз играет обитателя клетки буржуазного общества. Его прозвище Нео не только соответствует его псевдониму в сообществе хакеров, но и определяет его статус нового человека, сверхчеловека, способного подчинить мир своей воле и в конечном счете даже летать. Ложность его полупаразитического существования открывается ему, когда он словно пробуждается ото сна и понимает, что то, что он считал реальной жизнью, на самом деле было тюрьмой, клеткой, где паразитирующие и манипулирующие силы буквально питались им. Вместо евреев-кровососов появляется новый враг, которого представители «Новой эры» в XIX и XX веках называли «машиной» или «системой». Вырваться из этого кошмара и остаться самим собой можно, только сделав собственный, подлинный выбор. И он делает его, присоединившись к тайному языческому обществу под названием «Зион», где живут в дионисийской славе в теплых недрах матери-земли не утратившие своей сути представители человечества, всецело посвятившие жизнь спасению своих немногих достойных собратьев. Выступающие в роли кукловодов паразитические «агенты» системы, несмотря на человеческий облик, не имеют ничего общего с людьми. Эти бесцветные, суровые белые люди, одетые в иезуитские деловые костюмы, отвергают подлинность человеческой жизни, предпочитая ей холодную логику и механистические приоритеты. Они лишены корней и представляют собой не просто подобие абстракции, но ее воплощение. Их вроде немного, но они вездесущи, способны принимать человеческий облик и управлять всем, чем угодно. Короче говоря, им свойственны все карикатурные черты, которыми нацисты наделяли евреев.
Важно отметить, что мы говорим не столько о левой или либеральной культуре, сколько об американской культуре в целом. Во многих отношениях склонность Голливуда к фашистской эстетике не связана с идеологией. В «Гладиаторе» фашистские образы использовались потому, что они позволяли подать эту историю максимально эффектно. В других случаях Голливуд демонстрирует более глубокое увлечение фашизмом. В таких фильмах, как «V значит вендетта» (V for Vendetta), зависть к холодной эстетике жестокости и насилия хорошо одетых людей ощущается очень явственно. Фашистами являются как злодеи, так и сам главный герой.
Консерваторы также не могут устоять перед очарованием фашизма. Критики, представляющие левое крыло культурного фронта, безошибочно определили фашистские темы в «фильмах о мстителях» 1970-х годов. Так, например, в фильмах «Жажда смерти» (Death Wish) и «Грязный Гарри» (Dirty Harry) неоправданное насилие прославлялось на том основании, что «система» была безнадежно испорченной, наводненной преимущественно чернокожими представителями уголовных классов и умными адвокатами, которые их защищали. Репортер журнала New Yorker Полин Кейл назвала фильм «Грязный Гарри» разновидностью «фашистского Средневековья»[666]. Из всех тем, которые поднимает в своих работах Клинт Иствуд, четко различима тема нигилизма. Она достигает наивысшего накала в мрачной атмосфере фильма «Непрощенный» (Unforgiven) и в картине — оде эвтаназии — «Малышка на миллион долларов» (Million Dollar Baby). Оба этих фильма удостоились «Оскаров».
Если я вижу фашистские мотивы в этих фильмах, то из этого не следует, что они плохие. «Триумф воли» (Triumph of Will) был шедевром (так говорят нам критики). Кроме того, сам я большой поклонник фильма «Грязный Гарри» (как и многих других из тех, которые обсуждаются в этой главе). Я бы даже сказал, что как форма художественного протеста эти фильмы «эпохи бдительности» обладали многими подкупающими преимуществами. Но нет никаких сомнений в том, что консерваторы гак же охотно принимают фашистские фильмы, если они приходят справа. Обратимся к таким популярным фильмам, как «Храброе сердце» (Braveheart), «Последний самурай» (The Last Samurai) и «300». Они нравились консерваторам, потому что в них было показано сопротивление тирании и прославлялась «свобода». Однако «свобода» в этих фильмах показана не как свобода личности как таковой, а как свобода племени действовать в соответствии с собственными относительными ценностями. Кланы Шотландии весьма существенно отличались от конституционных республик. Том Круз изображает протофашистскую культуру японских самураев как превосходящую в нравственном отношении культуру упадочного Запада (та же фанатичная преданность императору и нации побудила пилотов-камикадзе протаранить американские военные корабли), вторя немецкому увлечению Востоком. А спартанцы из «300» представляют собой евгеническую (и смутно гомоэротическую) касту воинов, которые наверняка удостоились бы аплодисментов Гитлера, несмотря на титанические усилия по их американизации.
В защиту всех этих фильмов можно сказать, что они свидетельствуют о дальнейшем развитии западной традиции свободы, а также позволяют весело провести время. Но бесспорно то, что фашизм обеспечивает отличные кассовые сборы, а консерваторы, за некоторым исключением, не в силах противостоять ему, так как даже не понимают, что они видят. Либералы, в свою очередь, без лишних раздумий называют фашистским любое «прославление» войны или битвы, но при этом они постоянно приветствуют нигилизм и релятивизм во имя свободы и освобождения личности. Консерваторам следует построить свою контратаку на отрицании получившего широкое распространение убеждения, согласно которому все мы сами себе священники и можем считаться самодостаточными и хорошими, пока верны своим внутренним богам. Тем не менее с учетом наших предпочтений в области кинематографа невозможно отрицать, что в настоящее время все мы являемся фашистами.
Политика в области сексуальных отношений
Это трудно объяснить, но сегодня многие считают, что нацизм был образцом ханжества. Кен Старр, Джон Эшкрофт, Лора Шлессингер и Рик Санторум подвергаются нападкам как живое воплощение фашистского по своей сути осуждения и лицемерного благочестия правых сил Америки. Для подкрепления своих выводов приверженцы этой точки зрения умышленно искажают истину и выставляют сторонников традиционной морали скрытыми фашистами, неспособными здраво рассуждать о сексе.
Пропагандистская пьеса Артура Миллера «Суровое испытание» (The Crucible) стала классическим примером критики представителями правого лагеря одержимости левых «паникой по поводу секса». Эта история, которая первоначально считалась слабо завуалированным обвинением маккартизма, в настоящее время рассматривается как пуританское ханжеское осуждение искусства, приведшее к вспышке убийственной политической паранойи. Властные мужчины не в силах справиться с добившимися сексуальной свободы женщинами и используют государственную машину для начала «охоты на ведьм». Эта надоевшая идея завладела умами либералов. Дж. Эдгар Гувер теперь повсеместно изображается как трансвестит. Сидни Блюменталь[667] утверждает, что антикоммунизм в США был не более чем примером гомофобной паники тайных гомосексуалистов из правого лагеря. Тим Роббинс высказывает подобную идею в своем фильме «Колыбель будет качаться» (Cradle Will Rock), в котором антикоммунисты и противники «Нового курса» изображены подавляющими свою сексуальность фашистами. Защитники семейных ценностей в настоящее время ассоциируются с фашизмом у представителей левых сил по всему миру. «Выступить в защиту традиционной семьи здесь значит стать мишенью обвинений в нацизме», — объясняет член шведского парламента.
Проблема лишь в одном: все это не имеет ничего общего с нацизмом или фашизмом.
Идея, согласно которой «семейные ценности» связаны с фашизмом, с философской точки зрения на самом деле имеет длинную родословную, восходящую опять же к Франкфуртской школе. Макс Хоркхаймер утверждал, что основой нацистского тоталитаризма является семья. Но верно как раз обратное. Хотя нацистская риторика часто отдавала дань семье, реальная практика нацизма во многом соответствовала стремлению прогрессивистов вторгнуться в семью, сокрушить ее фундамент и подорвать статус автономии. Традиционная семья сегодня — враг всех форм политического тоталитаризма, потому что она представляет собой оплот верности, не имеющей отношения к государству. Именно поэтому прогрессивисты постоянно пытаются взломать ее внешнюю оболочку.
Начнем с очевидного. Это было бы смешно, если бы не было печально, но необходимо отметить, что нацисты не были «противниками абортов». Задолго до «окончательного решения» нацисты подобно спартанцам расправились с престарелыми, немощными и увечными. Это правда, что в нацистском мировоззрении женщины считались существами второго сорта, низведенными до статуса производителей высшей расы. Но ханжество и еврейско-христианская мораль навряд ли могли служить оправданием такой политики.
Отношение нацистов к сексуальности основывалось на исключительной враждебности к христианству и иудаизму, которые не разделяли языческого восприятия полового акта как источника удовлетворения, наполняя его глубоким нравственным смыслом. Действительно, если вы читали «Застольные разговоры» (Table Talk) Гитлера, то скорее всего отметили, что он производит впечатление вольнодумца, придерживающегося широких взглядов. «Брак, в том виде, в котором он существует в буржуазном обществе, как правило, противен человеческой природе. Но встреча двух существ, которые дополняют друг друга, которые созданы друг для друга, в моем представлении уже граничит с чудом». «Религия, — объясняет Гитлер, — находится в постоянном конфликте с духом непредвзятого исследования... Катастрофа для нас состоит в том, что мы привязаны к религии, которая восстает против всех радостей чувств». Фюрер подробно рассказывает о своем презрении к социальным предрассудкам, осуждающим рождение детей вне брака: «Я люблю видеть это проявление здоровья вокруг себя»[668].
Напомним, что Гитлер мечтал о преобразовании Германии в нацию воинов во главе с облаченными в черное арийскими «спартанцами», преданными только ему. Генрих Гиммлер создал СС в надежде воплотить мечту Гитлера в реальность. Он приказал своим людям «стать отцами как можно большего количества детей вне брака». Для этого Гиммлер создал в Германии и в оккупированной Скандинавии специальные приюты под названием «Источник жизни», где зачатые эсэсовцами дети и расово чистые женщины должны были жить на государственном обеспечении, исполняя мечту (за вычетом расового аспекта) Робеспьера. После проверки родословной на расовую чистоту ребенок становился участником церемонии, когда над его головой держали эсэсовский кинжал, в то время как мать принимала присягу на верность делу нацизма.
Отношение нацистов к гомосексуализму также довольно неоднозначно. Некоторые гомосексуалисты действительно были отправлены в концентрационные лагеря. Но в то же время многие члены нацистской партии в начале ее существования и представители целой плеяды организаций, входящих в партийные структуры, были гомосексуалистами. Например, хорошо известно, что глава штурмовых отрядов НСДАП Эрнст Рём и его окружение были гомосексуалистами, причем не скрывали этого. Когда завистливые члены данной организации попытались использовать этот факт против него в 1931 году, Гитлеру пришлось возразить, что гомосексуализм Рёма относился «исключительно к частной сфере». Некоторые предполагают, что Рём был убит в «ночь длинных ножей», потому что он был геем. Но фракция Рёма представляла наибольшую угрозу для консолидации власти Гитлером в силу того, что они во многих отношениях были самыми рьяными и «революционными» нацистами. Скотт Лайвли и Кевин Абрамс пишут в «Розовой свастике» (The Pink Swastika), что «национал-социалистическую революцию и нацистскую партию приводили в движение и контролировали милитаристы, гомосексуалисты, педерасты, любители порнографии и садомазохисты». Это, конечно, преувеличение. Но тем не менее верно, что художественные и литературные движения, которые питали нацизм до 1933 года, изобиловали трактатами, клубами и журналами, посвященными вопросам борьбы за права гомосексуалистов[669].
Читательская аудитория журнала Der Eigene (что означает «осознающий себя» или «владеющий собой») насчитывала порядка 150 тысяч подписчиков (это более чем в два раза превышает число читателей New Republic в настоящее время) в стране, население которой составляет примерно пятую часть населения Соединенных Штатов. Этот журнал предназначался для мужчин, которые «жаждали возрождения эпохи Древней Греции и эллинских стандартов красоты после многовекового христианского варварства». Der Eigene, отличавшийся исключительным антисемитизмом и национализмом, со временем, по сути, превратился в движение за права гомосексуалистов, выступая за отмену законов и социальных табу против педерастии. Венский журнал Ostara, который, несомненно, оказал влияние на молодого Адольфа Гитлера, превозносил спартанскую мужскую этику, в соответствии с которой и женщины, и христианство — это «кандалы», ограничивающие волю тевтонского мужчины-воина к власти.
Объединяла все эти аспекты идея о повороте «не в ту сторону». Мужчины были свободнее, пока они не оказались в клетке буржуазных норм, традиционной морали и логоцентризма. Имейте это в виду, когда в следующий раз соберетесь смотреть фильм «Горбатая гора» (Brokeback Mountain), один из самых знаменитых и одобряемых кинокритиками фильмов последнего десятилетия. Два великолепных самца чувствуют себя как дома только в пасторальной глуши, вдали от буржуазных условностей современной жизни. На природе они наконец обретают свободу и могут отдаться своим инстинктивным желаниям. Но они не могут жить в горах, потакая своим инстинктам. Поэтому большую часть своей жизни они проводят в плену калечащих их души традиционных браков, а единственную отдушину видят в ежегодных «поездках на рыбалку», где они пытаются воссоздать удовольствие подлинного общения — единственной вещи, которая способна освободить их от буржуазной семейной жизни.
По мнению светских либеральных аналитиков, если традиционная мораль вообще была когда-либо необходима (сомнительное утверждение для многих), теперь она утратила свою полезность. В прежние времена, когда диагноз венерической болезни считался смертным приговором, а рождение ребенка вне брака — бедствием, введение правил и норм для управления поведением личности было вполне оправданным. Но сегодня традиционная мораль рассматривается только как средство, с помощью которого правящие классы угнетают женщин, гомосексуалистов и других представителей сексуальных меньшинств. Эссе Тома Вулфа «Великое переучивание» (The Great Relearning) начинается с рассказа о том, как в 1968 году врачи из бесплатной клиники в Хайт-Эшбери обнаружили заболевания, «с которыми ранее не сталкивался ни один врач, болезни, которые исчезли так давно, что у них даже не было латинских названий, такие заболевания, как чесотка, нарывы, зуд, конвульсии, молочница, разложение»[670]. Откуда вдруг взялись эти болезни? Члены коммун хиппи, как и представители богемы в Веймарской Германии, считали, что традиционная мораль, эта «устаревшая скорлупа», примерно так же актуальна, как «божественное право королей». Впоследствии они поняли, что это не так; правила и обычаи существуют не случайно.
Либералы отметают абстрактные рассуждения со ссылками на универсальные моральные принципы почти так же бесцеремонно, как это делали хиппи в 1960-е годы. Можно говорить о вреде абортов, поскольку они способствуют увеличению риска развития рака молочной железы, но жалобам на то, что они отнимают человеческую жизнь или неугодны Богу, как нам говорят, нет места в разумных рассуждениях. Это ставит консерваторов перед дилеммой. Для некоторых это означает, что рассуждать можно лишь о достоверных данных. Проблема в том, что обращение к регрессионному анализу является еще одним способом признать, что понятиям о добре и зле не место в публичном обсуждении. Между тем религиозно настроенные консерваторы бросают обидные обвинения в адрес своих противников, которые никоим образом их не убеждают.
Кроме того, эта культура настолько пронизана духом нарциссизма и популизма, что консерваторам запрещено использовать даже прогрессивные аргументы. Таким образом, нам говорят, что заявления о том, что знаменитые и богатые могут позволить себе вести аморальный образ жизни, непозволительный для бедных, являются проявлением элитизма. Если вы миллионер, вы можете разводиться, рожать внебрачных детей или злоупотреблять наркотиками с минимальным риском для качества жизни и репутации. Если же вы принадлежите к рабочему классу, то такое поведение может привести к краху. Но упоминание о подобных вещах будет считаться нарушением современного эгалитарно-популистского принципа: «Что хорошо для Пэрис Хилтон, должно быть хорошо для всех нас».
Фашизм был реакцией человека на целый ряд быстро развертывавшихся революций: технологической, теологической и социальной. Эти революции продолжаются и поныне, и поскольку левые силы определяют фашизм как противостояние консерваторов изменениям, мы вряд ли когда-нибудь перестанем быть фашистами в соответствии с этим определением. Но консерваторов нельзя отнести к реакционерам. Немногие консерваторы сегодня станут пытаться (или будут чувствовать себя обязанными) загнать всю сексуальную революцию обратно в бутылку. Избирательные права для женщин, регулирование рождаемости, гражданские права — все эти составляющие теперь рассматриваются как неотъемлемая часть классического либерального порядка, и это хорошо. Гомосексуализм появился позднее, поэтому он представляет собой более сложную проблему для консерваторов. Но по крайней мере на уровне элиты есть несколько консерваторов, которые хотят установить уголовную ответственность за гомосексуализм. Я полагаю, что однополые браки в той или иной форме неизбежны и, возможно, это к лучшему. Более того, спрос на однополые браки можно считать в некоторых отношениях обнадеживающим знаком. В 1980-1990-е годы речи радикальных гомосексуалистов выглядели фашистскими в гораздо большей степени, чем высказывания «радикалов» начала XXI века, которые, по-видимому, готовы принять железную клетку буржуазного брака.
Важный для консерваторов вопрос зависит от искренности левых сил, которую невозможно оценить в силу того, что они применяют поэтапный подход в своей «борьбе за культуру». Не являются ли однополые браки попыткой отождествить гомосексуалистов с консервативным — и стремящимся к утверждению консерватизма — социальным институтом? Или это просто трофей в их кампании за признание? В 1990-е годы «теоретики странной любви» объявили войну браку как средству угнетения. Американский союз защиты гражданских свобод уже пытался рассматривать многоженство как вопрос из области гражданских прав. Эл и Типпер Горы написали книгу, в которой утверждается, что семьей следует считать любую группу людей, которые любят друг друга. Это отголоски идеи из фашистского прошлого, и консерваторов вряд ли можно обвинять за недоверие ко многим представителем левого фронта, когда те заявляют, что им нужен только брак и больше ничего.
«Зеленый» фашизм
Ни в одной другой сфере идея поворота «не в ту сторону» не выражалась более явственно как в национал-социалистической, так и в современной либеральной мысли, чем в области защиты окружающей среды. Как отмечают многие, современное движение в защиту окружающей среды проникнуто мрачными представлениями в духе Руссо о болезни западной цивилизации. Человек утратил способность жить в гармонии с природой, его образ жизни не соответствует его сути, он искажен и неестествен.
Пожалуй, наиболее известным выразителем этой точки зрения признается вездесущий Альберт Гор, вероятно, самый популярный либерал в Америке. Как он пишет в своем вполне постмодернистском манифесте «Земля в равновесии» (Earth in Balance), «мы ищем спасение в соблазнительных средствах и технологиях промышленной цивилизации, но это только создает новые проблемы, так как мы становимся все более изолированными друг от друга и все дальше уходим от истоков». Гор неустанно одухотворяет природу, утверждая, что мы оказались «отрезанными» от нашего подлинного «я». Он считает: «Пустословие и безумие индустриальной цивилизации скрывают наше страстное стремление к общению с миром, способному поднять настроение и наполнить наши чувства богатством и непосредственностью самой жизни»[671]. Конечно, подобные заявления можно найти у самых разных романтиков, в том числе у Генри Дэвида Торо. Но давайте вспомним, что немецкий фашизм родился из романтического бунта против индустриализации, являвшегося философским отражением аспектов трансцендентализма. Разница заключается в том, что в то время как Торо стремился отделить себя от современности, Гор стремится преобразовать свою романтическую враждебность к современности в политическую программу.
Мысль о том, что движение в защиту окружающей среды представляет собой религию, встречается во многих источниках. Но показательно, что многие философские воззрения «Новой эры» причисляются к культам природы. Корреспондент Национального общественного радио (и убежденная «ведьма») Марго Адлер объясняет: «Это религия, согласно которой мир, земля — источники благодати». Джозеф Сакс, виднейший специалист в области экологического права и активист, описывает своих коллег — защитников окружающей среды как «светских пророков, проповедующих светский путь к спасению». Член палаты представителей Эд Марки приветствовал Гора как «пророка» во время его выступления в Конгрессе по вопросам изменения климата в начале 2007 года[672]. В одной из калифорнийских гостиниц, ориентированной на защиту окружающей среды, во всех номерах Библию заменили «Неудобной правдой» (Inconvenient Truth) Гора. Любой, у кого есть дети, безусловно знает, что лозунг «сокращать потребление, использовать повторно, перерабатывать» учат в школах по всей стране, как катехизис.
Однако идея защиты окружающей среды в конечном счете представляется фашистской не вследствие легковесных и неясных метафизических предположений об экзистенциальном тупике человечества, а из-за ее природы бесценного «кризисного механизма». Альберт Гор постоянно настаивает на том, что глобальное потепление является главным кризисом нашего времени. Скептиков называют предателями, отрицателями холокоста, инструментами в руках загрязняющих атмосферу промышленников. А прогрессивные экологи, напротив, позиционируют себя в роли заботливых воспитателей. Выступая перед Конгрессом в начале 2007 года, Гор заявил, что мир «лихорадит», и пояснил: когда у вашего ребенка поднимается температура, вы «принимаете меры». Вы выполняете все предписания врача. На обсуждение и споры нет времени. Нам необходимо выйти «за пределы политики». В практическом плане это означает, что мы должны подчиниться глобальному государству-няне и создать такую «экономическую диктатуру», которой жаждут прогрессивисты.
Прелесть глобального потепления заключается в том, что оно затрагивает все, что мы делаем: что мы едим, что мы носим, куда мы идем. Наш «углеродный след» стал мерой нашей значимости. И в первую очередь нас интересует способность идеологии защиты окружающей среды быть источником смысла. Почти все убежденные защитники окружающей среды разделяют тот или иной вариант тезиса о повороте «не в ту сторону». В этом отношении Гор отличается большим красноречием, чем все остальные. Он с восхищением говорит о необходимости обретения подлинности и смысла посредством коллективных действий; он использует бесконечный ряд агрессивных метафор, в соответствии с которыми люди должны быть «бойцами сопротивления» против нацистского режима, предположительно ответственного за новый холокост глобального потепления (снова у левых враги всегда оказываются нацистами). Гор поочередно обвиняет Платона, Декарта и Фрэнсиса Бэкона как белых мужчин-искусителей, убедивших человечество из райского прошлого пойти по неверному пути. Он предлагает объединить наше сознание, наши духовные импульсы и наши животные инстинкты в новое гармоничное целое. Трудно придумать что-либо более фашистское.
Конечно, чем более «зеленым» вы становитесь, тем в большей степени вы начинаете считать источником проблемы не белого человека, а человечество в целом. Порочная и странная разновидность ненависти к себе поразила некоторые сегменты левого крыла движения в защиту окружающей среды. Если раньше критике подвергалась «еврейская болезнь», то теперь виновным оказался весь человеческий род. Когда Чарльзу Вурстеру, ведущему ученому Фонда защиты окружающей среды, сказали, что запрет пестицида ДДТ может привести к гибели миллионов людей, он ответил: «Это такой же хороший способ избавиться от них, как и любой другой». Гуру экологического движения из Финляндии Пентти Линкола утверждает, что земля представляет собой тонущий корабль и избранные остатки человечества должны направиться к спасательным шлюпкам. «Те, кто ненавидит жизнь, пытаются втянуть в лодку как можно больше людей, в результате чего утонут все. Те же, кто любит и уважает жизнь, берут топоры и бьют по рукам тех, кто пытается хвататься за борт»[673].
Эти номинально «периферийные» идеи в изобилии встречаются в господствующей идеологии. «Оказывается, что мы, представители вида Homo sapiens, столь же разрушительная сила, как любой астероид», — провозгласил ведущий популярной программы Today Show Мэтт Лауэр в специальной передаче. Суровая реальность состоит в том, что нас просто слишком много. И мы потребляем слишком много... Решения этой проблемы общеизвестны: регулирование рождаемости, переработка, сокращение потребления». Акцент Лауэра на вопросах регулирования рождаемости должен напомнить нам, что характерное для прогрессивистов евгеническое стремление к ограничению рождаемости никогда не исчезало и до сих пор скрывается за многими идеями в области защиты окружающей среды[674].
Одна из причин такого значительного сходства нацистской экологической мысли с современным либерализмом заключается в том, что природоохранное движение предшествовало нацизму и использовалось для расширения базы его поддержки. Нацисты в числе первых сделали борьбу с загрязнением воздуха, создание заповедников и экологически рационального лесного хозяйства центральными пунктами своей политической платформы. Книга Людвига Клагеса «Человек и Земля» (Man and Earth) была воплощением идеи, согласно которой человек выбрал неверный путь. Клагес, ярый антисемит, осуждал исчезновение видов и убийство китов, вырубку лесов, исчезновение коренных народов и другие известные в качестве симптомов деградации культуры проблемы. В 1980 году в честь основания немецкой экологической партии «зеленые» переиздали это эссе.
Хотя консерваторам, придерживающимся принципов свободного рынка, есть что предложить в плане защиты окружающей среды, они постоянно обороняются. Американцы, как и остальной западный мир, просто решили, что окружающая среда — это та область, где законы рынка и даже демократия не должны иметь большого влияния. Мысль о необходимости решать экологические вопросы так, как если бы речь шла об экономических проблемах (которыми они в конечном счете и являются) кажется кощунственной. Подобно тому как либералы представили себя «сторонниками детей», а своих оппонентов — их противниками, несогласие с предлагаемым либералами способом решения экологических проблем при помощи механизмов государственного контроля делает вас противником идеи защиты окружающей среды и трусливым подхалимом баронов-разбойников и «жирных котов».
Каждый заботится об окружающей среде, а также о детях. Для идеологов природоохранного движения это означает принятие целостного видения земли и восприятие людей как одного из многих видов. Для консерваторов мы распорядители земли. Это означает, что мы способны делать осознанный выбор между конкурирующими товарами. Многие так называемые «экологи» на самом деле используют в борьбе за охрану окружающей среды права собственности и рыночные механизмы для сохранения природных ресурсов для потомков. Многие представители левого фронта считают, что мы должны романтизировать природу, для того чтобы стимулировать политическую волю к ее сохранению. Но когда такая «романтика» заменяет религию, а инакомыслящие становятся «еретиками», консерваторы должны пояснить, что экологический утопизм так же невозможен, как и любая другая попытка создать рай на земле.
Нацистский культ органического
В отличие от марксизма, который объявлял бóльшую часть культуры человечества незначимой для революции, национал-социализм был целостным. Кроме того, «органический» и «целостный» были специальными нацистскими терминами для обозначения тоталитаризма. Концепция Муссолини «все внутри государства, ничего вне государства» была переработана нацистами в духе органицизма. В этом смысле член совета министров от Баварии Ханс Шемм был абсолютно серьезен, когда заявил: «Национал-социализм является прикладной биологией»[675].
Нацистские идеологи считали, что арийцы были «коренными американцами» Европы, колонизированными римлянами и христианами и, как следствие, утратили «естественный» симбиоз с землей. Сам Гитлер был фанатичным поклонником романов Карла Мая, который романтизировал индейцев американского Запада. Нацистский идеолог Ричард Дарре резюмировал суть значительной части нацистской идеологии нации, сказав: «Вырвать немца из его природного окружения — это значит убить его». Эрнст Леманн, ведущий нацистский биолог, высказывался почти так же, как господин Гор: «Мы признаем, что отделение человечества от природы, от всей жизни в целом ведет к гибели человечества и смерти отдельных народов»[676].
Нацистский культ органического не был периферийной концепцией; он находился на переднем крае «просвещенной» мысли. Немецкий историзм первым выдвинул идею об органической связи общества и государства. «Государство, — писал Иоганн Дройзен, — это совокупность, единый организм всех разновидностей морального партнерства, их общий дом и гавань, а также их конец». Кроме того, эти идеи не были исключительно немецкими. Дройзен был наставником Герберта Бакстера Адамса, а Адамс, в свою очередь, был учителем Вудро Вильсона. В своих трудах Вильсон часто ссылается на работы Дройзена. Закон, положивший начало нашей системе национальных парков, был назван «Органическим законом» 1916 года.
Рассмотрим две наиболее актуальные сферы нашей культурной жизни: питание и здоровье. Нацисты относились к проблеме питания необычайно серьезно. Гитлер, по его собственным утверждениям, был убежденным вегетарианцем. Он действительно мог часами говорить о преимуществах постной пищи и о необходимости есть продукты из цельного зерна. Гиммлер, Рудольф Гесс, Мартин Борман и еще, пожалуй, Геббельс были вегетарианцами или приверженцами здорового питания того или иного рода. Это не было проявлением подхалимства (которое было серьезной проблемой в нацистской Германии). По словам Роберта Проктора, Гесс приносил свои вегетарианские блюда на заседания в канцелярии и разогревал их, подобно современным офисным вегетарианцам, добавляя туда какую-то макробиотическую субстанцию. Это раздражало Гитлера до крайности. Гитлер однажды сказал Гессу: «У меня здесь отличный повар-диетолог. Если ваш врач прописал вам что-то особенное, она, безусловно, сможет это приготовить. Вам не следует приносить сюда свои продукты». Гесс ответил, что его пища содержала особые биодинамические ингредиенты. На это Гитлер сказал, что в таком случае Гессу придется впредь обедать дома[677].
Гитлер часто заявлял, что стал вегетарианцем благодаря Рихарду Вагнеру, который утверждал в своем эссе 1891 года, что употребление в пищу мяса и смешение рас являются главными причинами отчуждения человека от мира природы. Поэтому он призывал к «искреннему и сердечному общению с вегетарианцами, защитниками животных и друзьями трезвости». Он также красноречиво говорил о вегетарианской диете японских борцов сумо, римских легионеров, викингов и африканских слонов. Гитлер считал, что человек по ошибке приобрел привычку есть мясо от отчаяния во время ледникового периода и что вегетарианство является более естественной человеческой практикой. Более того, он часто говорил так, словно был председателем зарождавшегося движения за употребление пищи в сыром виде, которое стремительно набирает популярность. «Муха питается свежими листьями, лягушка заглатывает муху целиком, а аист поедает лягушку живьем. Таким образом природа учит нас, что рациональная диета должна основываться на употреблении пищевых продуктов в сыром виде»[678].
Многие ведущие нацистские идеологи также отличались характерной для настоящего времени приверженностью правам животных в отличие от защиты животных. «Как вы можете находить удовольствие в стрельбе из-за укрытия в бедных живых существ, которые пасутся на опушке леса, невинных, беззащитных и ничего не подозревающих? — вопрошал Генрих Гиммлер. — Ведь это убийство в чистом виде». Первоочередной задачей нацистов, когда они пришли к власти, стало принятие радикального закона о правах животных. В августе 1933 года Герман Геринг запретил «эксперименты на животных, приносящие им невыносимые страдания», угрожая отправить в концентрационные лагеря «тех, кто до сих пор считает, что ему позволено относиться к животным как к неодушевленной собственности».
Любому человеку с развитым нравственным чувством это покажется жестоким когнитивным диссонансом. Однако нацисты не видели здесь никаких противоречий. Немцам нужно было восстановить связь с природой, вновь обрести органическую чистоту, найти равновесие. Такое равновесие свойственно животным в силу того, что они неподвластны разуму. Поэтому идеологи считали, что они добродетельны и заслуживают уважения. Евреи, наоборот, считались чуждыми и космополитичными. Они были причиной нарушения равновесия в немецком «биоценозе».
Защитники прав животных справедливо замечают, что в донацистской Германии защите прав животных уделялось большое внимание и что движение за права животных не следует связывать с нацизмом. Но, как и в случае с защитой окружающей среды, такая аргументация менее убедительна, чем кажется на первый взгляд. Вполне можно сказать, что многими проблемами, которым нацисты уделяли особое внимание, также были озабочены и другие люди, не бывшие нацистами. Но сам факт того, что нацисты разделяли эти условно левые взгляды, доказывает, что нацизм не настолько чужд прогрессивному мышлению, как нас уверяют некоторые.
Ингрид Ньюкирк, глава организации «Люди за этичное обращение с животными» заявила: «Когда речь идет о чувствах, то крыса ничем не отличается от свиньи, собаки или мальчика. Нет никаких рациональных оснований, позволяющих утверждать о наличии у человека особых прав»[679]. Сложно представить себе более фашистское высказывание. Это обусловлено, во-первых, акцентом на «чувствах», которые вместо способности к мышлению или разумности преподносятся как определяющая характеристика живых существ, а во-вторых, предположением, согласно которому высшие «чувства» — те, что связаны с совестью, — настолько незначимы, что ими можно пренебречь. Когда Ньюкирк говорит об отсутствии «рационального» обоснования для разграничения паразитов и людей, она имеет в виду, что между ними нет никаких реальных различий, поэтому члены этой организации не чувствовали угрызений совести при сравнении убоя свиней с убийством евреев в их печально известной кампании «Холокост на вашей тарелке».
В настоящее время мы часто шутим о «фашистах от здравоохранения». Правительство — отчасти вследствие роста расходов на здравоохранение — уделяет все больше внимания нашему здоровью. Детским шоу на государственных телевизионных каналах поручено пропагандировать здоровый образ жизни, в результате чего песенка Бисквитного монстра «“П” значит Печенье» (С for Cookie) стала более скромной: «Печенье можно кушать иногда» (Cookies Are а Sometimes Food). Конечно, в этом нет ничего нового. Герберт Гувер, глава Продовольственного управления при Вудро Вильсоне, заставлял детей брать На себя обязательство перед государством не перекусывать между основными приемами пищи. При этом мы отказываемся понимать, что гражданин, которого государство всеми способами принуждает бросить курить, имеет такое же право жаловаться на фашизм, как автор, книгу которого запретили. Как Роберт Проктор первым подробно изложил в своей авторитетной работе «Война нацистов против рака» (The Nazi War on Cancer), одержимость личным и общественным здоровьем лежала в основе нацистского мировоззрения. По словам Проктора, нацисты были убеждены, что «агрессивные меры в области общественного здравоохранения положат начало новой эпохи здоровых, счастливых немцев, объединенных расой и общностью взглядов, очистившихся от чужеродных токсинов, освобожденных от чумы предыдущей эпохи — рака как в прямом, так и в переносном смысле». Гитлер ненавидел сигареты, полагая, что они являются «гневом краснокожих против белых людей, местью за го, что им дали крепкие спиртные напитки».
Нацисты использовали лозунг «один за всех, все за одного» (Gemeinnutz geht vor Eigennutz) для оправдания охраны здоровья каждого человека ради блага всего политического организма. Это же обоснование в ходу сегодня. Один из поборников общественного здоровья писал в New England Journal of Medicine: «Как учреждения, занимающиеся оказанием медицинских услуг, так и само государство глубоко заинтересованы в определенных формах поведения, ранее считавшихся личным делом каждого человека, если такое поведение вредит здоровью. Некоторые неудачи в области самопомощи стали в определенном смысле преступлениями против общества, потому что общество вынуждено платить за их последствия... В самом деле мы уже говорили, что люди обязаны на благо общества перестать вести себя плохо»[680].
В 2004 году Хиллари Клинтон настаивала на том, что нам следует посмотреть на развлечения детей «с точки зрения общественного здоровья». Подвергая наших детей такому потоку неконтролируемой информации, мы становимся виновниками распространения инфекции, «тихой эпидемии», которая угрожает «в долгосрочной перспективе нанести значительный ущерб здоровью огромного количества детей, а следовательно, и обществу в целом». Главный врач государственной службы здравоохранения Буша в 2003 году Ричард Кармона привел длинный список общественных деятелей, которые считали, что «ожирение достигло масштабов эпидемии». Каков его «простой рецепт» для прекращения эпидемии ожирения в Америке? Вот он: «Каждый американец должен есть здоровую пищу в достаточном количестве и быть физически активным каждый день». Такое мышление изменяет значение эпидемии, которая из угрозы общественному здоровью, возникающей против воли людей, — брюшной тиф, отравленная пища, нападение хищников — превращается в опасность, связанную с тем, что люди делают вещи, которые им нравятся. Обратите внимание, как война с курением превратила истерию в систему. Любые высказывания, хотя бы отдаленно связанные с одобрением курения, объявлены недопустимыми с точки зрения культуры и почти полностью запрещены юридически. Табачные компании были вынуждены демонстративно — и со значительными затратами — осуждать потребление собственной продукции. Бесплатные ассоциации курильщиков были объявлены вне закона в большинстве штатов Америки. Кроме того, особое внимание к детям позволяет адептам социального планирования вмешиваться, чтобы остановить вредящих детям людей, которые могут курить в присутствии детей, даже если это происходит на улице.
Сравните все это с типичным наставлением из пособия по здоровому образу жизни для «гитлеровской молодежи»: «Пища — это не частное дело!». Или «Быть здоровым — ваша обязанность!». Или, как сказал еще один представитель здравоохранения в военной форме: «Правительство имеет полное право влиять на поведение личности в меру своих возможностей, если это делается в интересах данной личности и общества в целом». Эти слова принадлежат Ч. Эверетту Купу[681].
Вегетарианство, общественное здоровье и права животных были просто разными гранями одержимости органическим порядком, господствовавшим в немецко-фашистском сознании того времени и характерным для сегодняшнего либерально-фашистского создания. Снова и снова Гитлер настаивал на «отсутствии границы между органическим и неорганическим миром». Как ни странно, это подпитывало восприятие нацистами евреев как «других». Я уже упоминал ранее, что в одной из читаемых книг по питанию Гуго Кляйн обвинял «особые интересы капитализма» и «мужеподобных еврейских полуженщин» в снижении качества немецких продуктов, что, в свою очередь, способствовало увеличению числа больных раком. Гиммлер надеялся перевести СС полностью на натуральные продукты питания и намеревался осуществить такой переход для всей Германии после войны. Натуральная пища идеально вписывалась в глобальную нацистскую концепцию органической нации, живущей в гармонии с до- и нехристианской экосистемой.
Многие американцы сегодня одержимы всем «натуральным». Сеть универмагов Whole Foods стала главным храмом этого культа, не устоял перед которым даже Wall-Mart. Целью сети Whole Foods (где я, кстати, часто делаю покупки), по утверждению New York Times, является обеспечение «предшествовавшей современности подлинности» или «создание ощущения такой подлинности», призванной дать людям «смысл». Побродите по одному из магазинов Whole Foods, и вы будете поражены тем, что там увидите. «Обдумывая что-либо, мы всякий раз должны учитывать влияние наших решений на следующие семь поколений» — так гласит великий закон ирокезов и этикетки на каждом рулоне туалетной бумаги марки «Седьмое поколение». Компания обещает нам «доступную, высококачественную, безопасную и сберегающую окружающую среду» туалетную бумагу, которая помогает «сохранять ваше здоровье, здоровье вашего дома и всей нашей планеты». Но не волнуйтесь, «Седьмое поколение» также обещает «справиться со своей задачей».
Еще есть сухие завтраки EnviroKidz[682]. Прочтите текст на упаковке, и вы узнаете, что «EnviroKidz выбирает натуральные продукты питания. Органическое сельское хозяйство бережно относится к земле и ко всем созданиям, которые живут на ней». Текст заканчивается следующим образом: «Так что если вы хотите жить на такой планете, где биологическое разнообразие охраняется, а люди ступают по земле более легко, выбирайте сертифицированные натуральные сухие завтраки от EnviroKidz. Разве плохо было бы, если бы вся пища, которую мы едим, была экологически чистой и сертифицированной?» Компания Gaiam продает широкий ассортимент продуктов в Whole Foods и подобных магазинах. Из их проспекта мы узнаем, что «Гея, Мать-Земля, почиталась на острове Крит в Древней Греции четыре тысячи лет назад минойской цивилизацией... Понятие о Гее восходит к древней философии, согласно которой Земля — это живое существо. В Gaiam мы верим, что вся живая материя Земли, воздух, океаны и земля образуют взаимосвязанную систему, которую можно рассматривать как единое целое»[683].
Все это неплохо и, конечно же, продиктовано лучшими побуждениями. Но самым интересным моментом в связи с Whole Foods и культурой, которую она представляет, является степень их зависимости от изобретения того, что соответствует новой общечеловеческой этнической общности. Более тридцати лет назад Даниэль Патрик Мойнихан и Натан Глейзер писали в своей книге «За пределами плавильного котла» (Beyond the Melting Pot): «Назвать профессиональную группу или класс — это почти то же самое, что дать имя этнической группе». Это уже не верно, и в ответ левые силы и рынок создают искусственные этнические общности, основанные на воображаемом или романтическом прошлом, от благородных дикарей доколумбовой Северной Америки в духе Руссо до причудливых вымышленных обществ дохристианской Европы или Древней Греции. Я жду появления сладких сухих завтраков «Общество Туле».
Послесловие. Искушение консерватизма
Прошлое неизменно показывает, что, когда свобода исчезает, она уходит не с треском, но в тишине и в комфорте заботы. Эта серьезная опасность связана с современной тенденцией к усилению государственного контроля. Если свобода не будет сопровождаться готовностью сопротивляться и отказываться от льгот, а не от того, что нематериально, но при этом непрочно, она вскоре исчезнет совсем.
Ричард Уивер, 1962В этой книге я привожу доказательства того, что современный либерализм является потомком прогрессивизма XX века, который, в свою очередь, состоит в интеллектуальном родстве с европейским фашизмом. Кроме того, я утверждаю, что фашизм представлял собой международное движение, которое принимало различные формы в разных странах в зависимости от особенностей национальной культуры. В Европе это стремление к объединению нашло выражение в политических движениях, которые были националистическими, расистскими, милитаристскими и экспансионистскими. В США движение, известное в других странах как фашизм или нацизм, приняло форму прогрессивизма — более мягкой разновидности тоталитаризма, которая, несмотря на присущие ей национализм и милитаризм в политических кампаниях и мировоззрении, в большей степени соответствовала американской культуре. Одним словом, это был своего рода либеральный фашизм.
После холокоста и в суете после убийства Кеннеди националистические страсти оказались перевернутыми. В результате возник «карательный либерализм» (по словам Джеймса Пирсона), в котором «обетование» американской жизни Герберта Кроули стало проклятием американской жизни. Давнее стремление прогрессивизма исправить Америку превратилось в религиозный крестовый поход, призванный очистить ее нередко за счет самобичевания от бесчисленных грехов нации. Короче говоря, либерализм в нашей стране поддался тоталитарному искушению: вере в подобных священникам экспертов, способных реорганизовать общество «прогрессивным» способом. Это прогрессивное священство не терпит несогласия и в настоящее время пользуется значительным влиянием на многих фронтах.
Пока все хорошо. Однако в силу того, что это объемная книга, в которой настойчиво обращается внимание на опасность, связанную с беспрепятственным проникновением этих либерально-фашистских мотивов и тенденций в нашу политику, экономику и культуру, я, пожалуй, обязан предвосхитить некоторые возражения, которые могут возникнуть даже у самых дружелюбно настроенных и непредвзятых читателей, а именно: «Не преувеличиваете ли вы проблему, пытаясь примерить всем своим противникам коричневые рубашки, точно так же, как они, по вашим утверждениям, поступили с вами? Кроме того, какое значение имеет происхождение этих идей, если они применяются во благо и даже оказываются полезными? Что плохого в прогрессе и прагматизме, если не нарушается принцип умеренности? И если, как вы неоднократно заявляете, на сегодняшний день не существует реальной угрозы фашистского переворота, зачем бить тревогу? Выражаясь более конкретно, почему в книге так много внимания уделяется Клинтонам, Кеннеди, Рузвельту и Вильсону, но почти ничего не говорится о Никсоне и Джордже Буше? Если уж искать доказательства зарождающегося фашизма в Соединенных Штатах, не следовало ли в большей степени озаботиться паникерством, шовинизмом и злоупотреблением привилегиями исполнительной власти со стороны администрации Буша? Разве не это реальная угроза фашизма сегодня, а не продвижение в сети Whole Foods органической туалетной бумаги и кампании Хиллари Клинтон в интересах детей?»
Давайте по порядку. Как только я стал писать о политике с консервативной точки зрения, самодовольные либеральные «незнайки», высокомерно уверенные в истинности своих основанных на недостаточной осведомленности предрассудков, сразу же назвали меня фашистом и нацистом. Ответить на эту клевету — дело чести. Еще более важно, что, будучи консерватором, я на самом деле считаю, что консервативная политика принесет Америке больше пользы. Начиная с права родителей выбирать школу для своих детей и заканчивая свободными рынками для продвижения демократии во всем мире, я считаю, что консерваторы по большей части занимают правильную позицию. Когда предложения консерваторов отметаются с намеками на фашистские мотивы, это не только удешевляет политический дискурс, но и ведет к отказу от столь необходимых реформ, причем это достигается не за счет обсуждения, но путем запугивания. Конечно, сам факт того, что наш политический дискурс искажен таким образом, достаточно важен, и я написал эту книгу во многом для того, чтобы внести ясность и получить представление (и рассказать другим) об истинном смысле и природе фашизма.
Теперь о том, не преувеличиваю ли я данную проблему. Я неоднократно пояснял, что современные либералы — это не карикатурные нацистские злодеи. Эти люди не штурмовики и не комиссары; они распорядители в студенческих городках и менеджеры по реализации принципа многообразия, детские психологи и участники кампании по борьбе с курением. Опасность, которую они представляют, не является экзистенциальной или оруэлловской, за исключением того, что они могут приучить американцев к социальному контролю сверху. Реальная угроза состоит в том, что обещанная счастливая «американская жизнь» может оказаться разменянной на мешок волшебных бобов под названием «безопасность». Не следует это расценивать как выпад против администрации Буша или войны с террором. Существует значительная разница между фактической безопасностью — защитой населения от угроз извне или незаконного насилия — и метафорической, квазирелигиозной безопасностью, которую обещает «третий путь». Похоже, многие прогрессивисты считают, что мы можем превратить Америку в огромный университетский городок, где каждому из нас будут предоставлены еда, жилье и отдых, а единственным преступлением будет недоброжелательность по отношению к другим людям, особенно представителям меньшинств.
Я, безусловно, преувеличиваю проблему, если вы воспринимаете мои доводы как заявление о том, что либерализм — это «троянский конь» для нацизма. И хотя я не сомневаюсь, что некоторые враждебные критики станут утверждать, что я придерживаюсь такого мнения, это не соответствует действительности. Но они наверняка скажут именно так, потому что их молчание будет равносильно признанию того, что «дивная новая деревня» Хиллари Клинтон на самом деле достаточно плоха. Конечно, можно жить счастливой жизнью в медикализированном, психологизированном обществе, где государство заменяет вам мать. Но это возможно лишь в том случае, если вас приучили находить радость в таком обществе, а цель многих либеральных институтов состоит в том, чтобы переписать привычки в наших душах. Однако даже если я считаю трагедией утрату присущих Америке индивидуализма и свободы, я, конечно же, могу представить себе более жуткие вещи. В конце концов жизнь в огромном североамериканском подобии Бельгии, несомненно, имеет свои преимущества.
Я не ставил перед собой задачу написать современную версию «Пути к рабству» (если бы я вообще смог это сделать). Я также не имею никакого желания быть «правым Джо Конасоном», одержимо стучащим по клавиатуре в стремлении представить каждое пристрастное возражение как пугающее предзнаменование утраты тех или иных свобод. Но если вас все еще мучает вопрос «ну и что?», есть еще одна более серьезная опасность, которую не следует упускать из виду. Избитое выражение, согласно которому дорога в ад вымощена благими намерениями, верно по своей сути. Я не сомневаюсь, что либералы руководствуются самыми благими в их понимании намерениями, выступая за «современное» европейское государство всеобщего благосостояния. Но стоит иметь в виду, что европеизированная Америка не просто перестанет быть Америкой; также нет никаких оснований полагать, что дело ограничится ее европеизацией. Если перефразировать высказывание Честертона, опасность Америки, которая перестанет верить в себя, будет заключаться не в том, что она перестанет верить во что-либо, но в том, что она будет верить во все что угодно. А это уже прямая дорога к воплощению более мрачных антиутопий. Подобно «полезным идиотам» прошлого нынешние либералы хотят самого лучшего, но открывая дверь для того, чтобы получить это, они вполне могут впустить нечто гораздо худшее.
Что касается вопроса, почему я не стал подробно рассматривать правление Ричарда Никсона или, скажем, Трумэна и Эйзенхауэра, ответ прост: я изложил именно то, что представлялось мне наиболее важным. Эти президенты, подобно Линдону Джонсу, в некоторых отношениях радели о государстве всеобщего благосостояния, развивая принципы «Нового курса» и «Великого общества», а не подвергая их сомнению. Что касается Рональда Рейгана, то он переживает, пожалуй, самую замечательную реабилитацию в современной американской истории, как и Барри Голдуотер, который вдруг стал героем для либерального истеблишмента. Похоже, что американские либералы начинают ценить мертвых консерваторов, когда те становятся полезными дубинами, которые можно обрушить на живых консерваторов. Как бы то ни было, история Рональда Рейгана казалась слишком новой и слишком созвучной обсуждению Голдуотера (сторонники этатизма называют фашистами борцов за свободу), поэтому я решил не упоминать о нем.
Но нынешний президент представляет собой особый случай, не так ли? По всей видимости, Джорджа Буша называли фашистом чаще, чем любого другого президента США. Ведущие политики по всему миру сравнивают его с Гитлером. Доморощенные оригиналы пытаются обвинять семью Буша в содействии Гитлеру в первую очередь. Демократическая программа Буша, которую я поддерживаю, стала синонимом неофашизма во всем мире и во многих кругах Америки. Есть какая-то необычная ирония в том, что наиболее «вильсоновского» президента за время жизни целого поколения считают фашистом многие из тех людей, которые с негодованием отвергли бы предположение о том, что Вильсон сам был фашистом.
Когда я сказал в предыдущей главе «все мы теперь фашисты», я имел в виду, что невозможно полностью избавить нашу культуру от токсинов фашизма. По правде говоря, это не повод для беспокойства. Летальность яда обычно зависит от принятой дозы, и некоторая доля фашизма, так же как некоторая доля национализма или патернализма, не угрожает нашей жизни. Более того, такую незначительную примесь фашизма вполне можно считать нормальной. Но такие вещи отличаются тенденцией к увеличению, потенциалом для роста, который может быстро стать смертельным. Таким образом, по просьбе читателя, который спрашивает: «А как насчет Буша, а как же консерваторы?» — в заключение я хотел бы остановиться на фашистских тенденциях, которые существуют сегодня в правом политическом лагере Америки.
Сострадательный фашизм
В этой книге я сосредоточился на тоталитарных левых тенденциях. Этс было важно вследствие укоренившейся догмы, согласно которой фашизм является правым. Но поскольку жажда общности живет в человеческом сердце тоталитарное искушение также можно найти и справа.
Представители самых разных идеологий имеют тенденцию к романтизации племенного строя под разными именами и, как следствие, стремятся воссоздать его. Это по определению реакционная тенденция, потому что она пытается восстановить вымышленное прошлое или удовлетворить древние стремления. Коммунизм был реакционным, так как он пытался создать племя рабочего класса. Итальянский фашизм пытался создать племя нации. Нацизм пытался создать племя немецкой расы. Мультикультурная политика идентичности реакционна, поскольку она рассматривает жизнь как состязание между племенами, принадлежащими к различным расам или полам. Аналогичным образом реакционна «деревня» Хиллари Клинтон, поскольку она пытается восстановить племенные удобства жизни маленького города на национальном и даже мировом уровне (ее «американская деревня» в конце концов растворяется в «глобальной деревне»). Но консерваторы также склонны к этому человеческому стремлению, и хотя оно проявляется по-разному, я сосредоточусь на трех его аспектах.
Первый — это ностальгия, опасное чувство в политике. Американские консерваторы с давних пор позиционируют себя как защитники домашнего очага, традиционных и, конечно, семейных ценностей. Я не возражаю, когда консерваторы отстаивают эти достоинства и ценности в культурной сфере. Я также не против, когда забота об этих вещах трансформируется в политические усилия, направленные на отражение агрессивных действий либералов по усилению государственного контроля. Проблемы начинаются тогда, когда консерваторы пытаются воплотить эти настроения в политических программах на национальном уровне. Прелесть американского консерватизма заключается в том, что он представляет собой сплав двух очень разных металлов: культурного консерватизма и (классического) политического либерализма. Всякий раз, когда он готов пожертвовать политическим либерализмом ради реализации принципов культурного консерватизма, он заигрывает со специфическим правым социализмом.
Второй случай, когда консерватизм может сбиться с пути, связан (в определенной степени из-за отчаянного желания казаться актуальным, современным или даже прогрессивным) с готовностью подражать своим противникам, утрачивая вследствие этого свою суть. Американская цивилизация либеральна по определению, что делает неизбежным и желательным постоянное расширение смысла принципов равенства и свободы. Большинство консерваторов разделяет эти основополагающие либеральные ценности. При этом они отвергают тоталитарные предположения, привнесенные в американский либерализм прогрессивистами XX века. Проблема в том, что мы сейчас живем в мире, обусловленном прогрессивным мировоззрением. Люди понимают и описывают многие явления в терминах прогрессивизма. Даже если вы скептически относитесь к таким понятиям, вы не можете убедить других в правоте своей позиции, если вы не говорите на этом понятном им языке. Если вы считаете, что аборт — это зло, вам не удастся убедить тех, кто отвергает такие нравственные категории, как добро и зло.
И наконец, есть «песня сирены» политики идентичности. Белые люди не могут преодолеть межплеменную вражду. Выступать против расовых квот и балканизирующей логики мультикультурализма правильно и хорошо. Безусловно, защита общих принципов американской культуры — тоже правое дело. Однако сторонники мультикультурализма высмеивают ее как «белую культуру», стремясь лишить ее легитимного статуса и в конечном счете уничтожить. Однако борьба с огнем при помощи огня — это довольно порочная практика. Дело не в том, что «белая христианская Америка» плоха или деспотична. Совсем нет. Скорее, опасно желание навязать обществу представление о белой христианской Америке, так как для того, чтобы это стало правительственной программой, открытое общество должно стать закрытым. Руссо был прав в одном: цензура полезна для сохранения нравов, но бесполезна для их восстановления. Министерство иудейско-христианской культуры сможет создать только пародию на истинную культуру. В Европе церкви субсидируются государством, в результате чего скамьи пусты. Проблема с ценностным релятивизмом — понятием, согласно которому все культуры равны, — заключается в том, что важные вопросы решаются с помощью политического противоборства, а не сравнения идей. При этом каждая субкультура в нашем раздробленном обществе становится избирательным округом для того или иного правительственного чиновника. В результате возникает санкционированный государством дух мультикультурализма, в соответствии с которым ацтеки и афиняне равны, по крайней мере в глазах учителей государственных школ и гуру мультикультурализма. В открытом обществе побеждают лучшие практики. А консерваторы считают, что лучшие практики являются таковыми не потому, что они белые или христианские, но потому, что они лучше других.
Конечно, опасность, которую таит в себе мультикультурное государство всеобщего благосостояния, состоит в том, что, исповедуя ценностный релятивизм, оно создает такую обстановку, в которой со стороны белых христиан было бы глупостью отказываться от борьбы за власть. Например, если в государственных школах детям будут внушать некоторые нравственные ценности, вполне объяснимо желание родителей, чтобы это были ценности, близкие им самим. Как объяснимо государственное вмешательство в бизнес или другие сферы жизни в результате замены его классической либеральной концепции как арбитра и бесстрастного судьи концепцией пристрастного государства-матери, так и вполне объяснимо стремление людей, групп и предприятий бороться за материнскую любовь.
Все эти три аспекта явно прослеживаются в действиях консерваторов в течение последних двух десятилетий. Пожалуй, наиболее показательным в этом отношении является Патрик Дж. Бьюкенен — живое воплощение того, что либералы имеют в виду, когда говорят о зарождающемся американском фашизме.
Рожденный в белой семье в Вашингтоне, округ Колумбия, Бьюкенен начал свою карьеру как автор редакционных статей в газете St. Louis Globe Democrat. В 1960 году он начал работать с Ричардом Никсоном, помогая готовить возвращение бывшего вице-президента в политику. Будучи номинальным сторонником Голдуотера, Бьюкенен выполнял роль посла Никсона в консервативном лагере и, наоборот, защищал слишком прогрессивного Никсона перед консерваторами и консерваторов перед Никсоном. После выборов Бьюкенен служил советником и составителем речей для Никсона и вице-президента Спиро Агню.
Бьюкенен заработал репутацию популиста еще до того, как его прозвали Пэт с вилами. Он предложил словосочетание «молчаливое большинство» Никсону и склонял своего босса атаковать элиты восточного побережья и, зачастую неявно, евреев. В серии служебных записок в 1972 году он советовал Никсону «вернуться к традиции или теме противостояния истеблишменту в американской политике». Никсону следовало изобразить Джорджа Макговерна «как кандидата New York Times, Фонда Форда, приверженных элитизму левых преподавателей высшей школы, сопливых демонстрантов, черных радикалов и всей этой банды стороннике элиты», как предлагал Бьюкенен, тогда как сам Никсон должен был стать «кандидатом простого человека, человека труда». Либеральные комментаторы часто сравнивают Бьюкенена с отцом Кофлином[684]. И хотя похоже, что Бьюкенен на самом деле агрессивно настроен против евреев, такое отношение объясняется не столько его связью с консерватизмом, сколько его рудиментарным популизмом в стиле 1930-х годов. Бьюкенен восторженно пишет о комитете «Америка прежде всего» и подобно Чарльзу Линдбергу предполагает, что Америку вовлекли во Вторую мировую войну группы, которые не заботились об интересах страны.
В 1990-е годы гнев либералов по поводу «правого» фашизма Бьюкенена достиг апогея. Молли Айвинс отозвалась о речи Бьюкенена, с которой он выступил в 1992 году на национальном съезде Республиканской партии, следующим образом: «Вероятно, она звучала бы еще лучше в оригинале, на немецком языке»[685]. Ирония заключается в том, что Бьюкенен постепенно левел. В течение многих лет противники Бьюкенена называли его «тайным сторонником нацизма за защиту Рональда Рейгана и Республиканской партии». На самом деле единственным фактором, сдерживавшим его фашистские инстинкты, была его лояльность по отношению к Республиканской партии и консервативному движению. После Рейгана и «холодной войны» Бьюкенен отказался от обоих, найдя воплощение своих принципов в левом лагере.
Бьюкенен называет себя «палеоконсерватором», но в действительности он неопрогрессивист. Во время выборов 2000 года он осудил сторонников свободного рынка и единого налога, заявив, что они проводят слишком много времени с «парнями из элитных яхт-клубов»[686]. Он выступал за ограничение зарплат управленцев высшего звена, увеличение пособия по безработице и против любых разновидностей реформирования системы льготного медицинского страхования Medicare в духе свободного рынка, а также поддержал пересмотр политики активного вмешательства государства в экономику в русле «третьего пути». Неопрогрессивизм Бьюкенена привел даже к тому, что бывший помощник Рейгана выступил против социал-дарвинизма свободного рынка.
С точки зрения культуры популизм Бьюкенена в духе «готовности к бою» был откатом к Уильяму Дженнингсу Брайану и Джо Маккарти. Он также олицетворяет возрождение теорий «расового самоубийства», характерных для «прогрессивной эры». В книге «Смерть Запада» (The Death of the West) Бьюкенен утверждает, что белая раса становится «вымирающим видом», который скоро будет поглощен ордами из стран третьего мира. По его мнению, русский ультранационалист и демагог Владимир Жириновский высказал вполне здравую мысль, предложив аналог программы Lebensbom, призванный узаконить многоженство в России. Заносчивый ирландский скандалист, Бьюкенен всегда относился к национальной гордости очень серьезно. Таким образом, вместо противостояния левому мультикультурализму он принял его, утверждая, что элитные колледжи должны принять меры для того, чтобы «больше походить на Америку» за счет введения квот для «белых нееврейского происхождения» или «евроамериканцев»[687].
Смесь принципов этатизма и евгенического расизма вдохновляла таких мыслителей «прогрессивной эры», как Вудро Вильсон, Тедди Рузвельт, Е. А. Росс и Ричард Илай. Консерваторы должны спросить себя, чем такие настроения отличаются от воззрений Бьюкенена. Между тем либералы, которые думают, что такие идеи делают последователей Бьюкенена фашистами, должны объяснить, почему от таких обвинений освобождаются прогрессивисты, когда они придерживались точно таких же убеждений.
Соображения внешней политики привели к тому, что позиции Бьюкенена и Джорджа Буша воспринимаются как кардинально различные. Более того, изоляционизм Бьюкенена и его жесткая оценка политики Израиля обеспечили ему не совсем понятное уважение со стороны некоторых представителей как левых, так и правых сил. Но следует помнить, что Бьюкенен был первым «сострадательным консерватором». «Я могу обвинить его в плагиате», — пожаловался Бьюкенен, когда его спросили, что он думает о слогане Джорджа Буша[688].
Итак, сострадательный консерватизм Буша разительно отличается от позиции Бьюкенена по ряду ключевых вопросов. Бьюкенен — сторонник ограничения иммиграции, его ужасает приток выходцев из Латинской Америки в Соединенные Штаты. Буш выступает в поддержку иммиграции, утверждая, что «семейные ценности не заканчиваются в Рио-Гранде». Буш — приверженец свободной торговли, уменьшения налогов, он отличается умеренностью во взглядах применительно к позитивной дискриминации. Он хочет привлечь в ряды республиканцев представителей меньшинств. В отличие от Бьюкенена он стремится решать вопросы внешней политики с позиции силы и с глубокой симпатией относится к Израилю.
Но есть и то, что их объединяет. Во-первых, политика Буша — это своего рода капитуляция перед социальной базой. Буш представляет «республиканские штаты», тогда как Билл Клинтон и более явно Джон Керри — «демократические». Во многих отношениях бушизм — это просто уступка реальности.
В поляризованной политической культуре президентам приходится выбирать одну из сторон, чтобы быть избранными. Но такие прагматические уступки не отменяют того факта, что политика, основанная на задабривании избирателей безделушками из государственной казны, в корне противоречит консервативным принципам.
Во-вторых, и тот и другой — продукты нового прогрессивного духа в американской политике. После падения Берлинской стены либералы уверились в том, что усиление национальной безопасности станет ключевым моментом, который позволит им восстановить прогрессивную программу. Они надеялись инвестировать «дивиденд мира» во всевозможные схемы в духе «третьего пути», в том числе неокорпоративистские партнерства государственного и частного секторов, подражая более просвещенной промышленной политике Европы и Японии. Билл Клинтон заимствовал либеральные принципы у Кеннеди и Рузвельта, объединив популистскую риторику («интересы народа прежде всего») с мотивами новой политики эпохи Кеннеди. Кульминацией всего этого стала попытка Хиллари Клинтон установить контроль над американским здравоохранением, которая, в свою очередь, породила в значительной степени либертарианские антитела в виде «Контракта с Америкой» и, увы, непродолжительной революции Гингрича. Результатом этой напряженности стали некоторые очень благоприятные политические события и даже более обнадеживающая риторика, такие как реформа в системе социального обеспечения и сделанное Биллом Клинтоном в январе 1996 года заявление о том, что «эра большого правительства подошла к концу». Но достаточно скоро либертарианская лихорадка прекратилась, когда общественность встала на сторону президента Клинтона в ситуации с инициированным Ньютом Гингричем временным прекращением работы правительства.
Сам Гингрич, который пытался ликвидировать различные агентства в правительстве, в то же время заявлял, что его пребывание в должности спикера знаменует начало новой «прогрессивной эры», при этом он всегда с большой теплотой говорил о предшествующих поколениях либералов. В самом деле, на протяжении 1990-х годов республиканцы и консервативные писатели увлеклись прогрессивизмом. Возник настоящий культ личности Тедди Рузвельта, и политики поочередно объявляли себя его последователями. И главным среди них был Джон Маккейн, который проникся необычайной любовью к рузвельтовскому стилю правления.
В 1990-е годы журнал Weekly Standard начал кампанию за «национальное величие» в традициях «мужественного всадника»[689]. (Дэвид Брукс с одобрением цитирует предупреждение Рузвельта о том, что американцы рискуют «погрязнуть в меркантильности, пренебрегая более высокой жизнью, жизнью стремлений, упорного груда и риска».) Что требовалось для борьбы с такой деградацией? Конечно же, «мускулистый прогрессивизм» Рузвельта. Если американцы «думают только о своих узких личных интересах, связанных с их коммерческой деятельностью, — предупреждал Брукс, — они теряют смысл великого стремления и благородных целей». Перевод: американцам необходима политика смысла. Между тем редактор журнала Weekly Standart Уильям Кристол осудил рефлексивный антиправительственный консерватизм как незрелый и контрпродуктивный, в то время как его журнал угрожал войной Китаю и Ираку[690].
Именно в такой обстановке и возник «сострадательный консерватизм». Советник Буша Карл Роув, горячий поклонник Тедди Рузвельта, предложил сострадательный консерватизм не как альтернативу политике Клинтона в духе «третьего пути», но как республиканский вариант этой линии. В 2000 году Джордж Буш гордо вышел на выборы как консерватор особого рода, выстраивая свою кампанию вокруг таких тем, как образование, проблемы матерей-одиночек и национальное единство. Позаимствовав идею у Марвина Оласки, ловкого христианского интеллектуала, придумавшего словосочетание «сострадательный консерватизм», команда Буша намеревалась пояснить всем, что правительство они рассматривают как проявление любви, в частности христианской.
Само прилагательное «сострадательный» отражает осуждение прогрессивистами и либералами принципа ограничения власти как жестокого, эгоистичного или социал-дарвинистского. Другими словами, даже как маркетинговый лозунг он представлял собой отказ от классического либерализма, лежащего в основе современного американского консерватизма, потому что предполагалось, что ограничение власти, свободный рынок и личная инициатива почему-то являются «лишенными сострадания».
Тем не менее консерваторы, которые жалуются на «консерватизм большого правительства» Буша, словно речь идет о каком-то чудовищном предательстве, игнорируют тот факт, что они были предупреждены. Когда Буш ответил во время предвыборных дебатов в 2000 году, что его любимым политическим философом является Иисус Христос, консерваторы, выступающие за ограничение власти, должны были ощутить присутствие призрака социального евангелизма. Майкл Герсон, давний спичрайтер и советник Буша, твердо убежден в том, что федеральное правительство должно быть проникнуто духом христианской любви. Покинув Белый дом, он написал для журнала Newsweek статью под названием «Новое Социальное Евангелие» (A New Social Gospel), в которой он описывает новых евангелистов как «защитников жизни и бедных слоев населения». В другой статье для Newsweek он критиковал консерваторов, выступающих за ограничение власти правительства, горевал о «неограниченном индивидуализме» и пришел к выводу, что «любое политическое движение, которое ставит абстрактную антиправительственную идеологию выше потребностей человека, вряд ли можно считать консервативным и оно вряд ли победит»[691].
Несомненно, президент Буш разделяет многие из этих убеждений. В 2003 году он провозгласил, что, «когда кому-то плохо», правительство обязано «принимать меры». И при Буше меры были приняты. Было создано новое агентство в правительстве, выплаты в рамках программы льготного медицинского страхования Medicare увеличились на 52 процента, а расходы на образование выросли примерно на 165 процентов. С 2001 по 2006 год расходы на борьбу с бедностью увеличились на 41 процент, а общие расходы достигли рекордной отметки в 23 289 долларов на семью. Расходы на федеральные программы по борьбе с бедностью впервые превысили три процента ВВП. Общая сумма расходов (с поправкой на инфляцию) в три раза превысила аналогичный показатель при Клинтоне. Кроме того, Буш предложил самую крупную компенсацию со времен «Великого общества» (часть D Программы льготного медицинского страхования Medicare).
Это не означает, что Буш полностью отказался от консервативного принципа ограничения власти. Его программы назначения судей, снижения налогов и усилия по приватизации системы социальной защиты представляют собой выражение либо рудиментарной преданности принципам ограничения власти, либо признания того, что мнение консерваторов, выступающих за ограничение власти, нельзя полностью игнорировать. Но Буш на самом деле консерватор особого рода, он с большой симпатией относится к вторжениям в жизнь гражданского общества в прогрессивном стиле. Его религиозная инициатива представляла собой исполненную благих намерений попытку размывания границ между государственной и частной благотворительностью. В интервью с Фредом Барнсом из Weekly Standard Буш объяснил, что он отвергает реакционный, антиправительственный консерватизм Уильяма Ф. Бакли; вместо этого, как президент заявил Барнсу, консерваторы должны «направлять» и проводить активную политику. Это вполне соответствует ошибочному пониманию Бушем консерватизма как поддержки социальной базы, которая называет себя «консервативной»[692].
Хотя Буш, конечно же, не всегда был заложником своей социальной базы. Как и его прогрессивные предшественники — Клинтон, Никсон, Рузвельт и Вильсон, — когда его программа отличается от взглядов его самых верных избирателей по вопросам иммиграции или образования, он ставит под сомнение их намерения как «лишенные сострадания».
Многие консерваторы, включая Буша и Бьюкенена, не могут понять, что консерватизм не является ни политикой идентичности для христиан и/или белых людей, ни правой разновидностью прогрессивизма. Скорее, его сущность заключается в противостоянии всем видам политической религии. Это отказ от идеи, согласно которой политика может быть искупительной. Это уверенность в том, что в соответствующим образом упорядоченной республике амбиции правительства ограниченны. Консерваторы в Португалии могут желать сохранения монархии. Консерваторы в Китае всячески стремятся сохранить прерогативы Коммунистической партии. Но в Америке, как отмечают Фридрих Хайек и др., к консерваторам относится тот, кто защищает и отстаивает институты, которые считаются либеральными в Европе, но преимущественно консервативными в Америке: частную собственность, свободный рынок, свободу личности, свободу совести и право сообществ самостоятельно определять, как они желают жить в рамках этих принципов[693]. Поэтому консерватизм, классический либерализм, либертарианство и вигизм — это различные флаги единственной на самом деле радикальной политической революции за тысячу лет. На этой традиции основана американская государственность, и современные консерваторы стремятся развивать и защищать ее. Американским консерваторам часто вменяют в вину, что они выступают против перемен и прогресса; сегодня не найдется ни одного консерватора, который хотел бы восстановить рабство или избавиться от бумажных денег. Но приверженцы консерватизма понимают, что прогресс является следствием исправления противоречий в нашей традиции, а не отказа от нее.
В настоящее время консерваторам постоянно приходится обороняться, доказывая, что они «заботятся» о решении тех или иных проблем различных социальных групп, и часто они просто признают свое поражение в вопросах защиты окружающей среды, реформирования системы финансирования избирательных кампаний или введения расовых квот, для того чтобы доказать, что они хорошие люди. Еще большую тревогу вызывает тот факт, что некоторые либертарианцы отказываются от своей исторической преданности негативной свободе, не позволяющей государству посягать на наши свободы, в пользу позитивной свободы, в соответствии с которой государство делает все возможное, чтобы помочь нам полностью реализовать свой потенциал[694].
Пожалуй, самая серьезная угроза заключается в том, что мы перестаем понимать, где начинается и где заканчивается политика. В обществе, где правительство должно делать все «хорошее» в «прагматическом» смысле, в обществе, где отказ признавать чье-либо самоуважение равносилен преступлению на почве ненависти, в обществе, где все личное относится к сфере политики, постоянно существует опасность наделения того или иного культа политической властью. Тот факт, что в Соединенном Королевстве самопровозглашенных джедаев больше, чем евреев, вполне может быть поводом для беспокойства. Я могу с опаской относиться к практикующим викканство, к парам, которые женятся в соответствии с клингонским обрядом бракосочетания, теоретикам странной любви, друидам и сторонникам движения «Земля прежде всего», но пока вещи такого рода не приобретают характера политического движения, с ними вполне можно" мириться, хотя и с некоторой опаской. Но культовые организации нередко стремятся к власти, и именно по этой причине в Германии до сих пор запрещена церковь саентологии наряду с нацистской партией. Уже сейчас трудно ставить под сомнение языческие основы движения в защиту окружающей среды, чтобы вас при этом не посчитали ненормальным. Я подозреваю, что со временем ситуация будет только усугубляться. Либералы и левые по большей части оказываются неспособными вести диалог с джихадизмом (типично фашистской политической религией) из страха нарушить правила мультикультурной политкорректности.
В конечном счете проблема здесь сводится к догме. Мы все догматики того или иного рода. Мы все считаем, что есть некоторые фундаментальные истины или принципы, которые определяют границы приемлемого и неприемлемого, благородного и корыстного. Слово «догма» происходит от греческого dokein («казаться хорошим»). Людьми движет не только разум. Как заметил Честертон, исключительно разумный человек не станет жениться, а исключительно рациональный солдат не будет воевать. Другими словами, хорошая догма может быть самым эффективным противодействием плохим идеям и самым мощным стимулом для добрых дел. Как заявил Уильям Ф. Бакли в 1964 году при обсуждении либертарианской идеи приватизации маяков, «если наше общество серьезно размышляет о том, стоит ли денационализировать маяки, оно без раздумий решит вопрос о национализации медицинских учреждений». Либерально-фашистский проект можно охарактеризовать как стремление лишить легитимного статуса хорошие догмы, утверждая, что все догмы являются плохими.
В результате консерваторы и правые всех мастей оказались в невыгодном положении, потому что мы допустили «ошибку», изложив свои догмы на бумаге. Более того, мне представляется, что это неверно, по крайней мере правые прогрессивисты честно говорят, где берет начало их догма. Можно отвергать или принимать Библию (или труды Марвина Оласки) в качестве источника вдохновения для некоторой программы или политики. Также можно оспаривать идеи Фридриха Хайека и Милтона Фридмана. Консерваторы в отличие от приверженных пуризму либертарианцев не против политики активного вмешательства государства в экономику. Но у нас и у либертарианцев есть общая догма, гласящая, что это, в принципе, плохая идея. Отсюда не следует, что из данного правила нет исключений. Мы догматически верим в то, что воровать плохо, но все мы можем представить себе гипотетические ситуации, когда кража может считаться оправданной с точки зрения морали. По аналогии консерваторы считают, что роль государства должна быть ограничена, а его вмешательство допустимо в исключительных случаях. Если консерватизм отступает от этого общего правила (как это произошло при Джордже Буше), он перестает быть консерватизмом в привычном понимании.
Уникальность угрозы левых политических религий сегодняшнего дня заключается именно в том, что, по их утверждениям, они свободны от догм. Они называют себя борцами за свободу и прагматизм, которые, по их мнению, являются бесспорными благами. Они избегают «идеологических» проблем. Поэтому они лишают своих оппонентов возможности обсуждать их основные идеи и чрезвычайно осложняют разоблачение деспотических желаний, таящихся в глубине их души. У них есть догма, но они сделали ее недоступной. Вместо этого они заставляют нас спорить с их намерениями, мотивами и чувствами. Нам говорят, что либералы правы потому, что они «неравнодушны», объявляя «сострадание» лозунгом американской политики. Таким образом либералы получают возможность контролировать процесс дискуссии, не объясняя при этом, куда они хотят прийти в итоге и где находились все это время. Им удалось то, к чему безуспешно стремились идеологи фашизма: сделать страсть и активность мерой политической добродетели, а намерения — более важными, чем факты. Они смогли добиться таких результатов во многом благодаря тому, что умело представили своих противников фашистами.
В 1968 году в телевизионных дебатах на канале ABC News во время проведения в Чикаго национального съезда Демократической партии Гор Видал постоянно провоцировал Уильяма Ф. Бакли, в конечном счете назвав его «скрытым нацистом». Сам Видал не отрицает того, что он гомосексуалист, а также язычник, приверженец этатизма и теории заговора. Бакли, патриот, сторонник свободного рынка, противник тоталитаризма и джентльмен с безупречными манерами, не вынес этого и ответил: «Послушай, педик, перестань называть меня скрытым нацистом, если не хочешь получить по физиономии и ходить в бинтах».
Это один из редких случаев в долгой общественной жизни Бакли, когда он не проявил учтивости и сразу же пожалел об этом. Тем не менее, сам став мишенью подобных оскорблений и выпадов, я испытываю глубокую симпатию к протесту Бакли. Потому что в определенный момент просто необходимо бросить перчатку, провести черту на песке, установить границы и в конце концов крикнуть: «Хватит!». Встать на пути «прогресса» и закричать: «Стоп!». Я надеюсь, что эта книга послужила той же цели, что и взрыв негодования Бакли, стремясь к более типичной для него вежливости.
Новое послесловие к изданию в мягкой обложке. Барак Обама и давно знакомые изменения
В 2008 году я написал книгу в основном о закулисной интеллектуальной истории и о том, насколько эта история важна для понимания современного общества, и в частности, современного либерализма. Критики хохотали; левые блоггеры ополчились на предисловие, обрушились с критикой на обложку, осудили название и всеми возможными способами выражали свое возмущение по поводу выхода данной книги. Элитные газеты всячески старались игнорировать книгу (но в конце концов сдались, когда «Либеральный фашизм» занял достойную позицию в списках бестселлеров).
А потом случилось нечто удивительное. Самопровозглашенный лидер борьбы за «преобразования» создал самопровозглашенное «движение», во многом опирающееся на ощущение собственной судьбоносной исторической роли («Время пришло!»), призывающее к национальному восстановлению («Мы сделаем эту страну великой!»), требующее национального единства любой ценой и прославляющее собственную молодость и энергию. Временами его самые выдающиеся последователи были слепо преданы культу личности с глубоким расовым подтекстом и зачастую явными обращениями к мессианскому пылу. Этот новый лидер нации, который приобрел авторитет как уличный организатор и ученик Саула Алинского, пообещал восстановить обетование американской жизни в рамках нового широкомасштабного сотрудничества бизнеса, государства, церкви и трудящихся. Его платформа включала в себя обязательную общественную работу для молодежи, создание новых гражданских сил безопасности и приумножение благосостояния.
Хиллари Клинтон, которую обвиняют в том, что она имеет отношение к оригинальному подзаголовку этой книги («Тайная история американских левых сил от Муссолини до политики смысла»[695]), проиграла Бараку Обаме именно потому, что ему лучше, чем кому-либо из его противников, удалось воплотить многие из идей, обсуждаемых в данной книге.
Конечно, для наблюдательных людей кампания Барака Обамы (и реакция на нее) стали лучшим подтверждением моей мысли о том, что фашистско-прогрессивистские мотивы продолжают жить в современном либеральном обществе и в Америке в целом. Уже больше года читатели постоянно посылают мне примеры того, как Барак Обама вписывается в концепцию либерального фашизма. Объем книги не позволяет привести здесь все примеры и анекдоты. Но на несколько существенных моментов следует обратить внимание.
Политика изменений. Эта книга целиком посвящена политике изменений. Идет ли речь о более мягком фашизме адептов «Нового курса» или о тоталитаризме нацистов, изменения были путеводной звездой каждого «фашистского момента». Главным политическим стремлением всех движений — от якобинцев до подпольной террористической группы Weather Underground — была перестройка, позволявшая начать все с нуля. Прогрессивисты считали, что пришло время отказаться от старой конституции в пользу новой «живой конституции». Чем был «Новый курс», если не новым курсом, перестройкой, началом новой жизни?
Барак Обама недвусмысленно обещал именно такую возможность начать все сначала. Он с готовностью отказался от избитых аргументов прошлого просто в силу своей трансцендентной природы. Цвет кожи Обамы, его имя, его молодость, его темперамент и вдохновляющее ораторское мастерство, его статус аутсайдера и авторитет уличного заводилы в конечном счете были главными его качествами, по крайней мере для его самых ярых приверженцев. Это походило на массовый гипноз. Он был непревзойденным «национальным лидером», как сказал бы Вудро Вильсон, вдохновляя людей не идеями, но своей харизмой. Более того, презрение Обамы к мысли, что слова не имеют силы («Просто слова?» — спрашивал он с почти болезненным выражением) является характерной особенностью всех политических лидеров, которых возможность повелевать массами интересует больше, чем отстаивание своих идей.
Единство. Важнейшей политической добродетелью Обама считает «единство». «Сейчас мы остро нуждаемся в единстве», — часто провозглашал Обама с трибуны. Вполне закономерны вопросы: какого черта означают эти слова? в частности, что такого особенного в единстве? единство во имя чего? единство вокруг чего? У Обамы есть ответ: единство нужно нам, «не потому что это красивое слово и не потому, что оно вселяет в нас надежду, а потому что только так мы можем преодолеть сущностный дефицит [эмпатии], который существует в этой стране». Его жена Мишель распространяется на эту тему: «Мы должны идти на компромисс и уступать друг другу, с тем чтобы добиться своей цели. Я здесь, потому что Барак Обама — единственный человек, который понимает это. Прежде чем браться за решение проблем, нам следует исправить наши души. Наши души поражены в этой стране».
Эта идея (даже, скорее, чувство), согласно которой единство само по себе обладает целебными, спасительными силами, является типично фашистской. Она лежит в основе политики смысла Хиллари Клинтон и ее концепции «деревни», в которой есть место для каждого. Она составляет суть предложенного Муссолини определения фашизма как «всего в государстве, ничего вне государства». Она была движущей силой кампании Гитлера за единую национальную общность и поисков «национального сообщества» времен «Нового курса». Она пронизывала все, во что верили прогрессивисты. Единство в первую очередь, индивидуализм — в последнюю, или же от него вообще следовало отказаться.
Что было символом фашизма? Фасции — пучок прутьев, обвивающих секиру. Они олицетворяли силу в объединении, прославляли единство. «Фашизм» происходит от слова fascio, что означает «связка» или «пучок»; фашизм представлял собой идеологию, которая объявляла преданность коллективным интересам высшей политической добродетелью и прославляла единение как всеобщее благо. В американской политической традиции сплоченность никогда не рассматривалась как изначальное благо. В конце концов толпа тоже сплоченная. В нашей политической традиции героем предстает человек, способный противостоять толпе. Даже краткое чтение «Записок федералиста» (Federalist Papers)[696] свидетельствует о том, что основатели прекрасно осознавали проблемы, связанные с единством. Именно поэтому у нас в Америке правительство не является единым. Принцип разделения властей, «Билль о правах» (Bill of Rights)[697], 50 правительств штатов, каждое из которых делится еще раз — это механизмы, предназначенные для предотвращения опасностей, имманентно присущих единству.
Конечно, единство, о котором ведет речь Обама, отличается избирательностью и приверженностью узкопартийным интересам. В своей кампании Обама недвусмысленно отказался от понятий единства и двухпартийности, которые предполагают компромисс либеральных взглядов. Напротив, его идея двухпартийности привлекла номинальных республиканцев и консерваторов в ряды его сторонников исключительно благодаря силе его личности и страстному характеру его движения. Консерваторы и республиканцы, поддерживавшие Обаму, почти никогда не обосновывали свою приверженность с консервативной точки зрения. Скорее, они приветствовали его «темперамент» и «преобразующий» характер его кандидатуры. Некоторые консерваторы унижали себя, утверждая, что Обама выступает против абортов по той причине, что желает заручиться поддержкой защитников жизни.
По словам самого Обамы (а также огромного количества его сторонников в ведущих периодических изданиях), его концепция двухпартийного единства во многом обязана Аврааму Линкольну. Как и Вудро Вильсон, Обама восторгается методами Линкольна (хотя в отличие от Вильсона Обаму также восхищают цели Линкольна, касающиеся освобождения рабов). Как утверждает Чарльз Кеслер в обозрении Claremont Review of Books, тщательное и преднамеренное самоотождествление Обамы с Линкольном обнаруживает партийные амбиции высокого порядка, скрывающиеся за высокопарными заявлениями о двухпартийности или постпартийности: Обама говорит так, словно Линкольн пытался преодолеть разобщенность страны, призывая к единству, к сотрудничеству в духе национального возрождения. На самом деле Линкольн считал, что Союз «весь станет или тем, или другим». Варианта было два: свобода или рабство. Путь Линкольна к единству лежал через разделение, принуждение страны сделать свой выбор. Позиция Обамы отличается сходством, несмотря на его успокаивающие высказывания: наша разобщенность будет исцелена сразу же, как только страна окажется в руках нового либерального, демократического большинства.
То же самое отличает попытки сделать Обаму новым Франклином Делано Рузвельтом. Как уже говорилось в других частях книги, либералы постоянно вспоминают 1930-е и 1960-е годы как время единства и национальной сплоченности. Хотя это совершенно неверно. На самом деле многих из этих людей привлекает исключительно власть. Вильсон ненавидел цели Линкольна, но любил его власть. Прогрессивисты 1920-х годов желали восстановить власть, которую они имели во время войны. Их желание исполнилось в 1930-е годы, и с тех пор они стремятся определить национальное единство как возможность добиваться своих целей без серьезного сопротивления.
Одержимость либералов идеей единства глубоко иронична, учитывая рефлекторную враждебность представителей левых сил по отношению к патриотическим лозунгам, особенно если те раздаются справа. Но что такое призывы к национальному единству как не призывы к патриотизму? Левых явно раздражают обращения-к патриотизму, которые увеличивают сопротивление общественности либеральной политике или либеральной унификации в целом. Когда американцы упорно цепляются за свои устаревшие понятия патриотизма, это проблема, но когда либералы рассматривают патриотизм как средство для усиления позиций либерализма, он оказывается весьма востребованным. Правда заключается в том, что патриотические призывы «прогрессивной эры» всегда оказываются под рукой, когда это удобно, примером чего может служить заявление Джо Байдена о том, что уплата налогов является проявлением патриотизма. Или осуждение Нэнси Пелози республиканцев из Палаты представителей как «совершенно непатриотичных» потому, что они не пожелали одобрить план финансовой помощи. Будет интересно посмотреть, удастся ли президенту Обаме еще плотнее увязать либеральную программу со словом «патриотизм». Антиамериканизм левых и космополитизм либералов значительно осложняли такие попытки в прошлом, но, возможно, Обама сможет добиться успеха. Более того, во время своей предвыборной кампании он говорил в гораздо более патриотическом ключе, чем любой другой кандидат от Демократической партии со времен Джона Ф. Кеннеди, обещая сделать Америку «великой» и добиться национального восстановления, о котором прогрессивисты мечтают с тех самых пор, как Герберт Кроули написал «Обетование американской жизни».
Заявление о согласии, произнесенное Обамой на съезде Демократической партии, вполне соответствовало воззрениям Кроули. Из поколения в поколение политики обеих партий говорили об «американской мечте». Это словосочетание, несмотря на отсутствие четкого определения, обычно соответствует некоторому представлению о поисках личного счастья. Иметь собственный дом, заботиться о своей семье, добиться успеха в своих начинаниях — для большей части людей американская мечта сводится именно к этому. Что бы ни значила «американская мечта» для большинства американцев, это понятие не является коллективным (хотя, по имеющимся данным, это словосочетание придумал прогрессивный историк Джеймс Траслоу Адамс, который рассматривал его в качестве более общего идеала). Для большинства из нас не существует единой «американской мечты», потому что моя мечта отличается от вашей. Действительно, как и все американские права, стремление к счастью — частное, а не коллективное право. Это важный момент как с прагматической, так и с философской точки зрения. В соответствии с нашей светской верой, каждый из нас наделен Творцом собственными неотъемлемыми правами, которые не являются случайными и не зависят от кого-либо еще. Руссо и Дьюи считали, что права не имеют смысла в отрыве от группы или племени. Но, в принципе, счастье обычно бывает личным, а не общим. Мечта одного человека о спокойной жизни в пригороде будет кошмаром для другого. По вопросам культуры борцы за права гомосексуалистов, феминистки и другие признают этот момент, но только тогда, когда они противостоят консерваторам. Когда песню о соответствии коллективу и общем счастье поет один из них, их взгляд становится гипнотическим, особенно если ценности коллективизма обсуждаются применительно к экономике.
* * *
«Американская мечта» резко контрастирует с идеей «американского обещания», центральной темой речи Обамы и даже всего съезда Демократической партии в целом. После упоминания о «личных мечтах» и краткого изложения биографии речь Обамы становится алхимическим заклинанием в духе Дьюи, призванным превратить свободу личности в коллективное действие. «Американское обещание», по словам Обамы, это надежда на то, что в один прекрасный день мы будем жить в стране, где все мы делаем общее дело, где «борьба одного человека — это борьба каждого из нас» (как он выразился в своем предвыборном видеообращении). «Американское обещание, — настаивает Обама, это мысль о том, что мы несем ответственность за себя, а также о том, что мы поднимаемся или падаем как единая нация: глубокое убеждение, что я сторож брату своему; я сторож своей сестре. Мы должны сдержать это обещание... Личная ответственность и взаимная ответственность — вот сущность обещания Америки».
Это высказывание звучит добродетельно, даже благородно, но, с одной стороны, оно оказывается бессмысленным, а с другой — лживым. Бессмысленность связана с тем, что личная ответственность и взаимная ответственность в представлении Обамы, по сути, тождественны. Индивид должен заботиться о коллективе, а коллектив обязан заботиться об индивиде. Иными словами: все за одного, один за всех или «Gemeinnutz geht vor Eigennutz».
Обман коренится в стремлении Обамы одухотворить государство всеобщего благосостояния. Обама защищает свою концепцию взаимной ответственности на том основании, каждый из нас должен быть сторожем своему брату согласно Библии. Оставляя в стороне тот факт, что такого предписания на самом деле нет ни в иудейской, ни в христианской Библии, вы не выполняете свои обязательства по заботе о своем ближнем, платя налоги, не говоря уже о навязывании их другим посредством голосования. Библейские заповеди делать добро, помогать бедным и немощным — это не аргументы в пользу применения власти государства для того, чтобы заставить других людей выполнять ограниченный набор нередко контрпродуктивных политических правил. Прогрессивисты стремились сделать всякое искупление коллективным, отводя государству роль единственной силы, способной спасти наши души. В своих выступлениях Обама не признает существования бесчисленного множества посреднических институтов между государством и отдельным человеком. Гражданское общество — церкви, школы, добровольные объединения и т. д. — является оплотом взаимной ответственности, которая проявляется вне сферы государственного управления. Но для Обамы, как и для Кроули, существует только принцип «или... или»: или вы «действуете по своему усмотрению», или находитесь в добрых руках всеобъемлющего государства. В этом заключается существенное отличие от все еще слишком прогрессивной философии Джона Маккейна, который, если обобщить, обещал реформировать правительство: Обама обещал реформировать саму Америку.
Одним из важнейших моментов в «Либеральном фашизме» я считаю утверждение, согласно которому все тоталитарные «измы» левого политического лагеря совершают принципиальную ошибку. Все они хотят, чтобы государство стало чем-то, чем оно стать не может. Они истово верят, что правительство может любить вас, что государство может быть вашим Богом или вашей церковью, или вашим племенем, или вашим родителем, или вашей деревней, или всем этим одновременно. Консерваторы делают эту ошибку иногда, либертарианцы — никогда, либералы — почти всегда. Иногда кажется, что Обама видит мир через призму «деревни» Хиллари Клинтон. Вот как он объясняет, почему богатые должны платить более высокие налоги: «Если я живу в достатке, а у вас есть домработница, которая получает минимальную заработную плату плюс чаевые, и она не может себе позволить того, что могу позволить себе я, разве я не могу сказать: “Я буду платить немного больше”. Это добрососедство». Нет, с формальной точки зрения это чаевые. Кроме того, добрососедство предполагает оказание помощи соседям. Использование правительством силы для того, чтобы забрать деньги у богатого человека в Калифорнии и отдать их домработнице, скажем, в Западной Вирджинии может быть оправданным по другим основаниям, однако оно не имеет ничего общего с добрососедством и связано, скорее, с неспособностью Обамы признать роль посреднических институтов гражданского общества.
Самым тревожным аспектом при выборе кандидатуры Обамы был его почти религиозный статус. Эстетика агитационных плакатов Обамы, видеозаписей и митингов отличалась ярко выраженной религиозной составляющей. На бесчисленных плакатах он изображался с сияющим нимбом. В одном из типичных видео, размещенных в YouTube, христианский гимн «Господи, научи меня стать прибежищем» (Lord Prepare Me to Be a Sanctuary) чередовался c изображением множества американцев, которые повторяли снова и снова: «Барак Обама — президент США». Риторика Обамы достаточно часто перетекала в популистский мессианизм. Ее популистская часть не получила должного освещения в средствах массовой информации отчасти потому, что они участвовали в этом движении. Тем не менее Обама мастерски воодушевлял массы: «Мы надежда на будущее. Мы те, кого вы ждали. Мы воплощаем изменения, к которым вы стремитесь», — провозгласил он. «Это был момент, когда подъем уровня океанов замедлился и наша планета начала исцеляться», — заявил он перед огромной толпой преклоняющихся сторонников, когда привлек на свою сторону достаточно делегатов для выдвижения своей кандидатуры. Несомненно, являвшиеся источником необычайного воодушевления для участников, эта огромная толпа одновременно была призвана устрашить тех, кто не был частью «движения» и убедить их присоединиться к нему. Нобелевский лауреат Элиас Канетти следующим образом описывает дух политической толпы в своей вышедшей в 1960 году книге «Толпа и власть» (Crowds and Power): «Различия исчезают, и все становятся равными. Именно ради этого благословенного момента, когда никто не выше и не лучше, чем другие, люди становятся толпой». Фуад Аджами отметил мастерство ориентированной на массы политики Обамы незадолго до дня выборов. «До сих пор, — писал он в Wall Street Journal, — толпы не были отличительной особенностью американской политики. Мы связываем их со странами “третьего мира”. Мы думаем о таких местах, как Аргентина, Египет и Иран, где людей объединяет в толпы страстная приверженность Перону, Насеру или Хомейни. В этих обществах толпа собирается для того, чтобы продемонстрировать свою веру в спасителя: человека, способного исправить мир».
Что приводит нас к мессианизму? Более трезвые сторонники Обамы (т. е. те, кто не поклоняется ему, а просто обожают) заявляют, что он не поощрял культа своей личности. Это высокопарная чушь. На самом деле он не пытался как-либо воспрепятствовать этому, что оказалось настолько же эффективным. В New York Times сообщалось, что добровольцам в «лагере Обамы» было дано указание не обсуждать те или иные вопросы, агитируя за своего лидера, но «свидетельствовать» о том, что они «пришли к Обаме» так же, как христиане к Иисусу. На портале YouTube появилась масса видеозаписей, прославляющих Обаму в отчетливо религиозном ключе, причем во многих роликах были показаны дети со «стеклянными» глазами, поющие так, словно они участвуют в некотором грандиозном празднестве в Северной Корее. «Тревожным моментом в избирательной кампании [Обамы], — отметил даже либеральный историк Шон Винленц, — является то, что речь в ней идет уже не только о надежде и изменениях, но и о спасении».
Дипак Чопра, гуру богатых и легковерных, радовался тому, что победа Обамы приведет к «прорыву в американском сознании», тогда как видный специалист по подготовке руководителей Ева Константин уверяла нас в том, что наконец материализовалось высшее выражение общей души Америки: «В Бараке Обаме воплотились наши самые чистые надежды, самые высокие представления и самые глубокие знания... Он для нас порождение всезнающего квантового поля разума». Гэри Харт утверждал, что Обама «работает на ином уровне, в отличие от обычных политиков... он движущая сила преобразований в революционную эпоху, деятель, который обладает уникальными способностями, позволяющими открыть дверь в XXI век». «Это больше, чем Кеннеди, — настаивал Крис Мэттьюз, репортер новостного канала MSNBC. — Это Новый Завет... Я чувствовал, как по моей ноге бегут мурашки. Со мной такое нечасто бывает». Примечательнее всего слова Опры Уинфри[698] о том, что Барак избранный — потому что нам нужны не просто политики, которые способны говорить правду, «нам нужны политики, которые знают, как быть правдой». Уинфри не использует явно религиозной лексики. Скорее, она утверждает, что Обама поможет нам «перейти на более высокий уровень». Она любит Обаму, потому что «он развитый лидер, который способен обеспечить нашей стране развитое руководство». Репортер журнала The American Prospect Эзра Кляйн восклицал: «Лучшие речи Обамы не побуждают. Они не сообщают. На самом деле они даже не вдохновляют. Они возвышают. Они делают вас частью некоторого значимого события, как будто история на миг прекратила свое течение и сгустилась вокруг вас, являя вам свое присутствие и раскрывая вашу роль в ней. Он не Слово, ставшее плотью, но торжество Слова над плотью, цветом кожи, над отчаянием». Журналист из San Francisco Chronicle настаивал, что Обама «сподвижник света». Кинорежиссер Джордж Лукас подозревает, что Обама — это рыцарь-джедай[699].
Если перевести все это на немецкий и абстрагироваться от кажущегося идиотизма таких заявлений, тогда, возможно, вызывающий тревогу дух гегельянства станет более очевидным. Именно такие вещи проповедовали американские прогрессивисты, немецкие национал-социалисты и итальянские фашисты: лидер спасет нас от истории, государство будет средством нашего спасения, а коллектив наполнит нас смыслом, в котором мы нуждаемся. За вычетом цветистого низкопоклонства и подростковой страсти сторонники Обамы действительно говорят о том, что он живое воплощение духа народа.
Однако речь идет не только об искусной презентации амбициозного политика. Несмотря на все разговоры о различиях между Хиллари Клинтон и Бараком Обамой, на самом деле сходства больше, чем различий. Церковь Троицы, духовный дом Обамы на протяжении большей части его взрослой жизни, поддерживала теологию освобождения черных, которая в некоторых ключевых моментах чрезвычайно напоминает немецкое христианское движение, а в других не отличается от прогрессивного движения социального евангелизма госпожи Клинтон. Вы не узнали бы об этом из биографического фильма, а между тем Обама является продуктом все тех же левых сил из «Лиги плюща», которые заразили Клинтонов, хотя в случае Обамы это влияние было более выраженным и окостеневшим. Госпожа Клинтон была очарована «Черными пантерами». Обама был близким другом и коллегой Уильяма Айерса, убежденного террориста, который мечтал стать белым эквивалентом «Черных пантер». Защитники Айерса говорят, что теперь он просто ученый, что, на мой взгляд, можно расценить и как обвинение, и как и защиту. Но Айерс также был ярым апологетом политизации образования, и одним из маяков этого движения стал Джон Дьюи, еще один персонаж этой книги.
Таким образом, все, что касается биографии и риторики Обамы, по крайней мере, пока он не принял президентскую присягу, четко вписывается в мировоззрение либерального фашизма. Но важно отметить, что основной постулат этой книги предполагает, что такие тенденции и стоящие за ними стремления выходят за рамки отдельных личностей. Мы живем в «бессознательной цивилизации», как сказал бы Джон Ралстон Саул. Мы не осознаем, насколько мы напичканы идеями и концепциями, порожденными предшествующими «фашистскими моментами», потому что всем нам внушают, что только плохие вещи являются фашистскими; поэтому все хорошее в современном обществе не может быть следствием и не могло сформироваться под влиянием прошлых зол.
* * *
В противовес кандидатуре Обамы Республиканская партия выдвинула самого прогрессивного из всех своих претендентов, Джона Маккейна. Мантра Маккейна предполагала, что все мы должны служить большему делу, чем мы сами». Явно или неявно это дело определялось в националистических формулировках. Главной темой кампании Маккейна был лозунг «Страна прежде всего», который прекрасно соответствовал его репутации преданного интересам Америки, самоотверженного солдата.
Во многих отношениях эти выборы повторяли выборы 1912 года, когда двое реформаторов, Тедди Рузвельт и Вудро Вильсон, знаменитые «воин и священник», боролись за будущее страны. Как часто замечал Джордж Уилл, для консерваторов выбор в том году был очевидным, хотя и не особенно впечатляющим: Уильям Говард Тафт. Увы, в 2008 году Тафта под рукой не оказалось. Традиционных консерваторов обнадеживало то, что Джон Маккейн понял, для того чтобы заручиться поддержкой своей партии, ему следует смягчить или вообще исключить наиболее прогрессивные пункты из своего списка требований.
Обама и Маккейн состязались друг с другом в сложных политических и культурных условиях. Больше всего ситуацию осложнял финансовый кризис. Во имя предотвращения кризиса федеральное правительство принудительно приобрело контрольные пакеты акций в большинстве ведущих банков, а также в значительной части страховых компаний. На момент написания книги казалось, что следующими станут предприятия автомобильной промышленности. Действительно, Chrysler и General Motors пошли на слияние во многом потому, что их руководство решило, что такая крупная корпорация будет «слишком большой, чтобы потерпеть неудачу» и федеральное правительство инвестирует средства в их бизнес, не принимая активного участия в управлении. Более глобально, от здравоохранения до финансов, страна качнулась в сторону корпоративных соглашений, которые обсуждались в главе 7 этой книги. Это первоначально было объявлено попыткой избежать кризиса, быстро превратилось в стремление извлечь из него выгоду. Глава администрации президента Рам Эмануэль, первое назначение Барака Обамы после выборов, сообщил New York Times: «Не следует воспринимать кризис как нечто бесполезное; это возможность сделать важные вещи, которые в другой ситуации остались бы без внимания».
Многие люди посчитали сложившуюся ситуацию благоприятной для создания «нового Нового курса», словосочетание, которое стало очень широко употребляться задолго до того, как избранный президент Обама был приведен к присяге. Либеральные эксперты, такие как Э. Дж. Дион, Пол Кругман, Катрина ван ден Хойваль и Гарольд Мейерсон, говорили, порой с нескрываемой радостью, что либо век капитализма официально подошел концу, либо пришло время «нового Нового курса». Менее чем через две недели после выборов Колумбийский университет объявил о проведении конференции с участием ведущих специалистов, посвященной общим темам президентства Обамы и Рузвельта, несмотря на то, что Обама еще даже не вступил в должность. (Забавно, что местом проведения конференции стал «Итальянский дом», по сути являющийся культурным и политическим посольством Италии в США.) Журнал Time разместил на своей обложке переделанную фотографию Барака Обамы в образе Франко Д. Рузвельта с зажатым во рту мундштуком, который едет на своем кабриолете 1930-х годов. Заголовок: «Новый Новый курс».
Особенно забавным выглядят стремление многих из этих потенциальных строителей «Нового курса» представить дело так, как будто их идея отличаемся новизной или оригинальностью, хотя на самом деле стремление к «новому Новому курсу» можно считать одной из немногих констант в американском либерализме. Вот почему в середине 1930-х годов имел место «второй Новый курс», который вынудил Рузвельта попытаться преодолеть независимость Верховного суда при помощи схемы «утрамбовки суда». Именно поэтому Артур Шлезингер-младший писал в 1940-е годы, что «кажется, нет никаких препятствий для поэтапной реализации социализма в Соединенных Штатах за счет серии «новых курсов». Гарри Трумэн приступил к созданию «нового Нового курса» после своего избрания на пост президента в 1948 году (он победил на выборах отчасти благодаря тому, что сумел оклеветать Томаса Дьюи как гитлеровского ставленника финансировавших его фашистов). Интеллектуалы из окружения Джона Ф. Кеннеди мечтали о создании «нового Нового курса», равно как и те, кто стоял за «Великим обществом». В 1980-е годы демократы открыто говорили о создании «нового Нового курса» для возмещения «убытков», возникших за годы правления Рейгана, а в 1992 году Марио Куомо не стал баллотироваться на пост президента отчасти потому, что надеялся, что незначительная рецессия того времени создаст необходимость в новом Рузвельте и «новом Новом курсе», и ему удастся заменить Джорджа Буша-старшего, как Рузвельт заменил Гувера. В последнее время, после атак 11 сентября, урагана «Катрина», а теперь и финансового кризиса, требования «нового Нового курса» раздаются все чаще и становятся все более настойчивыми.
Как я пытался показать на предыдущих страницах, такие стремления не отличаются новизной. С тех пор как Уильям Джеймс написал эссе «Моральные эквиваленты войны» (The Moral Equivalents of War), прогрессивизм занимался мобилизацией общества, как если бы мы были в состоянии войны. «Новый курс» был не чем иным, как «моральным эквивалентом» военной программы, нацеленной на возрождение «военного социализма» Вудро Вильсона и был направлен если не против капитализма как такового, то хотя бы против Великой депрессии, которая служила истинным лицом капитализма. Адепты «Нового курса» ссылались на Уильяма Джеймса, чтобы оправдать создание Гражданского корпуса охраны природных ресурсов и других военизированных формирований мирной направленности. Совсем недавно Обама (как почти все остальные либеральные политики за последние десять лет) назвал «величайшее поколение» своим источником вдохновения. Он также обещает восстановить обязательную работу на добровольной основе и даже создать нечто под названием «гражданские национальные силы безопасности, которые должны стать такими же могущественными, сильными и так же хорошо финансируемыми», как вооруженные силы США. Остается надеяться, что Обама не предполагает возвращения к Американской защитной лиге, но он, безусловно, может зайти в этих начинаниях достаточно далеко и направить страну по опасному курсу.
До того как финансовый кризис привлек внимание американского народа (а также большей части остального мира), главным претендентом на статус морального эквивалента войны было «изменение климата». Журнал Time отказался от своей (всегда преувеличенной) объективности и стал открыто выступать за то, чтобы сделать борьбу с глобальным потеплением новым моральным эквивалентом войны, говоря, что «зеленый — это теперь то же, что красный, белый и синий раньше»[700]. Редакция напечатала культовую фотографию морских пехотинцев, водружающих американский флаг над островом Иводзима, изобразив на флаге вместо звезд и полос дерево, и снабдила свое творение заголовком «Как победить в войне с глобальным потеплением». Многие ветераны были возмущены тем, что одно из самых кровопролитных сражений в войне за спасение западной цивилизации приравнивается к попыткам убедить жителей пригорода покупать более экологичные автомобили. Не говоря уже о том, что если следовать линии журнала Time, который призывает великое новое поколение к войне против американского образа жизни, врагами являемся мы сами.
Изменение климата — это всего лишь еще один повод для стирания традиционных границ между государством и отдельным человеком, семьей и политикой, демократией и тоталитаризмом. Одна британская электроэнергетическая компания создала «образовательные» программы, в которых детей учат быть «климатическими полицейскими», уполномоченными шпионить за своими родителями и вести «уголовное дело» против них. Спросите себя, если какая-либо крупная корпорация стала бы поощрять детей считать противозаконной сексуальную жизнь своих родителей, есть ли сомнения, что тотчас раздались бы (оправданные) обвинения в фашизме? В начале 2008 года вышла новая книга «Проблема изменения климата и провал демократии» (The Climate Change Challenge and the Failure of Democracy), в которой авторы утверждают, что «фундаментальной проблемой, обусловливающей деградацию окружающей среды... является режим либеральной демократии». Демократия, утверждают они, «завела человечество в тупик», и поэтому нам нужна «авторитарная форма правления» под руководством «экспертов».
У этой точки зрения немало сторонников, помимо авторов «Проблемы изменения климата», которые, однако, высказали ее с необычайной прямотой. Так, например, корреспондент New York Times Томас Фридман выпустил в 2008 году книгу, в которой он заявляет о том, как было бы замечательно, если бы Америка могла стать «Китаем на один день». Такого высказывания вполне можно ожидать от человека, испытывающего некоторую зависть к авторитаризму. Если бы мы могли уподобиться китайцам и нам не нужно было бы беспокоиться о власти закона, демократии, правах собственности, лоббистах и т. д., эксперты имели бы возможность без всяких проблем применить нужные нам шаги в области охраны окружающей среды. Конечно, тех же самых результатов можно было бы добиться, став «нацистами на один день». Фридман также ратует за превращение глобального потепления в сорелианский «миф», потому что эта идея позволяет организовать общество так, как он считает нужным. Как он писал в книге «Встреча с прессой» (Meet the Press), «если изменение климата — это обман, то тогда это самый полезный обман за всю историю Соединенных Штатов Америки. Потому что все, что мы будем предпринимать для того, чтобы подготовиться к изменению климата, для создания этой новой «зеленой» промышленности, сделает нашу страну более уважаемой, более предприимчивой, более конкурентоспособной, более здоровой». Все это стало возможным благодаря тому, что людей удалось убедить в реальности глобального потепления.
Другие темы, поднятые в этой книге, также проявились за последний год. Забавно, что некоторые критики «Либерального фашизма» поставили себя в неудобное положение, настаивая на том, что просто глупо воспринимать современных либералов как наследников прогрессивной традиции. По большей части такие жалобы сводятся к приступам гнева или банальным утверждениям. Ни одно из них не может сравниться с заявлениями ведущих идеологов современного либерализма. Во время предвыборных дебатов Хиллари Клинтон спросили, считает ли она себя либералом. Она сказала, что нет. «Я предпочитаю слово “прогрессивист”, которое имеет подлинно американское значение, восходя к “прогрессивной эре” в начале XX века». Дэвид Оби, представитель Демократической партии от штата Висконсин, возглавляющий Комитет по ассигнованиям Конгресса США, недавно выпустил книгу под названием «Выступая за справедливость: вашингтонские сражения центрального прогрессивиста» (Raising Hell for Justice: The Washington Battles of a Heartland Progressive), в которой он называет себя центральным прогрессивистом. Обозреватель New York Times, ныне лауреат Нобелевской премии Пол Кругман не только называет себя прогрессивистом, не так давно он заявил Чарли Роузу из Государственной службы телевещания: «У нас есть шанс, реальный шанс положить начало новой прогрессивной эре». И, конечно же, свою лепту внес сам Барак Обама, провозгласивший на массовом митинге в Висконсинском университете в городе Мэдисон: «Разве можно найти более подходящее место для утверждения наших идеалов, чем это учебное заведение, в стенах которого сто лет назад зародилось прогрессивное движение?». Вполне можно принять слова Обамы на веру и предположить, что он не знает, о чем говорит, учитывая тог факт, что прогрессивисты из Висконсинского университета, которыми он так восхищается, на самом деле были расистами, евгенистами и империалистами. Некоторые были бы в ужасе, что его «непригодным» родителям было позволено иметь потомство.
Многие либеральные критики, в первую очередь Майкл Томаски из редакции New Republic, члены которой до недавнего времени очень гордились преемственностью своих убеждений, поскольку журнал был основан Гербертом Кроули, присоединились к антиинтеллектуальной истерике, вызванной «Либеральным фашизмом» и заявили, что содержащаяся в книге история лишена смысла. Да, критики косвенно и открыто признавали, что давно известные факты (“chestnuts”, по выражению Майкла Томаски), описанные в этой книге, доказывают, что прогрессивисты нередко были склонны к проявлению силы, нетерпимости, расизма и, возможно, даже фашизма, но современные либералы не такие, потому что это известно всем»[701].
По мнению Томаски и других, либерализм по своей сути не может быть плохим. Томаски пишет: «Всякий раз, когда либерализм «начинает оказывать давление, либералы (я имею в виду либералов, которые знают толк в либерализме) сходят с поезда и, не прибегая к насилию, делают все возможное, чтобы он сошел с рельс». Самое забавное в том, что в этом и во многих других случаях Томаски, как и самые яростные критики «Либерального фашизма», подтверждает мои аргументы, а не опровергает их. С первых же страниц этой книги я утверждал, что фашизм стал всего лишь дубиной для либералов, которые заявляют, что диссиденты и противники являются плохими людьми просто потому, что они нелояльны по отношению к прогрессивному либерализму. Сталинская теория социал-фашизма положила начало этой практике, которая с тех самых пор применяется «полезными идиотами» и их потомками. Однако она настолько усвоилась и овеществилась, что либералы, подобные Томаски, искренне верят, что когда либералы делают что-то плохое, они перестают быть либералами.
Соответственно «либеральный фашизм» становится оксюмороном, а любые доводы, истории, свидетельствующие об обратном, вполне можно отмести как очередные глупости правых.
Очевидно, что продолжать в этом духе можно еще долго. Но я полагаю, что книга говорит сама за себя, а неспособность многих либеральных критиков (в отличие от некоторых вдумчивых консервативных) оспорить мои аргументы по существу — лучшее свидетельство того, что мне удалось ухватить суть. Я подозреваю, что в последующие годы правления Обамы это станет еще очевиднее. Более того, я не удивлюсь, если в ближайшие несколько лет авторы многих либеральных книг согласятся с моими доводами, не принимая при этом концепцию либерального фашизма в целом. Такая тенденция была характерна для других консервативных книг, которые успешно оспаривали принципы ортодоксального либерализма, и я по крайней мере надеюсь, что с моей книгой произойдет то же самое.
Тем не менее я не хочу рисовать слишком мрачную картину. Когда это произведение было подписано в печать, недавно избранный президент Обама заполнял свой кабинет бывшими членами администрации Клинтона и даже некоторыми номинальными республиканцами. Мало что свидетельствует о его стремлении направить страну по радикальному пути, что можно было ожидать, учитывая его биографию и даже риторику. Но еще более важно то, что я глубоко и непоколебимо верю в американский народ. Маловероятно, что у нас будет настоящий «новый Новый курс», потому что американскому народу он не нужен. Или даже так: американцы могут думать, что он им нужен, они могут даже говорить, что он им нужен, но как только они увидят, каков этот «новый Новый курс» на самом деле, они искренне отвергнут его. Это прежде всего обусловлено тем, что «Новый курс», о котором нам рассказывают историки и Голливуд, никогда не существовал на самом деле, и даже если бы он был реальным, мы не стали бы его воссоздавать. Неужели мы действительно считаем, что американский народ будет мириться с показными церемониями в духе «синего орла» и агентами ФБР, выбивающими двери химчисток? Станут ли американцы с радостью терпеть десятилетия экономического застоя? Думаю, что нет.
Отсюда следует более глобальный и самый важный момент. Многие из друзей и врагов «Либерального фашизма» интерпретировали мою книгу в более мрачном ключе, чем я предполагал. Безусловно, это моя вина. В частности, во второй половине книги я решил скорее показать, чем рассказать слишком много, поэтому читатели подумали, что я считаю Америку безнадежно фашистской страной. Некоторые из них теперь называют либералов фашистами.
Это не то, к чему я стремился. Если бы у меня была такая возможность, я бы просто изгнал слово «фашист» из языка политики. Но в силу того, что это слово прижилось, лучше использовать его правильно, чем неправильно. Вот основные мысли, которые я хотел бы, чтобы читатели вынесли из этой книги:
• Оригинальный или «классический» фашизм не был правым, как мы понимаем этот термин в англо-американской традиции.
• Современный консерватизм не является родственным классическому фашизму и не испытывает к нему симпатии.
• Современный либерализм, отчасти благодаря своей догматической интеллектуальной амнезии, сохраняет близость к фашистским идеям благодаря значительной роли прогрессивизма в его формировании.
• Использование левыми слова «фашистский» для обозначения всего нежелательного стало причиной того, что американцы ищут фашизм не там, где следует искать.
Именно этот последний момент я хотел бы подчеркнуть еще раз. Америке не угрожает жесткий фашизм, наподобие того, который мы видели в первой половине XX века. Эта страна в силу своего устройства и культуры почти сразу же сломает хребет любому потенциальному диктатору, и это одна из причин, почему я так сильно люблю ее. Милитаризм, несмотря на стремление левых найти очередной моральный эквивалент войны, больше не является волной будущего, как это было характерно для него в былые времена.
Но нам на самом деле угрожает опасность на полной скорости влететь в «мягкий фашизм», фашизм «дивного нового мира». «Из всех тираний наибольшим деспотизмом отличается та, которая искренне реализуется на благо своих жертв, — пишет К. С. Льюис. — Было бы лучше жить под властью баронов-разбойников, чем под гнетом всемогущих доброхотов, пекущихся о морали. Жестокость барона-разбойника иногда ослабевает, его алчность может однажды насытиться; но те, кто мучают нас для нашего же блага, будут мучить нас без конца, ибо они делают это с одобрения их собственной совести». Это важный момент, потому что я хочу, чтобы читатели, особенно молодые читатели, вынесли из этой книги главное: фашизм был популярен. Он обращался к идеализму молодежи, чаяниям порядочных людей и отличался смелостью надежды. В некоторых своих формах он почти с самого начала был жестоким и искаженным. Другим его разновидностям был уготован такой же конец, потому что любое движение, основанное на вере в то, что правительство может любить вас, а государство может дать вам смысл, в конце концов неизбежно станет дорогой в ад.
Не требуется особого мужества и ума для того, чтобы указывать на то, что вам не нравится или не считается популярным, и кричать: «Фашизм!». Настоящее мужество требуется для того, чтобы заглянуть внутрь себя, посмотреть на свои убеждения и спросить себя, не может ли что-нибудь из того, что вам нравится, привести к фашизму или иной разновидности тоталитаризма под другим именем. Конечно, если вы не знаете, что такое фашизм, или если вы считаете, что политический либерализм является воплощением добродетели, вам будет непросто задать себе такие вопросы. Именно поэтому я и написал эту книгу.
Благодарности
Мой отец Сидни Голдберг умер прежде, чем я сумел завершить эту книгу. По многим причинам, существенным и незначительным, материальным и нематериальным, эта книга не увидела бы свет без него.
Моя дочь Люси родилась, когда я работал над этой книгой, и без нее все остальное было бы бессмысленно.
Моя жена Джессика Гавора, блестящая писательница, редактор и критик, является любовью и светом моей жизни, который позволяет мне ясно видеть все эго и многое другое.
Адам Беллоу, мой редактор и друг, был незаменимым пастырем и вторым пилотом в ходе этого процесса, и я безгранично благодарен ему за понимание, терпение и поддержку.
Джони Эванс, мой суперагент из William Morris, отошла от дел, пока я работал над книгой, но я благодарен за все усилия и знания, которые она привнесла в самом начале. Джей Мандель умело сменила ее на этом посту, за что я ей также благодарен.
Несколько молодых людей помогали мне в исследовательской работе на этом пути. Элисон Хоршнтейн, мой первый исследователь, слишком скоро покинула меня ради многообещающей карьеры ученого. Лайл Рубин, молодой человек, подающий большие надежды, на целое лето погрузился в либеральный фашизм и остается ценным советчиком, несмотря на то что в настоящее время он служит в морской пехоте. Виндзор Манн также оказался бесценным научным сотрудником с необычайно развитым, пытливым умом и большим будущим.
Совмещение работы над данной книгой с ведением регулярной синдицированной колонки и написанием статей для National Review оказалось гораздо более сложным делом, чем я предполагал. Но в этой ситуации сотрудники редакции журнала National Review, в котором я работаю очень давно, проявили себя более отзывчивыми и любезными, чем я мог ожидать. Рич Лоури, мой начальник и друг, невозмутимо поддерживал меня. Мой блестящий коллега Рамеш Поннуру был незаменимым источником идей и критических замечаний относительно этой книги и почти всего, что я делаю. Кейт О’Берн, моя спасительница Кэтрин Лопес, Джон Миллер, Майкл Потемра, Эд Калано, Джек Фаулер, Джон Дербишир, Джей Нордлингер, Марк Штейн и Байрон Йорк делают работу в National Review радостной. Джон Подгорец очень помог мне, читая главы книги и поддерживая меня. Эндрю Статтфорд прочитал всю книгу, когда она была завершена, и сформулировал ряд бесценных поправок и вопросов.
Мои друзья Скотт Маклукас, Теви Трои, Вин Каннато, Рональд Бейли, Пэм Фридман и Дуглас Андерсон, как всегда, поддерживали меня и высказывали ценные замечания. Я хотел бы поблагодарить своего друга Питера Беинарта, но он не имеет никакого отношения к этой книге кроме того, что своим примером он подтверждает, что некоторые либералы до сих пор являются воплощением интеллектуальной целостности и патриотизма, превращая даже современный либерализм в лояльную оппозицию, а не во вражеский стан. Моему закадычному другу псу Космо не было до всего этого никакого дела, что меня вполне устраивало.
Другие люди читали ранние черновики глав или иным образом помогали мне продумать мои аргументы. Чарльз Мюррей очень помог мне наставлениями в самом начале работы. Ник Шульц, мой соратник, был постоянным источником поддержки и вдохновения. Юваль Левин, Стивен Хорвиц и Брэдфорд Шорт высказали полезные предложения, а Билл Уолш очень помог мне профессиональными советами в области редактирования и необычайно ценными переводами с немецкого языка. Джон Уильямсон оказал мне огромную помощь в поиске малоизвестных документов и публикаций. Кевин Хольцберри также высказал некоторые значимые критические замечания редакционного характера. Стивен Хейворд, Росс Даутэт, Кристин Розен и Брайан М. Рида предложили ценные советы. Ответственность за все ошибки, конечно же, лежит на мне.
И как бы это ни было непривычно, я должен поблагодарить читателей интернет-версии журнала National Review (National Review Online). В течение многих лет целая армия невидимых друзей и критиков помогает мне разыскать и понять все, от фактов и цифр до эфемерных вещей. Они бесчисленное множество раз показывали мне интересные направления, исправляли мое невежество и служили источником вдохновения. Они самые умные и самые лучшие читатели, о которых любой писатель может только мечтать.
И, наконец, мама. Я благодарен ей за то, что у меня получилось. Всегда.
Приложение. Программа нацистской партии
Данная программа является политической основой НСДАП и соответственно основным политическим законом государства. Она намеренно была сделана краткой и четкой.
Все правовые нормы должны применяться в духе этой партийной программы.
Со времени прихода к власти фюреру удалось реализовать основные части партийной программы, начиная от глобальных вопросов и заканчивая частными.
Партийная программа НСДАП была провозглашена 24 февраля 1920 года Адольфом Гитлером на первом представительном собрании партии в Мюнхене и с тех пор остается неизменной. В данной программе философия национал-социализма обобщена в 25 пунктах.
1. Мы требуем объединения всех немцев в Великую Германию на основе права народов на самоопределение.
2. Мы требуем равноправия для немецкого народа по отношению к другим народам, отмены Версальского и Сен-Жерменского мирных договоров.
3. Мы требуем землю и территории (колонии) для обеспечения нашего народа средствами к существованию и расселения нашего избыточного населения.
4. Только представитель немецкой расы может быть гражданином. Представителем расы может быть только тот, кто является немцем по рождению, без учета вероисповедания. Следовательно, ни один еврей не может считаться представителем немецкой расы.
5. Лицам, не имеющим немецкого гражданства, позволено жить в Германии только в качестве гостей, при этом они обязаны подчиняться законодательным нормам для иностранцев.
6. Право решать вопросы, касающиеся управления и законодательства, распространяется только на граждан Германии. Поэтому мы требуем, чтобы любые государственные должности в правительстве, законодательных органах земель или муниципалитетов могли занимать только граждане Германии. Мы боремся против коррумпированной парламентской экономики, предполагающей распределение государственных должностей исключительно с точки зрения партийной принадлежности, без учета характера кандидата и его способностей.
7. Мы требуем, чтобы государство в первую очередь обеспечивало благосостояние граждан Германии. В случае невозможности обеспечения основных потребностей всего населения государства представители других стран (неграждане) должны быть высланы из рейха.
8. Дальнейшая иммиграция лиц, не являющихся гражданами Германии, должна быть прекращена. Мы требуем, чтобы все лица не немецкого происхождения, иммигрировавшие в Германию после 2 августа 1914 года, незамедлительно покинули страну.
9. Все граждане должны иметь равные права и обязанности.
10. Первой обязанностью каждого гражданина является труд, как умственный, так и физический. Деятельность отдельных лиц не должна противоречить интересам общества, но осуществляться в рамках общества в целом и на благо всех. Как следствие мы требуем:
11. Признания незаконными доходов, не связанных с выполнением каких-либо работ. Ликвидации долгового рабства.
12. С учетом огромного материального ущерба и человеческих жертв, причиняемых нации любой войной, личное обогащение за счет войны должно рассматриваться как преступление против народа. Поэтому мы требуем тотальной конфискации всех военных прибылей.
13. Мы требуем национализации всех (ранее) ассоциированных промышленных предприятий (трестов).
14. Мы требуем участия в распределении прибыли всех предприятий тяжелой промышленности.
15. Мы требуем глобального расширения старой программы пенсионного обеспечения.
16. Мы требуем создания здорового среднего класса и его сохранения, немедленной национализации больших розничных магазинов и их сдачи в аренду по низким ценам мелким фирмам, приоритета мелких фирм при заключении контрактов с государством, окружными или городскими властями.
17. Мы требуем проведения соответствующей нашим потребностям земельной реформы, принятия закона о безвозмездной экспроприации земель на общественные нужды, отмены налогов на землю и предотвращения спекуляции землей.
18. Мы требуем беспощадной борьбы с теми, чья деятельность вредит общественным интересам. Лица, виновные в преступлениях против немецкого народа — ростовщики, спекулянты и т. д., должны быть казнены вне зависимости от вероисповедания или национальной принадлежности.
19. Мы требуем замены римского права немецким общим правом, служащим интересам материалистического мирового порядка.
20. Государство призвано взять на себя ответственность за радикальное преобразование всей нашей национальной системы образования, чтобы каждый способный и трудолюбивый немец мог получить высшее образование и занять впоследствии руководящую должность. Учебные планы всех образовательных учреждений должны соответствовать требованиям практической жизни. Основы государственности [Staatsburgerkunde] должны прививаться детям в школе с раннего возраста. Мы требуем обучения особо одаренных детей из бедных семей за счет государства независимо от должности или профессии их родителей.
21. Государство обязано заботиться об улучшения здоровья нации за счет защиты интересов матери и ребенка, запрета детского труда, развития физической культуры благодаря законодательному закреплению обязательных занятий физкультурой и спортом, максимальной поддержки всех организаций, связанных с физическим воспитанием молодежи.
22. Мы требуем отказа от наемных войск и создания национальной армии.
23. Мы требуем официального противодействия заведомо лживым заявлениям и их распространению в средствах массовой информации. Для создания немецкой прессы мы требуем, чтобы: а) все журналисты и сотрудники газет, выходящих на немецком языке, принадлежали к немецкой расе; б) иностранные газеты могли издаваться только с разрешения государства. Они не могут печататься на немецком языке; в) любое финансовое участие иностранцев в немецких печатных изданиях, а также любые попытки с их стороны влиять на такие издания запрещены. В качестве наказания за нарушение данного требования соответствующее издание будет закрыто, а причастные к нему иностранцы — немедленно высланы из страны. Публикации, которые противоречат общему благу, должны быть запрещены. Мы требуем судебного преследования художественных и литературных направлений, которые оказывают разрушительное влияние на нашу национальную жизнь, и закрытия любых организаций, не соответствующих представленным выше требованиям.
24. Мы требуем свободы вероисповедания для всех религиозных конфессий в государстве до тех пор. пока они не угрожают его существованию и не противоречат нравственным чувствам германской расы, Партия как таковая разделяет принципы положительного христианства безотносительно какой-либо конкретной конфессии. Она борется с еврейско-материалистическим духом как внутри страны, так и за ее пределами, и убеждена, что масштабное оздоровление нашей нации может быть достигнуто только изнутри с опорой на принцип: общественное благо важнее личного.
25. Для реализации всех этих принципов мы требуем формирования сильной центральной власти в немецком государстве. Неограниченной власти центрального парламента над государством в целом и над всеми его организациями. Формирования сословных и профессиональных представительных органов для исполнения законов, принятых государственной властью, во всех федеральных землях. Лидеры партии обещают приложить все усилия для выполнения изложенных выше пунктов и в случае необходимости готовы пожертвовать для этого своими жизнями.
Об авторе
ДЖОНА ГОЛДБЕРГ — обозреватель Los Angeles Times, пишущий редактор National Review и штатный сотрудник газеты USA Today, его статьи публикуются также в The New Yorker и The Wall Street Journal.
Живет в Вашингтоне, округ Колумбия.
Примечания
1
Джордж Карлин (George Carlin, 1937-2008) — американский комедийный актер и писатель. — Здесь и далее примеч. ред.
(обратно)2
Билл Мар (William Maher, род. 1956) — американский комедийный актер, телеведущий, социальный критик, политический комментатор и автор книг на политические, социальные, религиозные и другие темы.
(обратно)3
Джеймс Глассман (James Glassman, род. 1947) — американский консервативный журналист, дипломат и писатель.
(обратно)4
Real Time with Bill Maher //HBO. 2005. Sept. 9.
(обратно)5
Griffin R. The Nature of Fascism. N. Y.: St. Martin’s, 1991. P. 2 6; Eatwell R. On Defining the «Fascist Minimum»: The Centrality of Ideology // Journal of Political Ideologies. 1996. 1 No. 3. P. 313 (цит. no: Payne S. G. A History of Fascism, 1914— 1945. Madison: University of Wisconsin Press. 1995. No. 6. P. 5).
(обратно)6
Griffin R. The Nature of Fascism. P. 1 (цит. no: Robinson R. A. H. Fascism in Europe. London: London Historical Association. 1981. P. 1 (словарное определение цит. no: Griffiths R. An Intelligent Person’s Guide to Fascism. London: Duckworth, 2000. P. 4); Payne S. G. History of Fascism. P. 3; Allardyce G. What Fascism Is Not: Thoughts on the Deflation of a Concept // American Historical Review 84. 1979. April. No. 2. P. 367.
(обратно)7
Orwell G. Politics and the English Language // Horizon. 1946. April. (In Essays. N. Y.: Random House, 2002. P. 959.)
(обратно)8
Великая Старая Партия (Grand Old Party, GOP) — неофициальное название Республиканской партии США.
(обратно)9
Parente M. Rangel Ties GOP Agenda to Hitler // Newsday. 1995. Feb. 19. P. A3 8; Clinton W. Remarks to the Association of State Democratic Chairs in Los Angeles // Public Papers of the Presidents, 36 Weekly Comp. Pres. Doc. 1491.2000. June 24; типичную статью из Times см.: Stille A. The Latest Obscenity Has Seven Letters //New York Times. 2003. Sept. 13.
(обратно)10
Perlstein R. Christian Empire // New York Times. 2007. Jan. 7. Sec. 7. P. 15; Jackson J. Expediency Was Winner Over Right // Chicago Sun-Times. 1994. Dec. 3. P. 18.
(обратно)11
В Америке термином «социальный дарвинизм» обозначается «выживание» в капиталистическом обществе равных возможностей, склонном к проявлению анархизма и основанном на хищническом образе жизни «наиболее приспособленных» его членов. Этот термин традиционно используется Гербертом Спенсером, радикальным вольнодумцем и индивидуалистом. В соответствии с данным определением нацизм является противоположностью социального дарвинизма. Как мы увидим, нацисты были дарвинистами, но дарвинистами реформистского толка, которые считали, что государство должно отделять победителей от побежденных и осыпать победителей привилегиями, пособиями и другими проявлениями государственной щедрости. Эта позиция диаметрально противоположна воззрениям социальных дарвинистов.
(обратно)12
«Нация ислама» (англ. Nation of Islam) — афроамериканская религиозная организация в США, основанная в 1930 г. в Детройте, сектантское, воинствующее религиозное движение, исповедующее идеи черного национализма и сепаратизма.
(обратно)13
Национальный совет «Ла Раса» (The National Council of La Raza, NCLR) — организация, защищающая права испано-американцев.
(обратно)14
Diggins J. Р Mussolini and Fascism: The View from America. Princeton N. J.: Princeton University Press, 1972. P. 215.
(обратно)15
«Полезный идиот» (англ, useful idiot) — термин, применявшийся для описания сторонников Советского Союза в западных странах и отношения советского правительства к ним.
(обратно)16
Геберт Мэтьюз, один из корреспондентов New York Times, бывший активным сторонником итальянского фашизма на протяжении многих лет, писал, что фашизм хорош и для Италии, и для абиссинцев, которых Муссолини пытался завоевать. Во время гражданской войны в Испании он перестал поддерживать фашизм и начал симпатизировать коммунистам. Через несколько лет он открыл для себя еще одного революционера и «человека действия», которого с удовольствием стал поддерживать. Это был Фидель Кастро.
(обратно)17
Эгалитарный (от фр. egalite — равенство, одинаковость) — уравнительный (как принцип организации общественной жизни); этатизм (от фр. etat — государство) — направление политической мысли, рассматривающее государство как высший результат и цель общественного развития.
(обратно)18
В конечном счете Дюбуа стал осуждать антисемитизм нацистов, но нередко сквозь зубы, так как его очень раздражало пристальное внимание американцев к бедственному положению евреев. В сентябре 1933 года он написал в редакционной статье журнала The Crisis: «Ничто не наполняло нас такой злобной радостью, как Гитлер и представители нордической расы. Когда единственным “неполноценным” народом были “черномазые”, такие незначительные темы, как раса, линчевание и бесчинствующие толпы, редко удостаивались внимания New York Times. Но теперь, когда в число проклинаемых входит владелец Times, моральное негодование растет». (Brackman H. D. Calamity Almost Beyond Comprehension: Nazi Anti-Semitism and the Holocaust in the Thought of W. E. B. DuBois // American Jewish History. 2000. March. 88. No. 1, со ссылкой на: DuBois W E. B. As the Crow Flies // Crisis. 1933. Sept. 40. P. 97.)
(обратно)19
См. работы Джона Гаррати, Джеймса Уилсона, Дэвида Шенбаума, Алонсо Хэмби, Найла Фергюсона и в особенности немецкого историка Вольфганга Шивельбуша.
(обратно)20
Schivelbusch W. Three New Deals: Reflections on Roosevelt’s America, Mussolini’s Italy, and Hitler’s Germany, 1933-1939. N. Y.: Metropolitan Books, 2006. Pp. 29, 32.
(обратно)21
По иронии судьбы либеральный историк Ричард Хофстедтер делает аналогичное, хотя и гораздо менее радикальное заявление о прогрессивистах и популистах в своей книге «Эпоха реформ» (The Age of Reform) и в других работах. При этом он дает понять, что прогрессивисты и популисты являются преимущественно представителями правых сил — мнение, которое мне представляется неубедительным.
(обратно)22
По мнению Робеспьера, вождями нации должны были стать «чистые и чувствительные души», обладающие способностью делать то, что велит судьба, во «имя народа», и наделенные «просвещенностью», помогающей понять, каких «внутренних врагов» следует казнить (см.: Thompson. J. М. Robespierre. N. Y.: Appleton-Century, 1936. P. 247). Как говорил Робеспьер, «народ всегда важнее, чем отдельные личности... Народ безупречен, а человек слаб», или, во всяком случае, им можно пренебречь (см.: Himmelfarb G. The Idea of Compassion: The British vs. the French Enlightenment // Public Interest. 2001. Fall. No. 145. P. 20; см. также: SchamaS. Citizens: A Chronicle of the French Revolution. N. Y.: Vintage, 1990. P. 836; Kekes J. Why Robespierre Chose Terror // City Journal. 2006. Spring). Робеспьер объяснял необходимость террора следующим образом: «Если источником народного правления в мирное время является добродетель, то во время революции его источниками являются одновременно добродетель и террор: добродетель, без которой террор становится фатальным, и террор, без которого добродетель бессильна. Террор есть не что иное, как справедливость, быстрая, тяжелая, негибкая; поэтому она, по сути, проявление добродетели; это не столько особый принцип, сколько результат общего принципа демократии применительно к наиболее насущным потребностям нашей страны».
(обратно)23
Страны «Оси» — страны нацистского блока («ось Европы»: Берлин — Рим), гитлеровская коалиция.
(обратно)24
«Рейды Палмера» (названы по имени Александра Митчелла Палмера, генерального прокурора США при президенте Вудро Вильсоне) — серия силовых акций, предпринятых Министерством юстиции и иммиграционными властями США в 1918-1921 гг. и направленных против радикальных левых в США.
(обратно)25
DeGregori T. R. Muck and Magic or Change and Progress: Vitalism Versus Hamiltonian Matter-of-Fact Knowledge // Journal of Economic Issues 3. 2003. March. No. 1. Pp. 17-33.
(обратно)26
Upset S. M., Raab E. The Politics of Unreason: Right Wing Extremism in America, 1790-1970. N. Y: Harper and Row, 1970. P. 95, со ссылкой на: New York Sun. 1896, July 23. P. 2, как сообщается в статье: Flower Е. Anti-Semitism in the Free Silver and Populist Movements and the Election of 1896. Master’s Thesis. Columbia: Columbia University, 1952. Pp. 27-28.
(обратно)27
Как пишет Роберт Проктор, «инициативы в области здравоохранения реализовывались не только вопреки фашизму, но и вследствие фашизма». Национал-социалистические «кампании против курения и за изготовление хлеба из цельного зерна в некотором смысле можно считать такими же фашистскими, как желтые звезды и лагеря смерти». (См: Proctor R. N. The Nazi War on Cancer. Princeton, N. J.: Princeton University Press, 2000. Pp. 124, 249, 278).
(обратно)28
Вот список того, что городской совет Нью-Йорка попытался запретить (удалось это не во всех случаях) только в 2006 году: питбули; жиры, содержащие трансизомеры жирных кислот; алюминиевые бейсбольные биты; продажу табачных изделий лицам моложе 21 года; паштет из гусиной печени; велорикши в парках; новые рестораны быстрого питания (но только в бедных районах); лоббистов в зале заседаний совета; лоббирование интересов муниципальных учреждений после работы в каком-либо из них; автомобили в Центральном парке и в Проспект-парке; сотовые телефоны в престижных ресторанах; продажу продуктов из свинины, изготовленных на заводе в городе Тар Хил, штат Северная Каролина, вследствие спора, связанного с профсоюзной деятельностью; реализацию лекарственных препаратов по почте; сигареты со вкусом конфет; операторы АЗС, которые меняют цены на топливо более одного раза в день; Цирк братьев Барнума и Бейли Ринглинг; супермаркеты Wal-Mart (цит. по: Whatever It Is, They’re Against It // New York Post. 2006. Dec. 29. P. 36).
(обратно)29
См.: Getting It on for the Good of the Planet: The Greenpeace Guide to Environmentally-Friendly Sex // Greenpeace International. 2002. Sept. 10. Mode of Access: -sex-guide (доступ к ресурсу осуществлялся 15 марта 2007 года).
(обратно)30
Tocqueville A., de. Democracy in America. N. Y: Knopf, 1994. Vol. 2. P. 320.
(обратно)31
Оксюморон (от гр. oxymoron — «остроумно-глупый») — стилистический прием, сочетание слов с противоположным значением, образующее новое смысловое целое.
(обратно)32
Coupland P. H. G. Wells’s Liberal Fascism // Journal of Contemporary History 35. 2000. Oct. No. 4. P. 549.
(обратно)33
Теология Уэллса была, мягко говоря, еретической. Он утверждал, что Бог не всемогущ, а, скорее, является союзником человека, который «борется и противодействует злу» (Wells H. G. God, the Invisible King. N. Y: Macmillan, 1917. P. XIV). Его Бог также был Богом империализма и завоевания.
(обратно)34
«Прогрессивная эра» — период в истории США (1900-1914), в течение которого формировалось движение «среднего класса» против монополий под лозунгом прогрессивных преобразований.
(обратно)35
В русскоязычном издании сохранено написание слова «фашизм» в соответствии с правилами русского языка.
(обратно)36
Многие авторы ссылаются на слова этой песни как на свидетельство широкой популярности Муссолини, но очень часто создателем данного текста ошибочно считают Коула Портера, первого автора мюзикла «Все проходит» (Anything Goes). Портер почти наверняка не писал этих строк. Скорее всего они были добавлены П. Г. Вудхаузом, когда тот помогал адаптировать мюзикл для британской сцены. Представляется также, что существовало несколько версий песни со словами о Муссолини, которая неоднократно появлялась то по одну, то по другую сторону Атлантического океана.
(обратно)37
Фильм Роберто Бениньи «Жизнь прекрасна» (La Vita е bella, 1998) удостоился двух «Оскаров»: как лучший иностранный фильм и за лучшую мужскую роль, а также был номинирован в разделе за лучшую режиссуру. По иронии судьбы своим названием фильм обязан Льву Троцкому. Согласно Бениньи, незадолго до того, как ссыльный большевик был убит в Мексике, он якобы посмотрел на свою жену, когда они гуляли по саду, и сказал: «Как бы то ни было, жизнь прекрасна».
(обратно)38
Боа-констриктор (от лат. Boa constrictor) — зоологическое название обыкновенного удава.
(обратно)39
Diggins J. Р. Mussolini and Fascism: The View from America. Princeton, N. Princeton University Press, 1972. P. 245; Letters of Wallace Stevens / Ed. Holly Stevens. N. Y.: Knopf, 1966. P. 295.
(обратно)40
Calls Mussolini Latin Roosevelt // New York Times. 1923. Oct. 7. P. Е10.
(обратно)41
Diggins. Mussolini and Fascism. P. 206; Hapgood N. Professional Patriots. N. Y.: Boni, 1927. P. 62.
(обратно)42
Hughes a Humorist. Will Rogers Says // New York Times. 1926. Sept. 28. P. 29; Diggins. Mussolini and Fascism. P. 27, со ссылкой на: Rogers W. Letters of a Self-Made Diplomat to His President // Saturday Evening Post. 1926. July 31. Pp. 8-9, 82-84.
(обратно)43
«Пивной путч» — попытка захвата государственной власти организацией Kampfbund во главе с Гитлером 9 ноября 1923 г. в Мюнхене.
(обратно)44
Отношения Тосканини с режимом Муссолини были неоднозначными. Вероятно, по причинам в большей степени творческого характера, чем политического, он отказался исполнять фашистский гимн «Юность» (Giovinezza).
(обратно)45
«Разгребатели грязи» — группа американских писателей, журналистов, публицистов, социологов, выступившая с резкой критикой американского общества. Название «Р. г.» впервые употребил по отношению к ним президент США Т. Рузвельт в 1906 г., сославшись на книгу Дж. Беньяна «Путь паломника»: один из ее персонажей возится в грязи, не замечая над головой сияющего небосвода.
(обратно)46
The Autobiography of Lincoln Steffens. Vol. II: Muckraking/Revolution/Seeing America at Last. N. Y.: Harcourt, Brace and World, 1931. P. 799 (см. также: Diggins. Mussolini and Fascism. Pp. 28-29).
(обратно)47
Casa Italiana — Итальянский дом. — Примеч. перев.
(обратно)48
Diggins. Mussolini and Fascism. Pp. 255, 257.
(обратно)49
Усредненные количественные данные приводятся в связи с ростом интереса к советскому пятилетнему планированию у американцев. См.: Falasca-Zamponi S. Fascist Spectacle: The Aesthetics of Power in Mussolini’s Italy. Berkeley: University of California Press, 2000. P. 51.
(обратно)50
Diggins. Mussolini and Fascism. P. 244.
(обратно)51
В 1938 году в рабочем кабинете сына Лафоллета Филипа, прогрессивного губернатора штата Висконсин, все еще висела фотография Муссолини (Diggins. Mussolini and Fascism. Pp. 220-221).
(обратно)52
Mussolini B. My Rise and Fall. N. Y: Da Capo, 1998. P. 3.
(обратно)53
Johnson P. Modem Times: The World from the Twenties to the Nineties. N. Y: Perennial, 1991. P. 96. Вот как описывает Муссолини один из эпизодов своей автобиографии: «Я поймал ее на лестнице и, бросив в угол за дверью, овладел ею. Когда она встала, плачущая и униженная, то оскорбила меня, сказав, что я обесчестил ее; при этом не исключено, что она говорила правду. Но я вас спрашиваю, какую честь она могла иметь в виду?»
(обратно)54
Falasca-Zamponi. Fascist Spectacle. P. 43.
(обратно)55
Там же. P. 224, n. 61.
(обратно)56
Историк Хью Галлахер пишет о Рузвельте, что «он не был Томасом Джефферсоном, равно как и ученым и интеллектуалом в обычном смысле этого слова, У него был разносторонний ум и много интересов, но он не отличался глубиной» (см.: Leuchtenburg W Е. The FDR Years: On Roosevelt and His Legacy. N. Y.: Columbia University Press, 1995. P. 27, со ссылкой на: Gallagher H. G. FDR’s Splendid Deception: The Moving Story of Roosevelt’s Massive Disability and the Intense Efforts to Conceal It from the Public. N. Y: Dodd, Mead, 1985. P. 160).
(обратно)57
Kirkpatrick I. Mussolini. London: Odhams, 1964. P. 47.
(обратно)58
Там же. P. 49.
(обратно)59
Муссолини писал в обзоре книги Сореля «Размышления о насилии» (Reflections on Violence): «Тем, кем я являюсь сейчас... я обязан Сорелю... Он настоящий мастер, который своими четкими теориями революционных образований способствовал формированию дисциплины, коллективной энергии и мощи масс, фашистских когорт» (Gregor A. J. The Ideology of Fascism: The Rationale of Totalitarianism. N. Y: Free Press, 1969. P. 116). В 1913 году Сорель сказал: «Муссолини — это не обычный социалист. Однажды вы увидите его во главе священного батальона салютующим итальянскому знамени своим кинжалом. Он итальянец XV века, кондотьер. Вы этого еще не знаете. Однако именно этот сильный человек обладает необходимым потенциалом для исправления недостатков правительства» (Kirkpatrick. Mussolini. P. 159).
(обратно)60
Muravchik J. Heaven on Earth: The Rise and Fall of Socialism. San Francisco: Encounter Books, 2002. P. 146; HussleinJ. The Catholic Encyclopedia. N. Y: Robert Appleton Company, 1912. P. 386; Eatwell R. Fascism: A History. N. Y: Penguin, 1995. P. 11.
(обратно)61
Если бы все рабочие уже являлись убежденными социалистами, то всеобщая забастовка была бы не нужна, потому что в этом случае общество уже совершило бы переход к социализму (см.: Mclnnes. Encyclopedia of Philosophy. N. Y: Macmillan Publishing Company, 1973). Интервью с Муссолини см.: Kirkpatrick. Mussolini. P. 159. Шарптон цит. no: Cassidy J. Racial Tension Boils Over as Rape Case Is Branded a Hoax // Times (London). 1988. June 19.
(обратно)62
Sternhell Z. The Birth of Fascist Ideology. Princeton, N. J.: Princeton University Press, 1994. P. 56.
(обратно)63
Gregor. The Ideology of Fascism. P. 116.
(обратно)64
Himmelfarb G. The Idea of Compassion: The British vs. the French Enlightenment // Public Interest. 2001. Fall. No. 145.
(обратно)65
Rousseau J.-J. The Social Contract and Discourses. N. Y: Dutton, 1950. P. 297.
(обратно)66
Например, в 1924 году итальянский теоретик фашизма Джузеппе Боттаи пишет в работе «Фашизм как интеллектуальная революция» (Fascism as an Intellectual Revolution): «Если под демократией понимается предоставление всем гражданам возможности принимать активное участие в жизни государства, то никто не станет отрицать бессмертия демократии. Французская революция сделала такую возможность исторически и этически конкретной, причем настолько, что в результате возникло неистребимое право, которое прочно укоренилось в индивидуальном сознании вне зависимости от абстрактных обращений к бессмертным принципам или достижениям современной философии» (см.: Schnapp J. T. A. Primer of Italian Fascism. Lincoln: University of Nebraska Press, 2000. P. 82).
(обратно)67
См.: Mosse G. L. The Nationalization of the Masses: Political Symbolism and Mass Movements in Germany from the Napoleonic Wars Through the Third Reich. N. Y.: Fertig, 2001; Mosse G. L. Fascism and the French Revolution // Journal of Contemporary History 24. 1989. Jan. No. 1. Pp. 5-26.
(обратно)68
Замечание о том, что государство Руссо является самой «значительной из всех концепций, которые можно найти в политической философии», принадлежит Роберту Нисбету (см.: Nisbet R. The Present Age: Progress and Anarchy in Modern America. N. Y.: Harper & Row, 1988. P. 52).
(обратно)69
Теоретик фашизма Джузеппе Боттаи говорил: «Фашизм был для моих товарищей и меня самого всего лишь способом продолжения войны, превращения ее ценностей в гражданскую религию» (цит. по: Fascism as Intellectual Revolution. P. 20). Аугусто Турати, секретарь партии и самопровозглашенный «новый апостол религии Отечества», в своих обращениях к итальянской молодежи пояснял, что новая «фашистская религия» требует «абсолютной веры; веры в фашизм, в дуче, в революцию такой же, как вера в Бога... Мы принимаем революцию с гордостью, точно так же, как эти принципы, даже если понимаем, что они ошибочны, и мы принимаем их без обсуждения».
(обратно)70
Non abbiamo bisogmo (итал.) — «Мы не нуждаемся». — Примеч. перев.
(обратно)71
Pope in Encyclical Denounces Fascisti and Defends Clubs // New York Times. 1931. July 4; Everything Is Promised // Time. 1931. July 13; см. также: Gentile E. Politics as Religion. Princeton, N. J.: Princeton University Press, 2006. P. 95.
(обратно)72
Nicholls D. God and Government in an «Age of Reason». London: Routledge, 1995. P. 80.
(обратно)73
Этот закон был принят Конвентом, но никогда не выполнялся в полной мере. (Himmelfarb. Idea of Compassion. Цит. no: The Old Regime and the French Revolution. N. Y: Ancho, 1955. P. 156).
(обратно)74
Robespierre. Speech. 1794. Feb. 5 // Modern Histoiy Sourcebook: http:// -terror.htm.
(обратно)75
Linton M. Robespierre and the Terror // History Today. 2006. Aug. 1.
(обратно)76
Bosworth R. J. B. The Italian Dictatorship: Problems and Perspectives in the Interpretation of Mussolini and Fascism. London: Arnold, 1998. P. 104.
(обратно)77
Steele D. R. The Mystery of Fascism // Liberty. -articles.org.uk/fascism.htm (доступ к ресурсу: 13 марта 2007 года).
(обратно)78
Chi paga (итал.) — «Кто ему платит». — Примеч. перев.
(обратно)79
Мэри Харрис Джонс (Mary Harris Jones, более известная как Мамаша Джонс, 1837-1930) — выдающийся профсоюзный и общественный деятель, активист объединения Индустриальные рабочие мира.
(обратно)80
Muravchik. Heaven on Earth. P. 148, со ссылкой на: Sarfatti M. G. The Life of Benito Mussolini. N. Y,: Stokes, 1925. P. 263.
(обратно)81
Fascio Autonomo d’Azione Rivoluzionaria (итал.) — Союз автономного революционного действия. — Примеч. перев.
(обратно)82
Mussolini. My Rise and Fall. P. 36.
(обратно)83
Muravchik. Heaven on Earth. P. 149, со ссылкой на: Ridley J. Mussolini: A Biography. N. Y.: St. Martin’s, 1997. P. 71.
(обратно)84
Тринчерокрация — «траншейная аристократия».
(обратно)85
Chicken hawk (англ.) — политический эпитет, употребляемый в США для критики политика, чиновника или комментатора, который активно поддерживает войну, хотя сам всячески уклонялся от военной службы. — Примеч. перев.
(обратно)86
Fasci di Combattimento (итал.) — Итальянский союз борьбы. — Примеч. перев.
(обратно)87
Schnapp J. T. A Primer of Italian Fascism. Lincoln. Pp. 3-6; Delzell C. F. Mediterranean Fascism, 1919-1945. N. Y: Harper and Row, 1970. Pp. 12-13.
(обратно)88
Paxton R. O. The Five Stages of Fascism // Journal of Modem History 70. 1998. March. No. 1. P. 15.
(обратно)89
От англ. produser – производитель. — Примеч. перев.
(обратно)90
Paxton R. O. The Anatomy of Fascism. N. Y: Vintage, 2004. P. 17; Bosworth R. J. B. The Italian Dictatorship: Problems and Perspectives in the Interpretation of Mussolini and Fascism. London: Arnold, 1998. P. 39. По мнению Ханны Арендт, Муссолини «был, пожалуй, первым руководителем партии, который сознательно отказался от формальной программы, заменив ее исключительно вдохновенным руководством и действием» (цит. по: Arendt Н. The Origins of Totalitarianism. Rev. ed. N. Y: Harcourt, 1966. No. 29. P. 325).
(обратно)91
Автор, вероятно, имеет в виду анекдот о безработном миме, которого директор зоопарка попросил заменить умершую гориллу, чтобы не потерять посетителей. Надев шкуру обезьяны, мим целыми днями просто делал, что хотел, развлекая публику и получая хорошие деньги.
(обратно)92
Falasca-Zamponi. Fascist Spectacle. P. 72.
(обратно)93
Cortesi A. Mussolini, on Radio, Gives Peace Pledge. // New York Times. 1931. Jan. 2; Elliott W. Y. Mussolini, Prophet of the Pragmatic Era in Politics // Political Science. Quarterly 41. 1926. June 2. No. 2. Pp. 161-192.
(обратно)94
Muravchik. Heaven on Earth. Pp. 170, 171.
(обратно)95
Hitler А. Mein Kampf / пер. Ralph Manheim. / Boston: Houghton Mifflin, 1999. P. 533.
(обратно)96
По словам Роберта О. Пакстона, первым примером «национал-социализма» как идеологического ярлыка и политического предшественника фашизма был «Кружок Прудона» (Cercle Proudhon) во Франции в 1911 году — клуб интеллектуалов, которые стремились к «объединению националистов и левых противников демократии» для атаки на «еврейский капитализм». Его основатель Жорж Валуа всеми силами старался обратить рабочий класс из марксистского интернационализма в национальный социализм (Paxton R. О. The Anatomy of Fascism. N. Y: Vintage, 2004. P. 48).
(обратно)97
Smith D. M. Mussolini: A Biography. N. Y: Vintage, 1983. P. 185; Payne S. G. A History of Fascism, 1914-1945. Madison: University of Wisconsin Press, 1995. P. 232; Johnson P. Modem Times: The World from the Twenties to the Nineties. N. Y.: Perennial, 1991. P. 319; Zuccotti S. The Italians and the Holocaust: Persecution, Rescue, and Survival. Lincoln: University of Nebraska Press, 2006. P. 30.
(обратно)98
Fest J. Hitler. N. Y.: Harcourt Brace Jovanovich, 1974. P. 205.
(обратно)99
Лени Рифеншталь (Berta Helene Amalie Riefenstahl, 1902-2003) — немецкий кинорежиссер и фотограф, автор документальных фильмов «Триумф воли» (1935) и «Олимпия» (1938).
(обратно)100
Koonz C. The Nazi Conscience. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 2003. P. 18.
(обратно)101
Пожалуй, это не совсем справедливо по отношению к Чемберлену в силу того, что его политика умиротворения в значительной степени основывалась на концепции «реальной политики», в то время как западные пацифисты зачастую были «полезными идиотами» Гитлера.
(обратно)102
Shiver W L. The Rise and Fall of the Third Reich. N. Y.: Touchstone, 1990. P. 205.
(обратно)103
Country-club Republicans (доел, республиканцы (из) загородного клуба) — состоятельные члены Республиканской партии, придерживающиеся умеренных взглядов. — Примеч. перев.
(обратно)104
Lukács J. The Hitler of History. N. Y.: Vintage, 1997. P. 84.
(обратно)105
Schoenbaum D. Hitler’s Social Revolution: Class and Status in Nazi Germany, 1933-1939. N. Y: Norton, 1980. P. 19; Burleigh M. The Third Reich: A New History. N. Y.: Hill and Wang, 2000. P. 245.
(обратно)106
Один — верховный бог; Валгалла — рай для павших в бою воинов (в германо-скандинавской мифологии).
(обратно)107
Hitler A. Mein Kampf. P. 406.
(обратно)108
Пангерманизм — политическая доктрина в Германии конца XIX в. о необходимости установления мирового господства германской нации.
(обратно)109
Rosenbaum R. Explaining Hitler: The Search for the Origins of His Evil. N. Y.: Random House, 1998. P. XXI; Whaite R. G. L. The Psychopathic God: Adolf Hitler. N. Y.: Da Capo, 1993. P. 20; Methvin E. H. 20th Century Superkillers. National Review. 1985. May 31. Pp. 22-29.
(обратно)110
Учение о мировом льде — космологическая доктрина вечного льда, впервые изложенная австрийским инженером Гансом Гёрбигером (Hams Horbiger) в его книге «Учение о мировом льде» (1913).
(обратно)111
Банши (от ирл., шотл. banshee) — фольклорный персонаж: привидение-плакальщица, чьи завывания под окнами предвещают' обитателю дома смерть. — Примеч. перев.
(обратно)112
Hitler A. Mein Kampf. P. 195.
(обратно)113
Schoenbaum. Hitler’s Social Revolution. P. 62.
(обратно)114
Griffin R. Fascism. N. Y: Oxford University Press, 1995. P. 123.
(обратно)115
Hitler A. Mein Kampf. Pp. 484,496-497.
(обратно)116
Там же. P. 484.
(обратно)117
Burleigh. Third Reich. Pp. 132-133.
(обратно)118
Schoenbaum. Hitler’s Social Revolution. P. 59; Burleigh. Third Reich. P. 105.
(обратно)119
Abel T. Why Hitler Came Into Power. Cambridge, Mass.: Harvard University Press. 1938. Pp. 135-139; Weber E. Varieties of Fascism: Doctrines of Revolution in the Twentieth Century. Malabar, Fla.: Kriegler, 1982. P. 55, со ссылкой на: Abel. Why Hitler Came Into Power. Pp. 203-301.
(обратно)120
Pipes R. Russia Under the Bolshevik Regime, 1919-1924. N. Y: Vintage, 1995. P. 253.
(обратно)121
Kuehnelt-Leddihn E., von. Leftism: From de Sade and Marx to Hitler and Marcuse. New Rochelle, N. Y: Arlington House, 1974. P. 136; Burleigh. Third Reich. P. 55.
(обратно)122
Diggins J. P. Mussolini and Fascism: The View from America. Princeton, N. J.: Princeton University Press,1972. P. 217.
(обратно)123
Там же. P. 215.
(обратно)124
Hook S. The Fallacy of the Theory of Social Fascism in American Anxieties: A Collective Portrait of the 1930s / Ed. Louis Filler / Somerset, N. J.: Transaction, 1993. P. 320.
(обратно)125
Siegel F. It Can’t Happen Here // Weekly Standard. 2006. Aug. 14. P. 40. Любопытно, что книга подверглась жесткой критике самого автора. На организованном левыми силами мероприятии в честь книги и ее автора Льюис заявил: «Ребята, я всех вас люблю. И любому писателю приятно, когда его новую книгу хвалят. Но я скажу вам, что это не очень хорошая книга».
(обратно)126
Lewis S. It Can’t Happen Here. N. Y.: New American Library, 2005. P. 46.
(обратно)127
Немецкая корь, или краснуха, — вирусная болезнь.
(обратно)128
Там же. Pp. 16, 17.
(обратно)129
Wilson W. The Ideals of America// The Atlantic Monthly. 1902. December (cm. также: Smith T. America’s Mission: The United States and the Worldwide Struggle for Democracy in the Twentieth Century. Princeton N. J.: Princeton University Press, 1994. P. 63); Willem J. Woodrow Wilson: A Life for World Peace / Transi. Rowen H. H. Los Angeles, Calif.: University of California Press, 1991. P. 37.
(обратно)130
McDougall W. Promised Land, Crusader State: The American Encounter with the World Since 1776. Boston: Houghton Mifflin, 1997. P. 128.
(обратно)131
Orwell G. Review of Power: A New Social Analysis // Adelphi. 1939. Jan. N. Y.: Random House, 2002. P. 107.
(обратно)132
Wilson W. Constitutional Government in the United States. N. Y: Columbia University Press, 1908, 1961.
(обратно)133
Pestritto R. J. Why Progressivism Is Not, and Never Was, a Source of Conservative Values / Claremont Review of Books / 2005. Aug. 25: (доступ к ресурсу осуществлялся 14 марта 2007 года); Wilson W. The New Freedom. N. Y: Doubleday. P. 1913.
(обратно)134
McGerr M. A Fierce Discontent: The Rise and Fall of the Progressive Movement in America, 1870-1920. N. Y: Free Press, 2003. Pp. 66, 59.
(обратно)135
Вашингтон Гладден (Washington Gladden, 1836-1918) — пастор конгрегационалистской церкви, член Прогресеивистской партии, автор более сорока работ, среди которых «Прикладное христианство» (Applied Christianity, 1887).
(обратно)136
Там же. P. 111.
(обратно)137
McDougal. Promised Land, Crusader State. P. 127.
(обратно)138
Под «живой» конституцией понимаются не только действующие, реальные нормативные акты, но и сложившиеся традиции, обычаи, которые дополняют конституцию.
(обратно)139
West J. G. Darwin’s Conservatives: The Misguided Quest. Seattle: Discovery Institute, 2006. P. 61.
(обратно)140
Wilson W. Leaders of Men / Ed. Motter T. H. V. Princeton, N. J.: Princeton University Press, 1952. Pp. 25-26, 29.
(обратно)141
Goldman E. F. Rendezvous with Destiny: A History of Modem American Reform. Chicago: Ivan R. Dee, 2001. P. 165.
(обратно)142
В оригинале bull moose — американский лось, эмблема Прогрессивной партии Т. Рузвельта на выборах 1912 г. Считается, что эмблема, а от нее и второе название партии [Bull Moose Party] произошли от заявления Рузвельта, сделанного им в 1900 г., о том, что он «силен, как сохатый». — Примеч. перев.
(обратно)143
Cooper Jr-J. M. The Warrior and the Priest: Woodrow Wilson and Theodore Roosevelt. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1983. Pp. 150-151.
(обратно)144
У. Беверидж хвастливо заявил, что закон о контроле качества мяса представляет собой «наиболее явное распространение федеральной власти в каждом направлении» (McGerr. Fierce Discontent. P. 163; цит. no: Leuchtenburg W. Е. Progressivism and Imperialism: The Progressive Movement and American Foreign Policy, 1898-1916 // Mississippi Valley Historical Review 39. Dec. 1952. No. 3. P. 484).
(обратно)145
Книга Уолтера Макдугалла «Земля обетованная, государство крестоносцев» (Promised Land, Crusader State) исключительно полезна для понимания этого момента. Макдугалл пишет:
«Историки делают акцент на противоборствующих тенденциях в американском обществе на рубеже веков. По словам Фостера Ри Даллеса, эта эпоха “отмечена многими противоречиями”. Ричард Хофстедтер выделил “два различных направления”, одно из которых тяготело к протесту и реформам, а другое — к национальной экспансии. Фредерик Мерк писал о борьбе между “предначертанием судьбы” и миссией государства, а Эрнест Мэй — о “фонтанах империалистического и нравоучительного красноречия”. Однако эти противоречия не более чем следствие нашего желания очистить Прогрессивное движение от запятнавшего его империалистического стремления к мировой экспансии. По существу убеждение в том, что мощь Америки, направляемая светским и религиозным чувством долга, способна изменить социальное устройство других стран, было в такой же степени свойственно прогрессивистам, как борьба с трестами, запрещение детского труда и государственное регулирование торговли между штатами, мясопереработки и производства лекарственных средств. Все ведущие империалисты, такие как Рузвельт, Беверидж и Уиллард Страйт, были прогрессивистами; все ведущие прогрессисты, такие как Якоб Риис, Гиффорд Пиншо и Роберт Лафоллет, поддерживали войну с Испанией и захват островов». (С. 120).
А историк Уильям Лейхтенбург писал в своем известном эссе 1952 года, что «империализм и прогрессивизм процветали вместе, потому что оба они выражали одну и ту же философию правительства: тенденцию судить о любой деятельности, принимая во внимание не применявшиеся средства, а достигнутые результаты, преклонение перед решительным действием ради действия, как отмечал Джон Дьюи, и почти религиозную веру в демократическую миссию Америки» (Leuchtenburg. Progressivism and Imperialism. P. 500).
(обратно)146
Goldman. Rendezvous with Destiny. P. 209; Ekrich Jr. A. A. The Decline of American Liberalism. N. Y.: Atheneum, 1967. P. 193.
(обратно)147
Таммани — вначале благотворительное, потом ставшее политическим сообщество в Нью-Йорке, созданное в конце XVIII в. и затем превратившееся в могущественную, но чисто мошенническую организацию, которая заправляла делами города в целях личного обогащения своих членов; Ницше (Friedrich Wilhelm Nietzsche, 1844-1900) — немецкий философ, который ставил под сомнение базисные принципы действующих форм морали, религии, культуры и общественнополитических отношений.
(обратно)148
Лонг также говорил, что фашизм придет в Америку как «антифашизм». Это довольно точное предсказание, если иметь в виду, что левые уже давно считают себя боевым клином «антифашизма» (см.: Mencken H. L. Roosevelt: An Autopsy / Prejudices: Second Series. N. Y.: Knopf, 1920. Pp. 112, 114).
(обратно)149
Pestritto R. J. Woodrow Wilson and the Roots of Modem Liberalism. Lanham, M. D.: Rowman and Littlefield, 2005. P. 255.
(обратно)150
Прогрессивисты начали активно применять к себе слово «прогрессивный» с 1909 года.
В Англии прогрессивистов могли называть «консервативными демократами», «трудовыми империалистами», «новыми либералами», «фабианцами» или «коллективистами».
В Америке прогрессивисты были известны как реформаторы или даже радикалы и, конечно же, как республиканцы или демократы (слово «либеральный» стало часто употребляться для описания представителей Прогрессивного движения только в 1920-е годы). Во Франции и Германии употреблялись многие из этих ярлыков наряду с такими наименованиями, как interventionistes (сторонники интервенции и/или государственного вмешательства в экономику. — Примеч. перев.). Одни цитировали Ницше, другие — Маркса, были и такие, кто ссылался на Уильяма Джеймса. Многие, например Муссолини и Жорж Сорель, говорили о влиянии всех троих. Не вызывает сомнения, что некоторые объединения итальянских социалистов того времени, которых в Италии называли fascios, можно однозначно отнести к представителям «прогрессивного» лагеря. Нам также известно, что националистически настроенная интеллигенция, заложившая основу для фашизма в Италии, находилась под сильным влиянием прагматизма Уильяма Джеймса, на которого их идеология также оказала влияние.
(обратно)151
Rodgers D. Т. Atlantic Crossings: Social Politics in a Progressive Age. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1998. Pp. 57, 74. 7;
(обратно)152
Peruna — спиртосодержащее тонизирующее средство, пользовавшееся огромной популярностью во время «сухого закона» в США. — Примеч. перев.
(обратно)153
Jacobs J. Works of Friedrich Nietzsche //New York Times. 1910. May Mencken. Roosevelt: An Autopsy. P. 111. Ричард Хофстедтер, культовый либеральный историк, считал Тедди Рузвельта завуалированным фашистом. По словам Дэвида Брауна, биографа Хофстедтера, ключевой особенностью Рузвельта была «изрядная примесь Муссолини», а его политика, характеризуемая «твердой приверженностью национализму, военным ценностям и общим духом расовой принадлежности и судьбы», являлась «разновидностью фашистской политики, которая отравила Европу после смерти Рузвельта» (Brown D. S. Richard Hofstadter: An Intellectual Biography. Chicago: University of Chicago Press, 2006. Pp. XVI, 60.
(обратно)154
Rodgers. Atlantic Crossings. Pp. 86-87.
(обратно)155
«Стандарт Тиффани» — серебро самой высокой пробы, стерлинговое, которое использовалось компанией Tiffany & Со для создания ювелирных коллекций. Решением Конгресса США он был принят за национальный.
(обратно)156
Goldman. Rendezvous with Destiny. P. 102; Beard C. A., Robinson J. H. The Development of Modem Europe: An Introduction to the Study of Current History. Vol. 2. Boston: Ginn & Company, 1907. P. 141; Howe F. C. Socialized Germany. N. Y.: С. Scribner’s Sons, 1915. P. 166; Zakaria F. The Future of Freedom: Illiberal Democracy at Home and Abroad. N. Y.: W. W. Norton, 2004. P. 66.
(обратно)157
Rothbard M. N. World War I as Fulfillment: Power and the Intellectuals // Journal of Libertarian Studies 9. 1989. Winter. No 1. P. 103.
(обратно)158
Wilson W. The Papers of Woodrow Wilson. Vol. 1. N. Y: Harper, 1927. Pp. 6-10.
(обратно)159
Bovard J. Freedom in Chains: The Rise of the State and the Demise of the Citizen. N. Y: St. Martin’s, 2000. P. 8.
(обратно)160
Forcey C. The Crossroads of Liberalism: Croly, Weyl, Lippmann, and the Progressive Era, 1900-1925. N. Y: Oxford University Press, 1961. Pp. 124-125.
(обратно)161
McClay W. M. Croly’s Progressive America // Public Interest. 1999. Fall. No. 137.
(обратно)162
Goldmann. Rendezvous with Destiny. P. 192.
(обратно)163
Forcey C. The Crossroads of Liberalism: P. 15; Goldman. Rendezvous with Destiny. P. 191.
(обратно)164
Bovard. Freedom in Chains. P. 8.
(обратно)165
Leuchtenburg. Progressivism and Imperialism. P. 490.
(обратно)166
Croly H. The Promise of American Life. N. Y: Macmillan, 1911. P. 14.
(обратно)167
Croly H. Regeneration // New Republic. 1920. June 9. Pp. 40-44 (первое упоминание см. в: Kaplan S. Social Engineers as Saviors: Effects of World War I on Some American Liberals // Journal of the History of Ideas. 1956. June. Pp. 347-369.
(обратно)168
DigginsJ. P. Flirtation with Fascism: American Pragmatic Liberals and Mussolini’s Italy // American Historical Review 71. 1966. Jan. No. 2. P. 494.
(обратно)169
«Без сомнения, в ходе в мировой войны бывали такие моменты, — писал Росс в «Российской Советской Республике» (The Russian Soviet Republic), — когда несколько часов уносили больше русских жизней, чем когда-либо поглотил красный террор... она сыграла свою роль, так как буржуазия вдруг перестала плести интриги» (Mohrenschildt D., von. The Early American Observers of the Russian Revolution, 1917-1921 // Russian Review 3. 1943. Autumn. No 1. P. 67). В оригинале допущена опечатка в слове «расстрелять».
(обратно)170
Там же. Р. 69.
(обратно)171
Feuer L. S. American Travelers to the Soviet Union, 1917-1932: The Formation of a Component of New Deal Ideology // American Quarterly 14. 1962. Summer. No. 2. Pt. 1. P. 125; Chase S., Dunn R., Tugwell R. G., eds. Soviet Russia in the Second Decade. N. Y: John Day, 1928. Pp. 49-50, 54.
(обратно)172
Feuer. American Travelers to the Soviet Union. Pp. 102, 128, 126, 119— 149.
(обратно)173
Там же. P. 132.
(обратно)174
Из вышедшего 2 марта 1927 года номера New Republic читатели узнали, что «более либеральным является такой подход, когда фашизм в Италии, подобно коммунизму в России, рассматривается как играющий определенную роль в политическом развитии Италии политический и социальный эксперимент, который невозможно понять и оценить с опорой на формулировки как его сторонников, так и противников».
(обратно)175
Diggins. Flirtation with Fascism. P. 494, со ссылкой на: Beard С. A. Making the Fascist State //New Republic. 1929. Jan. 23. Pp. 277-278.
(обратно)176
West. Darwin’s Conservatives. P. 60.
(обратно)177
Примерно в это же время журнал New Republic стал походить на рекламное агентство, работающее на администрацию Вильсона. Тедди Рузвельт был настолько удручен предательством своей бывшей «группы поддержки», что назвал New Republic «захудалой газетенкой, возглавляемой двумя анемичными иноверцами и двумя необрезанными евреями» (см.: Goldman. Rendezvous with Destiny. P. 194).
(обратно)178
Wilson W. Address to a Joint Session of Congress on Trusts and Monopolies. 1914. Jan. 20: (доступ к ресурсу осуществлялся 14 марта 2007 года).
(обратно)179
Убеждение Вильсона в том, что он — мессианское воплощение сил мировой истории, было абсолютным. Снова и снова он утверждал, что он орудие Бога, или истории, или их обоих. В заключение своей знаменитой речи, обращенной к Лиге поддержания мира (League to Enforce Peace), он заявил:
«Но я пришел сюда, позвольте мне повторить, не для того чтобы обсуждать программу. Я пришел лишь для того, чтобы выразить свое глубокое убеждение в том, что мир уже сейчас стоит на пороге великого свершения, когда появится некая общая сила, которая будет охранять право как первую и важнейшую ценность для всех народов и правительств, когда принуждение будет служить не для реализации политических амбиций и не для проявления эгоистичной враждебности, но станет гарантом общего порядка, общей справедливости и общего мира. Дай Бог, чтобы начало этой эры искренних отношений, а также прочного мира, согласия и сотрудничества было совсем рядом!»
Полный текст выступления доступен по ссылке: . Wilson W. The Messages and Papers of Woodrow Wilson. Vol. 1 / Ed. Shaw A. N. Y.: Review of Reviews Corporation, 1924. P. 275; см. также: Text of the President’s Speech Discussing Peace and Our Part in a Future League to Prevent War // New York Times. 1916. May 28. P. 1.
(обратно)180
Cosmos Club — социальный клуб, существовавший в Вашингтоне с 1878 г. Его членами были видные политические и общественные деятели США.
(обратно)181
Leuchtenburg W. Е. The FDR Years: On Roosevelt and His Legacy. N. Y.: Columbia University Press, 1995. P. 39.
(обратно)182
Дьюи цит. no: ; Блэтч-по: McGerr. Fierce Discontent. P. 282 и no: Barry J. M. The Great Influenza: The Epic Story of the Deadliest Plague in History. New York: Penguin, 2004. P. 127; Илай — no: Rothbard M. N. Richard T. Ely: Paladin of the Welfare. Warfare State // Independent Review 6. 2002. Spring. No. 4. P. 587; Вильсон — no: Gov. Wilson Stirs Spanish Veterans // New York Times. 1912. Sept. 11. P. 3; Гитлер — no: The Goebbels Diaries, 1942-1943 / Ed. Louis P. Lochner. N. Y: Doubleday, 1948. P. 314.
(обратно)183
McGerr. Fierce Discontent. P. 282.
(обратно)184
Цитаты из Кроули см.: The End of American Isolation // New Republic. 1914. Nov. 7; Judis J. B. Homeward Bound // New Republic. 2003. March 3. P. 16; Ekirch. Decline of American Liberalism. P. 202. Цитаты из Липпмана см.: Steel R. The Missionary // New York Review of Books. 2003. Nov. 20; а также: Eulau H. From Public Opinion to Public Philosophy: Walter Lippmann’s Classic Reexamined // American Journal of Economics and Sociology. Vol. 15. No. 4. 1956. July. P.441.
(обратно)185
Leuchtenburg. FDR Years. P. 39; Kennedy D. M. Over Here: The First World War and American Society. N. Y: Oxford University Press, 1982. P. 52.
(обратно)186
Clarkson G. Industrial America in the World War: The Strategy Behind the Line, 1917-1918. Boston: Houghton Mifflin, 1923. P. 292.
(обратно)187
McGerr. Fierce Disconent. P. 289; Wilson W. A Proclamation by the President of the United States // New York Times. 1917. May 19. P. 1.
(обратно)188
Lippmann W. Public Opinion. N. Y: Harcourt, Brace, 1922.
(обратно)189
McGerr. Fierce Discontent. P. 288; Barry. Great Influenza. P. 127.
(обратно)190
Цитату из Бернайса см.: Kazin М. The Populist Persuasion: An American History. Ithaca, N. Y: Cornell University Press, 1998. P. 70. Примеры плакатов Комитета общественной информации см.: Barry. Great Influenza. P. 127.
(обратно)191
Barry. Great Influenza. P. 126.
(обратно)192
«Обезьяний процесс» — судебный процесс 1925 г. над школьным учителем Д. Скопсом (штат Теннесси, США), излагавшим эволюционную теорию Дарвина, которая была запрещена в ряде южных штатов.
(обратно)193
Charges Traitors in America Are Disrupting Russia // New York Times. 1917. Sept. 16. P. 3; Vaughn S. First Amendment Liberties and the Committee on Public Information //American Journal of Legal History 23. No. 2. 1979. April. P. 116.
(обратно)194
McGerr. Fierce Discontent. P. 293.
(обратно)195
Там же. Pp. 293, 294.
(обратно)196
Brands H. W. The Strange Death of American Liberalism. New Haven, Conn.: Yale University Press, 2001. P. 40. За весь период деятельности Берльсона, направленной на подавление прессы, Вильсон всего в двух случаях не согласился с мнением своего почтмейстера настолько, что тому пришлось изменить свое решение. Во всех остальных случаях Вильсон последовательно поддерживал, по сути, неограниченное право правительства осуществлять цензуру печати, в том числе и тогда, когда Берльсон использовал свои полномочия для преследования местной техасской газеты, редакция которой подвергла критике его решение изгнать издольщиков с принадлежавших ему владений. В письме к одному из конгрессменов Вильсон заявил, что цензура «абсолютно необходима для общественной безопасности» (Sayer J. Art and Politics, Dissent and Repression: The Masses Magazine Versus the Government, 1917-1918 //American Journal of Legal History 32. No. 1. 1988. Jan. P. 46).
(обратно)197
Sayer. Art and Politics, Dissent and Repression. P. 64 n. 99; Ekirch. Decline of American Liberalism. Pp. 216-217.
(обратно)198
Swisher С. B. Civil Liberties in War Time // Political Science Quarterly 55. No. 3. 1940. Sept. P. 335.
(обратно)199
См.: Zinn H. The Twentieth Century: A People’s History. N. Y.: HarperCollins. 2003. Pp. 89-92.
(обратно)200
Hapgood N. Professional Patriots. N. Y.: Boni, 1927. P. 62. См. также: Diggins J. P. Mussolini and Fascism: The View from America. Princeton, N. J.: Princeton University Press, 1972. P. 206. Примерно десять лет спустя представитель Американского легиона из Техаса приколол на лацкан Муссолини значок, сделав его почетным членом данной организации. В ответ на этот жест Муссолини сфотографировался в техасской ковбойской шляпе с полковником легиона.
(обратно)201
Виджилантизм — движение, сформированное в 1851 г. жителями Калифорнии для самозащиты от преступности.
(обратно)202
«Дефиеники» (полит, жарг.) — уничижительное прозвище американца иностранного происхождения. — Примеч. перев.
(обратно)203
Congress Cheers as Wilson Urges Curb on Plotters // New York Times. 1915. Dec. 8. P. 1; Seymour C. Woodrow Wilson and the World War: A Chronicle of Our Own Times. New Haven, Conn.: Yale University Press, 1921. P. 79; Suggests Canada Might Vote with US // New York Times. 1919. Sept. 26. P. 3.
(обратно)204
Беспартийная лига — политическая организация, возникшая в 1915 г. в Северной Дакоте и защищавшая интересы фермерства.
(обратно)205
President Greets Fliers // Washington Post. 1924. Sept. 10; Ekirch. Decline of American Liberalism. P. 217; Barry. Great Influenza. P. 125.
(обратно)206
Автор использует игру слов. Глагол to fire в данном контексте имеет два смысла: «уволить» и «стрелять». — Примем, перев.
(обратно)207
Батлер цит. по: Noře E., Beard C. A. An Intellectual Biography. Carbondale: Southern Illinois University Press, 1983. P. 80; и no: Kennedy. Over Here. P. 74. В знак протеста историк Чарльз Бирд отказался от должности преподавателя, что, несомненно, делает ему честь. Не многие из его коллег последовали его примеру. Ссылку на Илая см.: Roíhbard. Richard Т. Ely. P. 588; Gruber C. S. Mars and Minerva: World War I and the Uses of the Higher Learning in America. Baton Rouge: Louisiana State University Press, 1975. P. 207.
(обратно)208
McGerr. Fierce Discontent. P. 299; Tamping Out Treason / Ed. Washington Post. 1918. April 12.
(обратно)209
Kazin. Populist Persuasion. P. 69; Diggins J. P. The Rise and Fall of the American Left. N. Y: Norton, 1992. P. 102.
(обратно)210
McGerr. Fierce Discontent. P. 290.
(обратно)211
Schoenbaum D. Hitler’s Social Revolution: Class and Status in Nazi Germany, 1933-1939. N. Y.: Norton, 1980. P. 63; Mann M. Fascists. N. Y.: Cambridge University Press, 2004. P. 146.
(обратно)212
McGerr. Fierce Discontent. P. 59.
(обратно)213
Bernstein М. A. The Great Depression: Delayed Recovery and Economic Change in America, 1929-1939. N. Y: Cambridge University Press, 1987. P. 273; Leuchtenburg W E. The FDR Years: On Roosevelt and His Legacy. N. Y: Columbia University Press, 1995. P. 50.
(обратно)214
Leuchtenburg. FDR Years. Pp. 10-11.
(обратно)215
Feuer L. S. American Travelers to the Soviet Union, 1917-1932: The Formation of a Component of New Deal Ideology // American Quarterly 14. 1962. Summer. No. 2. P. 148, со ссылкой на: Ickes H. L. The Secret Diary of Harold L. Ickes: The First Thousand Days. N. Y: Simon and Schuster, 1953. P. 104; Brinkley A. The End of Reform: New Deal Liberalism in Recession and War. N. Y: Vintage, 1996. P. 22; Ickes. Secret Diary. Vol. 2. Pp. 325-326.
(обратно)216
Leuchtenburg W. The New Deal as the Moral Analogue of War // FDR Years. Pp. 35-75; cm.: Alter J. The Defining Moment: FDR’s Hundred Days and the Triumph of Hope. N. Y: Simon and Schuster, 2006. P. 5; Steel R. W. Lippmann and the American Centuiy. Boston: Little, Brown, 1980. P. 300.
(обратно)217
Brinkley A. Liberalism and Its Discontents. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1998. P. 17.
(обратно)218
Leuchtenburg. FDR Years. P. 27, со ссылкой на: Gallagher H. FDR’s Splendid Deception. N. Y: Dodd, Mead, 1985. P. 160.
(обратно)219
Davis K. FDR: The New Deal Years. 1933-1937. N. Y: Random House, 1986. P. 223.
(обратно)220
От англ, feather duster — метелка из перьев для смахивания пыли. — Примем, перев.
(обратно)221
Bums MacGregor J. Roosevelt: The Lion and the Fox, 1882-1940. N. Y: Harcourt, Brace, 1984. P. 50.
(обратно)222
Там же. Pp. 52, 61.
(обратно)223
Однако это отношение не распространялось на его собственные интересы. Он сказал своей матери, что ей не следует слишком увлекаться призывами правительства и не стоит покупать облигации «Свободы», «пока не припечет». Человек, который позже стал осуждать «экономических роялистов», сказал женщине, которая контролировала его финансовые ресурсы, не продавать более ценных активов семьи, для того чтобы купить более патриотичные, но менее прибыльные ценные бумаги (Davis. FDR. Pp. 512-513).
(обратно)224
Hofstadter R. The American Political Tradition and the Men Who Made It. N. Y.: Vintage, 1989. P. 412; Leuchtenburg. FDR Years. P. 2.
(обратно)225
Burns. Roosevelt. P. 144.
(обратно)226
Brinkley. Liberalism and Its Discontents. Pp. 18, 37; Hansen A. Toward Full Employment (выступление в Цинциннатском университете 15 марта 1949 года, цит. по: Brinkley. End of Reform. P 5).
(обратно)227
Редакционная статья Liberalism vs. Fascism // New Republic. 1927. March. 2. P. 35. В высказываниях Кроули в защиту Муссолини невозможно не обнаружить фашистской одержимости единством и действием. В еще одной редакционной статье он заявил: «Каким бы опасным ни был фашизм, по крайней мере он сменил застой движением, склонность к бездействию — целенаправленным поведением, а всеобщие мелочность и уныние — мечтой о великом будущем» (Brinkley. End of Reform. P. 155; Diggins J. P. Mussolini and Fascism: The View from America. Princeton, N. J.: Princeton University Press, 1972. P. 204).
(обратно)228
Diggins J. P. Flirtation with Fascism: American Pragmatic Liberals and Mussolini’s Italy // American Historical Review 71. Jan. 1966. No. 2. P. 495.
(обратно)229
Chase S. A New Deal. N. Y: Macmillan, 1932. P. 252.
(обратно)230
Маркиз де Сад считал себя великим революционером и философом. Тогда как на самом деле он был изнывающим от скуки извращенцем, который стремился самым тщательным образом обосновать издевательства над людьми ради забавы. Ленину до тошноты наскучило все, кроме постоянной агитации за революцию. Мартин Хайдеггер преподавал целый курс, посвященный скуке, которую он называл «коварным существом, [которое] сохраняет свою чудовищную сущность в нашем [бытии]». Существует предположение о том, что Хайдеггер пополнил ряды нацистов, по крайней мере отчасти ради того, чтобы излечиться от скуки.
(обратно)231
Mellow J. Charmed Circle: Gertrude Stein and Company. N. Y: Henry Holt, 2003. P. 416.
(обратно)232
«Мы те, кому за шестьдесят, — заметил Синклер Льюис по случаю смерти Уэллса в 1946 году, — мы помним, что он значил для нас... Этот человек в большей степени, чем кто-либо другой в этом веке, заронил в наши молодые души яркую мечту (которая предположительно может оказаться реальностью) о том, что человечество способно по размышлении перестать делать нашу жизнь жалкой и заслуживающей порицания в угоду некоторому учреждению, которое уже на протяжении столетия является живым трупом» (Goldman Е. Rendezvous with Destiny: A History of Modem American Reform. Chicago: Ivan R. Dee, 2001. P. 178). Я не заимствовал название этой книги из речи Уэллса, но обрадовался, обнаружив, что это словосочетание имеет такую богатую интеллектуальную историю (см.: Coupland P. H. G. Wells’s Liberal Fascism // Journal of Contemporary History. Oct. 2000. 35. No. 4. Pp. 541-558.
(обратно)233
Coupland. H. G. Wells’s Liberal Fascism. P. 543.
(обратно)234
Wells H. The War in the Air. N. Y.: Penguin Classics, 2005. P. 128. Когда киноверсия вышла на экраны, в партийной газете Британского союза фашистов Action («Действие») появилось письмо, автор которого вопрошал: «Не является ли господин Уэллс тайным фашистом?» Этот корреспондент отметил, что «все сверхлюди носили фашистские черные рубашки и широкие блестящие пояса, форма была одинаковой, а облаченные в нее люди вели себя в характерной для фашистов полувоенной манере» (Coupland. H. G. Wells’s Liberal Fascism. P. 541; Wells H. What Is Fascism — and Why? // New York Times Magazine. 1927. Feb. 6. P. 2; Orwell G. Wells, Hitler, and the World State // Horizon. 1941. Aug. (in Essays: N. Y: Knopf, 2002. P. 371).
(обратно)235
Wells H. Experiment in Autobiography: Discoveries and Conclusions of a Very Ordinary Brain Since 1866. N. Y: Macmillan, 1934. P. 682; Leuchtenburg. The FDR Years. P. 93.
(обратно)236
В 1920-е и 1930-е годы появились различные интеллектуальные культы фашистского типа, предполагающие передачу власти инженерам, причем наиболее известной концепцией такого рода является «технократия» Торстейна Веблена.
(обратно)237
В доме № 10 по Даунинг-стрит в Лондоне традиционно располагается офис премьер-министра Великобритании.
(обратно)238
По словам журналиста из газеты The Village Voice, Кофлин был лидером «группы правохристианских политических неудачников» (Ridgeway J. Mondo Washington // Village Voice. 2000. March, 14. P. 41). Автор одной из статей в New York Times назвал Пэта Бьюкенена «отцом Кофлином 1996-го года» (Freedman S. The Father Coughlin of 1996 // New York Times. 1996. Feb. 25). Историк Майкл Казин заявил в интервью BusinessWeek: «Бьюкенен является последователем популярного в 1930-е годы изоляционистского консерватизма отца Кофлина» (Walczak L. The New Populism // BusinessWeek. 1995. March. 13. P. 72). Профессор, пишущий для политического журнала Foreign Policy, шокирован тем, что «представители современных христианских правых сил являются верными сторонниками Израиля», что, по его словам, должно «удивлять обозревателей, которым известно о крайнем антисемитизме таких христианских консерваторов эпохи, предшествовавшей Второй мировой войне, как радиокомментатор отец Чарльз» (Martin W. The Christian Right and American Foreign Policy // Foreign Policy. 1999. Spring. No. 114. P. 72). Newsweek называет отца Кофлина и Рональда Рейгана теми двумя «консерваторами», которые максимально использовали возможности радио (Fineman Н. The Power of Talk // Newsweek. 1993. Feb. 8. P. 24) и т. д.
(обратно)239
Fishwick M. Great Awakenings: Popular Religion and Popular Culture. Binghamton. N. Y: Haworth, 1995. P. 128.
(обратно)240
Lays Banks’ Crash to Hoover Policies // New York Times. 1993. Aug. 24. P. 7; State Capitalism Urged by Coughlin // New York Times. 1934. Feb. 19. P. 17.
(обратно)241
Энн Морроу Линдберг (Ann Morrow Lindberg, 1906-2001) — американская писательница и авиатор, жена летчика Чарльза Линдберга, автор трактата «Волна будущего» (Wave of the Future).
(обратно)242
Многие обозреватели понимали, что коммунизм является новой религией. Джон Мейнард Кейнс начал свое блестящее эссе 1925-го года под названием «Беглый взгляд на Россию» (A Short View of Russia), заявив: «Ленинизм представляет собой сочетание двух вещей, которые европейцы на протяжении нескольких веков хранили в разных отсеках души — религии и бизнеса. Мы просто в шоке, потому что религия является новой, и полны презрения в силу того, что бизнес, когда он подчинен религии, а не наоборот, отличается крайне низкой эффективностью».
(обратно)243
Brinkley A. Voices of Protest: Huey Long, Father Coughlin, and the Great Depression. N. Y.: Vintage, 1983. P. 122.
(обратно)244
Roosevelt or Ruin, Asserts Radio Priest at Hearing // Washington Post. 1934. Jan. 17. Pp. 1-2; Brinkley. Voices of Protest. P. 126; см. также: Coughlin F. National Union for Social Justice. 1934. Nov. 11 ( (доступ к ресурсу осуществлялся 20 февраля 2007 года).
(обратно)245
Principles of the National Union for Social Justice (цит. no: Brinkley. Voices of Protest. Pp. 287-288).
(обратно)246
Кофлин продолжал: «Мы исходим из принципа, согласно которому свободная конкуренция в любой отрасли промышленности делает невозможным устойчивое процветание. Таким образом, правительство должно не только в законодательном порядке установить размеры минимальной годовой заработной платы и максимального количества рабочего времени и обеспечить их соблюдение в промышленности, но и ограничить их индивидуализм таким образом, чтобы в случае необходимости предприятия могли быть лицензированы, а объемы их производства — сокращены» (Beard С., Smith G. Current Problems of Public Policy: A Collection of Materials. N. Y.: The Macmillan Company, 1936. P. 54.
(обратно)247
Brinkley. Voices of Protest. P. 239.
(обратно)248
Wordsworth Dictionary of Quotations. Wordsworth Editions, 1998. P. 240; Schlesinger A. The Politics of Upheaval: 1935-1936 // The Age of Roosevelt. Boston: Houghton Mifflin, 2003. Vol. 3. P. 66.
(обратно)249
Синклер специализировался на разоблачениях. Он прославился тем, что написал книгу «Джунгли» (The Jungle), историю эксплуатируемого иммигранта, работающего на одном из предприятий мясоконсервной промышленности в Чикаго, который нашел спасение благодаря социализму. Формально Синклер являлся членом Социалистической партии до Первой мировой войны, когда он порвал с ней, предпочтя политику вмешательства (что сделало бы его фашистом в Италии). Синклер оставался идейным социалистом (и сторонником диет) до конца своих дней. Доктор Таунсенд был еще более странной фигурой. В сентябре 1933 года он написал в калифорнийскую газету письмо, в котором утверждал, что экономические проблемы Америки можно решить, если федеральное правительство даст по 200 долларов всем людям старше 60 лет при условии, что они должны потратить эти деньги в течение 30 дней. Предполагалось, что это позволит вывести экономику из кризиса и улучшит материальное положение престарелых граждан. Через три месяца после этого письма в редакцию в стране появились три тысячи Таунсенд-клубов, а также еженедельная общенациональная газета. К лету 2005 года по всей стране насчитывалось приблизительно 2,25 миллиона членов этого движения. Представители движения Таунсенд, которое газета Today назвала «просто выдающейся политической сенсацией 1935 года», в итоге получили большое количество мест в законодательных органах штатов, а двое из них даже стали губернаторами (Leuchtenburg W Franklin D. Roosevelt and the New Deal. N. Y.: Harper & Row, 1963. P. 180).
(обратно)250
Schivelbusch W. Three New Deals: Reflections on Roosevelt’s America, Mussolini’s Italy, and Hitler’s Germany, 1933-1939. N. Y.: Metropolitan Books, 2006. P. 73.
(обратно)251
Götz A. Hitler’s Beneficiaries: Plunder, Racial War, and the Nazi Welfare State / nep. J. Chase. N. Y: Holt, 2007. Взыскательный читатель может спросить, почему гитлеровская Германия оказалась настолько успешнее, чем Америка, если Третий рейх был более социалистическим? Это отличный вопрос, который я задал нескольким экономистам. Краткий ответ: «Реальная заработная плата» (см.: Biehl J. How Germans Fell for the ‘Feel-Good’ Fuehrer // Spiegel Online. 2005. March. 22 (/0,1518,347726,00.html (доступ к ресурсу осуществлялся 26 июня 2007 года).
(обратно)252
McCormick А. О’Н. Hitler Seeks Jobs for All Germans // New York Times. 2007. July. 10. P. 6.
(обратно)253
Garraty J. The New Deal, National Socialism, and the Great Depression // American Historical Review 78. 1973. Oct. No. 4. Pp. 933-934; Schivelbusch. Three New Deals. Pp. 19-20.
(обратно)254
Schivelbusch. Three New Deals. Pp. 23, 24, 19.
(обратно)255
Mussolini B. The Birth of a New Civilization,” in Fascism / Ed. Roger Griffin. N. Y: Oxford University Press, 1995. P. 73; Schivelbusch. Three New Deals. P. 31.
(обратно)256
Hamby A. For the Survival of Democracy: Franklin Roosevelt and the World Crisis of the 1930s. N. Y: Free Press, 2004. P. 146.
(обратно)257
Интересно, что Джеймс упоминает в своем эссе немецкого философа С. Р. Штейнмеца. И хотя Джеймс не согласен с ним по нескольким существенным пунктам, стоит отметить, что, по его словам, Штейнмец является «добросовестным мыслителем» и «моральным» милитаристом. Штейнмец, которого ныне почти не помнят, был очень известным немецким социальным дарвинистом и евгенистом (James W Memories and Studies. N. Y.: Longman, Green and Co, 1934. P. 281).
(обратно)258
Alter. Defining Moment. P. 4.
(обратно)259
Там же. P. 5.
(обратно)260
«Алфавитный суп» — перечисление аббревиатур названий различных организаций.
(обратно)261
Leuchtenburg. FDR Years. P 63.
(обратно)262
Stars and Stripes (англ. «Звезды и полосы» [неоф. название флага США]) — ежедневная газета министерства обороны США. — Примеч. перев.
(обратно)263
Там же. Рр. 55, 56.
(обратно)264
Schoenbaum. Hitler’s Social Revolution. P. 63. Константин Хирль, глава Службы труда, объяснял, что нет лучшего способа для преодоления классовых различий, чем одеть «сына директора и молодого рабочего, студента университета и батрака в одну и ту же униформу, объединить их общим делом служения народу и отечеству». Сравнивая Германию с Испанией, Гитлер заявил в 1936 году: «Какая разница: там класс [восстал] против класса, брат против брата. Мы выбрали другой путь: вместо того чтобы пытаться вас разобщить, мы объединили вас».
(обратно)265
Johnson Н. The Blue Eagle, from Egg to Earth. Garden City, N. Y: Doubleday, Doran, 1935. P. 264.
(обратно)266
Gemeinnutz geht vor Eigennutz (нем.) — «Общественные интересы важнее личных». — Примем, перев.
(обратно)267
В разговорном языке это выражение обозначает «один за всех, все за одного», но более точным является перевод «общественные интересы важнее личных».
(обратно)268
Friedrich О. F.D.R.’s Disputed Legacy // Time. 1982. Feb. 1.
(обратно)269
Hamby. For the Survival of Democracy. P. 164.
(обратно)270
Not Since the Armistice // Time. 1933. Sept. 25 /0,9171,882190,00.html (доступ к ресурсу осуществлялся 7 февраля 2007 года); Smithsonian. Vol. 30. No. 2. May. 1999.
(обратно)271
Red Rally Dimmed by Harlem Fervor // New York Times. 1934. Aug. 5. No 3.
(обратно)272
См.: Lescaze. Reagan Still Sure Some in New Deal Espoused Fascism // Washington Post. 1981. Dec. 24. P. A7. Рейган выразился еще более прямо: «Любой, кто захочет взглянуть на труды “мозгового треста” «Нового курса», обнаружит, что советники президента Рузвельта восхищались фашистской системой... Они считали, что частная собственность в условиях управления и контроля со стороны государства по типу итальянской системы является образцом для подражания, и это четко прослеживается во всех их сочинениях» (см.: Hayward S. The Age of Reagan: The Fall of the Old Liberal Order, 1964-1980. Roseville, Calif.: Prima, 2001. P 681; Kaiser R. Those Old Reaganisms // Washington Post. 1980. Sept. 2. P A2.
(обратно)273
Roosevelt F. Annual Message to U.S. Congress. 1936. Jan. 3 (цит. но: Boyard J. Freedom in Chains: The Rise of the State and the Demise of the Citizen. N. Y: St. Martin’s, 2000. P. 17.
(обратно)274
Leuchtenburg W Franklin D. Roosevelt and the New Deal. N. Y.: Harper and Row, 1963. P. 340.
(обратно)275
Schambra W. The Quest for Community, and the Quest for a New Public Philosophy. Washington, D.C. 1983. Dec. 5-8 — научная работа, представленная в рамках недели государственной политики Американского института предпринимательства в области исследований социальной политики (цит. по: Nisbet R. The Present Age: Progress and Anarchy in Modem America. N. Y.: Harper Collins, 1988. P. 51; text of President Roosevelt’s Speech to His Neighbors // New York Times. 1933. Aug. 27, P. 28).
(обратно)276
Schivelbusch. Three New Deals. P. 186.
(обратно)277
Уолдо Фрэнк (Waldo Frank 1989-1967) — американский писатель, историк и социальный критик, известный своими работами по латиноамериканской и испанской литературе.
(обратно)278
Там же. P. 37.
(обратно)279
Bloom A. The Closing of the American Mind. N. Y: Simon and Schuster, 1987. P. 315.
(обратно)280
Downs A. Comell’69: Liberalism and the Crisis of the American University. Ithaca, N. Y: Cornell University Press, 1999. P. 172. Мне известно, что ответственность за пожар Рейхстага является предметом значительных разногласий среди историков. Но нацистам было не важно, кто на самом деле был виновен в пожаре. Они просто использовали этот пожар в своих целях. Некоторые из черных националистов в Корнеллском университете, безусловно, полагали, что крест подожгли белые расисты, но лидеры группировки знали, что это не так, и ухватились за данную возможность.
(обратно)281
Craig G. Germany, 1866-1945. Oxford: Clarendon, 1978. P. 478.
(обратно)282
Toland J. Adolf Hitler: The Definitive Biography. N. Y: Anchor Books, 1992. P.75.
(обратно)283
Там же.
(обратно)284
Beard M. The Tune Hitlerism Beats for Germany // New York Times. 1931. June. 7.
(обратно)285
Grunberger R. The 12-Year Reich: A Social History of Nazi Germany, 1933— 1945. N. Y: Da Capo, 1995. P. 306.
(обратно)286
Anderson T. The Movement and the Sixties. N. Y: Oxford University Press, 1996. P. 200.
(обратно)287
Schultze W. The Nature of Academic Freedom, in Nazi Culture: Intellectual, Cultural, and Social Life in the Third Reich / Ed. G. L. Mosse. Madison: University of Wisconsin Press, 1966. P. 316.
(обратно)288
Downs, Comell’69. P. 9; Evans R., Novak R. New Order at Cornell and the Academic Future // Los Angeles Times. 1969. May. 5. P. C11.
(обратно)289
Berns W. The Assault on the Universities: Then and Now / Reassessing the Sixties: Debating the Political and Cultural Legacy / Ed. S. Macedo. N. Y.: Norton, 1997. Pp. 158-159.
(обратно)290
D'Souza D. The End of Racism: Principles for a Multiracial Society. N. Y.: Free Press, 1995. P. 339.
(обратно)291
Популярная народная песня, которую поют под гитару у костра, взявшись за руки. — Примеч. перев.
(обратно)292
Farhi P Dean Tries to Summon Spirit of the 1960s // Washington Post. 2003. Dec. 28.P.A05.
(обратно)293
Керри отрицает свое участие в заседании, на котором обсуждался этот вопрос. Некоторые заявляют, что он был там, но проголосовал против этой идеи. Никто не утверждает, что он поддержал такую политику.
(обратно)294
Farhi. Dean Tries to Summon Spirit of the 1960s. P. A05.
(обратно)295
Фасции — атрибут власти, символ государственного и национального единства.
(обратно)296
Ellis R. Romancing the Oppressed: The New Left and the Left Out // Review of Politics 58. No. 1 (Winter 1996). Pp. 109-110; Miller J. Democracy Is in the Streets: From Port Huron to the Siege of Chicago. N. Y.: Simon and Schuster, 1987. Pp. 30-31; Hayden T. Letter to the New (Young) Left // The New Student Left: An Anthology / Eds. M. Cohen and D. Hale / rev. and expanded ed. Boston: Beacon, 1967. Pp. 5-6. Первоначально эта статья появилась в журнале The Activist (Winter, 1961).
(обратно)297
Goldman E. Rendezvous with Destiny: A History of Modern American Reform. Chicago: Ivan R. Dee, 2001. P. 159.
(обратно)298
Пегги Камуф, американский переводчик многих книг Дерриды, вспоминает, что чтение его работ в 1970 году, когда она была аспиранткой Йельского университета, позволяло проявить солидарность с радикалами на улицах. Деконструкция, по ее словам, давала возможность заниматься научной работой, поддерживая при этом «ощущение острой необходимости ответа на злоупотребления власти», лежавшее в основе политической борьбы. Одним словом, концепция Дерриды позволяла радикальным ученым не потерять работу, превращая университеты в инкубаторы радикализма (цит. по: McLemee S. Derrida, a Pioneer of Literary Theory, Dies // Chronicle of Higher Education. 2004. Oct. 22. P. Al, chronicle.eom/free/v51/i09/09a00101.htm (доступ к ресурсу осуществлялся 4 января 2007 года).
(обратно)299
Downs, Cornell’69. Р. 232; см. также: The Agony of Cornell // Time. 1969. May. 2; Bigart H. Cornell Faculty Reverses Itself on Negroes // New York Times. 1969. April. 24.
Травма, связанная с атмосферой предательства и злобы, от которой Росситер страдал и в то же время способствовал ей — как в профессиональном, так и в личном плане — несомненно, подтолкнула его к трагическому решению покончить с собой в следующем году. Калеб Росситер, сын Клинтона, пытается опровергнуть эту точку зрения в двух ярких главах своей автобиографии. Тем не менее, читая его повествование, неизбежно приходишь к выводу, что стресс вследствие этих событий — в особенности крайний радикализм его собственных сыновей — сыграл определенную роль.
(обратно)300
Neske G., Kettering Е., eds. Martin Heidegger and National Socialism: Questions and Answers. N. Y.: Paragon House, 1990. P. 6.
(обратно)301
Wolin R. The Seduction of Unreason: The Intellectual Romance with Fascism. Princeton, N. J.: Princeton University Press, 2004. Pp. 6-7.
(обратно)302
Отношения между прагматизмом и консерватизмом несколько сложнее. Уильям Джеймс был великим американским философом, и многое в его трудах вызывает восхищение у консерваторов. И если понимать прагматизм просто как реализм или практичность, то многие консерваторы оказываются прагматиками. Но если прагматизм рассматривается как совокупность теорий, связанных с прогрессивизмом или работами Джона Дьюи, то консерваторы на протяжении века в числе первых критикуют прагматизм. Однако следует сказать, что как Джеймс, так и Дьюи являются в полной мере американскими философами и их отношение к широкому кругу проблем невозможно определить как правое или левое.
(обратно)303
Wolin. Seduction of Unreason. P. 60.
(обратно)304
Miller. Democracy Is in the Streets. P. 311.
(обратно)305
Paxton R. The Anatomy of Fascism. N. Y.: Vintage, 2004. Pp. 16, 17; Bosworth R. J. B. The Italian Dictatorship: Problems and Perspectives in the Interpretation of Mussolini and Fascism. London: Arnold. 1998. P. 39.
(обратно)306
Action Française — французское действие. — Примеч. перев.
(обратно)307
Wolin. Seduction of Unreason. P. 61; Beard. The Tune Hitlerism Beats for Germany.
(обратно)308
См.: Miller. Democracy Is in the Streets. P. 169. Движение «Студенты за демократическое общество» начиналось как фракция Лиги за промышленную демократию (League for Industiral Democracy), антикоммунистической социалистической организации, которую в течение непродолжительного времени возглавлял Джон Дьюи (Brinkley A. Liberalism and Its Discontents. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1998. P. 232).
(обратно)309
Gitlin T. The Sixties: Years of Hope, Days of Rage. N. Y: Bantam, 1993. P. 337.
(обратно)310
Sternhell Z The Birth of Fascist Ideology: From Cultural Rebellion to Political Revolution / Transi. D. Maisel. Princeton, N. J.: Princeton University Press, 1994. P. 56.
(обратно)311
Gitlin. Sixties. P. 283.
(обратно)312
The Port Huron Statement, in Takin’ // Streets: A Sixties Reader / Eds. Alexander Bloom and Wini Breines. N. Y: Oxford University Press, 1995. P. 61; Hayden Т. The Port Huron Statement: The Visionary Call of the 1960s Revolution. N. Y.: Avalon, 2005. Pp. 97, 52; Brinkley. Liberalism and Its Discontents. Pp. 229, 233.
(обратно)313
Gitlin. Sixties. P. 101; Maurice Isserman and Michael Kazin, America Divided: The Civil War of the 1960s / 2nd ed. N. Y.: Oxford University Press, 2004. Pp. 173, 174 (см. также:"Rorabaugh W. J. Berkeley at War: The 1960s. N. Y: Oxford University Press, 1989. P. 8; Wells T. The War Within: America’s Battle Over Vietnam. N. Y: Holt, 1994. Pp. 117-118, 427; Isserman M. If I Had a Hammer: The Death of the Old Left and the Birth of the New Left. N. Y: Basic Books, 1987. Pp. 196-197.
(обратно)314
Gitlin. Sixties. P. 107; Miller. Democracy Is in the Streets. P. 291.
(обратно)315
Brinkley. Liberalism and Its Discontents. P. 235 (см. также: Hodgson G. America in Our Time. Garden City, N. Y: Doubleday, 1976. Pp. 300-305).
(обратно)316
Laqueur W. Reflections on Youth Movements, Commentary. June. 1969.
(обратно)317
Baird J. W. Goebbels, Horst Wessel, and the Myth of Resurrection and Return // Journal of Contemporary History 17. 1982. Oct. No. 4. P. 636.
(обратно)318
Там же. Pp. 642-643.
(обратно)319
«Мичиганский союз» — объединение студентов Мичиганского университета. — Примеч. перев.
(обратно)320
Miller. Democracy Is in the Streets. P. 102.
(обратно)321
Gitlin. Sixties. Pp. 359-360; Hayden T. Reunion: A Memoir. N. Y; Collier, 1989. P. 247; Raymont H. Violence as a Weapon of Dissent Is Debated at Forum in ‘Village’; Moderation Criticized //New York Times. 1967. Dec. 17. P. 16; Hayden T. Two, Three, Many Columbias // Ramparts. 1968. June 15. P. 40 // America in the Sixties — Right, Left, and Center: A Documentary History / Ed. P. B. Levy. Westport, Conn.: Praeger, 1998. P. 231-223 (см. также: Miller. Democracy Is in the Streets. P. 292).
(обратно)322
Miller. Democracy Is in the Streets. P. 310; Lyon J. The World Is Still Watching after the 1968 Democratic Convention, Nothing in Chicago Was Quite the Same Again // Chicago Tribune Magazine. 1988. July, 24 (см. также: Ely Jr J. The Chicago Conspiracy Cas // American Political Tials / Ed. M. Belknap. Westport, Conn.: Praeger, 1994. P. 248; Hayden T. Rebellion and Repression. N. Y: World, 1969. P. 15. Воспоминания обвиняемых и адвокатов см. в: Lessons of the ‘60s //American Bar Association Journal 73. 1987. May. Pp. 32-38.
(обратно)323
Cannato V. The Ungovernable City: John Lindsay and His Struggle to Save New York. N. Y: Basic Books, 2001. P. 243.
(обратно)324
Gitlin. Sixties. Pp. 399, 401.
(обратно)325
Там же. Pp. 399, 400. Это сообщение, как и многие другие из приведенных в данной главе, содержится там же, а также в книге Миллера: Miller. Democracy Is in the Streets.
(обратно)326
Gitlin. Sixties. P. 399. Дорн скрывалась на протяжении почти 10 лет после участия в «днях ярости» в Чикаго, где она теперь работает директором юридического центра по проблемам детей и семьи (Children and Family Justice Center) в Северо-Западном университете. В 1993 году она сказала в интервью New York Times. «Я была шокирована злобными нападками против меня». Одной из причин такой реакции она считала сексизм (просто она отказалась вести себя как «хорошая девочка»), Chira S. At Home With: Bemadine Dohm; Same Passion, New Tactics // New York Times. 1993. Nov. 18. Sec. С. P. 1.
(обратно)327
Движение «йиппи» (англ. Tippies от аббревиатуры YIP — Youth International Party) — Международная молодежная партия.
(обратно)328
Нацисты также были горазды на шутки. К премьере фильма «На западном фронте без перемен» (All Quiet on the Western Front) в Германии Геббельс скупил огромное количество билетов, наказав своим штурмовикам освистать фильм, а затем выпустить в зрительный зал сотни белых мышей.
(обратно)329
Hoffman A. The Best of Abbie Hoffman. N. Y: Four Walls Eight Windows, 1990. P. 62; Miller. Democracy Is in the Streets. Pp. 285-86; Gitlin. Sixties. P. 324.
(обратно)330
Jensen R. Futurism and Fascism // History Today 45. 1995. Nov. No. 11. Pp. 35-41.
(обратно)331
Wolin. Seduction of Unreason. P. 62.
(обратно)332
Гоулд считал, что после ликвидации империализма в Соединенных Штатах власть должна перейти к «представителям народа». Когда кто-то сказал, что его идея выглядит как самый страшный сон Джона Берчера, Гоулд ответил: «Что ж, если потребуется фашизм, нам придется жить при фашизме» (Gitlin. Sixties. P. 399).
(обратно)333
Я голосую за Демократическую партию. Они хотят, чтобы ООН была сильной. Я посещаю все концерты Пита Сигера. Он вдохновляет меня петь эти песни. И я пошлю все деньги, которые вы просите, Но не просите меня идти вместе с вами. Так любите меня, любите меня, любите меня — я либерал. (Gitlin. Sixties. P. 183.) (обратно)334
Alinsky S. Rules for Radicals: A Pragmatic Primer for Realistic Radicals. N. Y: Vintage, 1972. Pp. 120-121.
(обратно)335
Там же. P. 21.
(обратно)336
Paxton. Anatomy of Fascism. P. 17.
(обратно)337
Стиль boho-chic — стиль женской моды, сочетающий в себе цыганские мотивы и черты эстетики хиппи. — Примеч. перев.
(обратно)338
Nordlinger J. Che Chic //National Review. 2004. Dec. 31. P. 28.
(обратно)339
Berman P. The Cult of Che // Slate. 2004. Sept. 24; / (доступ к ресурсу осуществлялся 15 марта 2007 года); Nordlinger. The Chic. P. 28.
(обратно)340
Лумумба, вопреки тому, чему меня учили в школе, был убит не агентами ЦРУ, а оппозиционными конголезскими силами в ходе кровопролитной гражданской войны (хотя в ЦРУ на самом деле разрабатывался план его ликвидации). Он был передан врагам своим бывшим протеже, начальником штаба Мобуту Сесе Секо, который в итоге захватил власть в стране и стал фашистским диктатором, но даже его жестокость не смогла разубедить представителей американских левых сил, особенно черных, сделавших из него панафриканского героя.
(обратно)341
Sartre J.-P. The Wretched of the Earth, by Frantz Fanon / Transi. C. Farrington. N. Y.: Grove, 1963. P. 22; Gitlin. Sixties. P. 344.
(обратно)342
Когда черные фашисты захватили главное здание студенческого городка, один отчаявшийся родитель позвонил в службу безопасности университета. Диспетчер службы безопасности в первую очередь спросил его о цвете кожи правонарушителей. Когда мужчина ответил, что это чернокожие, ему сказали, что «ничем не могут помочь». Что касается результатов чернокожих студентов на отборочном тестировании, Томас Соуэлл пишет следующее: «Большинство черных студентов, зачисленных в Корнеллский университет, показали на отборочном тестировании результаты выше среднего показателя по стране, но в среднем по университету их результаты были гораздо ниже оценок других студентов. У них были проблемы, потому что они были в Корнеллском университете, а позднее из-за них проблемы возникли у всего университета... Как известно, некоторым чернокожим абитуриентам с высокими оценками было отказано в приеме, а приняты были те, кто соответствовал стереотипу, несмотря на более низкую успеваемость» (см.: Sowell Т. The Day Cornell Died /7 Weekly Standard. 1999. May, 3. P. 31; Berns. Assault on the Universities).
(обратно)343
Kaufman M. Stokely Carmichael, Rights Leader Who Coined ‘Black Power,’ Dies at 57 // New York Times. 1998. Nov. 16.
(обратно)344
Секта «Народ ислама» также известна как «Черные мусульмане». — Примеч. перев.
(обратно)345
Малколм Икс (настоящее имя Малколм Литл) — активист движения «Черные мусульмане». — Примеч. перев.
(обратно)346
D’Souza. End of Racism. Pp. 398-399 (см. также: DuBois. W. E. B. Back to Africa // Century. 1923. Feb; цит. no: Clarke J., ed. Marcus Garvey and the Vision of Africa. N. Y: Vintage, 1974. Pp. 101, 117, 134; Franklin J., Meier A., eds. Black Leaders of the Twentieth Century. Urbana: University of Illinois Press, 1982. Pp. 132-134. Сегодня во многом так же, как в 1960-е годы, черные националистические группировки, журналы и «интеллигенция» часто находят общий язык со сторонниками превосходства белой расы. Издательство Third World Press, которым руководит черный националист Хаки Мадхубути обычно не публикует статьи белых авторов, но делает поблажки для таких антисемитских писак, как Майкл Брэдли, чьи теории о евреях прекрасно согласуются с «Протоколами сионских мудрецов».
(обратно)347
Цитату из Формана см. в: Easton N. America the Enemy // Los Angeles Times Magazine. 1995. June, 18. P. 8. Чавис был освобожден после того, как губернатор Северной Каролины прибегнул к давлению международной общественности (включая Советский Союз), утверждая, что суд был пристрастным.
(обратно)348
Могадишо — столица Сомали (государства в Восточной Африке). — Примеч. перев.
(обратно)349
Paxton. Anatomy of Fascism. P. 7.
(обратно)350
Fried M. The Struggle Is the Message: The Organization and Ideology of the Anti-war Movement / by Irving Louis Horowitz // Contemporary Sociology 1. 1972. No. 2. Pp. 122-123, со ссылкой на: Horowitz I. The Struggle Is the Message: The Organization and Ideology of the Anti-war Movement. Berkeley, Calif.: Glendessary, 1970. Pp. 122-123.
(обратно)351
Lipset S. Rebellion in the University. Boston: Little, Brown, 1972. P. 115; Soucy R. French Fascist Intellectuals in the 1930s: An Old New Left? / French Historical Studies. 1974. Spring.
(обратно)352
Эрл Уоррен (Earl Warren, 1891-1974) — председатель Верховного луда США с 1953 по 1969 г., представитель либерально-консервативного движения; «Миранда против Аризоны» — историческое дело, рассмотренное «судом Уоррена» в 1966 г. По этому делу суд вынес решение, что признание обвиняемого, сделанное во время допроса, может считаться доказательством, только если до этого обвиняемому были разъяснены его процессуальные права (так называемые «права Миранды»).
(обратно)353
Закон о патриотизме (USA Patriot Act) — федеральный закон, принятый в США в октябре 2001 г., который давал правительству и полиции широкие полномочия по надзору за гражданами.
(обратно)354
Holland М After Thirty Years: Making Sense of the Assassination // Reviews in American History 22. 1974. June. No. 2. Pp. 192-193; Chapter II — or Finis? // Time. 1966. Dec. 30; Chalk P. Wrong from the Beginning // Weekly Standard. 2005. March, 14.; Swartz M. Them’s Fightin’ Words // Texas Monthly. 2004. July.
(обратно)355
Pope Paul Warns That Hate and Evil Imperil Civil Order // New York Times. 1963. Nov. 25. P. 1; King W. Dallas Still Wondering: Did It Help Pull the Trigger? // New York Times. 1983. Nov. 22. P. A24. Происхождение названия «Город ненависти» остается одним из наиболее странных эпизодов в американской психологии масс. Казалось, что оно обусловлено главным образом грубым отношением к Линдону Джонсону некоторых женщин в его родном штате, разделяющих взгляды республиканцев во время выборов 1960 года, а также во время выступления против ООН в 1963 году, когда Эдлай Стивенсон, который в то время был послом США в ООН, получил по голове плакатом от одной из участниц акции протеста.
(обратно)356
Commission W. The Warren Commission Report: Report of the President’s Commission on the Assassination of President John F. Kennedy. N. Y.: St. Martin’s. 1992. P. 416.
(обратно)357
О пьесе «Макбёрд» см.: Herman A. Joseph McCarthy: Reexamining the Life and Legacy of America’s Most Hated Senator. N. Y: Free Press, 2000. P. 13. Кеннеди попросил 52,3 миллиарда долларов на военные расходы и еще 1,2 миллиарда долларов на реализацию программы исследования космического пространства (эти средства он, безусловно, относил к статье расходов на нужды обороны) из общего бюджета в 106,8 миллиарда долларов (Leebaert D. The Fifty Year Wound: How America’s Cold War Victory Shapes Our World. Boston: Little, Brown, 2003. P. 267; Friedberg A. In the Shadow of the Garrison State: America’s Anti-statism and Its Cold War Grand Strategy. Princeton, N. J.: Princeton University Press, 2000. P. 140).
(обратно)358
Hayward S. The Age of Reagan: The Fall of the Old Liberal Order, 19641980. Roseville, Calif.: Prima, 2001. P. 23; Gitlin T. The Sixties: Years of Hope, Days of Rage. N. Y: Bantam, 1993. Pp. 136-137. Реакция Кеннеди на «рейсы свободы» весной 1961 года была достаточно неоднозначной. Он поступил правильно, выделив федеральные ресурсы, для того чтобы остановить насилие, при этом он был очень рассержен действиями Конгресса расового равенства, спровоцировавшего беспорядки в то время, когда он пытался сосредоточиться на предстоящих переговорах с Хрущёвым в Вене. «Разве вы не можете убедить своих друзей покинуть эти чертовы автобусы?» — умолял он Харриса Уоффорда, своего советника по гражданским правам. «Остановите их», — просил он. Он и Бобби также всячески старались предотвратить поход Мартина Лютера Кинга на Вашингтон. Когда это им не удалось, они пошли на тесное сотрудничество с лидерами движения за гражданские права, чтобы переформулировать идеи, высказанные на знаменитом митинге, в интересах администрации. Законопроект, впоследствии ставший Законом о гражданских правах 1964 года, безнадежно увяз в Конгрессе, когда Кеннеди был убит, и маловероятно, что он стал бы настаивать на его принятии во время избирательной кампании при выдвижении на второй срок.
(обратно)359
Жаклин Кеннеди и колумнист журнала Life Теодор Уайт способствовали тому, чтобы годы президентства Джона Кеннеди вошли в историю как «американский Камелот» (аллюзия на одноименный мюзикл и волшебную жизнь времен короля Артура).
(обратно)360
Наименование «Камелот» держится на нескольких довольно хрупких крючках. Джеки Кеннеди вспоминала, что ее муж любил саундтрек к популярному бродвейскому мюзиклу «Камелот», премьера которого состоялась через месяц после избрания Кеннеди. Теодор Уайт, биограф Кеннеди, убедил редакцию журнала Life реализовать эту идею. Ключевая фраза мюзикла «На этот короткий яркий момент» в одночасье стала клише для описания программы Кеннеди «тысяча дней», название которой само по себе являлось искусной игрой слов, призванной сделать так, чтобы момент президентства Кеннеди казался еще более ценным и мимолетным (см. также: Reston J. What Was Killed Was Not Only the President but the Promise // New York Times Magazine. 1964. Nov. 15. P. SM24).
(обратно)361
РТ-109 — торпедный катер, которым командовал Кеннеди. — Примеч. перев.
(обратно)362
Бытует мнение, что такой персонаж, как Супермен, обязан своим появлением учению Ницше о Übermensch, что можно перевести как «сверхчеловек» или «супермен». Но при этом следует отметить, что этот герой на самом деле был противоположностью ницшеанской идеи и соответствующей нацистской концепции. Сверхчеловек Ницше не несет никаких обязательств по отношению к общепринятым морали и законам, потому что он выше подобных мелких вопросов. Герой комиксов Супермен руководствуется такими идеями в большей степени, чем обычные люди. Этому персонажу присуще некоторое националистическое тщеславие вследствие того, что он является порождением Америки и впитал все положительные черты американского характера. Но оно в большей степени проявилось в добром или добродетельном патриотизме, чем в чем-либо другом.
В конце выпуска, посвященного физической культуре, Супермен и Супердевушка, возглавляют шествие американцев, которые размахивают флагами и держат в руках плакаты, поддерживающие президента. Один из участников демонстрации несет плакат с надписью «СОБЛЮДАЙТЕ ПРЕЗИДЕНТСКУЮ ПРОГРАММУ ПО РАЗВИТИЮ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, И ТОГДА АМЕРИКАНЦЫ-“СЛАБАКИ” СТАНУТ СИЛЬНЫМИ АМЕРИКАНЦАМИ!» Этот комикс должен был выйти в начале 1964 года, но убийство президента отсрочило его публикацию. В конце концов Линдон Джонсон попросил компанию DC Comics опубликовать этот выпуск как дань памяти. Даже после смерти Кеннеди упоминания о нем не исчезли. В одном из комиксов Джимми Олсен совершает путешествие в будущее и находит злобных пришельцев, которые единственные из всех людей не почтили минутой молчания память убитого президента. Картинки из этого комикса и комментарии можно найти по адресу. / (доступ к ресурсу осуществлялся 10 июля 2007 года).
(обратно)363
«Выборы покажут, — писал Мейлер, — к чему стремится Америка: к драме или к стабильности, к приключениям или к монотонности». Мейлер надеялся, что американцы выберут Кеннеди «за его тайну, за его обещания, что страна будет или развиваться, или распадется вследствие непреднамеренного заряда энергии, которым он многократно усилил этот миф (Mailer N. Superman Comes to the Supermarket // Esquire. 1960. Nov. in Pols: Great Writers on American Politicians from Bryan to Reagan / Ed. J. Beatty. N. Y.: Public Affairs, 2004. P. 292).
(обратно)364
Parmet H. The Kennedy Myth and American Politics // History Teacher 24. 1990. No. 1. Nov. P. 32, со ссылкой на: What JFK Meant to Us // Newsweek. 1983. Nov. 28. P. 72; Goldberg J. ‘Isolationism!’ They Cried // National Review. 2006. April, 10. P. 35; McConnaughey A. America First: Attitude Emerged Before World War II // Washington Times. 1991. Dec. 12. P. A3.
(обратно)365
Menand L. Ask Not, Tell Not: Anatomy of an Inaugural // New Yorker. 2004. Nov. 8. P. 110.
(обратно)366
Jeffries J. The ‘Quest for National Purpose’ of 1960 // American Quarterly 30. 1978. No. 4. Autumn. P. 451, со ссылкой на: Jessup J. et al. The National Purpose. N. Y: Holt, Rinehart and Winston, 1960. P. V. В прошлом году журнал Newsweek писал об обеспокоенности «вдумчивых людей» тем, что Америка утратила свои «смелость и воображение, чувство долга и преданность делу». Главным среди этих людей был Уолтер Липпман, либеральный политик старшего поколения, который возглавил в 1917 году движение в поддержку войны в надежде на то, что она приведет к «переоценке ценностей». Липпман надеялся, что американцы снова объединятся во имя общей цели на сей раз в ответ на вызов Советского Союза (Jeffries J. W. ‘Quest for National Purpose’ of 1960. P. 454, со ссылкой на: An Unwitting Paul Revere? // Newsweek. 1959. Sept. Pp. 33-34).
(обратно)367
Stevenson A. National Purpose: Stevenson’s View // New York Times. 1960. May, 26. P. 30; Darlington C. Not the Goal, Only the Means. New York Times. 1960. July, 3. P. 25; Darlington C. Letter // New York Times. 1960. May, 27. P. 30.
(обратно)368
Jeffries. ‘Quest for National Purpose’ of 1960. P. 462, со ссылкой на: Attwood W. How America Feels as We Enter the Soaring Sixties // Look. 1960. Jan., 5. Pp. 11-15; Leebaert. Fifty-Year Wound. P. 261.
(обратно)369
Buckley W. Mr. Goodwin’s Great Society // National Review. 1965. Sep. 7. P. 760.
(обратно)370
Wills G. The Kennedy Imprisonment: A Meditation on Power. Boston: Houghton Miffiin, 2002. Pp. 170, 171; Schoenbaum D. Hitler’s Social Revolution: Class and Status in Nazi Germany, 1933-1939. N. Y: Norton, 1980. P. XV n. 4.
(обратно)371
Leebaert. Fifty-Year Wound. P. 263; Wills. Kennedy Imprisonment. P. 171.
(обратно)372
Речь идет о действиях при атомном взрыве. — Примеч. перев.
(обратно)373
Экономика предложения — экономическая теория, согласно которой для борьбы с инфляцией необходимо расширить предложение товаров, а для стимулирования их производства увеличить капиталовложения и снизить налоги.
(обратно)374
Кейнсианство — экономическое учение о необходимости и значимости государственного регулирования экономики посредством широкого использования государством фискальной, денежно-кредитной политики и других активных мер воздействия на рыночный механизм.
(обратно)375
Brands H. W. The Strange Death of American Liberalism. New Haven, Conn.: Yale University Press, 2001. P. 87-88.
(обратно)376
Lasch C. Haven in a Heartless World: The Family Besieged. N. Y: Norton, 1995. P. 218 n. 55, со ссылкой на: Eakins D. Policy Planning for the Establishment // A New History of Leviathan / Eds. R. Radosh and M. Rothbard. N. Y.: Dutton, 1972. P. 198.
(обратно)377
Reston J. A Portion of Guilt for All // New York Times. 1963. Nov. 2; Wicker T. Johnson Bids Congress Enact Civil Rights Bill with Speed; Asks End of Hate and Violence // New York Times. 1963. Nov. 28.
(обратно)378
When JFK’s Ideals Are Realized, Expiation of Death Begins, Bishop Says И Washington Post. 1963. Dec. 9. P. B7.
(обратно)379
Bellah R. Civil Religion in America // Daedalus 96. 1967. Winter. No. 1. P. 1-21; Sulzberger C. L. A New Frontier and an Old Dream // New York Times. 1961. Jan. 23. P.22.
(обратно)380
Kauffman B. The Bellamy Boys Pledge Allegiance // American Enterprise 13. 2002. Oct.-Nov. No. 7. P. 50.
(обратно)381
Bellamy E. Looking Backward, 2000-1887. N. Y: New American Library, 1960. P. 111.
(обратно)382
Gilman N. ‘Nationalism in the United States // Quarterly Journal of Economics. 1989. Oct. 4. No. 1. Pp. 50-76; Bellamy. Looking Backward. P.143.
(обратно)383
История клятвы верности и ее национал-социалистических корней представляет большой интерес. Рекс Карри, страстный борец за свободу, досконально изучил этот вопрос (см.: rcxcurry.net/pledgesalutc.html).
(обратно)384
Петр Амьенский, Пустынник (ок. 1050 г.) — французский монах, один из организаторов первого крестового похода.
(обратно)385
Hail New Party in Fervent Song // New York Times. 1912. Aug., 6. P. 1.
(обратно)386
Beveridge S., Senator. Congressional Record, Senate. 1900. Jan. 9. P. 704711 (цит. no: The Philippines Reader: A History of Colonialism, Neocolonialism, Dictatorship, and Resistance / Eds. D. Schirmer, S. R. Shalom. Boston: South End Press, 1987. P. 23.
(обратно)387
Rauschenbusch W. Christianizing the Social Order. N. Y: Macmillan, 1912. P. 330. Социально-евангельский журнал Dawn, основанный в 1890 году, был призван «показать, что достижение социализма является одной из целей христианства, и донести до прихожан христианских церквей, что учение Иисуса Христа непосредственно ведет к той или иной форме или формам социализма» (McLoughlin W. Revivals, Awakenings, and Reform: An Essay on Religion and Social Change in America, 1607-1977. Chicago: University of Chicago Press, 1980. P. 175.
(обратно)388
Hopkins C. The Rise of the Social Gospel in American Protestantism, 1865— 1915. New Haven, Conn.: Yale University Press, 1940. P. 253.
(обратно)389
Bovard J. Freedom in Chains: The Rise of the State and the Demise of the Citizen. N. Y: St. Martin’s, 2000. P. 4 (цит. no: Hegel G. W. F. The Philosophy of Historyio. N. Y: Collier & Son, 1902. P. 87).
(обратно)390
Постмиллениалисты считают, что миллениум предшествует второму пришествию Христа.
(обратно)391
Rothbard M., Richard T. Ely: Paladin of the Welfare-Warfare State // Independent Review 6. 2002. Spring. No. 4 P. 586, со ссылкой на: Fine S. Laissez Faire and the General-Welfare State: A Study of Conflict in American Thought, 1865— 1901. Ann Arbor: University of Michigan Press, 1956. Pp. 180-181; Commons J. The Christian Minister and Sociology (1892) // John R. Commons: Selected Essays / Eds. M. Rutherford, W. J. Samuels. N. Y: Routledge. 1996. P. 20; Eisenach E. The Lost Promise of Progressivism. Lawrence: University Press of Kansas. 1994. No. 21. P. 60.
(обратно)392
Lukács J. Remembered Past: John Lukács on History, Historians, and Historical Knowledge. Wilmington, Del.: ISI Books, 2005. P. 305.
(обратно)393
Wilson W. Force to the Utmost // The Messages and Papers of Woodrow Wilson / Ed. A. Shaw. N. Y: Review of Reviews Corporation, 1924. Vol. 1. P. 484; Wilson W. Address to Confederate Veterans. Washington, D.C., 1917. June, 5; там же. P. 410; Schaffer R. America in the Great War: The Rise of the War Welfare State. N. Y: Oxford University Press, 1991. P. 10 (речь на мероприятии, посвященном объявлению «третьего займа свободы», произнесенная в учебном центре пятого полка Национальной гвардии США в городе Балтимор 6 апреля 1918 года).
(обратно)394
Bosworth R. J. В. Mussolini’s Italy: Life Under the Fascist Dictatorship, 1915-1945. N. Y: Penguin, 2006. P. 97.
(обратно)395
Одно из объявлений в газете того времени позволяет понять, насколько далеко правительство вторглось в частную жизнь.
«Вот ваш рацион на следующие четыре недели, который необходимо неуклонно соблюдать», — требует Ф. К. Финдли, окружной продовольственный комиссар:
Понедельник. Каждый прием пищи без пшеницы.
Вторник. Каждый прием пищи без мяса.
Среда. Каждый прием пищи без пшеницы.
Четверг. Завтрак без мяса; ужин без пшеницы.
Пятница. Завтрак без мяса; ужин без пшеницы.
Суббота. Каждый прием пищи без свинины, завтрак без мяса. Воскресенье. Завтрак без мяса; ужин без пшеницы.
Потребление сахара следует ограничить. Не кладите сахар в кофе, если это не является давней привычкой, а если кладете, то не более одной ложки» (Higgs R. Crisis and Leviathan: Critical Episodes in the Growth of American Government. N. Y.: Oxford University Press, 1987. P. 137).
(обратно)396
Dewey J. Liberalism and Social Action. Amherst, N. Y.: Prometheus Books, 2000. P. 30 (см. также: ViskovatoffA. ADeweyan Economic Methodology //Dewey. Pragmatism, and Economic Methodology / Ed. E. L. Khalil. N. Y: Routledge, 2004. P. 293; Michel V Liberalism Yesterday and Tomorrow // Ethics 49. 1939. July. No. 4. Pp. 417-434; Goldberg J. The New-Time Religion: Liberalism and Its Problems // National Review. 2005. May, 23.
(обратно)397
Feuer L. American Travelers to the Soviet Union, 1917-1932: The Formation of a Component of New Deal Ideology // American Quarterly 14. 1962. Summer. No. 2. Pt. 1. Pp. 122, 126.
(обратно)398
Leuchtenburg. The FDR Years. P. 284. А. Дж. П. Тэйлор сделал аналогичное замечание о взаимодействии граждан с федеральным правительством:
«До августа 1914 года разумный, законопослушный англичанин мог идти по жизни, почти не замечая существования государства за исключением почты и полиции... Он мог выехать за границу или покинуть страну навсегда без паспорта или какого-либо официального разрешения. Он мог обменивать деньги без всяких ограничений. Он мог купить товары в любой стране мира на тех же условиях, которые действовали при покупке товаров на родине. Кроме того, иностранец мог провести свою жизнь в этой стране без разрешения и без информирования полиции... Все это изменилось вследствие Первой мировой войны... Государство установило контроль над своими гражданами, который, хотя и ослабевал в мирное время, совсем не исчезал и после Второй мировой войны снова усилился. История английского народа и английского государства впервые объединились» (Taylor A. J. Р. English History, 1914-1945. N. Y.: Oxford University Press, 1965. P. 1).
(обратно)399
Нэнси Патрисия Д’Алесандро Пелоси (Nancy Patricia D ’Alesandro Pelosi, p. 1940) — американский политик-демократ, депутат и спикер Палаты представителей Конгресса США.
(обратно)400
Цит. по: Tenor S. A New Deal for Roosevelt // Claremont Review of Books, 2006. Winter.
(обратно)401
Arnold T. The Folklore of Capitalism. New Haven, Conn.: Yale University Press, 1937. P. 389.
(обратно)402
Leuchtenburg. FDR Years. P. 20.
(обратно)403
Winchell W. Americans We Can Do Without // Liberty. 1942. Aug., 1. 1942. P. 10.
(обратно)404
Закон Смита — Закон о регистрации иностранцев. Принят Конгрессом США 28 июня 1940 г. Назван по имени его автора, члена Палаты представителей Г. Смита.
(обратно)405
См.: Tanenhaus S. Whittaker Chambers: A Biography. N. Y: Random House. 1997. Pp.179, 561.
(обратно)406
McClosky H. Conservatism and Personality // American Political Science Review 52. 1958. March. No. 1. P. 35; Trilling L. The Liberal Imagination: Essays on Literature and Society. N. Y. : Viking. 1950. P. IX.
(обратно)407
Brown D. Richard Hofstadter: An Intellectual Biography. Chicago: University of Chicago Press. 2006. P. 90; Blake C., Phelps C. History as Social Criticism: Conversations with Christopher Lasch // Journal of American History 80. 1994. March. No. 4. Pp. 1310-1332.
(обратно)408
Пауль Тиллих (Paul Johannes Tillich, 1886-1965) — немецко-американский теолог, философ-экзистенциалист.
(обратно)409
Brecht B. The Solution//Poems, 1913-1956/Ed. J. Willett and R. Manheim. N. Y.: Routledge, 1987. P. 440.
(обратно)410
Dallek R. Lyndon B. Johnson: Portrait of a President. N. Y: Oxford University Press, 2004. P. 29; Schwarz J. The New Dealers: Power Politics in the Age of Roosevelt. N. Y: Vintage, 1994. P. 276.
(обратно)411
Schwarz. The New Dealers. P. 267.
(обратно)412
Хайаниспорт — курортный городок в Массачусетсе, где находилось поместье семьи Кеннеди.
(обратно)413
Johnson. L. Commencement Address — the Great Society,” University of Michigan // Ann Arbor. 1964. May, 22 // Public Papers of the Presidents of the United States, Lyndon B. Johnson, 1963-1964. Washington, D.C.: Government Printing Office. 1965. Ph. 704-707; America in the Sixties — Right, Left, and Center: A Documentary History / Ed. P. B. Levy. Westport, Conn.: Praeger, 1998. Pp. 106-107 (см. также: Hayward. Age of Reagan. P. 21).
(обратно)414
Johnson. Commencement Address — the Great Society. P. 108.
(обратно)415
Mohr C. Johnson, in South, Decries ‘Radical’ Goldwater Ideas. New York Times. 1964. Oct., 27; Phillips C. Johnson Decries Terrorist Foes of Negro Rights // New York Times. 1964. July, 19; Transcript of President’s News Conference on Foreign and Domestic Affairs // New York Times. 1964. July, 19.
(обратно)416
Mohr C. Johnson Exhorts Voters to Reject Demagogic Pleas // New York Times. 1964. Sept., 23; Advertisement // New York Times. 1964. Sept., 12. P. 26; Barney R., Merrill J., eds. Ethics and the Press: Readings in Mass Media Morality. N. Y.: Hastings House. 1975. P. 229 (см. также: Shafer J. The Varieties of Media Bias. 2003. Feb., 5. Part 1; /, доступ к ресурсу осуществлялся 19 марта 2007 года; Goldberg J. Hold the Self-Congratulation // National Review. 2005. Oct., 24; LordJ. From God to Godless: The Real Liberal Terror//American Spectator. 2006. June, 12; (, доступ к ресурсу осуществлялся 16 января 2007 года).
(обратно)417
Тем не менее в этой работе Дьюи называл существующее общество «Великим обществом». Он надеялся, что государство может превратить «Великое общество» в то, что он называл «Великим сообществом». Однако Великое сообщество Дьюи гораздо больше походит на то, что Джонсон имел в виду под своим «Великим обществом».
(обратно)418
Semple Jr. R. Nation Seeks Way to Better Society // New York Times. 1965. July, 25.
(обратно)419
Dewey. Liberalism and Social Actionpp. Pp. 15, 76. Возникновение движения «Война с бедностью» тоже было предсказуемым. Подобно тому, как при внедрении «Нового курса» в массы использовался язык войны, при осуществлении «Войны с бедностью» была предпринята очередная попытка прогрессивистов реализовать «моральный эквивалент войны». Более того, большая часть программ «Великого общества» представляла собой всего лишь значительно расширенные версии программ «Нового курса», таких как помощь семьям с детьми-иждивенцами, которая начиналась со страхования вдов шахтеров. Идея проведения этих программ родилась из желания воссоздать «успехи» военного социализма Вильсона (см. также: Глава о Джоне Дью, написанная Робертом Хорвицем // The History of Political Philosophy / Eds. L. Strauss, J. Cropsey. Chicago, 111.: University of Chicago Press, 1987.
(обратно)420
McLoughlin. Revivals, Awakenings, and Reform. P. 207.
(обратно)421
Judis J. The Spirit of ‘68: What Really Caused the Sixties // New Republic. 1998. Aug., 31.
(обратно)422
«The Long March Through the Institutions [of Power]» — фраза, приписываемая Антонио Грамши, которая, по версии Ли Конгдона, означает «захват кинотеатров, театров, школ, университетов, семинарий, газет, журналов, радио, телевидения и судов». (Culture War // Virginia Viewpoint. 2005. No. 5. ). — Примеч. перев.
(обратно)423
Издание «Мистика женственности» является отличным примером того, насколько сильно холокост исказил мышление либералов. Будучи коммунистическим журналистом и активистом с давних пор, в «Мистике женственности» Фридан позиционировала себя как обычная домохозяйка, не имеющая представления о политике. В несколько пугающей и пространной метафоре она утверждала, что хозяйки стали жертвами угнетения по нацистскому образцу. «Женщины, которые привыкают быть домохозяйками, — писала она, — которые с детства желают быть “просто домохозяйками”, находятся в такой же опасности, как и миллионы людей, которые шли к своей смерти в концентрационных лагерях». «Дом, — заявляла Фридан явно под влиянием идей Хоркхаймера, — представляет собой удобный концентрационный лагерь». Такое сравнение достаточно гротескно с интеллектуальной и моральной точек зрения, и поэтому не нуждается в дальнейшем обсуждении.
(обратно)424
Это привело к другому направлению «великого пробуждения»: борьбе с религиозной ортодоксальностью консерваторов-христиан и других людей, которые отвергали политизацию своей веры.
(обратно)425
Для многих наркотики стали новым причастием. После стремительного восхождения «новых левых» Том Хейден ушел в подполье к «смелым представителям контркультуры, принимавшим психоделические вещества», полагая, что наркотики будут способствовать «углублению самосознания» и помогут ему найти духовный смысл и истину. Даже самые ярые сторонники наркотической культуры выступали в защиту наркотиков в явно религиозном ключе. Самопровозглашенные гуру вроде Тимоти Лири, преподавателя Гарвардского университета, который стал «духовным пастырем», раздавая таблетки кислоты вместо лепешек для причащения, без умолку говорили о том, что наркотики приводят к «религиозному опыту». Уильям Брейден, репортер газеты Chicago Sun Times, написал книгу «Частное море: ЛСД и поиски Бога» (The Private Sea: LSD and the Search for God), которая стала одной из множества подобных книг и трактатов, создававшихся с целью обогатить распространявшуюся контркультуру так называемым новым богословием.
(обратно)426
Braden W. The Seduction of the Spirit // Washington Post. 1973. Sept., 9. Pp. BW1, BW13.
(обратно)427
Преподобный Мартин Марти, академический богослов и редактор журнала The Christian Century, заявлял в каждом из целой серии своих выступлений в 1965 году, что радикалы являются «моральными агентами», и называл таких писателей, как Джеймс Болдуин, «харизматическими пророками». Мартин высказал эти соображения во время выступления в Колумбийском университете. Один из радикально настроенных студентов не согласился с ним: «То, что вы говорите, не имеет смысла, так как “Великое общество” является аморальным и испорченным по своей сути». Мартин ответил, что такие комментарии характерны для тех, кто хочет быть «нравственно чистым», а не политически адекватным. Другими словами, нравственная чистота относилась к радикальной части политического спектра (Radicals Called ‘Moral Agents’ // New York Times. 1965. July, 26. P. 19).
(обратно)428
Этот знаменитый отрывок взят из доклада о положении в США, с которым Франклин Делано Рузвельт выступил в 1935 году: «Уроки истории, подтвержденные доказательствами, которые лежат сейчас передо мной, убедительно показывают, что постоянная зависимость от пособий порождает духовный распад, который губителен для национального характера. Получение пособий таким образом тождественно назначению наркотика, который незаметно разрушает человеческий дух. Это противоречит принципам разумной политики. Это является нарушением традиций Америки. Трудоспособных, но бедных трудящихся необходимо обеспечить работой».
(обратно)429
Hayward. Age of Reaganp. P. 20, со ссылкой на: T. R. В. from Washington // New Republic. 1964. March, 14. P. 3 и на: Davies G. From Opportunity to Entitlement: The Transformation and Decline of Great Society Liberalism. Lawrence: University Press of Kansas, 1996. P. 48.
(обратно)430
Kaus M. The End of Equality. N. Y.: Basic Books, 1995.
(обратно)431
Hayward. Age of Reagan. P. 124. Рост численности граждан мужского пола в период всплеска рождаемости отчасти обусловил и рост преступности, но ее главной причиной, безусловно, был культурный, правовой и политический климат. В 1960-е годы политики и политологи считали, что преступность порождалась самой «системой», и практически все правовые реформы того времени предоставляли преступникам больше прав и затрудняли работу полиции. Многие представители культуры и интеллигенции заявляли, что преступность — особенно черная преступность — является оправданным с точки зрения морали политическим «протестом».
(обратно)432
Там же. P. 26, со ссылкой на: Epstein R. Forbidden Grounds: The Case Against Employment Discrimination Laws. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1992. Pp. 186-188; Kemble R., Muravchik J. The New Politics & the Democrats // Commentary. 1972. Dec. Pp. 78-84. Макговерн позже шутил, что его правила открыли двери для Демократической партии, и «20 миллионов человек вышли».
(обратно)433
Hayward. Age of Reagan. Pp. 90-92.
(обратно)434
Text of the Moynihan Memorandum on the Status of Negroes // New York Times. 1970. March, 1 (см. также: Kihss P. ‘Benign Neglect’ on Race Is Proposed by Moynihan // New York Times. 1970. March, 1. P. 1).
(обратно)435
Parmet. Kennedy Myth and American Politics. P. 35, со ссылкой на: Rothenberg R. The Neoliberal Club // Esquire. 1982. Feb. P. 42.
(обратно)436
Brinkley D. Farewell to a Friend // New York Times. 1999. July, 19. P. A17; Reliable Sources // CNN. 1999. July, 24; см. также: Cuprisin T. Few Shows, Cost Blurring Appeal of Digital TV // Milwaukee Journal Sentinel. 1999. July, 27. P. 8.
(обратно)437
Здесь имеется в виду «апелляция к Адольфу Гитлеру или к нацистам» (Reductio ad Hilterum / Nazium) — логическая уловка, когда нечто объявляется плохим потому, что имеет отношение к Гитлеру или нацистам. — Примеч. перев.
(обратно)438
Parente М. Rangel Ties GOP Agenda to Hitler // Newsday. 1995. Feb., 19. P. A38; Bond цит. по: Washington Whispers // U.S. News & World Report. 2003. July, 28. P. 12; Morano M. Harry Belafonte Calls Black Republicans ‘Tyrants // Cybercast News Service. 2005. Aug., 8; Dunleavy S. There’s Nothing Fascist About a Final Verdict // New York Post. 2000. Dec., 13. P. 6.
(обратно)439
Джим Кроу — персонаж скетча драматурга и актера Томаса Райса, оголтелый расист, его имя стало нарицательным оскорбительным названием негров в США. — Примеч. перев.
(обратно)440
И в той мере, насколько эти различные темные страницы либерализма когда-либо упоминаются, они упоминаются даже крайне левыми критиками самой Америки. В результате оказывается, что всякий раз, когда консерваторы предположительно творят зло, причиной этого является консерватизм. Всякий раз, когда либералы предположительно творят зло, это является следствием либо недостаточно строгого следования принципам либерализма, либо несовершенства самой Америки. Одним словом, либерализм никогда не виноват, а консерваторы виновны всегда.
(обратно)441
Reed Jr. A. Intellectual Brownshirts // Progressive. 1994. Dec.
(обратно)442
Nuland S. The Death of Hippocrates //New Republic. 2004. Sept., 13. P. 31.
(обратно)443
Wolfe A. Hidden Injuries //New Republic. 1997. July, 7.
(обратно)444
Бывший советник Тедди Рузвельта, экстремист даже по меркам многих евгенистов Грант писал: «Ошибочное следование считающимся Божественными законам и сентиментальная вера в святость человеческой жизни обычно препятствуют как ликвидации дефективных младенцев, так и стерилизации таких взрослых, которые сами по себе не представляют ценности для общества. Законы природы требуют уничтожения непригодных, а человеческая жизнь ценна только тогда, когда она приносит пользу обществу или расе» (цит. по: Weikart R. From Darwin to Hitler: Evolutionary Ethics, Eugenics, and Racism in Germany. N. Y.: Palgrave Macmillan, 2004. P. 10; Medical Killing and the Psychology of Genocide. N. Y: Basic Books, 2000. P. 24; Black E. War Against the Weak: Eugenics and America’s Campaign to Create a Master Race. N. Y: Four Walls Eight Windows, 2003. P. 291).
(обратно)445
Black. War Against the Weak. P. XVIII.
(обратно)446
Murray C. Deeper into the Brain // National Review. 2004. Jan., 24. P. 49; Leonard T. ‘More Merciful and Not Less Effective: Eugenics and American Economics in the Progressive Era // History of Political Economy 35. 2003. Winter. No. 4. P. 707.
(обратно)447
Paul D. Eugenics and the Left // Journal of the History of Ideas 45. 1984. No. 4. Oct.-Dec. P. 586 n. 56, со ссылкой на: Wells H. Sociological Papers. London, 1905. P. 60; Hyde W. The Socialism of H. G. Wells in the Early Twentieth Century // Journal of the History of Ideas 17. 1956. April. No. 2. P. 220; Wells H. The New Machiavelli. N. Y: Duffield, 1910. P. 379. В «Современной утопии» (1905) Уэллс пишет:
«Государство ставит вас в известность, что прежде чем вы получите право пополнить общество детьми, которых оно будет обучать и в некоторой степени поддерживать, вы должны находиться выше определенного минимума личной эффективности... и определенного минимума физического развития, а также не болеть заразными болезнями... В том случае, если, не соответствуя этим простым требованиям, вы и еще кто-либо вступите в сговор [обратите внимание на использование термина из уголовного права «сговор»] и пополните население государства, то мы из гуманистических соображений возьмем на себя заботу о невинной жертве ваших страстей, но при этом мы будем настаивать на том, что вы находитесь в особом долгу у государства, и деньги в счет этого долга вы будете выплачивать в любом случае, даже если для получения оплаты от вас придется прибегнуть к принуждению» (Wells Н. A Modern Utopia. London, 1905. Pp. 183-184, цит. no: Freeden М. Eugenics and Progressive Thought: A Study in Ideological Affinity // Historical Journal 22. 1979. Sept. No. 3. P. 656).
(обратно)448
Shaw B. Man and Superman: A Comedy and a Philosophy. Cambridge, Mass.: University Press, 1903. P. 43; Paid. Eugenics and the Left. P. 568, со ссылкой на: Shaw В. Sociological Papers. London, 1905. Pp. 74-75; Shaw B. Man and Superman. Pp. 45, 43; Shaw G. B., preface to Major Barbara. N. Y.: Penguin, 1917. P. 47.
(обратно)449
Freeden. Eugenics and Progressive Thought. P. 671 ; Nottingham C. The Pursuit of Serenity: Havelock Ellis and the New Politics. Amsterdam: Amsterdam University Press, 1999. Pp. 185, 213; Paul. Eugenics and the Left. P. 567, со ссылкой на: Haldane J. B. S. Darwin on Slavery. Daily Worker. London. 1949. Nov., 14.
(обратно)450
Paul. Eugenics and the Left. Pp. 568, 573.
(обратно)451
Четверть статей, опубликованных в этом журнале за первый год его существования, были присланы жителями Британских островов (Rodgers D. Atlantic Crossings: Social Politics in a Progressive Age. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1998. P. 276).
(обратно)452
Другие подобные публикации: Rogat Y. Mr. Justice Holmes: A Dissenting Opinion // Stanford Law Review 15. 1962. Dec. No. 1. Pp. 3-44.
(обратно)453
Leuchtenburg W. The Supreme Court Reborn: The Constitutional Revolution in the Age of Roosevelt. N. Y.: Oxford University Press, 1995. P. 19.
(обратно)454
«Бак против Белла» — дело, рассмотренное в Верховном суде США в 1927 г., решение по которому подтвердило законность статута о принудительной стерилизации «неполноценных» людей с целью «защиты и здоровья нации».
(обратно)455
Cynkar R. Buck v. Bell: ‘Felt Necessities’ v. Fundamental Values? // Columbia Law Review 81. 1981. Nov. No. 7. P. 1451.
(обратно)456
В 1911 году Вильсон попросил Эдвина Катцена-Эленбогена, ведущего американского евгениста и специалиста по эпилепсии, подготовить соответствующий законопроект. История польского католика еврейского происхождения с американским гражданством Катцена-Эленбогена слишком длинна, чтобы приводить ее здесь. Но стоит отметить, что этот исключительно злой человек позже стал врачом СС во Франции и затем надзирателем, который работал с «мясниками» из Бухенвальда. Он лично убил тысячи людей (часто во имя евгенических теорий, которые он разрабатывал в американских психиатрических больницах) и замучил неизмеримо больше. «Наука», которую он освоил в Америке, оказалась очень востребованной в СС. Вследствие роковой судебной ошибки он избежал казни в Нюрнберге (см.: Black Е. Buchenwald’s American-Trained Nazi // Jerusalem Report. 2003. Sept., 22).
(обратно)457
Croly H. The Promise of American Life. N. Y.: Macmillan, 1911. Pp. 345, 191.
(обратно)458
Hise C., van. The Conservation of Natural Resources in the United States. N. Y.: Macmillan, 1910. P. 378.
(обратно)459
Gordon S. The History and Philosophy of Social Science. N. Y: Routledge, 1993. P. 521; Kevles D. In the Name of Eugenics: Genetics and the Uses of Human Heredity. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1986. P. 68.
(обратно)460
Судья Батлер не изложил своего мнения письменно, но есть два (не противоречащих друг другу) возможных объяснения его несогласия с принятым решением. Во-первых, Батлер был социальным дарвинистом, он не считал, что государство должно «вмешиваться, вмешиваться, вмешиваться», как говорил Сидни Уэбб. Во-вторых, из всех членов Верховного суда в то время он был единственным католиком, а церковь в своих учениях решительно выступала против всего, что хоть отдаленно напоминало евгенику.
(обратно)461
Эдвард Пирс, пишущий статьи для британской The Guardian, называет Спенсера «исключительно злым человеком... чья страсть к евгенике и ликвидации сделала его мечтателем о грядущем» (Pearce Е. Nietzsche Is Radically Unsound // The Guardian. 1992. July, 8. P. 20. Эдвин Блэк, автор книги «Война против слабых» (War Against the Weak), утверждает, что евгеника возникла на основе идей Спенсера и что Спенсер «полностью осуждал благотворительность» в «Социальной статике» (Social Statics). Блэк явно не читал эту книгу; ни одно из его заявлений не соответствует истине (см.: Long R. Herbert Spencer: The Defamation Continues. 2003. Aug., 28; (доступ к ресурсу осуществлялся 13 марта 2007 года).
(обратно)462
Проблема отчасти состоит в том, что Хофстедтер просто истолковал большую часть данной истории неправильно (даже левый историк Эрик Фонер вынужден был признать это в своем предисловии к изданию «Социального дарвинизма в американской мысли» 1992 года). Через 15 лет после публикации книги Хофстедтера Ирвин Уилли из Висконсинского университета доказал, что почти никто из промышленников «позолоченного века» не использовал в своей речи терминов дарвинизма и не уделял серьезного внимания увлечению Дарвином, характерному для интеллигенции. Даже фраза «социальный дарвинизм» была почти неизвестна в течение так называемой «эпохи баронов-разбойников». В вопиющем примере Хофстедтер ошибочно приписал утверждение о «выживании наиболее приспособленных» Джону Д. Рокфеллеру. На самом деле это импровизированное высказывание прозвучало в речи получившего высшее образование сына Рокфеллера Джона Д. Рокфеллера-младшего, которую он произнес в 1902 году в Университете Брауна. (Wyllie I. Social Darwinism and the Businessman // Proceedings of the American Philosophical Society., 1959. Oct., 15. P. 632, со ссылкой на: FosdickR. Rockefeller, Jr. APortrait. N. Y.: Harper, 1956. Pp. 130-131.)
(обратно)463
Прогрессивист Джейн Адцамс работала в тесном контакте с судьей из Чикаго Гарри Олсоном, основателем Американского евгенического общества и бывшего президента Ассоциации евгенических исследований. Олсон создал суды по делам несовершеннолетних в Америке и посвятил себя искоренению «более низких рас». Он высказывался за стерилизацию, когда это было необходимо, но самым предпочтительным вариантом для него являлось создание психиатрического лагеря, где неполноценные могли жить отдельно от полноценных людей. В 1916 году одна из редакционных статей New Republic (почти наверняка написанная Кроули) демонстрировала готовность прогрессивистов к компромиссу:
«Принцип невмешательства в области демографической политики ведет к погибели... То, что слабоумные порождают слабоумных, настолько же достоверно, как тот факт, что у белых кур рождаются белые цыплята, а при отсутствии вмешательства слабоумные получают все возможности для размножения и размножаются гораздо быстрее, чем полноценные люди... Можно предположить, что общественную демографическую политику нельзя создавать на основе экономической политики в духе невмешательства. Пока государство пренебрегает своей хорошей кровью, оно попустительствует своей плохой крови... Когда государство возьмет на себя обязанность предоставления равных возможностей развития для каждого ребенка, оно найдет единодушную поддержку, проводя политику ликвидации тех групп населения, которые неспособны извлечь пользу из своих привилегий» (New Republic. 1916. March, 18; курсив мой — Д. Г.).
(Перевод: «Следует обеспечить системе социальных гарантий максимально широкий охват, и все хорошие прогрессивисты согласятся, что тот, кто окажется за пределами данной системы, будет кандидатом на «ликвидацию».)
(обратно)464
English D. W. Е. В. DuBois’s Family Crisis //American Literature 72. 2000. June. No. 2. Pp. 297,293; Valenza C. Was Margaret Sanger a Racist? // Family Planning Perspectives 17. 1985. Jan.-Feb. No. 1. Pp. 44-46.
(обратно)465
Walker J. Hooded Progressivism // Reason. 2005. Dec., 2.
(обратно)466
Рексфорд Тугвелл, член «мозгового треста» Рузвельта, напротив, заявляет, что это словосочетание придумал его наставник Саймон Пэттен (Leonard. More Merciful and Not Less Effective. Pp. 693-94, 696 n. 13).
(обратно)467
Kennedy D. Can We Still Afford to Be a Nation of Immigrants? // Atlantic Monthly. 1996. Nov. Pp. 52-68.
(обратно)468
Спортивная метафора: stolen base — ситуация в бейсболе, когда бегун успевает добежать до следующей базы, пока питчер подает мяч в направлении «дома». — Примеч. перев.
(обратно)469
Ross E. Social Control: A Survey of the Foundations of Order. N. Y.: Macmillan, 1901. P. 418.
(обратно)470
Webb S. The Economic Theory of a Legal Minimum Wage // Journal of Political Economy 20. 1912. Dec. No. 10. P. 992 (цит. no: Leonard. More Merciful and Not Less Effective. P. 703).
(обратно)471
Ross E. Seventy Years of It. N. Y: Appleton-Century, 1936. P. 70 (цит. no: Leonard. More Merciful and Not Less Effective. P. 699; Meeker R. Review of Cours d’économie politique // Political Science Quarterly 25. 1910. No. 3. P. 544 (цит. no: Leonard. More Merciful and Not Less Effectivep. P. 703).
(обратно)472
Коммонс по праву является членом «плеяды выдающихся либералов». Яркое краткое описание его достижений можно найти в источнике: Barbash J. John R. Commons: Pioneer of Labor Economics // Monthly Labor Review 112. 1989. May. No. 5. Pp. 44-49, доступном по адресу: (доступ к ресурсу осуществлялся 16 марта 2007 года). Историк Иосиф Дорфман пишет: «Больше, чем любой другой экономист [Коммонс] способствовал преобразованию в государственную политику проектов реформ, направленных на исправление дефектов в сфере промышленности» (Dorfman J. The Economic Mind in America, 1918-1933. N. Y: Viking, 1959. Vols. 4-5. P. 377, цит. no: Barbash. John R. Commonsp. P. 44).
Бывший президент Американской экономической ассоциации Коммонс жаловался в своей книге «Расы и иммигранты в Америке» (Races and Immigrants in America), что «конкуренция не уважает высшие расы», и именно поэтому «раса с минимальными потребностями вытесняет другие». Таким образом, «еврейская потогонная система — это та цена, которую приходится платить этой амбициозной расе» (Commons J. Races and Immigrants in America. N. Y: Macmillan, 1907. Pp. 151, 148).
(обратно)473
«Неграм не нашлось бы места в американской промышленности, если бы они попытались вписаться в эту систему как свободные люди... Если такие расы и смогут принять образ жизни, основанный на усердном труде, который является привычным для рас умеренного пояса, то только посредством той или иной формы принуждения». (Leonard. More Merciful and Not Less Effective. P. 701).
(обратно)474
Закон Дэвиса-Бэкона, принятый в 1931 г., предписывал, чтобы все работники, занятые в федеральных строительных проектах стоимостью свыше 2000 долларов, получали зарплату по «преобладающему тарифу». В результате чернокожие рабочие, которые считались дешевой рабочей силой, остались за бортом строительного бума, развернувшегося в период «Нового курса».
(обратно)475
Fitter Family (англ.) — «Самая здоровая и развитая семья». — Примеч. перев.
(обратно)476
Rosen C. Preaching Eugenics: Religious Leaders and the American Eugenics Movement. N. Y: Oxford University Press, 2004. P. 47. Шведы, которые в течение долгого времени были образцом гуманной экономики в духе «третьего пути», приняли евгенические законы примерно в то же время, как и нацисты. Еще большее беспокойство вызывает то, что шведы продолжали эту практику до середины 1970-х годов. Более 60 тысяч шведов были принудительно стерилизованы. Справедливости ради следует отметить, что некоторым из них была предоставлена возможность находиться в заключении до окончания детородного периода, вместо того чтобы идти под нож. Среди тех, кто подвергся стерилизации, были дети родителей смешанных рас, шведы с «цыганскими чертами», матери-одиночки, у которых было «слишком много» детей, закоренелые преступники и даже мальчик, признанный «достигшим половой зрелости преждевременно». Датчане приняли аналогичные евгенические законы в 1929 году, еще до нацистов. Они стерилизовали 11 тысяч, и все их законы действовали до конца 1960-х годов. В Финляндии стерилизации подверглись 11 тысяч человек, а также были проведены четыре тысячи принудительных абортов с 1945 по 1970 год. Подобные откровения поступали из Норвегии, Франции, Бельгии и других частей просвещенной Европы. Годом ранее в канадской провинции Альберта имела место аналогичная полемика, когда выяснилось, что там были стерилизованы около трех тысяч человек по традиционным причинам. Некоторым говорили, что их госпитализируют для проведения аппендэктомии, но из больницы они выходили бесплодными. (Wooldridge A. Cleveland Plain Dealer. 1997. Sept., 15.)
(обратно)477
Burleigh M., Wippermann W. The Racial State: Germany, 1933-1945. N. Y.: Cambridge University Press, 1991. Pp. 34, 35.
(обратно)478
Как отмечают Майкл Берли и Вольфганг Уипперманн, после 1935 года нацистская «социальная политика была неотделима от «отбора чуждых» рас и рас с «меньшей расовой ценностью» (там же. Р. 48).
(обратно)479
Barry О. The Great Influenza: The Epic Story of the Deadliest Plague in History. N. Y.: Penguin, 2004. P. 144.
(обратно)480
Steele S. White Guilt: How Blacks and Whites Together Destroyed the Promise of the Civil Rights Era. N. Y: HarperCollins, 2006. P. 124.
(обратно)481
Sowell T. Civil Rights: Rhetoric or Reality? N. Y: William Morrow, 1984. P. 84.
(обратно)482
Dowd M. Could Thomas Be Right? // New York Times. 2003. June, 25. P. A25; Steele. White Guilt. P. 174.
(обратно)483
Tell D. Planned Un-parenthood: Roe v. Wade at Thirty // Weekly Standard. 2003. Jan., 27. Pp. 35-41; Feldt G. Behind Every Choice Is a Story. Denton: University of North Texas Press, 2002. Pp. XIX, XVI; Wattleton F. Humanist of the Year Acceptance Speech // Humanist. 1986. July-Aug.
(обратно)484
Sanger M. An Autobiography. N. Y: Norton. 1938. P. 70.
(обратно)485
Kevles D. Sex Without Fear // New York Times. 1992. June, 28.
(обратно)486
Valenza. Was Margaret Sanger a Racist? P. 45, со ссылкой на: Kennedy D. M. Birth Control in America: The Career of Margaret Sanger. New Haven, Conn.: Yale University Press, 1970. P. 115; H. Wells, предисловие к книге: Sanger M. The Pivot of Civilization. Amherst, N. Y.: Humanity Books, 2003. P. 42.
(обратно)487
Хотя Сэнгер позиционировала себя как сторонница эмансипации женщин, в основе ее философии лежала идея о том, что продолжение рода является общественным, я не частным делом. Согласно концепции Сэнгер, женщины должны были «освободиться» от репродуктивной тирании семьи, но для того, чтобы это произошло, женщинам предстояло подвергнуться новой тирании евгенического планирования. Мари Стоупс, британская Маргарет Сэнгер (т. е. основоположница британского движения за регулирование рождаемости), придерживалась сходных взглядов. «Утопию, — поясняла она, — можно было бы реализовать в течение моей жизни, если бы у меня было право издавать незыблемые указы» (цит. по: Campion М. Who’s Fit to Be a Parent? N. Y: Routledge, 1995. P. 131).
(обратно)488
Цит. no: Black. War Against the Weak. P. 133; также цит. no: Rosen. Preaching Eugenics. P. 216.
(обратно)489
Mosher S. The Repackaging of Margaret Sanger // Wall Street Journal. 1997. May, 5. P. A18.
(обратно)490
«Регулирование рождаемости — это не отрицательная философия, которая нацелена только на ограничение количества детей, появляющихся в этом мире, — пишет она. — Это не просто вопрос народонаселения. В первую очередь это средство освобождения и развития человека» (Sanger. Pivot of Civilization. P. 224).
(обратно)491
Valenza. Was Margaret Sanger a Racist? P. 45, со ссылкой на: Gordon L. Woman’s Body, Woman’s Right. N. Y.: Grossman, 1976. P. 332; Sanger M. to Gamble C. J. 1939. Dec., 10; цит. no: Valenza. Was Margaret Sanger a Racist? P. 46.
(обратно)492
McCarthy C. Jackson’s Reversal on Abortion // Washington Post. 1988. May, 21. P. A27.
(обратно)493
Levitt S., Dubner S. Freakonomics: A Rogue Economist Explores the Hidden Side of Everything. N. Y: HarperCollins, 2005. P. 139.
(обратно)494
Bennett B. Morning in America. 2005. Sept., 28; протокол см. по адресу: mediamatters.org/items/200509280006 (доступ к ресурсу осуществлялся 16 марта 2007 года); см. также: Faler В. Bennett Under Fire for Remark on Crime and Black Abortions // Washington Post. 2005. Sept., 30. P. A05; Herbert B. Impossible, Ridiculous, Repugnant // New York Times. 2005. Oct., 6. P. A37; The Big Story with John Gibson // Fox News Channel. 2005. Sept., 30; см. также: Goldberg J. ’Ridiculous’ // National Review Online. 2005. Oct., 7; Fox News Sunday // Fox News Channel. 2005. Oct., 2; Talk Back Live //' Washington Times. 2005. Oct., 5. P. A16.
(обратно)495
Ponnuru R. The Party of Death: The Democrats, the Media, the Courts, and the Disregard for Human Life. Washington, D.C.: Regnery, 2006. P. 65.
(обратно)496
«Роу против Уэйда» — дело 1973 г., по которому было вынесено историческое решение Верховного суда США о том, что женщина имеет право прервать беременность по собственному желанию до срока 28 недель.
(обратно)497
The Clinton RU-486 Files: The Clinton Administration’s Radical Drive to Force an Abortion Drug on America // Judicial Watch Special Report. 2006, доступные по адресу: -ru486report.pdf (доступ к ресурсу осуществлялся 16 марта 2007 года).
(обратно)498
Mosher S. The Repackaging of Margaret Sanger // Wall Street Journal. 1997. May, 5.
(обратно)499
Tell. Planned Un-parenthood. P. 40.
(обратно)500
Blunt S. Saving Black Babies // Christianity Today. 2003. Feb., 1.
(обратно)501
Singer P. Killing Babies Isn’t Always Wrong // Spectator. 1995. Sept., 16. Pp. 20-22.
(обратно)502
Линдон Джонсон изложил это в своей речи 1965 года, посвященной позитивной дискриминации. Он провозгласил: «Нельзя освободить человека, который в течение многих лет был отягощен цепями, довести его до стартовой линии, а затем сказать: “Ты свободен и можешь конкурировать со всеми остальными”, — и при этом искренне верить, что вы поступили справедливо». С точки зрения риторики это вполне соответствовало манере Вильсона в том плане, что он представлял весь народ в образе единого «обобщенного человека» (Johnson L. То Fulfill These Rights; выступление в Гарвардском университете на церемонии вручения дипломов 4 июня 1965 года. Полный текст см. по адресу: ; доступ к ресурсу осуществлялся 8 мая 2007 года).
(обратно)503
Maistre J. Considerations on France, перевод Richard A. Lebrun. N. Y.: Cambridge University Press, 1994. P. XXIII.
(обратно)504
Veith Jr. G. Modem Fascism: The Threat to the Judeo-Christian Worldview // St. Louis: Concordia. 1993. P. 134.
(обратно)505
Coulson A. Planning Ahead Is Considered Racist? // Seattle Post Intelligencer. 2006. June, 1; Harrell D. School District Pulls Web Site After Examples of Racism Spark Controversy // Seattle Post Intelligencer. 2006, June, 2. В ответ на протесты эта директива была отменена. Но можно быть уверенным, что взгляды, которые породили этот документ, не изменились (Delgado R. Rodrigo’s Seventh Chronicle: Race, Democracy, and the State // 41 UCLA Law Review 720, 734 (1994), цит. no: Färber D., Sherry S. Beyond All Reason: The Radical Assault on Truth in American Law. N. Y.: Oxford University Press, 1997. P. 29).
(обратно)506
Преподаватель права Лютер Райт-младший считает, что Америке следует принять более жесткие расовые классификации для всех своих граждан, а те, кто выдает себя за представителей других рас, должны подвергаться «штрафу и немедленно лишаться работы или пособия» (Wright Jr. L. Who’s Black, Who’s White, and Who Cares: Reconceptualizing the United States’s Definition of Race and Racia Classifications // Vanderbilt Law Review. 1995. March. R 513). Подобное явление характерно и для американских индейцев. Численность американских индейцев в Соединенных Штатах в течение последних двух десятилетий увеличилась необычайно, значительно превысив математически возможный показатель с учетом уровней их рождаемости и смертности. А так как коренные жители Америки по определению не могут иммигрировать в Америку, единственное возможное объяснение сводится к тому, что все больше людей считают выгодным называть себя индейцами благодаря нашей системе «дележа добычи».
(обратно)507
По-видимому, причиной инцидента стало фонетическое сходство слов niggardly («скупой») и nigger («негр»), — Примеч. перев.
(обратно)508
Woodlee Y. Williams Aide Resigns in Language Dispute // Washington Post. 1999. Jan., 27. P. Bl.
(обратно)509
Арианна Хаффингтон (Aricmna Huffington, р. 1950) — греко-американская писательница и журналистка.
(обратно)510
Кевин Филлипс, бывший помощник Ричарда Никсона, стал с увлечением выступать от лица «настоящего» консерватизма и «настоящей» Республиканской партии. На самом деле он представляет основанный на идеологии общественного вмешательства старый прогрессивизм, который некогда обозначал двухпартийный консенсус между демократами и республиканцами. Что касается обвинения, согласно которому дедушка Джорджа Буша сотрудничал с нацистами, выдвинутого в книге Филлипса «Американская династия» (American Dynasty), Петер Швейцер показывает, почему оно является такой вероломной клеветой:
«В одной из наиболее привлекающих внимание глав книги Филлипса утверждается, что семейство Бушей было причастно к приходу Адольфа Гитлера к власти. Хотя он верно отмечает, что Brown Brothers Harriman, инвестиционный банк, в котором работали Прескотт Буш и Джордж Уокер (прадед Джорджа Буша), вкладывал деньги в немецкие компании эпохи нацизма, Филлипс не упоминает о том, что эти инвестиции (и некоторые вложения в советские предприятия) были осуществлены Авереллом Гарриманом, который в последствии стал послом Рузвельта в Москве и министром торговли при Трумэне, до того как оба Буша стали сотрудниками этой фирмы. Прескотт Буш не контролировал эти инвестиции; реальность такова, что он занимался почти исключительно управлением внутренним инвестиционным портфелем. Иностранными инвестициями управлял по большей части Гарриман и соответственно именно он взаимодействовал с немецкими и советскими руководителями (Schweizer Р. Kevin Phillips’s Politics of Deceit // National Review Online. 2004. March, 30; ; доступ к ресурсу осуществлялся 23 января 2007 года).
(обратно)511
Kennedy Jr. R. Crimes Against Nature // Rolling Stone. 2003. Dec. 11; Shoval R. A1 Franken Airs Show at Ithaca College // Cornell Daily Sun. 2006. April, 26; (доступ к ресурсу осуществлялся 23 января 2007 года); Saul J. R. The Unconscious Civilization. N. Y.: Simon and Schuster. 1999. P. 120.
(обратно)512
Джеффри T. Шнапп пишет: «Мысль о том, что фашизм представляет собой “третий путь” по отношению к капиталистической и коммунистической моделям развития являлась ключевой особенностью самоопределения данного движения. В отличие от демократического сглаживания различий и стандартизации жизни, отождествляемых с капитализмом, а также характерных для большевизма коллективизма и материализма, фашизм утверждал, что он способен обеспечить все преимущества ускоренной модернизации без таких недостатков, как потеря индивидуальности и национального самосознания или таких высших ценностей, как стремление к героизму, искусство, традиции и духовная трансцендентность (Schnapp J. Fascinating Fascism, цит. по: The Aesthetics of Fascism // Journal of Contemporary History 31. 1996. April. No. 2. P. 240).
(обратно)513
Как писал Александр Стилл в New York Times, снова и снова в популярных статьях о фашизме серьезные авторы привычно утверждают, что фашизм представляет собой «отказ и от либерализма, и от социализма». В настоящее время верно, что фашисты выступали как против социализма, так и против либерализма. Но эти слова имели особое значение в эпоху классического фашизма. Социализм в данном контексте означает большевизм, интернациональную идеологию, которая призывает к полной отмене частной собственности и осуждает другие социалистические идеологии как «фашистские». Либерализм в 1920-1930-е годы определялся как политика невмешательства государства в рыночную экономику. В современном смысле фашизм представлял собой отказ как от основанного на принципах свободного рынка капитализма, так и от тоталитарного коммунизма. Это в некоторой степени нетождественно «отказу и от либерализма, и от социализма». (Stille A. The Latest Obscenity Has Seven Letters // New York Times. 2003. Sept., 13. Sec. B. Р. 9).
(обратно)514
Gregor A. The Ideology of Fascism: The Rationale of Totalitarianism. N. Y: Free Pres, 1969. P. 12; Wistrich R. Leon Trotsky’s Theory of Fascism / Theories of Fascism // Journal of Contemporary History 11. 1976. Oct., 4. No. 4. P. 161, со ссылкой на: Trotsky L. Fascism: What It Is and How to Fight It. N. Y. 1975. P. 5.
(обратно)515
Davies R, Lynch D., eds. The Routledge Companion to Fascism and the Far Right. N. Y: Routledge, 2002. P. 52; TogliattiP. Lectures on Fascism. London: Lawrence and Wishart, 1976. Pp. 1-10; Kitchen M. Fascism. London: Macmillan, 1982. P. 46; Turner Jr. H., ed. Reappraisals of Fascism. N. Y: New Viewpoints, 1975. P.XI.
(обратно)516
Turner Jr. H. German Big Business and the Rise of Hitler. N. Y.: Oxford University Press, 1987. P. 75.
(обратно)517
Там же. P. 347.
(обратно)518
Следуя европейской традиции, можно было бы вполне обоснованно заявить, что эти договоренности являются правыми с исторической точки зрения, хотя это не такой простой вопрос, потому что даже в современной Европе экономика свободного рынка описывается как правая идеология. В средневековой Германии все становится еще более запутанным, поскольку благодаря Бисмарку классический либерализм был ликвидирован в 1870-е годы, а то, что называлось либерализмом, на самом деле являлось этатизмом. Другими словами, как левые, так и правые силы были левыми в соответствии с тем, как мы понимаем эти термины в Америке.
(обратно)519
Здесь: слабая политическая фигура, не имеющая собственного мнения по многим вопросам. — Примеч. перев.
(обратно)520
Packers Face Report Music // Washington Post. 1906. June, 7. P. 4; Carney T. The Big Ripoff: How Big Business and Big Government Steal Your Money. Hoboken, N. J.: Wiley & Sons, 2006. Pp. 37-38; см. также: Kolko G. The Triumph of Conservatism: A Reinterpretation of American History, 1900-1916. N. Y: Free Press,1963. Pp. 103, 107.
(обратно)521
Carney. Big Ripoff. P. 40; Kolko. Triumph of Conservatism. Pp. 39, 174.
(обратно)522
Croly H. The Promise of American Life. N. Y: Macmillan, 1911. Pp. 202, 359.
(обратно)523
Carney. Big Ripoff. P. 42 со ссылкой на: Rothbard M. War Collectivism in World War I / A New History of Leviathan / Eds. R. Radosh and M. Rothbard. N. Y: Dutton, 1972. P. 70; Kostinen P. The ‘Industrial-Military Complex’ in Historical Perspective: World War I // Business History Review. 1967. Winter. P. 381.
(обратно)524
Clarkson G. Industrial America in the World War: The Strategy Behind the Line, 1917-1918. Boston: Houghton Mifflin,1923. P. 63; Higgs R. Crisis and Quasi-Corporatist Policy-Making: The U.S. Case in Historical Perspective // The World & I. 1988. Nov.; статья повторно опубликована на сайте Независимого института (Independent Institute): (доступ к ресурсу осуществлялся 24 января 2007 года).
(обратно)525
Хотя в 1920-е годы, особенно во время президентства Калвина Кулиджа, государство преодолело некоторые (но далеко не все) корпоративистские злоупотребления военного социализма Вильсона, многие в правительстве по-прежнему продолжали проводить в жизнь его идеи. Одним из них был министр торговли с 1921 по 1928 год Герберт Гувер. Вопреки абсурдным заявлениям, согласно которым Гувер был склонным к идеализму апологетом свободного рынка, глава продовольственного управления в правительстве Вудро Вильсона стремился привлечь деловые круги Америки к тесному сотрудничеству с государственной властью. Многие экономические историки видят больше преемственности, чем «революционности» в экономической политике Рузвельта 1932 года. А вот политика Рузвельта стала радикальным изменением прежнего курса. Он военизировал корпоративизм, как и его зарубежные коллеги ранее, сделав «Новый курс» «моральным эквивалентом войны». Переход к реальной войне был для американцев таким же плавным, как и для немцев, хотя экономика была окончательно преобразована, к удовольствию либералов и бизнеса, еще до начала войны. (Leuchtenburg W. The FDR Years: On Roosevelt and His Legacy. N. Y.: Columbia University Press, 1995. P. 41.)
(обратно)526
Goldman E. Rendezvous with Destiny: A History of Modem American Reform. Chicago: Ivan R. Dee, 2001. Pp. 347, 348, 349; Leuchtenburg W Franklin D. Roosevelt and the New Deal. N. Y: Harper and Row, 1963. P. 87.
(обратно)527
Carney. Big Ripoff. P. 46; Brinkley A. The End of Reform: New Deal Liberalism in Recession and War. N. Y: Vintage, 1996. P. 37.
(обратно)528
Diggins J. Mussolini and Fascism: The View from America. Princeton, N. J.: Princeton University Press, 1972. P. 164; Welk W. Fascist Economic Policy and the N.R.A // Foreign Affairs. 1933. Oct. Pp. 98-109. Я не стал приводить здесь бесчисленное количество аналогичных комментариев коммунистов и радикальных социалистов из Соединенных Штатов, потому что многие считали, что «Новый курс» является фашистским. Кроме того, благодаря сталинской доктрине социал-фашизма красные и другие американские социалисты были обязаны говорить так, даже если они придерживались иного мнения. Но достаточно сказать, что все они, начиная от Нормана Томаса и заканчивая рядовыми членами партии, неоднократно с презрением называли Гувера и Рузвельта фашистами.
(обратно)529
Когда Брокуэй посетил Соединенные Штаты, он еще больше уверился в том, что политика Рузвельта была фашистской. Особенно его ужаснули трудовые лагеря Гражданского корпуса охраны природных ресурсов, создание которых «немедленно наводит на мысль о лагерях службы труда в фашистской Германии. Возникает тревожное предчувствие, что американские лагеря, подобно немецким, сразу же будут преобразованы из гражданских в военные при угрозе войны или смены власти и что для военных властей, в распоряжении которых они находятся, их потенциальное военное значение является приоритетным». (Malament В. British Labour and Roosevelt’s New Deal: The Response of the Left and the Unions // Journal of British Studies 17. 1978. Spring. No. 2. Pp. 137, 144; см. также: Bottai G. Corporate State and the N.R.A. Foreign Affairs. 1935. July. Pp. 612-624.
(обратно)530
McCormick A. Hitler Seeks Jobs for All Germans // New York Times. 1933. July, 10. Pp. 1, 6.
(обратно)531
В своем послании 1929 года «О положении в стране» Муссолини хвастался своими успехами в реализации концепции корпоративного государства:
«Трудящиеся интегрированы в учреждения режима: синдикализм и корпоративизм позволяют организовать всю нацию в целом. Эта система основана на юридическом признании профессиональных союзов, на коллективных договорах, на запрещении забастовок и локаутов... [Этот подход] уже принес свои плоды. Рабочие и капиталисты перестали считать свой антагонизм неумолимым фактом истории: конфликты, которые неизбежно возникают, решаются мирным путем благодаря упрочению сознательного классового сотрудничества. Социальное законодательство Италии является самым передовым в мире: оно простирается от закона о 8-часовом рабочем дне до обязательного страхования от туберкулеза». (Mussolini В. The Achievements of the Fascist Revolution / Fascism / Ed. R. Griffin. Oxford: Oxford University Press, 1995. Pp. 63-64.)
(обратно)532
Bosworth R. J. B. Mussolini’s Italy: Life Under the Fascist Dictatorship, 1915-1945. N. Y.: Penguin, 2006. P. 311.
(обратно)533
Kingdon F. That Man in the White House: You and Your President. N. Y: Arco, 1944. P. 120; Burns H. The American Banking Community and New Deal Banking Reforms, 1933-1935. Westport, Conn.: Greenwood, 1974. P. 100; Schoenbaum D. Hitler’s Social Revolution: Class and Status in Nazi Germany, 1933-1939. N. Y: Norton. 1980. Pp. 25-26.
(обратно)534
Rerum Novarum (лат.) — дословно: «новых явлений, вещей», от первых слов энциклики: «Однажды пробуждено желание нового...» — энциклика Папы Римского Льва XIII от 15 мая 1891 г. Открытое письмо, адресованное всем епископам Римско-католической церкви, в котором обращалось внимание на положение рабочего класса.
(обратно)535
Gleichschaltung (нем.) — унификация, приобщение к господствующей идеологии. — Примеч. перев.
(обратно)536
Manchester W. The Arms of Krupp: The Rise and Fall of the Industrial Dynasty That Armed Germany at War. N. Y: Back Bay Books, 2003. P. 152.
(обратно)537
Proctor R. The Nazi War on Cancer. Princeton, N. J.: Princeton University Press, 2000. P. 38.
(обратно)538
Koonz C. The Nazi Conscience. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 2003. P. 73.
(обратно)539
Baird J. From Berlin to Neubabelsberg: Nazi Film Propaganda and Hitler Youth Quex / Historians and Movies: The State of the Art / Part 1 / special issue // Journal of Contemporary History 18. 1983. July. No. 3. P. 495; Goddard P. The Subtle Side of Nazi Propaganda Machine. Toronto Star. 1996. Jan., 19. P. D4.
(обратно)540
Proctor. Nazi War on Cancer. P. 138.
(обратно)541
Chase S. The Economy of Abundance. N. Y: Macmillan, 1934. P. 313. Прогрессивный экономист Джон Коммонс говорил, что новая система инициативных групп и торговых ассоциаций, созданная в рамках «Нового курса», тождественна «профессиональному парламенту американского народа, который является более представительным, чем избираемый территориальными единицами Конгресс. Они являются неофициальными американскими коллегами “корпоративного государства” Муссолини, итальянского профессионального государства» (см.: Harris J. R. Commons and the Welfare State // Southern Economic Journal 19. 1952. Oct. No. 2. Pp. 222-233; Higgs. Crisis and Quasi-Corporatist Policy-Making).
(обратно)542
Alter J. The Defining Moment: FDR’s Hundred Days and the Triumph of Hope. N. Y.: Simon and Schuster, 2006. P. 185.
(обратно)543
Пока еще было неясно, придут ли нацисты к власти в Германии, Густав Крупп, глава огромного и печально известного оружейного концерна, дал указания своему шоферу обращать внимание, в какой руке он держит перчатки, когда возвращается со встреч с различными политическими лидерами. Если Крупп нес перчатки в правой руке, водитель должен был изобразить традиционное прусское приветствие (щелкнуть каблуками и коснуться шляпы). Если перчатки были в левой руке, водителю было поручено отдавать ему честь со словами «хайль Гитлер», что Густав делал с равным удовольствием. Крупп, как и большинство ведущих бизнесменов и промышленников Германии, не любил Гитлера и нацистов. Более того, Крупп, который впоследствии был справедливо привлечен к ответственности за военные преступления в ходе Нюрнбергского процесса, присоединился к другим влиятельным представителям деловых кругов в попытке предотвратить назначение Гитлера на должность канцлера. Но когда стало ясно, что история на стороне нацизма, немецкие бизнесмены стали поддерживать новый режим.
(обратно)544
Alvarez L. An ‘Icon of Technology’ Encounters Some Rude Political Realities // New York Times. 1998. March, 4. P. D4.
(обратно)545
Содержание платформы нацистской партии можно найти в Интернете по адресу: . Несколько страниц в книге Алана Бринкли «Голоса протеста» (Voices of Protest) посвящены обсуждению причин ярости, которую вызывали у людей универмаги. Главная проблема заключалась в том, что крупные торговые сети способствовали разорению местных магазинов с широким ассортиментом. Эти магазины играли значимую культурную и финансовую роль в сельских местностях Америки, предлагая, в частности, кредиты фермерам в неурожайные годы. (См.: Brinkley A. Voices of Protest: Huey Long, Father Coughlin, and the Great Depression. N. Y: Vintage, 1983. P. 198).
(обратно)546
Steinberg N. New York // Daily News. 2005. Feb., 13.
(обратно)547
Примерно 40 процентов (или чуть более 40 миллионов) американских семей имеют по крайней мере одну собаку, и примерно в 35 процентах семей живут кошки (причем у половины из них по две кошки или больше). Подавляющее большинство владельцев домашних животных оплачивают ветеринарные услуги наличными, при этом оформляется минимум документов, очередей почти не бывает, а качество обслуживания высокое. Конкурс в учебных заведениях, где готовят ветеринаров, гораздо выше, чем в медицинских колледжах. Почему? Потому что Конгресс не вмешивается в эту сферу (и не позволяет вмешиваться адвокатам, выступающим в судах первой инстанции). А поскольку правительство не беспокоит ветеринаров, ветеринары не беспокоят правительство.
(обратно)548
По мере увеличения числа вопросов, решающихся при участии правительства отдельных штатов, количество лоббистов на уровне штата также многократно увеличивается. Так, например, в штате Нью-Йорк почти четыре тысячи зарегистрированных лоббистов.
(обратно)549
Lehmann-Haupt С. A Tale of Tobacco, Pleasure, Profits and Death // New York Times. 1996. April, 15.
(обратно)550
Hall C. Unholy Alliance // National Review Online. 2006. April, 12.
(обратно)551
По сообщению газеты New York Times, «влиятельные бизнесмены приветствовали вчера с разной степенью энтузиазма радикальные предложения, высказанные президентом Никсоном в воскресенье вечером» (Hershey Jr. R. Psychological Lift Seen//New York Times. 1971. Aug., 17. P. 1).
(обратно)552
Clinton K. It Takes a Village. N. Y: Simon and Schuster, 1996. P. 301.
(обратно)553
Atari Democrats (англ.) — представители Демократической партии США, считавшие что развитие высоких технологий повлечет за собой экономический рост и появление новых рабочих мест. — Примеч. перев.
(обратно)554
Каус (который когда-то работал под началом Райха в Федеральной торговой комиссии, решая задачу, как сформулировать постановление о том, что закрытие завода является «несправедливой торговой практикой») предлагает несколько примеров из сочинений Райха. «Но должны ли мы выбирать между национализмом с нулевой суммой и бесстрастным космополитизмом? — вопрошает Райх. — Нет! Существует третья, более совершенная возможность: положительный экономический национализм». «Американская политическая риторика часто описывает решение этого вопроса в виде привычных противоположностей: или мы оставляем рынок свободным, или правительство контролирует его, — сетует Райх. — Однако существует третий вариант... Два вымысла вносят путаницу в обсуждение экономических изменений в Америке. Первый вымысел — непроизвольное приспособление, в соответствии с которым увольнения не оказывают значительного негативного воздействия. Второй, противоположный вымысел, заключается в том, что люди никогда не приспосабливаются к изменениям, но просто страдают». Сам Райх придерживается «средней, менее конкретной точки зрения», согласно которой «существует много вариантов» прагматичного управления экономикой с участием экспертов, когда капитализм сочетается с социализмом. (Kaus М. The Policy Hustler // New Republic. 1992. Dec., 7. P. 16-23.)
(обратно)555
Там же. Р. 20.
(обратно)556
Когда Рейган покинул свой пост, президент Джордж Буш-старший с философской точки зрения оказался не готов учитывать нарастающие настоятельные требования по усилению планового начала в экономике, особенно с наступлением рецессии (преувеличенной СМИ для создания значительного политического резонанса). Сторонники промышленной политики в очередной раз вспомнили аргументы в поддержку планируемого экономического процветания, основываясь на моральных эквивалентах войны. «Наши главные соперники сегодня — это не представители вооруженных сил, — заявил Джордж Фишер, председатель Совета по конкурентоспособности при Буше. — Это те, кто реализует экономическую, технологическую и промышленную политику, нацеленную на расширение своей доли на мировом рынке. Таково существующее положение вещей. Политика США должна отражать эту реальность, если мы хотим оставаться мировым лидером и образцом для подражания». Бывший министр обороны США Гарольд Браун призвал к «новому союзу между правительством и промышленностью» для разработки новых технологий. (См.: Phillips К, U.S. Industrial Policy: Inevitable and Ineffective // Harvard Business Review. 1992. July/August.)
(обратно)557
Rowan H. Clinton’s Approach to Industrial Policy // Washington Post. 1992. Oct., 11. P. HI; Gigot P. How the Clintons Hope to Snare the Middle Class // Wall Street Journal. 1993. Sept., 24. P. A10.
(обратно)558
Такое вмешательство оказывает каскадное влияние на всю экономику, создавая еще более порочные стимулы для еще более тесного взаимодействия между правительством и бизнесом. В силу того, что американские компании обязаны покупать сахар по ценам в два раза выше его стоимости на мировом рынке, большинство крупных потребителей сахара (Coca-Cola, например) используют в безалкогольных напитках вместо сахара кукурузные подсластители. Компания Archer Daniele Midiend производит кукурузный подсластитель в больших объемах, и именно по этой причине она дает много денег политикам, которые поддерживают субсидии на сахар.
(обратно)559
Очевидно, что по большей части это маркетинг. Согласно результатам опроса агентства Zogby International, среди клиентов кофеен Starbucks вдвое больше либералов (и женщин).
В то же время республиканцы и мужчины предпочитают кофейни Dunkin’ Donuts. Но не следует упускать из виду, что, если «либералы» обычно пьют кофе в Starbucks, руководство Starbucks заинтересовано в том, чтобы либералов становилось больше, и именно поэтому оно тратит так много денег на образовательные инициативы. (Zogby Consumer Profile Finding: Starbucks Brews Up Trouble for Dunkin’ Donuts: Seattle Chain’s Coffee Preferred by 34% to 30%; ‘Starbucks Divide’ Evident in Age, Politics of Coffee’s Drinkers. 2005. August, 8.; http:// ; (доступ к ресурсу осуществлялся 26 июня 2007 года).
(обратно)560
Conversation with Ronald Bailey / Science correspondent // Reason magazine.
(обратно)561
Ecomagination — неологизм, образованный от слов ecology — «экология» и imagination — «воображение». — Примеч. перев.
(обратно)562
Sullivan N, Schiafo R. Talking Green, Acting Dirty // New York Times. 2005. June, 12. P. 23; The Profiteer: Jeff Immelt // Rolling Stone; -stone.com/politics/story/8742315/the_profiteer/ (доступ к ресурсу осуществлялся 18 марта 2007 года).
(обратно)563
См.: -06.pdf (доступ к ресурсу осуществлялся 8 мая 2007 года).
(обратно)564
В оригинале: Hooters girls. Суть в том, что основой имиджа ресторана является сексапильность официанток. — Примеч. перев.
(обратно)565
Принцип «прав штатов» был выражен в преамбуле Конституции конфедерации фразой «каждый штат действует суверенно и независимо». В соответствии с принципом «прав штатов» чувство преданности штату превалирует над общенациональным патриотизмом.
(обратно)566
Interview on Fresh Air // National Public Radio. 2005. Oct, 18.
(обратно)567
Woodward К. Soulful Matters //Newsweek. 1994. Oct., 31. P. 22.
(обратно)568
Там же. Джонс продолжает принимать участие в ее жизни. Во время скандала с Левински он снова обратил внимание Клинтон на проповедь Тиллиха «Вера в действии» (Faith in Action) и выступал в роли духовного наставника во время ее предвыборной кампании 2000 года, когда она баллотировалась в Сенат.
(обратно)569
Мне не удалось найти каких-либо упоминаний о том, что Оглсби является богословом. Его статья по утверждению еженедельника Newsweek, называлась «Изменение или сдерживание» (Change or Containment). На самом деле она была озаглавлена «Мировая революция и американская политика сдерживания» (World Revolution and American Containment), точно так же, как одна из брошюр СДО. Эта ошибка может быть обусловлена тем, что Оглсби в соавторстве со специалистом в области идеологии освобождения Ричардом Шолом написал книгу под названием «Сдерживание и изменение» (Containment and Change). Клинтон заявила Newsweek: «Это была первая вещь против войны во Вьетнаме, которую мне довелось прочитать». В это сложно поверить, поскольку даже если бы она не читала ничего, кроме журнала motive, статья Оглсби вряд ли была первой публикацией против войны во Вьетнаме в этом журнале (он приобрел известность благодаря своим советам молодым людям скрываться от призыва в Швеции). Со временем Оглсби стал «новым левым» либертарианцем, считая, что «новые левые» и «старые правые» являются родственными душами или по крайней мере должны быть таковыми.
(обратно)570
«Я осуждаю членов андских племен, которые убивают сборщиков налогов, не больше, чем мятежников, устроивших бунты в Уоттсе и Гарлеме или представителей организации Deacons for Defense and Justice. Их действия являются оборонительными и ответными, и в культурном плане они оказываются оправданными, хотя факт применения насилия против невинных людей не перестает ужасать нас. Именно Оглсби высказал идею, что СДО следует отправить «бригады» на Кубу в знак солидарности с социалистическим режимом. (Brock D. The Seduction of Hillary Rodham. N. Y.: Free Press, 1996. P. 18.)
(обратно)571
Woodward. Soulful Matters. P. 22.
(обратно)572
Rodham H. 1969 Student Commencement Speech / Wellesley College. 1969. May, 31; (доступ к ресурсу осуществлялся 19 марта 2007 года).
(обратно)573
Последние комментарии взяты из стихотворения, написанного одним из студентов:
Войти в мир так называемых «социальных проблем» Я должен с тихим смехом или не входить туда вообще. Опустошенные люди, исполненные гнева и горечи, Повсюду встречающиеся дамы, для которых не существует мораль — Все это нужно оставить ушедшей эпохе. А история призвана стать вместилищем Для всех тех мифов и ненужных вещей, Которые мы зачем-то приобрели И от которых нам пора освободиться, Чтобы создать новый мир, Чтобы сделать будущее настоящим. (обратно)574
Finks D. Organization Man // Chicago Tribune Magazine. 1985. May, 26. P. 21.
(обратно)575
Нейдеризм — движение в защиту интересов потребителей, названное по имени его основателя Р. Нейдера. — Примеч. перев.
(обратно)576
Strength Through Misery // Time. 1966. March, 18.
(обратно)577
Alinsky S. Rules for Radicals: A Pragmatic Primer for Realistic Radicals. N. Y.: Vintage, 1972. P. XXI.
(обратно)578
Там же. Pp. 4, 21, 13.
(обратно)579
Будучи специалистом в области права, Райх довольно рано (в 32 года) стал профессором Йельской школы права, где он преподавал Хиллари и Биллу Клинтонам, в частности, конституционное право. В преддверии своего сорокового дня рождения он принял приглашение студентов провести лето в Беркли в 1967 году, которое оказалось «летом любви». Он вернулся в Йельскую школу длинноволосым гуру, носившим брюки клеш и нитку бус на шее. Он отказался от всех традиционных догм, в том числе и от академической строгости. Студенты прозвали один из его курсов «детским садом-2», потому что во время лекций можно было читать и заниматься всем, чем угодно. Его книга «Озеленение Америки» (The Greening of America), опубликованная в 1970 году, не имела отношения к природоохранной деятельности, как можно было предположить из ее названия, но представляла собой квазирелигиозный трактат о необходимости развития американского общества для достижения «сознания третьего уровня». В своей книге Райх утверждал, что политические изменения должны стать конечной стадией «революции» сознания третьего уровня. Политическим изменениям должны были предшествовать изменения в культуре, которые становились возможными после изменения сознания отдельных личностей. Для самого Райха преобразование сознания потребовало отказа от преподавания в Йельской школе права и путешествия в качестве «волшебника», как он называл себя, в поисках смысла и подлинности по сомнительным заводям калифорнийской контркультуры. Многие «новые левые» пошли по его стопам.
(обратно)580
Далее утверждалось: «В настоящее время необходимо найти новые рубежи, которые будут способствовать продолжению экспериментов, среду, относительно свободную от традиционных моделей социальной и политической организации. Эксперименты с наркотиками, сексом, индивидуальным образом жизни или радикальными риторикой и действиями в рамках общества в целом являются недостаточной альтернативой. Требуется тотальное экспериментирование. Новые идеи и ценности должны быть перенесены из сознания в реальность». (Wattenberg D. The Lady Macbeth of Little Rock//American Spectator 25. 1992. Aug. No. 8.)
(обратно)581
Жена Тройхафта Джессика Митфорд была коммунисткой, занимавшейся журналистскими расследованиями. Она известна как автор книги «Американский способ смерти», раскрывающей тайны американского сектора ритуальных услуг. Родившись в аристократической британской семье, она была типичной девушкой из высших слоев общества, тяготевшей к мятежному радикализму. Обе ее сестры придерживались таких же радикальных воззрений. Они открыто поддерживали нацистов, а одна из них, Диана, вышла замуж за Освальда Мосли, основателя Британского союза фашистов. Другая, Юнити Митфорд, была вынуждена покинуть страну, разгневанная тем, что Великобритания собиралась воевать с таким прогрессивным лидером, как Гитлер. Диана и Освальд были заключены в тюрьму на время войны. Освальд, конечно же, всегда считал себя человеком из стана левых: «Я не являюсь представителем правых сил и никогда им не был, — заявил Мосли в 1968 году. — Раньше я занимал позицию в левом лагере, а теперь нахожусь в центре политики». Джессика Митфорд между тем оставалась преданной принципам сталинизма в течение всей своей жизни. Когда венгерских борцов за свободу смели советские танки, она сказала, что «фашистские предатели» получили по заслугам.
(обратно)582
Аллан Блум писал: «Я видел молодых, а также пожилых людей, которые являются хорошими преданными либерал-демократами, сторонниками мирных и мягких мер в политике, и в то же время я видел, как они немеют от восторга перед теми, кто угрожает применить или применяет самое чудовищное насилие по любому самому ничтожному поводу. Они смутно чувствуют, что перед ними люди, беззаветно преданные своему делу, чего так не хватает им самим. При этом предполагается, что важна не правда, а способность отстаивать свои принципы». (Bloom A. The Closing of the American Mind. N. Y.: Simon and Schuster, 1987. P. 221).
(обратно)583
Kelly M. Things Worth Fighting For: Collected Writings. N. Y.: Penguin, 2004. P. 170. Эта краткая биография «Святая Хиллари» (Saint Hillary), впервые была опубликована 23 мая 1993 года в журнале. Но по причинам, которые некоторым могут показаться подозрительными, ее невозможно найти ни в базе данных Lexis-Nexis, ни в специализированных научных базах данных, ни на веб-сайте New York Times (даже если у вас платная подписка). К счастью, она приводится в посмертном издании книги Келли под названием «Вещи, за которые стоит бороться» (Things Worth Fighting For). Как ни странно и ни прискорбно, редакция New York Times не считает необходимым хранить в своем архиве этот исторический очерк.
(обратно)584
Lasch С. Hillary Clinton, Child Saver // Harper’s. 1992. Oct.
(обратно)585
Там же.
(обратно)586
Burleigh M. The Third Reich: A New History. N. Y: Hill and Wang, 2000. P. 235; Lasch C. Haven in a Heartless World: The Family Besieged. N. Y: Norton, 1995. P. 14. Хотя она вполне убедительно объяснила свою позицию в отношении окружающей среды, следует отметить, что сама Гилман остается сторонницей расистской евгеники.
(обратно)587
Джон Тэйлор Гатто пишет:
«Несколько необычайно страстных американских идеологических лидеров, в числе которых, помимо прочих, были Хорас Манн из Массачусетса, Кальвин Стоу из Огайо и Барнас Сирз из Коннектикута, посетили Пруссию в первой половине XIX века, восхитились царящими там порядком, послушанием и эффективностью, посчитали, что основой этого отлично отрегулированного, подобного механизму общества является соответствующая система образования и по возвращении домой стали активно выступать за внедрение прусской концепции на родине... Таким образом, по инициативе Хораса Манна и других выдающихся деятелей мы без какого-либо общенационального обсуждения приняли прусскую модель образования или, скорее, большей части граждан она была навязана... Небольшие школы с одним или двумя классами, отличавшиеся высокой эффективностью обучения, воспитывавшие самостоятельность и независимость, тесно связанные с местной общественностью, возглавляемые преимущественно женщинами и по большей части неуправляемые, подлежали ликвидации». (Twight С. Dependent on D.C.: The Rise of Federal Control over the Lives of Ordinary Americans. N. Y.: Palgrave Macmillan, 2002. R 138.)
(обратно)588
Burleigh. Third Reich. Р. 236.
(обратно)589
Sherrill M. Hillary Clinton’s Inner Politics // Washington Post. 1993. May, 6. P. D1 ; Kelly. Things Worth Fighting For. P. 172.
(обратно)590
First Lady Hillary Rodham Clinton / Remarks at University of Texas. 1993. Austin. April, 7; (доступ к ресурсу осуществлялся 18 марта 2007 года).
(обратно)591
Horowitz D. Radical Son: A Generational Odyssey. N. Y.: Free Press, 1997. P. 175.
(обратно)592
«Семеро из Сиэтла» — группа из семи самых активных членов радикальной антивоенной организации Сиэтлский освободительный фронт, которая была обвинена в подстрекательстве к бунту в здании суда.
(обратно)593
Gottlieb T. Book Tour Includes a Political Lesson // Roll Call. 2006. May, 16.
(обратно)594
Siegel L. All Politics Is Cosmic //Atlantic Monthly. 1996. June. Pp. 120-125.
(обратно)595
Lerner M. The Politics of Meaning: Restoring Hope and Possibility in an Age of Cynicism. Cambridge, Mass.: Perseus Books, 1997. Pp. 13-14.
(обратно)596
Tikkun. 1993. May-June.
(обратно)597
Lerner. Politics of Meaning. P. 226; Lerner M. Spirit Matters. Charlottesville, Va.: Hampton Roads, 2000. P. 325.
(обратно)598
Lerner. Politics of Meaning. P. 58.
(обратно)599
Там же. P. 59.
(обратно)600
Там же. Рр. 88, 91.
(обратно)601
Он упускает из виду, что левые силы всегда стремились создавать сообщества; что правые движения, о которых он говорит, не обязательно могут быть фашистскими; а также что он применяет классическую либеральную тактику объявления несогласных «фашистами». Более того, Лернер пишет: «Делегитимизация понятия “мы”, обозначавшего людей, которые могли бы действовать во имя высокой нравственной цели и получить ценные в этом отношении результаты, является целью номер один консервативных сил во влиятельных политических и деловых кругах Америки» (там же. Р. 318).
(обратно)602
В первой книге он предлагает интересную интерпретацию либеральной истории, призванную убедить либералов вернуться к миссии старого прогрессивного социального евангелизма. «Когда фашизм окреп, — пишет он, — американские представители религиозного левого фронта отказались от социального евангелизма, который они исповедовали перед началом Второй мировой войны, и соответственно от надежд на планомерное движение к царству Божьему». Ответственность за этот шаг он возлагает на богослова Рейнгольда Нибура, который убедил либералов отнестись к угрозе нацизма серьезно. «Для Нибура и христианских реалистов, которые сплотились вокруг его работ, греховность была связана с ограниченностью любой политики, направленной на глобальные социальные изменения, согласием с несправедливостями капиталистического общества и поддержкой “холодной войны”». Христианские «реалисты» способствовали укреплению индивидуализма, убрав социальные движения из фокуса религиозной энергии. (Lerner М. The Left Hand of God: Taking Back Our Country from the Religious Right. N. Y: HarperCollins, 2006. P. 164.)
(обратно)603
Lerner. Politics of Meaning. Pp. 219, 283.
(обратно)604
Ni droite ni gauche! (фр.) — «Ни левый, ни правый!» — Примеч. перев.
(обратно)605
«Речь о национальном недуге» Д. Картера 1979 г. поставила под сомнение «американскую мечту».
(обратно)606
Сиддхартха Гаутама (563-483 до н.э.) — ключевая фигура в буддизме.
(обратно)607
Krauthammer C. Home Alone 3 : The White House // Washington Post. 1993. May, 14. P.A31.
(обратно)608
By the Dawn’s Early Light // National Review. 1990. Jan., 22. P. 17.
(обратно)609
Lear N. A Call for Spiritual Renewal // Washington Post. 1993. May, 30. P. Cl.
(обратно)610
Dewey J. What I Believe / Forum 83. 1930. March. No. 3. Pp. 176-182 // Pragmatism and American Culture / Ed. G. Kennedy. Boston Heath. 1950. P. 28; Hitler A. Hitler’s Table Talk / transi N. Cameron and R. H. Stevens / Introduction and preface by Hugh Trevor Roper. N. Y.: Enigma Books, 2000. P. 143.
(обратно)611
В 1996 году О’Рурке заявил, что книга «Нужна целая деревня» является фашистским трактатом. Он писал:
«Если этой глупой политике нужно дать какое-то имя, можно обратиться к толкованию чудовищной глупости под названием “фашизм” в “Колумбийской энциклопедии” (Columbia Encyclopedia): “Тоталитарная философия управления, которая прославляет государство и нацию и возлагает на государство контроль над всеми аспектами жизни страны”. Правда, следует признать, что фашизм в книге “Нужна целая деревня” женский и склонный к опеке, который не столько прославляет государство и нацию, сколько до смерти докучает им. Этнические группы не подвергаются преследованиям, за исключением случаев негативного отношения к женщинам и представителям меньшинств. Не будет никакой униформы, кроме удобной прочной одежды для девочек. Концлагерей тоже не предвидится, только исключительно заботливый дневной уход» (О ’Rourke Р. Mrs. Clinton’s Very, Very Bad Book // Weekly Standard. 1996. Feb, 19. P. 24.)
(обратно)612
Clinton H. It Takes a Village. N. Y: Simon and Schuster, 1996. P. 13.
(обратно)613
Там же. Р. 14.
(обратно)614
Lear. Call for Spiritual Renewal. P. C7.
(обратно)615
Clinton. It Takes a Village. P. 20.
(обратно)616
Там же. Pp. 299, 301.
(обратно)617
Gigot P. How the Clintons Hope to Snare the Middle Class // Wall Street Journal. 1993. Sept., 24. P. A10.
(обратно)618
Fineman H. Clinton’s Brain Trusters // Newsweek. 1993. April, 19. P. 26.
(обратно)619
Weisberg J. Dies Ira: A Short History of Ira Magaziner // New Republic. 1994. Jan., 24. P. 18. Даже шведскому посольству, запросившему копию от имени журнала Fortune, не удалось получить ее.
(обратно)620
Rauch J. Robert Reich, Quote Doctor // Slate. 1997. May, 30; (доступ к ресурсу осуществлялся 19 января 2007 года); см. также: Scheer R. What’s Rotten in Politics: An Insider’s View // Los Angeles Times. 1997. April, 29.
(обратно)621
Rauch. Robert Reich, Quote Doctor; см. также: Reich R. Robert Reich Replies // Washington Post. 1997. June, 5. P. A21; Hazlett T. Planet Reich: Thanks for the Memoirs // Reason. 1997. Oct. P. 74.
(обратно)622
Chait J. Fact Finders: The Anti-dogma Dogma // New Republic. 2005. Feb., 28; Schneider H. Making the Fascist State. N. Y.: Oxford University Press, 1928. P. 67.
(обратно)623
Lippmann W. The Good Society. New Brunswick, N. J.: Transaction, 2004. P. 92; Clinton. It Takes a Village. P. 200.
(обратно)624
Kaus M. The Godmother // New Republic. 1993. Feb., 15. P. 21; Hymowitz K. The Children’s Defense Fund: Not Part of the Solution // City Journal 10. 2000. Summer. No. 3. Pp. 32-41.
(обратно)625
Bovard J. Freedom in Chains: The Rise of the State and the Demise of the Citizen. N. Y.: St. Martin’, 2000. P. 68, со ссылкой на: U.S. Department of Agriculture, Food and Nutrition. 1972. Feb.
(обратно)626
Hymowitz. Children’s Defense Fund. Pp. 32-41.
(обратно)627
Lasch. Hillary Clinton, Child Saver; Clinton H. Address to the General Conference. 1996. April, 24; (доступ к ресурсу осуществлялся 6 февраля 2007 года).
(обратно)628
Clinton. It Takes a Village. Pp. 314, 315.
(обратно)629
Williams J. Big Food’s Real Appetites // Nation. 2002. May, 6; Russert T. CNBC. 2000. June, 10.
(обратно)630
Nomination of Janet Reno // White House. 1993. Feb., 11 ; (доступ к ресурсу осуществлялся 6 февраля 2007 года); Reno J. Remarks to Justice Department Employees. Washington, D.C. 1993. April, 6.
(обратно)631
Clinton. It Takes a Village. Pp. 82, 113.
(обратно)632
Lasch. Hillary Clinton, Child Saver.
(обратно)633
Clinton. It Takes a Village. Pp. 45, 63, 88-89.
(обратно)634
Там же. P. 83.
(обратно)635
Там же. Рр. 233, 132.
(обратно)636
O’Beirne К. The Kids Aren’t Alright // National Review. 2003. Sept., 1; O’Beirne K. Women Who Make the World Worse: And How Their Radical Feminist Assault Is Ruining Our Schools, Families, Military, and Sports. N. Y.: Penguin, 2006. Pp. 36-38.
(обратно)637
Гретхен Риттер, возглавляющая программу женских исследований в Техасском университете, также пишет, что матери, которые остаются дома, чтобы заботиться о своих детях, подобны бездельникам, которые отказываются «приносить обществу пользу в качестве специалистов и общественных деятелей» (Ritter G. The Messages We Send When Moms Stay Home // Austin American-Statesman. 2004. July, 6. P. A9).
(обратно)638
O’Beirne. Women Who Make the World Worse. P. 40.
(обратно)639
Простая карточная игра. — Примеч. перев.
(обратно)640
Clinton. It Takes a Village. P. 189.
(обратно)641
Там же. Pp. 169, 239.
(обратно)642
Bryan W. Omaha World-Herald. 1892. Sept., 23 (цит. no: Coletta P. William Jennings Bryan. Vol. 1. Lincoln: University of Nebraska Press, 1964. P. 75; Morgan H. W. From Hayes to McKinley: National Party Politics, 1877-1896. Syracuse, N. Y.: Syracuse University Press, 1969. P. 496.
(обратно)643
Kershaw I. The «Hitler Myth»: Image and Reality in the Third Reich. N. Y: Oxford University Press, 1987. P. 73.
(обратно)644
Kolbert E. Running on Empathy // New Yorker. 2000. Feb., 7. P. 36.
(обратно)645
Bovard. Freedom in Chains. P. 19.
(обратно)646
The Real Hillary Just Stood Up // New York Post. 2004. June, 30. P. 30; Fagan A. Inside Politics // Washington Times. 2004. June, 30. P. A07.
(обратно)647
Фраза «Сообщество, основанное на реальности» стала лозунгом для левых и либеральных блоггеров начиная с 2004 года. Она обычно используется для высмеивания президента Джорджа Буша и его политики. Она взята из статьи Рона Саскинда, опубликованной в журнале New York Times Magazine 17 октября 2004 года, где цитируются слова неназванного помощника Джорджа Буша:
Этот помощник говорил, что такие люди, как он живут «в том, что мы называем сообществом, основанном на реальности». Он определяет это сообщество как совокупность людей, которые «считают, что решения являются результатом рационального изучения видимой реальности... Но этот принцип больше не работает. Теперь мы стали империей, и когда мы действуем, то создаем собственную реальность. И пока вы изучаете эту реальность — рационально, как это вам свойственно, — мы снова действуем, создавая новые аспекты реальности, которые вы тоже можете изучать, — все происходит именно так. Мы созидаем историю... а вам, всем вам, останется только изучать то, что мы делаем».
Речь Гитлера цит. по: Evans R. The Third Reich in Power, 1933-1939. N. Y.: Penguin, 2005. P. 257.
(обратно)648
Miller J. Banning Legos // National Review Online. 2007. March, 27.
(обратно)649
«Мертвые белые европейские мужчины» — термин из лексикона «культурных релятивистов» в американской системе высшего образования. Так американские «реформаторы» уничижительно именуют классиков мировой литературы, философской и научной мысли, оказавших влияние на американскую культуру.
(обратно)650
В отечественном прокате фильм вышел под названием «С меня хватит!».
(обратно)651
Интересно отметить, что в разгар борьбы за культуру президент Америки Улисс Грант пролоббировал конституционную поправку, которая запрещала преподавание «сектантских принципов» во всех школах, получающих государственную помощь, и объявляла, что «все церковное имущество» подлежит налогообложению (см.: Rabkin J. The Supreme Court in the Culture Wars // Public Interest. 1996. Fall. Pp. 3-26).
Важно понять, как протестантизм в Германии был искажен под влиянием национализма и социализма, во многом так же, как в Америке, он пострадал от действий прогрессивистов. Исследования, проведенные в 1898 и 1912 годах, показали, что большинство немецких рабочих не верили в Бога, но почти все считали, что Иисус является «истинным другом рабочих». «Если бы Иисус был жив сегодня, — предположил один рабочий, — он, несомненно, был бы социал-демократом, возможно, даже лидером и депутатом рейхстага» (Burleigh М. Earthly Powers: The Clash of Religion and Politics in Europe from the French Revolution to the Great War. N. Y.: HarperCollins, 2005. P. 268). У немарксистов нация являлась объектом религиозного пыла в большей степени, чем класс. Адольф Штекер, придворный проповедник Вильгельма II, был в первых рядах и оказал непосредственное влияние на Гитлера и национал-социализм. Штекер осуждал капитализм отчасти вследствие имманентно присущего ему «еврейства». Он выступал за коммуны рабочих и за щедрое государство всеобщего благосостояния. Он также требовал введения расовой квоты для университетов и других профессий, а затем основал одну из первых антисемитских партий в Германии, Христианско-социальную рабочую партию. Процесс превращения германизма в религию получил символическое завершение, когда появилась другая партия, изменившая слово «христианская» на «национальная» — нацисты.
(обратно)652
Hitler’s Table Talk. P. 59.
(обратно)653
Rauschning H. The Voice of Destruction. N. Y.: Putnam, 1940. P. 50.
(обратно)654
Среди других официальных праздников были День памяти героев, День партии рейха, День рождения фюрера (конечно же) и Национальный фестиваль немецкого народа. День зимнего солнцестояния, посвященный прославлению немецкого превосходства, заменил Рождество. День памяти павших в борьбе за победу нацизма, сопровождавшийся множеством языческих ритуалов, пришел на смену традиционному Дню поминовения.
(обратно)655
Drake W. God-State Idea in Modern Education // History of Education Quarterly 3. 1963. No. 2. June. P. 90.
(обратно)656
Conway J. The Nazi Persecution of the Churches, 1933-45. N. Y.: Basic Books, 1968. Pp. 76-77; Koonz C. Mothers in the Fatherland: Women, the Family, and Nazi Politics. N. Y.: St. Martin’s, 1987. P. 230.
(обратно)657
Песня продолжается:
С песней мы идем под знаменами Гитлера; Только тогда мы достойны наших предков. Я не христианин и не католик. Я иду с СА через огонь и воду. Церковь можно забрать у меня, мне все равно. Свастика делает меня счастливым здесь, на Земле. За ним я буду следовать походным маршем; Бальдур фон Ширах, возьми меня с собой.(Veith Jr. G. Modem Fascism: The Threat to the Judeo-Christian Worldview. St. Louis: Concordia. 1993. P. 67)
(обратно)658
Там же. Pp. 94, 102.
(обратно)659
Там же. Р. 138.
(обратно)660
Price J. Harvard Professor Argues for ‘Abolishing’ White Race // Washington Times. 2002. Sept., 4. P. A05.
(обратно)661
Rosenberg A. The Myth of the Twentieth Century; см.: (доступ к ресурсу осуществлялся 10 июля 2007 года); Ryback Т. Hitler’s Forgotten Library // Atlantic Monthly. 2003. May.; Hitler A. Mein Kampf / Transi. R. Manheim. Boston: Houghton Mifflin, 1999. P. 454.
(обратно)662
Steinern G. Revolution from Within: A Book of Self-Esteem. Boston: Little, Brown, 1993. P. 133; см. также: RieffD. Designer Gods // Transition. 1993. No. 59. Pp. 20-31.
(обратно)663
LeBor A., Boyes R. Seduced by Hitler. Naperville, 111.: Sourcebooks, 2001. P. 119.
(обратно)664
Kaelin E. Heidegger’s «Being and Time»: A Reading for Readers. Tallahassee: University Presses of Florida, 1988. P. 58; Veith. Modem Fascism. Pp. 119, 124.
(обратно)665
Sternhell Z. The Birth of Fascist Ideology: From Cultural Rebellion to Political Revolution / Transi. D. Maisel. Princeton, N. J.: Princeton University Press, 1994. P. 28.
(обратно)666
Цит. no: Harrington R. The Good, the Bad, and the Bee-Bop // Washington Post. 1988. Oct., 17. P. Bl.
(обратно)667
Сидни Блюменталь (Sidney Blumental, р. 1948) — бывший советник президента Клинтона, режиссер-документалист, лауреат премий «Оскар» и «Эмми».
(обратно)668
Hitler’s Table Talk. P. 353.
(обратно)669
Kershaw I. Hitler, 1889-1936: Hubris. N. Y.: Norton, 2000. P. 348; Lively S., Abrams K. The Pink Swastika: Homosexuality in the Nazi Party. Keizer, Ore.: Founders, 1995. P. VII.
(обратно)670
Wolfe T. Hooking Up. N. Y.: Picador, 2000. P. 140.
(обратно)671
Gore A. Earth in the Balance: Ecology and the Human Spirit. Boston: Houghton Mifflin, 2000. Pp. 220-221, 336.
(обратно)672
См.: Michael Crichton’s Commonwealth Club speech in 2003: http//www. crichton-official.com/speeches/speeches_quote05.html; см. также: Steven Landsburg’s Armchair Economist: Economics and Everyday Life. N. Y: Free Press, 1993; Goldscheider E. Witches, Druids, and Other Pagans Make Merry Again // New York Times. 2005. May, 28, P. B7; Nelson R. Tom Hayden, Meet Adam Smith and Thomas Aquinas // Forbes 1990. Oct., 29; Milbank D. Some Heated Words for Mr. Global Warming. Washington Post. 2007. March, 22. P. A02.
(обратно)673
Rees-Mogg W. And Yet the Band Plays On // Times (London). 1994. May, 26.
(обратно)674
Lauer M. Countdown to Doomsday // Sci-Fi Channel. 2006. June, 14.
(обратно)675
См.: Staudenmaier P, Fascist Ecology: The ‘Green Wing’ of the Nazi Party and Its Historical Antecedents; 630/peter.html (доступ к ресурсу осуществлялся 8 мая 2007 года).
(обратно)676
Там же.
(обратно)677
Robert N. Proctor, The Nazi War on Cancer. Princeton, N. J.: Princeton University Press, 2000. P. 139.
(обратно)678
К числу известных сыроедов (или членов движения за употребление «живой пищи») относятся Деми Мур, Вуди Харрельсон, Эд Нортон и Анджела Бассетт (Hitler’s Table Talk. P. 443).
(обратно)679
См., например: и Oliver С. Don’t Put Animal Rights Above Humans // USA Today. June 11. 1990. P. 10A.
(обратно)680
См.: Sullum J. What the Doctor Orders // Reason. Jan. 1996; Sullum J. An Epidemic of Meddling // Reason. 2007. May.
(обратно)681
Proctor, Nazi War on Cancer. P. 120; Sullum J. To Your Health! // National Review. 1999. Sept., 13.; Goldberg J. Gaiam Somebody! //National Review. 2001. March, 19.
(обратно)682
EnviroKidz — неологизм, образованный путем соединения двух слов: enviro (от environment, т. е. «окружающая среда» и kidz (от kids, т. е. «дети»). — Примем, перев.
(обратно)683
Gertner J. The Virtue in $6 Heirloom Tomatoes // New York Times Magazine. 2004. June, 6.
(обратно)684
Историк из Принстонского университета Шон Виленц пишет:
«В глубине души Бьюкенен является представителем старого католического правого лагеря, вторя катехизису противостояния “Новому курсу”, который популяризировал “радиопроповедник” отец Чарльз Кофлин, и мускулистому, истовому, корпоративистскому антикоммунизму, который нашел героя в лице генералиссимуса Франсиско Франко во время гражданской войны в Испании... Он ненавидит государство всеобщего благосостояния, которое он считает навязчивой атеистической силой. Он рассматривает мир за пределами наших границ как буйство дикого трайбализма, и поэтому ему хотелось бы прекратить иммиграцию и вывести Соединенные Штаты из Организации Объединенных Наций. Он имеет склонность к заговорщичеству, как следует из его замечаний о дьявольских “иностранных политических элитах” и о произраильских “первых рядах”, которые якобы контролируют нашу внешнюю политику, а также портят нашу внутреннюю политику». (Third Out // New Republic. 1999. Nov., 22.)
Это описание в основном верно, однако Виленц абсолютно неправ в одном: на самом деле Бьюкенен не испытывает и никогда не испытывал ненависти к государству всеобщего благосостояния. Это серьезное искажение.
(обратно)685
Ivins М. Notes from Another Country // Nation. 1992. Sept., 14.
(обратно)686
Эти и другие цитаты взяты из статьи Рамеша Поннуру (Ponur R. A Conservative No More // National Review. 1999. Oct., 11). Я очень признателен Поннуру за массу полезной информации о Бьюкенене и за эту статью в частности.
(обратно)687
For Buchanan on Zhirinovsky (см.: The Death of the West. N. Y.: St. Martin’s, 2002. P. 18. On Euro-Americans, cm.: The Disposition of Christian Americans. 1998. Nov., 27; -98-1127.html и Un-American Ivy League // New York Post. 1999. Jan., 2.
(обратно)688
См.: Ponnuru. A Conservative No More.
(обратно)689
Речь идет о подполковнике Теодоре Рузвельте, который был заместителем командира полка «мужественных всадников» [Rough Riders]. — Примеч. перев.
(обратно)690
См.: Brooks D. Politics and Patriotism: From Teddy Roosevelt to John McCain // Weekly Standard. 1999. April, 26.; Lowry R. TR and His Fan // National Review. 2000. Feb., 7; Brooks D. A Return to National Greatness: A Manifesto for a Lost Creed // Weekly Standard. 1997. March, 3; Judis J. Are We All Progressives Now? //American Prospect. 2000. May, 8.
(обратно)691
Ponnuru R. Swallowed by Leviathan: Conservatism Versus an Oxymoron: ‘Big-Government Conservatism’ // National Review. 2003. Sept., 29.
(обратно)692
Barnes F. Rebel-in-Chief: Inside the Bold and Controversial Presidency of George W. Bush. N. Y.: Three Rivers Press, 2006 (см. также: Russen N. Interview // CNBC. 2006. Jan., 28).
(обратно)693
См.: Huntington S. Conservatism as an Ideology // American Political Science Review 51. 1957. June; Hayek F. Why I Am Not a Conservative // The Constitution of Liberty. Chicago: University of Chicago Press, 1960.
(обратно)694
См.: Goldberg J. A Lib-Lib Romance // National Review. 2006. Dec., 31.
(обратно)695
В русском издании: «Тайная история американских левых сил от Муссолини до Обамы».
(обратно)696
«Записки федералиста» — сборник из 85 коротких эссе, составленный в 1787-1788 гг. в то время молодыми защитниками новой Конституции США Александром Гамильтоном (Alexander Hamilton), Джеймсом Мэдисоном (James Madison) и Джоном Джеем (John Jay) с целью уговорить конвент Нью-Йорка ратифицировать только что разработанный проект Конституции. По настоящее время эти эссе остаются самым авторитетным комментарием к данному документу.
(обратно)697
«Билль о правах» — первые 10 поправок к Конституции США 1787 г., принятые Конгрессом под давлением широких народных масс в 1789 г.
(обратно)698
Опра Уинфри (Oprah Winfrey, р. 1954) — известная американская актриса и ведущая ток-шоу «Шоу Опры Уинфри».
(обратно)699
Рыцарь-джедай — персонаж кинофильма «Звездные войны».
(обратно)700
Редактор журнала Time Ричард Стенгел заявил каналу MSNBC: «Мне кажется, что с тех пор, как я вернулся в этот журнал, я чувствую, что для журналиста очень важно иметь свой взгляд на вещи. Не всегда можно просто сказать “с одной стороны, с другой стороны”, а решать вам. Люди доверяют нам принимать решения. Мы эксперты в своем деле. Поэтому я подумал, знаете ли, если что-то вызывает у нас на самом деле сильные эмоции, почему бы не сказать об этом».
(обратно)701
Между прочим, такая аргументация со стороны представителей правых сил всегда оказывается недопустимой. Когда правые заявляют, что расизм старшего поколения консерваторов не имеет ничего общего с современным консерватизмом, либералы смеются, словно это утверждение является абсурдным. Более того, представьте себе, что Майк Хакаби позаимствовал страницу из книги Хиллари Клинтон и заявил, что он больше не называет себя консерватором. Теперь он использует слово «конфедерат». Отмахнулись бы эти либералы от такой небылицы? Или же они чудесным образом снова открыли бы для себя значимость истории и важность слов?
(обратно)
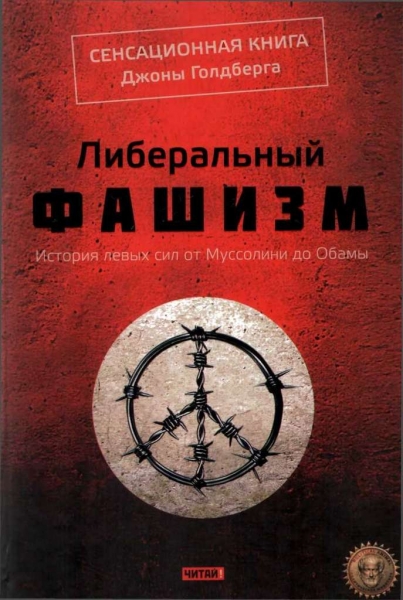



![КГБ вчера и сегодня [СИ]](https://www.4italka.su/images/articles/510860/primary-medium.jpg)
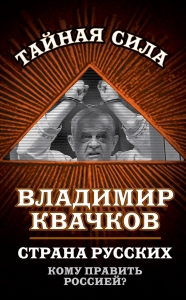


Комментарии к книге «Либеральный фашизм», Джона Голдберг
Всего 0 комментариев