Пол Мейсон Посткапитализм: путеводитель по нашему будущему
Paul Mason
PostCapitalism
A Guide to Our Future
Allen Lane an imprint of Penguin Books
Оформление – ABCdesign
Перевод с английского – Александр Дунаев
Научный редактор – Андрей Володин (Центр экономической истории истфака МГУ имени М.В. Ломоносова)
This edition is published by arrangement with Aitken Alexander Associates Ltd. and The Van Lear Agency LLC
© Paul Mason, 2015
© Дунаев А., перевод, 2016
© ООО «Ад Маргинем Пресс», 2016
Введение
К Днестру мы едем через холодные леса, мимо полуразваленных домов и железнодорожных станций, в расцветке которых преобладает цвет ржавчины. Плавно течет ледяная вода. Царит такая тишина, что слышно, как с ветхого, медленно осыпающегося моста, расположенного выше по течению, падают вниз кусочки цемента.
Днестр – географическая граница между капитализмом свободного рынка и той системой, которой, как ее ни назови, управляет Владимир Путин. Эта река отделяет восточноевропейскую страну Молдавию от отколовшегося от нее Приднестровья, марионеточного государства, находящегося под контролем России, мафии и тайной полиции.
С молдавской стороны пожилые люди, сидя на корточках, продают вещи, которые сами вырастили или сделали: сыр, пирожки, немного репы. Молодежи мало; каждый четвертый взрослый работает за границей. Половина населения зарабатывает меньше 5 долларов в день; каждый десятый живет в такой бедности, которая ничем не уступает Африке[1]. Страна появилась в начале 1990-х годов, на заре неолиберальной эпохи, когда распался Советский Союз и вступили в действие силы рынка – но многие жители, с которыми я разговариваю, предпочли бы жить в путинском полицейском государстве, чем в безобразно нищей Молдавии. Этот серый мир грязных дорог и унылых лиц был порожден не коммунизмом, а капитализмом. А теперь этот капитализм уже не первой свежести.
Конечно, Молдавия – не типичная европейская страна. Но именно на этих задворках мира можно увидеть, как отступает экономическая волна, и проследить причинно-следственные связи между застоем, социальным кризисом, вооруженным конфликтом и эрозией демократии. Экономический крах Запада подрывает веру в ценности и институты, которые когда-то казались нам незыблемыми.
Тем, кто сидит за зеркальными стеклами финансовых центров, все может по-прежнему представляться в розовом свете. С 2008 года триллионы взятых из воздуха долларов текут в банки, хедж-фонды, адвокатские конторы и консалтинговые агентства, поддерживая функционирование глобальной системы.
Но долгосрочные перспективы капитализма не внушают оптимизма. По оценке Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в ближайшие пятьдесят лет в развитом мире рост будет «слабым». Неравенство вырастет на 40 %. Даже в развивающихся странах рост выдохнется к 2060 году[2]. Экономисты ОЭСР высказались очень мягко, а мы скажем прямо: для развитого мира лучшие времена капитализма уже позади, а для остальных стран они закончатся еще при нашей жизни.
Кризис, начавшийся в 2008 году в экономике, превратился в кризис социальный, вызвав массовые волнения. Теперь же, когда революции вылились в гражданские войны и создали военную напряженность между ядерными сверхдержавами, кризис превратился в явление глобального порядка.
В этих условиях есть только два возможных варианта, как он может кончиться. В первом сценарии мировая элита будет цепляться за власть, перекладывая издержки кризиса на плечи трудящихся, пенсионеров и бедняков в ближайшие 10 или 20 лет. Глобальный порядок, навязываемый МВФ, Всемирным банком и Всемирной торговой организацией, выживет, но в ослабевшей форме. Издержки спасения глобализации будут нести обычные люди, живущие в развитом мире. Однако рост застопорится.
Во втором сценарии консенсус будет нарушен. К власти придут крайне правые и левые партии, поскольку обычные люди откажутся платить за бюджетную экономию. Зато одни государства будут пытаться переложить издержки кризиса на другие государства. Тут уже будет не до глобализации – глобальные институты окажутся бессильными, а конфликты, которые бушевали в последние 20 лет: нарковойны, постсоветский национализм, джихадизм, неконтролируемая миграция и сопротивление ей, – разожгут пожар в самом центре системы. При этом сценарии пустая болтовня о международном праве прекратится; пытки, цензура, случайные аресты и массовая слежка станут обычными инструментами управления государством. В сущности, это разновидность того, что произошло в 1930-е годы, и нет гарантий, что это не произойдет снова.
В обоих сценариях к 2050 году серьезное влияние будут оказывать изменения климата, старение населения и демографический рост. Если мы не сможем создать устойчивый мировой порядок и вновь придать экономике динамизм, в десятилетие после 2050 года мир погрузится в хаос.
Поэтому я хочу предложить альтернативу: во-первых, надо спасти глобализацию, ограничив неолиберализм; затем нужно спасти планету – и уберечь нас самих от потрясений и неравенства, – преодолев сам капитализм.
Ограничить неолиберализм – самая простая часть этой задачи. Среди протестных движений, экономистов, придерживающихся радикальных взглядов, и радикальных политических партий в Европе растет консенсус относительно того, как это сделать: следует подавить крупный финансовый капитал, отказаться от бюджетной экономии, вкладывать средства в зеленую энергетику и создавать высокооплачиваемые рабочие места.
Хорошо, а что дальше?
Как показывает опыт Греции, любое правительство, которое бросает вызов бюджетной экономии, незамедлительно сталкивается с глобальными институтами, защищающими «один процент». После того как радикальная левая партия «Сириза» победила на выборах в январе 2015 года, Европейский центральный банк, задача которого заключалась в обеспечении стабильности греческих банков, отключил их от системы жизнеобеспечения, что привело к изъятию вкладов на сумму 20 миллиардов евро. Это поставило левое правительство перед выбором между банкротством и подчинением. Вы не найдете ни протоколов, ни результатов голосований, ни одного объяснения того, что сделал ЕЦБ. Объяснить это взялась правая немецкая газета Stern: Грецию «размазали по стенке»[3]. Эти действия имели символическое значение: они подкрепляли главный посыл неолиберализма о том, что ему нет альтернативы; что любой отход от капитализма заканчивается катастрофой вроде той, что пережил Советский Союз; и что восставать против капитализма значит восставать против естественного порядка вещей, над которым не властно время.
Нынешний кризис не только означает конец неолиберальной модели, но и является симптомом нарастающего несовпадения рыночных систем и экономики, основанной на использовании информации. Цель этой книги состоит в том, чтобы объяснить, почему замена капитализма чем-то другим – это уже не утопическая мечта, и показать, как базовые формы посткапиталистической экономики, которые можно обнаружить в современной системе, смогут быстро распространиться.
Неолиберализм представляет собой доктрину о неконтролируемых рынках, согласно которой самый короткий путь к процветанию – это преследование собственных эгоистических интересов; рынок же является единственным способом выражения этих интересов. Утверждается, что государство должно быть маленьким (это не относится к отделам по борьбе с массовыми беспорядками и к тайной полиции); что финансовые спекуляции – это благо; что неравенство – тоже благо; что человечество в естественном состоянии представляет собой горстку беспощадных индивидов, конкурирующих друг с другом.
Престиж неолиберализма покоится на очевидных достижениях: за последние 25 лет он обеспечил самый большой рывок в развитии, который мир когда-либо переживал, и дал толчок быстрому усовершенствованию ключевых информационных технологий. Однако в то же время он вернул неравенство на уровень, близкий к показателям столетней давности, заставив многих людей бороться за элементарное выживание.
Гражданская война на Украине, которая привела российский спецназ на берега Днестра; победоносное шествие ИГИЛ по Сирии и Ираку; подъем фашистских партий в Европе; паралич НАТО из-за того, что население входящих в нее стран не одобряет военного вмешательства, – все эти проблемы связаны с экономическим кризисом. Они показывают, что неолиберальный порядок провалился.
В последние два десятилетия миллионы людей сопротивлялись неолиберализму, однако в целом сопротивление не принесло результатов. Если оставить в стороне все тактические ошибки и репрессии, причина проста: капитализм свободного рынка – это простая и мощная идея, тогда как выступающие против него силы, казалось, защищали что-то старое, плохое и бессвязное.
Для «одного процента» неолиберализм обладает силой религии: чем больше вы ей следуете, тем лучше вы себя чувствуете – и тем богаче вы становитесь. Когда система начала функционировать в полную силу, попытки выйти за жесткие неолиберальные рамки стали казаться иррациональными даже бедным: ты берешь деньги взаймы, ныряешь и плывешь вдоль берегов налоговой системы, соблюдая бессмысленные правила, навязываемые работой.
И на протяжении десятилетий противники капитализма упивались собственной непоследовательностью. Начиная от антиглобалистского движения 1990-х и заканчивая движением «Оккупай», борцы за социальную справедливость отвергали идею последовательной программы, которая придерживалась бы принципа «Одно нет, много да». Эта непоследовательность логична, если вы считаете, что единственная альтернатива – это то, что в XX веке левые называли «социализмом». Зачем бороться за крупные перемены, если они просто приведут к отходу назад – к государственному контролю и экономическому национализму, к экономикам, работающим только тогда, когда все действуют одинаково или подчиняются жесткой иерархии? В свою очередь, отсутствие ясной альтернативы объясняет, почему протестные движения никогда не добиваются успеха: в глубине души они его и не хотят. В протестном движении для этого даже существует отдельный термин: «отказ от победы»[4].
Чтобы заменить неолиберализм, нам нужно нечто столь же мощное и эффективное; не просто яркая идея, как мир мог бы функционировать, а новая всеобъемлющая модель, которая может действовать самостоятельно и обеспечивать заметно лучший результат. В ее основе должны лежать микромеханизмы, а не диктат или политика; она должна функционировать самопроизвольно. В этой книге я докажу, что существует четкая альтернатива, которая может стать глобальной и к середине XXI века обеспечит намного лучшее будущее, чем обещанное капитализмом.
Эта модель называется «посткапитализм».
Капитализм – это нечто большее, чем просто экономическая структура или совокупность законов и институтов. Это целостная система – социальная, экономическая, демографическая, культурная, идеологическая, – которая необходима для того, чтобы развитое общество могло функционировать в условиях рынка и частной собственности. Она состоит из компаний, рынков и государств. Еще она состоит из криминальных банд, тайных властных структур, проповедников чудес в трущобах Лагоса, аналитиков-жуликов с Уолл-стрит. Капитализм – это обрушившаяся в Бангладеш фабрика Primark и девушки, которые устроили демонстрацию протеста во время открытия магазина Primark в Лондоне, среди толпы, с волнением предвкушавшей распродажу дешевой одежды.
Изучая капитализм как целостную систему, мы можем выявить ряд его отличительных черт. Капитализм подобен живому организму: у него есть свой жизненный цикл – начало, середина и конец. Это комплексная система, не подконтрольная индивидам, правительствам и даже супердержавам. Результаты ее деятельности зачастую противоречат намерениям людей даже тогда, когда они действуют рационально. Капитализм – это еще и обучающийся организм: он постоянно приспосабливается, причем не только в мелочах. В поворотные моменты он видоизменяется и мутирует, реагируя на опасность, и создает модели и структуры, которые вряд ли были бы доступны для понимания предшествующему поколению. Если мы обратим внимание не только на информационные технологии, но и на производство пищи, контроль над рождаемостью или на здравоохранение в глобальном масштабе, – в последние двадцать пять лет человеческие возможности в этих областях выросли больше, чем когда-либо еще. Однако созданные нами технологии несовместимы с капитализмом – ни в его нынешнем, ни, вероятно, в каком-либо другом виде. Когда капитализм утрачивает способность адаптироваться к технологическим изменениям, посткапитализм становится необходимым. Если технологические трансформации приводят к произвольному изменению поведения и созданию новых организаций, посткапитализм становится возможным.
В этом вкратце и заключается основная мысль данной книги: капитализм – это комплексная, приспосабливающаяся система, чьи способности к адаптации достигли предела.
Это, конечно, очень далеко от мейнстрима экономической науки. В годы бума экономисты поверили в то, что система, сложившаяся после 1989 года, вечна и представляет собой совершенное выражение человеческой рациональности, а все ее проблемы могут решить политики и управляющие центральными банками, подправляющие шестеренки под названием «бюджетная и денежная политика».
Рассматривая вероятность того, что новые технологии и старые формы общества могут плохо сочетаться друг с другом, экономисты полагали, что общество просто подстроится к технологиям. Их оптимизм был оправдан, потому что в прошлом такое приспособление имело место. Однако сегодня процесс адаптации буксует.
Информационные технологии отличаются от всех предыдущих. Я расскажу об их произвольной тенденции разлагать рынки, уничтожать собственность и разрывать связь между трудом и зарплатами. Такова подоплека кризиса, который мы сейчас переживаем.
Если из этих трех составляющих складывается единое целое, то на протяжении большей части прошлого века левые имели неверное представление о том, как будет выглядеть конец капитализма. Старая задача левых заключалась в насильственном разрушении рыночных механизмов. Силу, будь то на избирательных участках или на баррикадах, должен был применять рабочий класс. Рычагом воздействия должно было стать государство. Возможность могла представиться во время одного из многочисленных экономических кризисов.
Однако в последние двадцать пять лет проект левых провалился. Рынок разрушил их планы; индивидуализм пришел на смену коллективизму и солидарности; значительно расширившиеся ряды трудящихся мира похожи на «пролетариат», но они не мыслят и не ведут себя по-пролетарски.
Если вы ненавидели капитализм и все это пережили, это было очень болезненно. Вместе с тем технологии проложили новый путь, по которому должны пойти оставшиеся представители прежних левых – и все силы, испытывающие на себе их влияние; в противном случае они погибнут.
Выясняется, что капитализм не будет упразднен форсированными методами. Он будет упразднен за счет создания чего-то более динамичного, что уже существует в рамках старой системы. Пусть это на первый взгляд и незаметно, но оно уже прорывается и перестраивает экономику на основе новых ценностей, поведенческих моделей и норм. Подобно феодализму пятьсот лет назад, отмирание капитализма будет ускорено внешними потрясениями и будет сопровождаться становлением человека нового типа. И этот процесс уже начался.
Посткапитализм возможен благодаря трем последствиям развития новых технологий в последние двадцать пять лет.
Во-первых, информационные технологии уменьшили необходимость труда, размыли границы между трудом и свободным временем и ослабили связь между работой и зарплатами.
Во-вторых, информационные товары разъедают способность рынка к правильному ценообразованию. Это происходит потому, что рынки исходят из принципа дефицита, тогда как информация присутствует в изобилии. Защитный механизм системы порождает монополии в невиданных за последние двести лет масштабах – а это не может продолжаться вечно.
В-третьих, мы наблюдаем произвольный подъем совместного производства: появление товаров, услуг и организаций больше не отвечает диктату рынка и управленческой иерархии. Крупнейший информационный продукт в мире – Википедия – бесплатно создается усилиями 27 тысяч добровольцев, из-за чего уничтожается энциклопедический бизнес, а рекламная индустрия лишается ежегодных доходов в размере трех миллиардов долларов.
В нишах и пустотах рыночной системы целые пласты экономической жизни почти незаметно начинают двигаться в другом ритме. Параллельные валюты, банки времени, кооперативы и самоуправляемые пространства получили широкое распространение, хотя и практически ускользнули из поля зрения профессиональных экономистов. Зачастую это было следствием разложения старых структур после кризиса 2008 года.
Новые формы собственности, новые формы кредитования, новые законные контракты: в последние десять лет сложилась целая деловая структура, которую СМИ окрестили «долевой экономикой». Стали расхожими термины вроде «общественные блага» и «одноранговое производство», однако мало кто задается вопросом, что это означает для самого капитализма.
Мне кажется, что все это может стать решением – но только в том случае, если такие проекты, развивающиеся на микроуровне, получат поддержку и защиту за счет масштабных изменений в политике правительств. Последние, в свою очередь, должны зависеть от нашего изменяющегося отношения к технологиям, собственности и работе. Когда мы создаем элементы новой системы, мы должны быть способны сказать себе и другим: для меня это уже не механизм выживания и не убежище от неолиберального мира, а новый образ жизни, который находится в процессе становления.
В старом социалистическом проекте государство берет верх над рынком, управляет им в интересах бедных, а не богатых, и затем переводит ключевые производственные отрасли из сферы рынка в плановую экономику. Единственная попытка это осуществить, предпринятая в России после 1917 года, успехом не увенчалась. Могло ли это работать – вопрос хороший, но бесплодный.
Сегодня облик капитализма изменился – стал глобальным и фрагментарным, опирающимся на микрорешения, на временную работу и на множественность навыков. Потребление стало формой самовыражения, и миллионы людей заинтересованы в существовании финансовой системы больше, чем когда-либо прежде.
В этом новом антураже старый путь утерян. Однако открылся новый путь. Совместное производство, использующее сетевые технологии для изготовления товаров и оказания услуг, которые могут существовать, только если они бесплатны, указывает путь отхода от рыночной системы. Для создания структуры ему нужно государство, и посткапиталистический сектор может сосуществовать с рыночным на протяжении десятилетий. И это уже происходит.
Сети восстанавливают «дробность» посткапиталистического проекта, т. е. они могут служить основой для нерыночной системы, которая воспроизводит саму себя и которую не нужно создавать заново каждое утро на мониторе комиссара.
В этот переход окажутся вовлечены государство, рынок и совместное производство за пределами рынка. Однако, для того чтобы это произошло, нужно перестроить весь левый проект, от протестных групп до ключевых социал-демократических и либеральных партий. Действительно, когда люди поймут безотлагательность этого посткапиталистического проекта, он перестанет быть собственностью левых, превратившись в намного более широкое движение, для которого нам, возможно, потребуются новые обозначения.
Кто может это осуществить? Раньше левые считали, что такое по силам промышленному рабочему классу. Более двухста лет назад радикальный журналист Джон Телволл предупреждал людей, строивших фабрики в Англии, о том, что они создали новую, опасную форму демократии: «Всякий крупный цех и завод – это своего рода политическое общество, которое парламентские законы не могут заставить молчать, а судьи не в силах распустить»[5].
Сегодня все общество представляет собой фабрику – а коммуникационные сети, необходимые для повседневной работы и получения прибыли, быстро распространяют знания и недовольство. Сегодня эти сети, как и фабрику двести лет назад, нельзя «заставить молчать или распустить».
Конечно, можно закрыть доступ к Facebook или Twitter, да и вообще к интернету и мобильным сетям во время кризиса, и заодно парализовать всю экономику. Можно сохранять и отслеживать каждый килобайт информации, который мы производим. Но невозможно вновь навязать иерархическое невежественное общество, обрабатываемое пропагандой образца пятидесятилетней давности, если только, подобно Китаю, Северной Корее или Ирану, не решить вообще отказаться от ключевых сфер современной жизни. Как говорит социолог Мануэль Кастельс, это было бы похоже на попытку деэлектрифицировать целую страну[6].
Создав сети, включающие миллионы людей, которые подвергаются финансовой эксплуатации, но которым достаточно пару раз дотронуться до экрана, чтобы получить доступ ко всем достижениям человеческого разума, информационный капитализм породил новый источник перемен в истории: образованных и связанных между собой людей.
В результате после 2008 года мы могли наблюдать волнения нового типа. Оппозиционные движения вышли на улицы, полные решимости бороться с властными структурами и с порождаемыми иерархией злоупотреблениями, чтобы обезопасить себя от ошибок, которые были свойственны левым в XX веке.
Ценности, мнения и нравы сетевого поколения были столь очевидны в этих протестах, что СМИ поначалу решили, что они все – от испанского движения indignados до «арабской весны» – порождены Facebook и Twitter. Затем, в 2013–2014 годах, протесты вспыхнули в ключевых развивающихся странах: в Турции, Бразилии, Индии, на Украине и в Гонконге. Миллионы людей вышли на улицы, ведомые сетевым поколением, – однако на этот раз они выступали против наиболее очевидных сбоев современного капитализма.
В Стамбуле в июне 2013 года на баррикадах вокруг парка Гези я встречал докторов, разработчиков программного обеспечения, курьеров и бухгалтеров – профессионалов, которым восьмипроцентный рост турецкого ВВП не мог компенсировать того, что находящиеся у власти исламисты лишили их атрибутов современного образа жизни.
В Бразилии экономисты, радовавшиеся становлению нового среднего класса, вдруг стали низкооплачиваемыми работниками. Они вырвались из жизни в трущобах и попали в мир регулярных зарплат и банковских счетов, где их ждало отсутствие базовых благ и всесилие безжалостных полицейских и продажных чиновников. В ответ они массово ринулись на улицы.
В Индии протесты, вспыхнувшие после изнасилования и убийства студентки в 2012 году, стали сигналом того, что и здесь образованное сетевое поколение больше не будет мириться с патернализмом и отсталостью.
Большинство этих протестных движений выдохлось. «Арабская весна» либо была подавлена, как в Египте и Бахрейне, либо вытеснена исламизмом, как в Ливии и Сирии. В Европе репрессивная политика и объединенный фронт всех партий, выступающий за бюджетную экономию, заткнули рот indignados. Однако протесты показали, что революция в очень сложном обществе, основанном на использовании информации, будет выглядеть совершенно иначе по сравнению с революциями ХХ столетия. Без сильного, организованного рабочего класса, который быстро выводит социальные проблемы на первый план, протесты часто буксуют. Однако порядок никогда не восстанавливается полностью.
Вместо того чтобы сразу переходить от мыслей к действию – как делали радикалы XIX и XX веков, – молодежь под давлением репрессивных сил стала более радикальной и мечущейся между мыслями и действиями: можно сажать людей в тюрьму, пытать и изводить их, но нельзя остановить их идейное сопротивление.
В прошлом идейный радикализм был бы бессмысленным в отсутствие власти. Сколько поколений повстанцев ютились на чердаках и писали гневные поэмы, в которых клеймили несправедливость мира и сокрушались по поводу собственного бессилия? Однако в информационной экономике связь между идеями и действием меняется.
В высокотехнологичной инженерии, прежде чем любая металлическая деталь обретает реальную форму, предметы проектируются виртуально, испытываются виртуально и даже «изготавливаются» виртуально – весь процесс моделируется с начала и до конца на компьютерах. Ошибки обнаруживаются и исправляются на стадии проектирования – до появления трехмерного моделирования это было невозможно.
По аналогии то же касается и проектирования посткапитализма. В информационном обществе ни одна мысль, дискуссия или мечта не проходит незаметно. И неважно, где она возникла – в палаточном лагере, в тюремной камере или в ходе моделирования начинающей компании.
При переходе к посткапиталистической экономике работа, выполняемая на стадии проектирования, позволяет уменьшить ошибки, допускаемые на стадии выполнения. Как и в случае с программным обеспечением, проектирование посткапиталистического мира может быть модульным. Разные люди работают над ним в разных местах, с разной скоростью и относительно самостоятельно друг от друга. Нам нужен не план, а модульная разработка проекта.
Однако нужна она срочно.
Моя задача здесь заключается не в том, чтобы предложить экономическую стратегию или руководство по организации. Она состоит в выявлении новых противоречий капитализма для того, чтобы люди, движения и партии могли получить более точные координаты путешествия, которое они пытаются совершить.
Главное противоречие сегодня – это противоречие между возможностью беспрепятственного получения бесплатных товаров и информации и системой монополий, банков и правительств, которые пытаются добиться того, чтобы вещи оставались в частном владении, чтобы их было мало и чтобы они продавались. Все сводится к борьбе между сетями и иерархией, между старыми формами общества, построенного на основе капитализма, и новыми формами общества, которые предвосхищают то, что наступит в будущем.
В условиях этих перемен ставки для властной элиты высоки. Пока я писал эту книгу, по долгу моей основой работы корреспондентом я оказался свидетелем трех значимых конфликтов, показывающих, насколько беспощадно готова реагировать элита.
В Газе в августе 2014 года я провел десять дней в общине, которую регулярно бомбили беспилотники, расстреливали артиллерия и снайперы. Полторы тысячи мирных жителей были убиты, треть из них – дети. В феврале 2015 года я увидел, как американские конгрессмены двадцать пять раз вставали и прерывали овациями человека, который отдал приказ о нанесении этих ударов.
В Шотландии в сентябре 2014 года я очутился посреди внезапного и совершенно непредвиденного радикального массового движения, выступавшего за независимость от Великобритании. Получив возможность порвать с неолиберальным государством и начать все с начала, миллионы молодых людей сказали «да». Они проиграли – хотя и с минимальным отрывом – после того как главы крупнейших корпораций пригрозили вывести свои операции за пределы Шотландии, а Банк Англии вдобавок объявил о намерении противодействовать стремлению Шотландии продолжать использовать фунт стерлингов.
Затем в Греции в 2015 году я видел, как эйфория сменилась отчаянием, когда демократические чаяния населения, впервые за семьдесят лет проголосовавшего за левых, были попраны Европейским центральным банком.
В любом случае, борьба за справедливость столкнулась с реальной властью, которая правит миром.
В 2013 году, анализируя медленный прогресс политики бюджетной экономии в Южной Европе, экономисты JP Morgan пришли к однозначному выводу: чтобы неолиберализм мог выжить, демократия должна отмереть. У Греции, Португалии и Испании, предупреждали они, имелись «традиционные проблемы политического характера»: «Конституции и политические установления в периферийных странах Юга Европы, принятые сразу после падения фашистских режимов, обладают многими чертами, которые препятствуют дальнейшей интеграции в данном регионе»[7]. Иными словами, народы, которые требовали создания достойных систем социального обеспечения в обмен на мирный переход от диктатуры к демократии в 1970-е годы, теперь должны от них отказаться для того, чтобы банки вроде JP Morgan могли выжить.
Сегодня, когда дело доходит до борьбы между элитами и народами, которыми они управляют, не существует Женевской конвенции: робокопы стали первой линией обороны против мирных протестов. Электрошокеры, звуковые лазеры и слезоточивый газ, наряду с навязчивой слежкой, внедрением агентов и дезинформацией, стали привычными средствами обеспечения правопорядка. А центральные банки, о действиях которых большинство людей не имеют ни малейшего понятия, готовы подрывать демократию, добиваясь панического изъятия банковских вкладов там, где возникает угроза прихода к власти движений, выступающих против неолиберализма – как произошло на Кипре в 2013 году, затем в Шотландии и теперь в Греции.
Элита и ее сторонники встали на защиту ключевых принципов: свободы крупного финансового капитала, низких зарплат, секретности, милитаризма, интеллектуальной собственности и углеродной энергетики. Плохая новость состоит в том, что они контролируют почти все правительства в мире. Хорошая – в том, что в большинстве стран они практически не имеют поддержки и непопулярны среди обычных людей.
Однако этот зазор между их популярностью и их властью таит опасность. Как я обнаружил на берегах реки Днестр, диктатура, которая обеспечивает дешевый газ и работу вашему сыну, служащему в армии, может выглядеть лучше, чем демократия, которая оставляет вас умирать от голода и от холода.
В подобной ситуации знание истории оказывается важнее, чем вы думаете.
Неолиберализм с его верой в окончательность и безальтернативность свободных рынков попытался переписать всю предшествующую историю человечества под заголовком «то, что шло до нас не так». Однако когда вы начинаете размышлять над историей капитализма, вы поневоле задаетесь вопросом, какие именно события из общего хаоса являются частью повторяющейся модели, а какие – частью необратимых изменений?
Поэтому, хотя задача этой книги состоит в том, чтобы предложить рамки для будущего, некоторые ее части будут посвящены прошлому. В первой части речь пойдет о кризисе и о том, как мы к нему пришли. Вторая часть описывает новую, комплексную теорию посткапитализма. В третьей части исследуется то, какие формы может принять переход к посткапитализму.
Утопия ли это? Утопические социалистические общины середины XIX века потерпели неудачу потому, что экономика, технологии и человеческий капитал не достигли необходимого уровня развития. Благодаря информационным технологиям стало возможным осуществление многих идей утопического социалистического проекта: от кооперативов до общин и эмансипированного поведения, которое позволяет переосмыслить человеческую свободу.
Нет, это элита, отрезанная от всего в своем обособленном мире, кажется такой же утопической, как идеи милленаристских сект XIX века. Демократия спецназа, коррумпированных политиков, контролируемых магнатами газет и тотальной слежки выглядит такой же фальшивой и хрупкой, как Восточная Германия тридцать лет назад.
Любая интерпретация человеческой истории должна предполагать вероятность краха. Популярная культура одержима им. Страх преследует нас в фильмах о зомби и катастрофах, в пустынных постапокалиптических пейзажах «Дороги» или «Элизиума». Однако почему мы, разумные существа, не можем рисовать картины идеальной жизни, совершенного общества?
Миллионы людей начинают осознавать, что им продали мечту, которую они никогда не смогут осуществить. Вместо нее нам нужно больше чем просто набор разных грез. Нам нужен ясный проект, основанный на разуме, фактах и планах, которые можно проверить опытным путем, проект, который сообразуется с экономической историей и который осуществим с экологической точки зрения.
И нам нужно его воплотить.
Часть I
Для историков каждое событие уникально. Однако экономическая наука полагает, что силы в обществе и в природе действуют по повторяющимся схемам.
Чарльз Киндлбергер[8]Глава 1. Неолиберализм вышел из строя
Когда 15 сентября 2008 года обанкротился Lehman Brothers, мой оператор заставил меня несколько раз пройтись мимо беспорядочно стоявших лимузинов, грузовиков со спутниковыми тарелками, телохранителей и разорившихся банкиров у главного офиса банка в Нью-Йорке, чтобы заснять меня посреди хаоса.
Глядя на эту толкотню почти семь лет спустя, когда мир еще не оправился от последствий того дня, я задаюсь вопросом: что знает сейчас этот парень, прогуливающийся перед камерой, такого, чего не знал тогда?
Я знал, что началась рецессия: я только что проехал через всю Америку, снимая репортаж о закрытии 600 кафе Starbucks. Я знал, что мировая финансовая система находилась под давлением: я рассказал об опасениях о том, что один из крупнейших банков стоит на грани разорения, за шесть недель до его краха[9]. Я знал, что жилищный рынок США был разрушен: в Детройте я видел дома, которые продавались за восемь тысяч долларов наличными. И, вдобавок ко всему этому, я знал, что не люблю капитализм.
Но я понятия не имел, что капитализм в его нынешней форме находится на пороге самоуничтожения.
Крах 2008 года сократил мировое производство на 13 %, а мировую торговлю – на 20 %. Он снизил мировой рост до отрицательных значений – в той системе координат, где все, что находится ниже 3 %, считается рецессией. На Западе это привело к фазе депрессии, которая оказалась более длительной, чем в 1929–1933 годах, и даже теперь, в условиях неуверенного восстановления, большинство экономистов леденеют от ужаса перед перспективой длительного застоя.
Однако депрессия, наступившая после краха Lehman Brothers, – не главная проблема. Главная проблема в том, что наступит после. А для того, чтобы понять это, мы должны отвлечься от непосредственных причин краха 2008 года и обратиться к его глубинным корням.
Когда в 2008 году рухнула мировая финансовая система, не понадобилось много времени, чтобы выявить непосредственную причину кризиса: долги, скрытые в неверно оцененных продуктах под названием «структурные инвестиционные инструменты»; сеть офшорных нерегулируемых компаний, которая стала известна как «теневая банковская система» тогда, когда начала рушиться[10]. Затем, когда начались судебные процессы, мы смогли оценить масштаб преступных действий, которые накануне кризиса стали привычными[11].
Однако в конечном итоге мы все работали вслепую. А все потому, что модели неолиберального экономического кризиса не существует. Даже если вы не принимаете всю идеологию – конец истории, плоский мир, бесконфликтный капитализм, – базовая идея, на которой держится система, заключается в том, что рынок исправляет сам себя. И тогда, и сейчас вероятность того, что неолиберализм может рухнуть под тяжестью собственных противоречий, большинству кажется неприемлемой.
Семь лет спустя система стабилизировалась. Доведя размеры государственных долгов почти до 100 % от ВВП и печатая деньги в масштабах, соответствующих шестой части мирового производства, Америка, Великобритания, Китай и Япония вкололи дозу адреналина, чтобы нейтрализовать конвульсии. Они спасли банки, похоронив их плохие долги; часть их была списана, часть переквалифицирована в суверенный долг, часть скрыта в организациях, которые стали безопасными лишь потому, что центральные банки облекли их своим доверием.
Затем, посредством программ бюджетной экономии, они перенесли бремя с людей, которые бездумно инвестировали свои деньги, на получателей социальных пособий, работников бюджетной сферы, пенсионеров и прежде всего на будущие поколения. В странах, пострадавших сильнее всего, пенсионные системы разрушены, возраст выхода на пенсию повышен настолько, что те, кто сейчас заканчивают университет, выйдут на пенсию в семьдесят лет, а образование приватизируется, в результате чего выпускники вузов будут выплачивать долги всю жизнь. Системы оказания услуг демонтируются, а инфраструктурные проекты приостанавливаются.
При этом даже сейчас многие люди не могут уловить истинное значение понятия «бюджетная экономия». «Бюджетная экономия» – это не семь лет сокращения расходов, как в Великобритании, и даже не социальная катастрофа, навязанная Греции. Истинное значение бюджетной экономии раскрыл генеральный директор компании Prudential Тиджан Тиам на Давосском форуме в 2012 году. Профсоюзы – это «враги молодежи», сказал он, а минимальная зарплата – «это машина для уничтожения рабочих мест». Права рабочих и достойные зарплаты стоят на пути восстановления капитализма, а значит, ничтоже сумняшеся заявляет финансист-миллионер, они должны исчезнуть[12].
В этом и заключается подлинная цель проекта бюджетной экономии: снизить зарплаты и жизненный уровень на Западе на долгие десятилетия, пока они не сравняются с растущим уровнем среднего класса в Китае и Индии.
Тем временем, в отсутствие какой-либо альтернативной модели, складываются условия для нового кризиса. Реальные зарплаты снизились или остались на прежнем уровне в Японии, Южной Европе, США и Великобритании[13]. Теневая банковская система восстановилась и превзошла масштабы, которых достигла до 2008 года[14]. Совокупный долг банков, домохозяйств, компаний и государств всего мира с начала кризиса вырос на 57 триллионов и сегодня почти в три раза превышает мировой ВВП[15]. Новые правила, требующие от банков держать больше резервов, были смягчены и отложены. А один процент населения стал еще богаче.
Если на финансовых рынках опять начнется ажиотаж, за которым последует новый крах, второго спасения банков может не случиться. Если учесть, что правительственные долги находятся на самом высоком уровне за всю послевоенную эпоху, а системы социального обеспечения в некоторых странах парализованы, то патронов в обойме не осталось – по крайней мере таких, какими стреляли в 2009–2010 годах. Спасение Кипра в 2013 году стало проверкой того, что происходит, когда разоряется крупный банк или государство. Вкладчики банков потеряли все, что превосходило лимит в 100 тысяч евро.
Вот краткое изложение того, что я узнал с того дня, когда умер Lehman: следующее поколение будет беднее, чем нынешнее. Старая экономическая модель не работает и не может обеспечить возобновление роста, не приведя к возобновлению финансовой нестабильности. Рынки в тот день послали нам сигнал о будущем капитализма, но тогда я понял его лишь отчасти.
«Еще один наркотик, на котором мы сидим…»
В будущем мы должны будем обращать внимание на значки, смайлики и цифровые сигналы, которые финансисты используют, когда знают, что делают что-то не так.
«Это еще один наркотик, на котором мы сидим», – признает в своем письме менеджер Lehman, запуская скандально известную схему «Репо 105». Схема позволяла скрыть долги из баланса Lehman посредством их «продажи» и последующего выкупа после того, как банк представлял свой квартальный отчет. Другого менеджера Lehman спрашивают: легальна ли эта схема, поступают ли так же другие банки и маскирует ли это дыры в нашем балансе? Он отвечает: «Да, нет, да:)»[16].
В рейтинговом агентстве Standard&Poor’s, которое сознательно неверно оценило риск, один сотрудник пишет другому: «Будем надеяться, что мы будем богатыми и на пенсии, когда этот карточный домик обвалится» – и добавляет значок «:0)»[17].
Тем временем трейдер Фабрис Турр из лондонского филиала Goldman Sachs шутит:
Уровень использования заемных средств в системе все растет и растет, вся система вот-вот рухнет… единственный, кто может выжить, – великолепный Фаб… стоящий посреди всех этих сложных, экзотических сделок с большим объемом заемных средств, которые он провел, не всегда понимая всех последствий этих безобразий!!!
Чем больше фактов преступного поведения и коррупции становится известно, тем яснее проявляется эта неформальность общения среди банкиров, нарушающих правила. «Готово, все для тебя, мой мальчик», – пишет один сотрудник Barclays другому, когда они манипулируют Лондонской межбанковской ставкой предложения (LIBOR), по которой банки одалживают средства друг другу и которая является самой важной процентной ставкой на планете[18].
Мы должны внимательно прислушаться к интонации этих мейлов, к их иронии, бесчестности, частому использованию смайликов, сленгу и сумасшедшей пунктуации. Это признак системного самообмана. Находясь в самом сердце финансовой системы, которая, в свою очередь, является сердцем неолиберального мира, они знали, что она не работает.
Джон Мейнард Кейнс однажды назвал деньги «связующим звеном между настоящим и будущим»[19]. Он имел в виду, что то, что мы делаем с деньгами сегодня, является сигналом того, как, на наш взгляд, ситуация изменится в ближайшие годы. До 2008 года мы занимались тем, что значительно увеличивали объем денег: мировое предложение денег выросло с 25 до 70 триллионов долларов за семь лет, предшествовавшие краху, – несравнимо быстрее, чем росла реальная экономика. Если деньги увеличиваются в таком темпе, это показывает, будто мы считаем, что будущее будет намного богаче, чем настоящее. Кризис стал просто ответным сигналом из будущего: мы ошибались.
Все, что могла сделать мировая элита, когда разразился кризис, – это поставить еще больше фишек на рулетку. Найти около 12 триллионов долларов для количественного смягчения не представляло проблемы, поскольку элита и была кассиром в этом казино. Но в течение некоторого времени она должна была повышать ставки более плавно и действовать менее опрометчиво[20].
В этом, собственно, и состоит мировая политика с 2008 года. Печатается так много денег, что стоимость их заимствования для банков падает до нуля или даже становится отрицательной. Когда реальная процентная ставка становится отрицательной, вкладчики, – которые могут обезопасить свои деньги только путем покупки правительственных облигаций, – вынуждены отказаться от каких-либо доходов со своих сбережений. Это, в свою очередь, стимулирует восстановление рынков недвижимости, товаров, золота и акций, поскольку заставляет вкладчиков инвестировать свои средства в эти более рискованные сферы. На настоящий момент результатом является шаткое восстановление, однако стратегические проблемы остаются нерешенными.
Рост в развитом мире слаб. Америка восстановилась лишь потому, что довела федеральный долг до 17 триллионов долларов. Триллионы напечатанных долларов, иен, фунтов стерлингов, а теперь и евро по-прежнему находятся в обращении. Долги западных домохозяйств не выплачиваются. Целые города-призраки, построенные со спекулятивными целями, от Испании до Китая, остаются нераспроданными. Еврозона, возможно самая важная и хрупкая экономическая конструкция в мире, по-прежнему пребывает в застое, в результате чего политические разногласия между классами и странами лишь усиливаются, грозя разнести ее в клочья.
Это не может продолжаться долго – если только будущее не принесет нам сказочных богатств. Однако экономика, которая рождается из кризиса, неспособна создать такие богатства. А значит, сейчас настал решающий момент и для неолиберальной модели, и для самого капитализма, как я покажу во второй главе.
Если мы перемотаем пленку и вернемся в Нью-Йорк сентября 2008 года, вы увидите, насколько рациональным был оптимизм, на котором основывался бум. В моем репортаже, снятом тогда, можно увидеть толпу людей, стоящих у главного офиса Lehman и фотографирующих на свои телефоны Nokia, Motorola и Sony Ericsson. Эти мобильники давно устарели, доминирование на рынке этих брендов уже ушло в прошлое.
Быстрое развитие цифровых технологий, на котором основывался бум до 2007 года, лишь на мгновение взяло передышку во время экономического спада. В годы, последовавшие за крахом Lehman, мир завоевали iPhone, которых затем превзошли смартфоны на платформе Android. Стали популярны планшеты и электронные книги. Социальные сети, о которых тогда мало кто говорил, стали играть ключевую роль в жизни людей. У Facebook было 100 миллионов пользователей, когда Lehman разорился; сейчас, когда пишется эта книга, у него 1,3 миллиарда пользователей, что превышает количество тех, кто пользовался интернетом во всем мире в 2008 году[21].
А ведь технологический прогресс не ограничен лишь цифровой сферой. За эти семь лет, несмотря на финансовый кризис и на масштабное землетрясение, Toyota произвела 5 миллионов гибридных автомобилей – в 5 раз больше, чем за все время до кризиса. В 2008 году мощность солнечной генерации электроэнергии в мире составляла 15 тысяч мегаватт; к 2014 году она увеличилась в десять раз[22].
Это была ни с чем не сравнимая депрессия. На фоне кризиса и застоя новые технологии внедрялись быстрее, чем в 1930-е годы. А с политической точки зрения эта депрессия была полной противоположностью 1930-х годов. Вместо того чтобы усугублять кризис, как это было в 1930-е годы, мировая элита применила политические инструменты для того, чтобы поддержать реальную экономику, зачастую действуя вразрез с тем, чего требовали ее собственные экономические теории. А в ключевых развивающихся странах после 2008 года растущий спрос на сырьевые товары вкупе с монетарным стимулированием в глобальном масштабе обеспечил экономическое процветание.
Благодаря совокупному воздействию технологического прогресса, политических стимулов и устойчивости развивающихся рынков нынешняя депрессия в человеческом отношении оказалась намного более мягкой, чем та, что разразилась в 1930-е годы. Однако ее значение как переломного момента больше, чем значение депрессии 1930-х годов. Чтобы понять, почему это так, мы должны исследовать причинно-следственные связи.
И левые, и правые экономисты усматривают непосредственную причину кризиса в «дешевых деньгах», т. е. в решении о дерегулировании банковского сектора и ослаблении кредитных требований, которое западные государства приняли после краха интернет-компаний в 2001 году. Оно создало почву для пузыря структурированных финансов – и повод для всех преступлений: фактически политики сказали банкирам, что те обязаны богатеть посредством спекулятивных финансовых операций, благодаря чему их богатство будет стекать ко всем остальным.
Признание ключевой роли, которую играют дешевые деньги, ведет к более глубокой проблеме: «глобальным дисбалансам» – разделению труда, которое позволило таким странам, как США, жить в кредит, имея большой дефицит, в то время как другую сторону в игре представляли Германия, Китай и другие страны-экспортеры. Конечно, эти дисбалансы лежали в основе избыточного кредитования в западных странах. Но почему они существовали? Почему китайские домохозяйства сберегали 25 % своих заработков и одалживали их через глобальную финансовую систему американским работникам, которые не сберегали ничего?
В 2000-е годы экономисты вели споры вокруг противоречивших друг другу объяснений: вина возлагалась либо на избыточные сбережения экономных азиатов, либо на избыточные заимствования расточительных жителей Запада. Как бы то ни было, дисбалансы были суровой реальностью. Если начать копать глубже, натыкаешься на твердыню глобализации. В традиционной экономической науке глобализацию ставить под сомнение нельзя: она есть – и точка.
«Плохие банковские операции плюс несбалансированный рост» – этим тезисом стали объяснять кризис. Достаточно привести в порядок банки, снизить долги, восстановить равновесие в мире – и все наладится. Этим утверждением политика руководствовалась с 2008 года.
Однако теперь сохранение низких темпов роста развеяло благодушие даже традиционных экономистов. В 2013 году Ларри Саммерс, министр финансов США при Билле Клинтоне и архитектор дерегулирования банков, потряс мир экономистов своим предупреждением о том, что Западу предстоит «вековой застой», т. е. низкий рост в обозримом будущем. «К сожалению, – признавал он, – низкий рост имел место в течение долгого времени, однако его скрывала неустойчивая финансовая система»[23]. Маститый американский экономист Роберт Гордон пошел еще дальше, предсказав США в ближайшие двадцать пять лет низкие темпы роста как следствие более низкой производительности труда, старения населения, высоких долгов и растущего неравенства[24]. Неспособность капитализма восстановиться сместила фокус внимания со сценария десятилетнего застоя, вызванного нависающими долгами, к сценарию, по которому система никогда не сможет вернуть себе былой динамизм. Никогда.
Чтобы понять, насколько рациональны эти зловещие предостережения, мы должны критически проанализировать четыре фактора, которые сначала обеспечили неолиберализму процветание, а затем стали его разрушать. Вот они:
Декретные (фиатные) деньги, позволившие смягчать каждый спад за счет ослабления кредитной политики и обеспечившие всему западному миру возможность жить в долг.
Финансиализация, заменившая кредитами переставшие расти доходы рабочей силы на Западе.
Глобальные дисбалансы и риски, связанные с крупными долгами и денежными резервами ведущих стран.
Информационные технологии, которые позволили произойти всему остальному, но вклад которых в будущий рост вызывает сомнения.
Судьбы неолиберализма зависят от того, сохранят ли свое влияние эти четыре фактора. В долгосрочном плане судьбы капитализма зависят от того, что произойдет, если их влияние сойдет на нет. Рассмотрим их подробнее.
Фиатные (декретные) деньги
В 1837 году только что провозглашенная Техасская республика выпустила свои первые банкноты. Некоторые из них, чистые и хрустящие, сохранились до наших дней в государственных музеях. Новая страна, не располагавшая золотым запасом, обещала выплачивать обладателям этих купюр доход в размере 10 % в год. К 1839 году стоимость техасского доллара упала до 40 центов доллара американского. К 1842 году купюры стали столь непопулярными, что техасское правительство отказалось принимать ими уплату налогов. Вскоре после этого народ начал требовать, чтобы США аннексировали Техас. К 1845 году, когда это, наконец, произошло, стоимость техасского доллара в значительной мере восстановилась. Затем, в 1850 году, США списали техасский государственный долг на сумму 10 миллионов долларов.
В учебниках эта история преподносится как пример того, что происходит с «фиатными деньгами», т. е. с деньгами, не обеспеченными золотом. Латинское слово fiat означает то же, что и в библейской фразе fiat lux – «да будет свет»; оно означает «да будут деньги», созданные из ничего. В Техасе были земля, скот и торговля, но их не хватало, чтобы обеспечить 4 миллиона напечатанных долларов и гарантировать 10 миллионов государственного долга. Бумажные деньги обесценились, а Техасская республика в конечном счете исчезла.
В августе 1971 года США решили повторить эксперимент, на этот раз использовав в качестве лаборатории весь мир. Ричард Никсон в одностороннем порядке разорвал договор, по которому все прочие валюты привязывались к доллару, а доллар – к золоту. С тех пор мировая валютная система основана на фиатных деньгах.
В конце 1960-х годов будущий глава Федеральной резервной системы Алан Гринспен выступил против предлагавшегося отхода от золота, назвав его заговором, который устроили «сторонники государства благоденствия» для того, чтобы финансировать правительственные расходы путем конфискации денег у народа[25]. Однако тогда он, как и вся остальная американская элита, понимал, что это в первую очередь позволит США конфисковать средства других стран – и подготовит почву для манипуляций валютой, которыми Вашингтон затем занимался в течение трех десятилетий. В результате Америка смогла накопить к моменту написания этой книги 6 триллионов долларов долга перед остальным миром[26].
Переход к чисто бумажным деньгам сделал возможной реализацию всех остальных стадий неолиберального проекта. Американским правым понадобилось много времени, чтобы заявить, что они им не нравятся. Однако сегодня правые экономисты в один голос яростно клеймят фиатные деньги. Их критики считают, что они стали главной причиной бума и краха – и отчасти они правы.
Благодаря отказу от золота и от фиксированных обменных ставок проявились три ключевые черты неолиберальной эры: расширенное создание денег банками, уверенность в том, что все кризисы можно решить, и представление о том, что доходы, получаемые от спекуляций, могут расти до бесконечности. Эти черты настолько укоренились в сознании миллионов людей, что, когда они перестали работать, это привело к полной беспомощности.
То, что банки «создают» деньги, для некоторых людей новость, однако банки занимались этим всегда: они всегда одалживали наличных больше безопасного уровня. Однако в системе, существовавшей до 1971 года, имелись юридические ограничения для такого создания денег. В США банки должны были держать 20 долларов наличными на каждые 100 долларов вкладов, чтобы вкладчики могли в любой момент забрать сбережения со счета. Даже если каждый пятый вкладчик обращался в банк, чтобы забрать все свои деньги, этого вполне хватало[27].
На каждой стадии развития неолиберальный проект устранял эти ограничения. Первое Базельское соглашение, заключенное в 1988 году, установило планку резервов на уровне 8 долларов на каждые 100 долларов займов. К моменту принятия «Базеля II» в 2004 году вклады и займы стали слишком сложными, чтобы их можно было уравновесить простым процентным соотношением. Поэтому правила были изменены: теперь вы должны были «оценивать» свой капитал в зависимости от его качества – а качество должно было определяться рейтинговым агентством. Вы должны были раскрывать свои финансовые инструменты, при помощи которых вы рассчитывали свои риски. И вы также должны были принимать в расчет «рыночный риск», т. е. то, что происходило за пределами вашего банка.
«Базель II» стал открытым приглашением к тому, чтобы обманывать систему – этим и занялись банкиры и юристы. Рейтинговые агентства неверно оценивали активы; адвокатские фирмы разрабатывали сложные схемы, позволявшие обходить правила финансовой открытости. Что же касается рыночного риска, то даже когда Америка скатилась в рецессию в конце 2007 года, комитет по открытым рынкам ФРС – члены которого, как считается, знают все – источал благодушие. Тим Гайтнер, возглавлявший тогда Федеральный резервный банк Нью-Йорка, предсказывал: «Потребительские расходы немного замедлятся, и реакцией бизнеса станет сокращение роста числа нанятых работников и объемов инвестиций, в результате чего рост будет несколько ниже тренда в течение нескольких кварталов»[28].
Эта полная неспособность правильно оценить рыночный риск была порождена не слепым оптимизмом, а основывалась на опыте. Сталкиваясь со спадом, ФРС всегда режет процентные ставки, давая банкам возможность одалживать еще больше денег при наличии меньшего количества активов. Это создало вторую базовую черту неолиберализма – уверенность в том, что любой кризис можно решить.
С 1987 по 2000 год ФРС под руководством Гринспена отвечала снижением ставок на каждый спад. Результатом стало не только то, что инвестиции обеспечивали стопроцентный выигрыш, поскольку ФРС всегда была готова предотвратить крах фондового рынка. Со временем также снизился риск обладания акциями[29]. Их цена, которая, в теории, представляет собой предположение о будущей прибыльности компании, стала все больше отражать предположения относительно будущей политики Федеральной резервной системы. Соотношение цены акций к выручке (ежегодной прибыли) пятисот крупнейший компаний США, колебавшейся от 10 до 25 после 1870 года, теперь взлетело до 35 и даже 45[30].
Если деньги – это «связь с будущим», то в 2000 году они рисовали будущее в совершенно розовом свете. Толчком к краху интернет-компаний в 2001 году стало решение поднять процентные ставки, которое Гринспен принял, чтобы устранить то, что он называл «иррациональным энтузиазмом». Однако затем произошли теракты 11 сентября и обанкротилась компания Enron – и, едва наступила короткая рецессия, ставку снова срезали. Теперь ситуация получила политическую подоплеку: иррациональное изобилие не вызывало проблем, пока ваша страна вела одновременно войны в Ираке и Афганистане, а доверие в корпоративном секторе подрывалось одним скандалом за другим.
На этот раз за решением ФРС стояло четкое обещание: правительство скорее будет печатать деньги, чем допустит продолжительную рецессию и дефляцию. «У американского правительства есть технология под названием печатный станок, – заявил член Совета управляющих ФРС Бен Бернанке в 2002 году. – При системе бумажных денег решительно настроенное правительство всегда может повышать расходы, обеспечивая тем самым положительную инфляцию»[31].
При положительных и предсказуемых финансовых условиях доходы самих банков всегда будут высокими. Банковское дело превратилось в постоянно меняющуюся тактическую игру, заключающуюся в выкачивании денег из конкурентов, потребителей и деловых клиентов. Это создало третью базовую черту неолиберализма – повсеместно распространенную иллюзию, что деньги можно создавать из денег.
Хотя банки снизили процент резервирования капитала, они должны были держать наличные; власти США строго придерживались разграничения между ссудными банками с Мэйн-стрит и инвестиционными банками, которое было введено законом Гласса-Стиголла в 1930-е годы. Однако к концу 1990-х годов, когда нарастала волна слияний и поглощений, инвестиционные банки становились глобальными, обходя существовавшие правила. Министр финансов США Ларри Саммерс, отменивший в 1999 году закон Гласса-Стиголла, пустил в банковскую систему тех, кто увлекался экзотическими, непрозрачными и офшорными формами финансов.
Затем фиатные деньги способствовали кризису, поскольку подавали волны ложных сигналов из будущего: ФРС всегда спасет нас, акции не представляют риска, а банки могут получать высокую прибыль от операций с низкой степенью риска.
Ничто не показывает преемственность между докризисной и послекризисной политикой лучше, чем количественное смягчение. Столкнувшись с задачей гигантского масштаба, Бернанке вместе со своим британским коллегой Мервином Кингом, управляющим Банком Англии, запустили печатный станок. В ноябре 2008 года Китай уже начал печатать деньги в более прямой форме «мягких» банковских кредитов, которые принадлежащие государству банки стали выдавать бизнесу (т. е. никто не ждал, что эти кредиты будут выплачены). ФРС собиралась напечатать 4 триллиона долларов в течение четырех лет, выкупая плохие долги ипотечных кредиторов, поддерживаемых государством, затем правительственные облигации и, наконец, ипотечные долги на общую сумму 80 миллиардов долларов в месяц. Совокупный эффект должен был заключаться в насыщении экономики деньгами за счет повышения цены акций и восстановления цен на жилье, а значит, они должны были первым делом отправиться в карманы тех, кто уже был богат.
Япония стала пионером в области печатания денег после того, как в 1990 году там лопнул пузырь на рынке недвижимости. Поскольку экономика страны буксовала, премьер Синдзо Абэ был вынужден вновь запустить печатный станок в 2012 году. Европа, где правила, призванные предотвратить обесценивание евро, запрещали печатать деньги, ждала до 2015 года, мирясь с набирающими силу дефляцией и застоем, пока, наконец, не пообещала напечатать 1,6 триллиона евро.
По моим подсчетам, совокупный объем денег, напечатанных в мире, включая те, что пообещал выпустить ЕЦБ, составляет около 12 триллионов долларов, или шестую часть мирового ВВП[32].
Это сработало в том смысле, что предотвратило депрессию. Однако в данном случае болезнь использовали для лечения болезни: дешевые деньги были направлены на борьбу с кризисом, вызванным дешевыми деньгами.
Что будет происходить дальше, зависит от того, чем, по вашему мнению, деньги являются на самом деле. Противники фиатных денег предрекают катастрофу. Действительно, книг, в которых обличаются бумажные деньги, стало так же много, как и книг, изобличающих банки. Их ключевой довод гласит, что при ограниченном количестве экономических благ и неограниченном количестве денег все системы бумажных денег рано или поздно повторят судьбу Техаса в XIX веке. Кризис 2008 года – это лишь толчок перед землетрясением.
Что касается решений проблем, то они в основном принимают милленаристские формы. Бывший менеджер JP Morgan Детли Шлихтер пишет, что произойдет «перераспределение богатства исторических масштабов» от тех, кто владеет бумажными активами – будь то на банковских счетах или в пенсионных фондах, – к тем, кто владеет активами реальными, прежде всего золотом. Из этих руин, предсказывает он, сформируется система, в которой все ссуды должны будут обеспечиваться наличностью в банке. И этот так называемый «банковский сектор со стопроцентным резервированием» будет сочетаться с новым золотым стандартом. Это потребует значительного единовременного повышения цены золота, поскольку стоимость всего золота в мире должна будет вырасти настолько, чтобы сравняться с размерами мирового богатства (из подобного объяснения исходит и движение биткоинов, которое представляет собой попытку создать цифровые деньги, не обеспеченные каким-либо государством и существующие в ограниченном количестве цифровых монет).
Этот предлагаемый новый мир «реальных» денег был бы сопряжен с высокими экономическими издержками. Если банковские резервы должны соответствовать объему выданных кредитов, экспансия экономики посредством кредитования невозможна и остается мало пространства для рынков деривативов, сложность которых – в обычные времена – способствует решению таких проблем, как засухи, неурожаи, отзыв автомобилей с обнаруженными дефектами и т. д. В мире, где банки держат резервы, равные 100 % их вкладов, постоянно повторялись бы экономические циклы, следующие принципу «стой-иди», а безработица держалась бы на высоком уровне. И простая арифметика показывает нам, что мы попали бы в дефляционную спираль. «В экономике, где денежное предложение не меняется, а производительность растет… цены будут обнаруживать тенденцию к снижению», – говорит Шлихтер[33].
Для денежных фундаменталистов правого толка этот вариант – предпочтительный. Больше всего они боятся, что для поддержания системы фиатных денег государство национализирует банки, спишет долги, установит контроль над финансовой системой и навсегда уничтожит дух свободного предпринимательства.
Как мы увидим, до этого может дойти. Однако в их рассуждениях есть одна ключевая ошибка: они не понимают, чем деньги являются на самом деле.
В популярной версии экономической науки деньги – это просто удобное средство обмена, изобретенное потому, что в ранних обществах обмен нескольких картофелин на мех енота происходил довольно редко. Действительно, как показал антрополог Дэвид Гребер, нет доказательств того, что в ранних человеческих обществах использовалась меновая торговля или что деньги возникли благодаря ей[34]. В них использовалось нечто намного более мощное. В них использовалось доверие.
Деньги создаются государствами, и так было всегда. Они не являются чем-то, что существует отдельно от правительств. Деньги всегда представляют собой «обещание выплаты», данное правительством. Их стоимость не зависит от объективной ценности какого-либо металла. Ценность определяется верой людей в устойчивость государства.
Фиатные деньги в Техасе сработали бы, если бы люди думали, что государство будет существовать вечно. Однако в это никто не верил – даже поселенцы времен битвы за Аламо. Как только они поняли, что Техас присоединится к США, стоимость техасского доллара восстановилась.
Как только вы это осознаете, проблема подлинной природы неолиберализма становится ясной. Проблема не в том, что, «черт, мы напечатали слишком много денег по отношению к количеству реальных товаров в экономике», а в том – хотя мало кто это признает, – что, «черт, нашему государству больше никто не верит». Вся система зависит от доверия к государству, которое выпускает купюры. А в современной глобальной экономике это доверие зависит не просто от отдельных государств, а от многослойной системы долгов, платежных механизмов, неформальной привязки валют, формальных валютных союзов вроде еврозоны и больших резервов в иностранной валюте, накопленных государствами, чтобы застраховать себя на тот случай, если система рухнет.
Настоящая проблема фиатных денег возникает в том случае, если или когда эта многосторонняя система обрушивается. Однако это вопрос будущего. В настоящее время мы знаем, что фиатные деньги в сочетании со свободной рыночной экономикой – это машина, порождающая циклы бума и спада. Если оставить ее без надзора, она может – в одиночку, еще до того, как мы рассмотрим остальные дестабилизирующие факторы, – подтолкнуть экономику к долгосрочному застою.
Финансиализация
Отправьтесь в любой британский город, пострадавший от промышленного упадка, и вы увидите один и тот же пейзаж: заведения, предлагающие ссуды до зарплаты, ломбарды и магазины, где продаются хозяйственные товары в кредит под невероятный процент. Рядом с ломбардами вы, вероятно, обнаружите еще одну золотую жилу погрязшего в нищете города – агентство по трудоустройству. Загляните в его окна, и вы увидите объявление о работе за минимальную зарплату, которая, однако, требует больше чем просто минимальных навыков. Прессовщики, сиделки в ночную смену, рабочие складов: раньше за такую работу платили приличную зарплату, теперь – минимальный разрешенный законом оклад. В другом месте, подальше от света фонарей, вы натолкнетесь на людей, собирающих мелочь для продовольственных банков, управляемых церквями и благотворительными организациями. Рядом будет находиться Бюро консультаций для граждан, главной задачей которого стало консультирование тех, кто погряз в долгах.
Всего поколение назад на этих улицах процветали настоящие фирмы. Я помню, как в 1970-е годы на главной улице в моем родном городе Ли, в северо-западной Англии, в субботнее утро прогуливались зажиточные семьи рабочих. Тогда занятость была полной, зарплаты большими, а производительность высокой. На перекрестках было много отделений банков. Это был мир труда, сбережений и большой социальной сплоченности.
Уничтожение этой сплоченности, снижение зарплат, слом социальных структур этих городов – все это изначально было осуществлено для того, чтобы расчистить почву для системы свободного рынка. В первое десятилетие результатом стала преступность, безработица, упадок городов и масштабное ухудшение системы здравоохранения.
А потом наступила финансиализация.
Сегодняшний городской пейзаж – заведения, обеспечивающие дорогие деньги, дешевый труд и бесплатную еду – представляет собой зримый символ того, чего достиг неолиберализм. На смену зарплатам, которые не растут, пришли займы: наша жизнь финансиализируется.
«Финансиализация» – длинное слово, хотелось бы использовать покороче, но именно оно лежит в основе неолиберального проекта и его нужно лучше понять. Экономисты используют этот термин для описания четырех специфических изменений, которые начались в 1980-е годы:
1. Компании отвернулись от банков и начали обращаться к открытым финансовым рынкам в поисках средств, необходимых для расширения.
2. Банки обратились к потребителям, которых стали рассматривать как новый источник прибыли, и стали проводить ряд сложных операций с высокой степенью риска, которые мы назовем инвестиционной банковской деятельностью.
3. Потребители превратились в непосредственных участников финансовых рынков: кредитные карты, перерасход средств, ипотеки, студенческие займы и кредиты на покупку машины стали частью повседневной жизни. Растущая доля прибыли в экономике теперь приходится не на занятых работников, производство товаров или оказание услуг, которые они покупают на свою зарплату, а на выдаваемые им кредиты.
4. Все простые формы финансов теперь порождают рынок сложных финансов на более высокой ступени этой цепи: каждый покупатель дома или водитель машины порождает известную финансовую прибыль в другой части системы. Ваш договор оказания услуг сотовой связи, абонемент в фитнес-клуб, договор электроснабжения – все ваши регулярные платежи упаковываются в финансовые инструменты, которые обеспечивают устойчивый доход инвестору задолго до того, как вы решили их купить. А потом кто-нибудь, кого вы никогда не встречали, заключает пари на то, будете вы платить или нет.
Возможно, система и не была специально разработана для того, чтобы удерживать зарплаты и инвестиции в производство на низком уровне – неолиберальные политики постоянно утверждают, что способствуют созданию высокооплачиваемых рабочих мест и повышению производительности; однако, судя по результатам, финансиализация и низкие зарплаты подобны непостоянной работе и продовольственным банкам: они идут рука об руку.
По данным правительства США, реальные зарплаты рабочих, занятых на производстве, не растут с 1973 года. В течение этого же периода размер долга в американской экономике вырос вдвое, до 300 % ВВП. Тем временем доля американского ВВП, приходящаяся на финансы, страхование и сферу недвижимости, выросла с 15 до 24 %, превзойдя обрабатывающую промышленность и приблизившись к сфере услуг[35].
Финансиализация также изменила отношения между компаниями и банками. Начиная с 1980-х годов данные о краткосрочной ежеквартальной прибыли превратились в финансовую дубинку, которая забила до смерти старые модели корпоративного бизнеса: компании, показывающие слишком низкую прибыль, были вынуждены переводить бизнес за рубеж, сливаться, проводить в жизнь безответственную стратегию, призванную обеспечить им монопольное положение, распределять операции между различными сторонними ведомствами – и беспощадно резать зарплаты.
В основе неолиберализма лежит фантазия о том, что каждый может вести потребительский образ жизни без того, чтобы ему повышали зарплату. Вы можете брать взаймы, но вы никогда не сможете разориться: если вы занимаете деньги на покупку дома, его стоимость будет постоянно расти. Инфляция тоже будет всегда, поэтому если вы занимаете деньги на покупку машины, то к тому времени, когда вам понадобится новая машина, стоимость остающегося долга уменьшится, благодаря чему вы совершенно спокойно сможете занять еще больше.
Широкий доступ к финансовой системе устраивал всех. Либеральные политики в США могли указывать на растущее число семей бедняков, афроамериканцев и латиноамериканцев, бравших ипотечные кредиты. Банкиры и финансовые компании богатели за счет продажи займов людям, которые не могли их себе позволить. К тому же благодаря этому возникла крупная отрасль, построенная на обслуживании состоятельных людей, – флористы, преподаватели йоги, производители яхт и т. д. создают призрачную атмосферу «Аббатства Даунтон» для богачей XXI века. Это устраивало и среднестатистического Джо: в конце концов, кто станет отказываться от дешевых денег?
Однако финансиализация породила проблемы, которые вызвали кризис, но не были им решены. Хотя бумажные деньги неограниченны, зарплаты вполне реальны. Можно создавать деньги вечно, однако, если трудящимся достается все меньшая их доля и все большая часть прибыли обеспечивается за счет взятых ими ипотечных кредитов и выданных им кредитных карт, рано или поздно ситуация зайдет в тупик. В то же время финансовая прибыль за счет выдачи займов потребителям, испытывающим материальные трудности, перестанет расти, а затем резко упадет. Именно это произошло, когда в США схлопнулся пузырь высокорискованных ипотек.
С 2001 по 2006 год объем ипотечного кредитования в США вырос с 2,2 триллиона долларов в год до чуть менее 3 триллионов: это довольно значительно, но не чрезмерно. Однако объем высокорискованного кредитования, т. е. выдача кредитов беднякам под высокий процент, вырос со 160 до 600 миллиардов долларов. А «ипотечные ссуды с плавающей ставкой», процент по которым сначала невелик, но с течением времени увеличивается, выросли с нуля до 48 % от всех кредитов, выданных в последние три года бума. Этот рынок рискованного, сложного кредитования, обреченного на крах, не существовал до тех пор, пока его не создали инвестиционные банки[36].
Это показывает еще одну проблему, связанную с финансиализацией: она разрывает связь между кредитованием и накоплением сбережений[37]. Банки с Мэйн-стрит всегда располагают меньшим количеством денег по сравнению с тем, сколько они одалживают. Мы уже видели, как дерегулирование побуждало их держать меньше резервных средств и обманывать систему. Однако этот новый процесс, благодаря которому всякая выплата процентов упаковывается в более сложный продукт, распределяемый между инвесторами, означает, что обычные банки вынуждены выходить на рынок «коротких» денег для того, чтобы проводить свои повседневные операции.
Это привело к роковому изменению в банковской психологии. Происходило все более глубокое размежевание между долгосрочной природой кредитования (в виде ипотек сроком на двадцать пять лет или кредитных карт, долг по которым никогда полностью не уплачивался) и краткосрочной природой привлечения заемных средств. Таким образом, если оставить в стороне все мошенничество и ошибочные оценки активов, финансиализация создает в банковском секторе структурную тенденцию к мгновенному кризису ликвидности, т. е. готовой наличности, который уничтожил Lehman Brothers.
В обществах, подвергшихся финансиализации, банковский кризис обычно не приводит к массовому изъятию вкладов – по той простой причине, что у масс не так много денег в банках. Деньги в банках держат другие банки – и, как мы обнаружили в 2008 году, значительная часть этих денег представляет собой лишь ничего не стоящую бумагу.
Описанные здесь проблемы можно решить, только если остановить финансиализацию. Если она будет продолжаться и далее, с течением времени все больше денег в финансовой системе будут становиться фиктивными и все больше финансовых институтов будут полагаться на краткосрочное привлечение заемных средств.
Однако ни политики, ни регуляторы не были готовы к тому, чтобы демонтировать эту систему. Напротив, они ее восстановили, наградили 12 триллионами долларов, взятыми из воздуха, и снова запустили. Это гарантирует, что те же условия, которые привели к складыванию цикла бумов и спадов, создадут другой такой цикл, если только удастся добиться сколько-нибудь значительного роста.
Историк Фернан Бродель утверждал, что упадок всех экономических сверхдержав начинается с масштабного разворота в сторону финансов. Описывая падение торговой империи Нидерландов в XVII веке, он отмечал: «По-видимому, любое развитие капитализма такого рода, достигая стадии финансового капитализма, в определенном смысле возвещает о своей зрелости: это признак осени»[38].
Сторонники теории «финансовой осени» указывают на то, что одна и та же модель была характерна для Генуэзской республики, главного финансового центра Позднего Средневековья, затем для Нидерландов, а позже для Лондона ближе к концу существования Британской империи. Но в каждом из этих примеров доминирующая держава превращалась в кредитора остального мира. При неолиберализме эта модель подверглась пересмотру. США, да и весь Запад в целом, превратились в заемщиков, а не в кредиторов. Произошел слом долговременной модели.
То же можно сказать и о стагнации зарплат. В последние пятьсот лет крупные финансовые империи извлекали прибыль из неравноправной торговли, рабства и ростовщичества, за счет которых финансировался достойный уровень жизни в метрополии. При неолиберализме США увеличивали свои прибыли, доводя до бедности собственных граждан.
Правда состоит в том, что, поскольку финансы просочились в нашу повседневную жизнь, мы стали рабами не только машин и повседневной рутины c девяти до пяти, но и процентных платежей. Мы обеспечиваем прибыль не только нашим начальникам, работая на них, но и финансовым посредникам через взятые у них кредиты. Мать-одиночка на пособии, втянутая в мир кредитов до получки и покупающая хозяйственные товары в кредит, может обеспечивать намного более высокую норму прибыли с капитала, чем рабочий автомобильной фабрики, имеющий постоянную работу.
Если каждый человек может обеспечивать финансовую прибыль, просто потребляя, – а самую высокую прибыль могут обеспечивать самые бедные, – в капиталистическом отношении к работе начинаются глубокие изменения. Мы рассмотрим это ниже, во второй части книги. Пока что подведем итог: финансиализация – это постоянная черта неолиберализма. Подобно фиатным деньгам, она ведет к сбоям, но система не может без нее обойтись.
Несбалансированный мир
Неизбежным результатом неолиберализма стало возникновение так называемых «глобальных дисбалансов» в торговле, сбережениях и инвестициях. В странах, которые сокрушили организованную рабочую силу, вывели значительную часть своей промышленности за рубеж и стимулировали потребление за счет расширения кредитования, это всегда приводило к торговому дефициту, высоким правительственным долгам и нестабильности в финансовом секторе. Гуру неолиберализма призывали всех следовать англосаксонской модели, но, в действительности, система зиждилась на нескольких ключевых странах, которые не пошли по этому пути.
Положительное сальдо Азии в торговле с остальным миром, сальдо Германии в торговле с Европой, непрекращающееся сосредоточение в руках стран – экспортеров нефти долгов других стран – ничто из этого не было аномалией. Именно благодаря этому США, Великобритания и страны Южной Европы имели возможность заимствовать больше, чем они могли себе позволить.
Иными словами, мы должны понять с самого начала, что неолиберализм может существовать лишь потому, что некоторые ключевые страны его не разделяют. Германия, Китай и Япония придерживаются того, что их критики называют «неомеркантилизмом»: манипулируя своим положением в области торговли, инвестиций и финансов, они накапливают иностранную валюту в огромных объемах. Раньше страны, имеющие положительное сальдо, считались экономическими неудачниками, однако в посткризисном мире их экономики одними из немногих сумели удержаться на плаву. Способность Германии диктовать унизительные условия Греции, когда еще живы люди, помнящие, как свастика развевалась над Акрополем, показывает преимущества положения производителя, экспортера и кредитора тогда, когда неолиберализм перестает работать.
Главным показателем глобальных дисбалансов является текущий счет – разница между импортом и экспортом товаров, услуг и инвестиций. Дисбаланс мирового текущего баланса постоянно рос в 1990-е годы, затем начал быстро увеличиваться после 2000 года – с 1 % мирового ВВП до 3 % в 2006 году. Основная часть дефицита приходилась на Америку и большинство европейских стран; положительное сальдо наблюдалось у Китая, Японии и остальных стран Азии, у Германии и у стран – производителей нефти[39].
Почему нас это заботит? Потому что эти дисбалансы создали горючий материал для кризиса 2008 года, обременив финансовые системы Америки, Великобритании и Европы непосильными долгами. Они втолкнули такие страны, как Греция, которые не имели сил, чтобы переложить на других бремя кризиса, в смертельную спираль бюджетной экономии. Они оставили большинству стран, примкнувших к неолиберализму, горы правительственных долгов, которые невозможно выплатить.
После начала кризиса 2008 года дисбаланс текущего счета сократился с 3 до 1,5 % мирового ВВП. Согласно последним прогнозам МВФ, нет опасности того, что он снова вырастет, однако условия для этого налицо: Китай не вернулся к прежним темпам роста, а Америка – к прежнему уровню заимствований и расходов. Как отмечают экономисты Флоранс Пизани и Антон Брандер: «Единственной силой, которая могла сдержать постоянное углубление глобальных дисбалансов, был крах глобализированного финансового сектора»[40].
После 2008 года сокращение дефицита текущего счета убедило некоторых экономистов в том, что риск, который представляли собой дисбалансы, ушел[41]. Однако в то же время появился еще один ключевой показатель дисбаланса в мире: объем денежных средств, которые страны, обладающие положительным сальдо, держат в иностранной валюте – иными словами, валютные резервы.
Несмотря на то что экономический рост Китая упал до 7 %, а его положительное сальдо в торговле с Западом сократилось, его валютные резервы выросли вдвое с 2008 года и к середине 2014 года составляли 4 триллиона долларов[42]. Мировые валютные резервы также выросли – менее чем с 8 триллионов почти до 12 триллионов в конце 2014 года[43].
Дисбалансы всегда приводили к двум различным угрозам. Первая заключалась в том, что западные экономики наводнятся таким количеством кредитных средств, что финансовая система рухнет. Это и произошло. Вторая угроза, носящая более стратегический характер, состоит в том, что весь накопленный риск и нестабильность в мире сосредотачиваются в договоренностях между государствами относительно долга и обменных ставок, которые затем также рушатся. Эта угроза по-прежнему существует.
Если США не смогут и дальше финансировать свои долги, то наступит момент, когда стоимость доллара обвалится – даже простого ощущения, что это возможно, может быть достаточно для того, чтобы его обрушить. Тем не менее взаимозависимость Китая и США и, в меньшей степени, Германии и остальных стран еврозоны гарантирует, что этот механизм никогда не будет запущен.
Все, что произошло после 2008 года в сфере накопления валютных резервов, следует рассматривать в том ключе, что страны, имеющие положительное сальдо, пытаются застраховаться от краха Америки.
Если бы миром правили одни лишь экономические силы, такой результат был бы положительным: слабый или отсутствующий рост в странах, испытывающих дефицит, постепенное повышение обменного курса китайского юаня по отношению к доллару, постепенное размывание американского долга за счет инфляции – и сокращение торгового дефицита США, поскольку технологии гидроразрыва пласта уменьшают их зависимость от поставок нефти из-за рубежа.
Однако мир состоит из классов, религий и наций. На выборах 2014 года в европейский парламент партии, обещающие уничтожить глобальную систему, набрали 25 или более процентов в Дании, Франции, Греции и Великобритании. В 2015 году, как я писал, победа крайних левых в Греции поставила под вопрос единство еврозоны. А дипломатический кризис вокруг Украины привел к тому, что впервые с тех пор, как началась глобализация, Запад наложил серьезные торговые и финансовые санкции на Россию. Ближний Восток пылает от Исламабада до Стамбула, а военное соперничество между Китаем и Японией сегодня достигло самой высокой точки с 1945 года и сопровождается ожесточенной валютной войной.
Все, что потребовалось бы для того, чтобы разнести всю систему в клочья, это чтобы одна или несколько стран «направились к выходу», обратившись к протекционизму, начав манипулировать валютой или объявив дефолт по своим долгам. И раз уж в самой важной стране, т. е. в США, Республиканская партия поддерживает все эти три пункта, вероятность того, что это произойдет, велика.
Дисбалансы стали неотъемлемой чертой глубинной природы глобализации и были отброшены назад лишь благодаря финансовому кризису.
Четко скажем, что это означает: у нынешней формы глобализации есть конструктивный дефект. Она обеспечивает высокий рост лишь за счет раздувания неустойчивых искажений, которые исправляются финансовым кризисом. Чтобы уменьшить эти искажения, или дисбалансы, нужно уничтожить обычную для неолиберализма схему роста.
Революция информационных технологий
Единственный положительный фактор, который можно противопоставить всем приведенным выше отрицательным, – это технологическая революция, порожденная неолиберализмом и рвущаяся вперед, несмотря на экономический кризис. «Информационное общество, – пишет философ Лучано Флориди, – возникло благодаря самому быстрому в истории развитию технологий. Ни одно из предшествующих поколений не переживало такое потрясающее ускорение технической власти над реальностью вкупе с соответствующими социальными изменениями и этической ответственностью»[44].
Именно увеличение вычислительной мощности позволило сформироваться комплексной мировой финансовой системе. Оно обеспечивало рост денежного предложения по мере того, как на смену потребности в наличности приходили цифровые системы. Оно сделало возможным физическое перенесение производства и предложения в развивающиеся страны, где рабочая сила дешевле. Оно уменьшило значение квалификации промышленных рабочих, сделало избыточным труд работников, обладавших средним уровнем квалификации, и ускорило рост сектора низкоквалифицированных услуг.
Однако хотя информационные технологии стали, как пишет Флориди, «характерными технологиями нашего времени», их становление принимает форму внезапного исчезновения. Системные блоки появляются, а затем исчезают – им на смену приходят серверы, которые тоже исчезают из главных офисов корпораций и теперь располагаются в просторных кондиционируемых помещениях. Кремниевый чип становится все меньше, дополнительные компоненты, которыми некогда были загромождены наши рабочие места – модемы, дисководы, дискеты, – уменьшились в размерах, потом стали встречаться реже и, наконец, тоже исчезли. Собственное программное обеспечение разрабатывается отделами информационных технологий корпораций, а затем заменяется готовыми версиями, которые в десять раз дешевле. Вскоре исчезают и сами отделы информационных технологий, на смену которым приходят сервисные центры в Мумбаи. Персональный компьютер превращается в ноутбук. Ноутбук уменьшается в размерах и становится все мощнее, но его уже вытесняют смартфоны и планшеты.
Сначала эти новые технологии встраивались в старые структуры капитализма. В 1990-е годы программисты говорили, что самое дорогое программное обеспечение – программа управления компанией – лепится как пластилин, заливается как бетон. К тому времени, когда вы компьютеризировали свой конвейер, новинки, внедренные другими компаниями, вынуждали вас выкинуть его и начинать все сначала.
Однако начиная примерно с 2004 года, когда значительно расширилось использование интернета и мобильных данных, технологии дали возможность для развития новых бизнес-моделей. Мы назвали их «Web 2.0». Они также породили новые формы поведения среди большого количества людей. Стало привычным делом расплачиваться пластиковыми картами, выставлять в интернете напоказ всю свою частную жизнь, получать в интернете кредит до получки под 1000 %.
Сначала пьянящие успехи новых технологий использовались для оправдания всех бед, с которыми нам пришлось столкнуться на пути к свободным рынкам. Нужно было сокрушить сопротивление английских шахтеров, чтобы мы могли получить Facebook. Телекоммуникационные компании нужно было приватизировать, чтобы все мы могли получить мобильные телефоны стандарта 3G. Таково было подспудное объяснение.
Однако критическое значение имело прежде всего изменение в человеческом отношении. Самый энергичный элемент неолиберализма – отдельный работник и потребитель, каждое утро создающие себя заново в качестве «человеческого капитала» и ожесточенно конкурирующие друг с другом, – не смог бы появиться без сетевых технологий. Предсказания социолога Мишеля Фуко о том, что это превратит нас в «предпринимателей самих себя», кажутся тем более провидческими, что они были сделаны во времена, когда единственной вещью, похожей на интернет, была сеть зеленых экранов, принадлежавшая французскому государству и называвшаяся «Минитель»[45].
Казалось, что новые технологии создадут информационную экономику и общество знаний. Они возникли, но не в той форме, в какой предполагалось. В старых антиутопиях, как, например, в «Космической Одиссее 2001 года» с ее взбунтовавшимся компьютером Хэлом, восстает технология. На самом деле, сеть позволила взбунтоваться людям.
Прежде всего, она дала им возможность производить и потреблять знания вне каналов, созданных в эпоху промышленного капитализма. Именно поэтому первые сбои мы заметили в новостной индустрии и в музыке, когда вдруг пропала государственная монополия на политическую пропаганду и идеологию.
Затем она начала подрывать традиционные понятия собственности и личной жизни. Wikileaks и споры вокруг данных, полученных АНБ благодаря массовой слежке, представляют собой лишь последнюю стадию войны, которая ведется за право обладания и хранения информации. Однако главное ее последствие сейчас только начинает осознаваться.
Впервые теорию «сетевого эффекта» сто лет назад предложил Теодор Вайль, глава компании Bell Telephone. Вайль понял, что сети создают нечто новое бесплатно. В дополнение к выгоде для пользователя и доходу для собственника он отметил третье преимущество: чем больше людей присоединяются к сети, тем полезнее она становится для каждого из них.
Проблема возникает тогда, когда вы пытаетесь измерить и ухватить это преимущество. Роберт Меткалф, изобретатель коммутатора Ethernet, заявил в 1980 году, что полезность сети «пропорциональна квадрату численности пользователей». Поэтому если стоимость создания сети увеличивается линейно, то ее полезность растет по экспоненте[46]. Косвенно это означает, что искусство ведения бизнеса в экономике знаний заключается в присвоении всего того, что находится между прямой линией и экспонентой.
Однако как измерить полезность? Сэкономленными деньгами, полученным доходом или увеличенной прибылью? В 2013 году экономисты из ОЭСР договорились, что ее нельзя отразить традиционными рыночными параметрами. «Хотя воздействие интернета на рыночные сделки и на добавленную стоимость очень широкое, – писали они, – его воздействие на нерыночные взаимодействия… еще глубже»[47].
Экономисты были склонны игнорировать нерыночные взаимодействия: они, по определению, не носят экономического характера, а потому столь же незначительны, как улыбка, которой обмениваются два человека, стоящие в очереди в Starbucks. Что касается сетевого эффекта, то они пришли к выводу, что его выгода выразится в более низких ценах и распределится между производителями и потребителями. Однако менее чем за 30 лет сетевые технологии открыли возможности для сотрудничества и производства за пределами рынка во многих областях экономической жизни.
15 сентября 2008 года мобильники Nokia и Motorolа, на которые снимали главный офис Lehman Brothers, и бесплатная точка доступа в интернет в расположенном напротив кафе Starbucks имели ничуть не меньше значения, чем банк, который только что разорился. Они передавали окончательный рыночный сигнал из будущего в настоящее: информационная экономика, возможно, несовместима с экономикой рыночной, или, по крайней мере, с экономикой, которая регулируется прежде всего рыночными силами.
Это, как я покажу, является ключевой причиной краха неолиберализма, его фибрилляции и перехода в зомбированное состояние. Все созданные деньги, вся скорость и движущая сила финансов, накопленные за последние двадцать пять лет, должны быть направлены на то, чтобы предотвратить присвоение капитализмом – системой, основанной на рынках, частной собственности и обмене, – «полезности», создаваемой новыми технологиями. Иными словами, становится все очевиднее, что информационные продукты находятся в глубоком конфликте с рыночными механизмами.
Зомбированная система
Представим себе пути выхода для капитализма. В течение следующего десятилетия центральные банки организованно свернут программы количественного смягчения. Они откажутся от печатания денег для списания долгов собственных правительств, а находившийся в подавленном состоянии частный рынок правительственных облигаций оживет. К тому же правительства согласятся раз и навсегда уничтожить финансовую манию: они пообещают поднять процентные ставки, чтобы предотвратить все будущие пузыри, и навсегда откажутся молчаливо гарантировать спасение банков. Все остальные рынки – кредитов, акций, деривативов – подвергнутся коррекции и станут отражать возросший риск финансового капитализма. Капитал будет перераспределен от спекулятивных финансовых сделок в пользу инвестиций в производство.
Наконец, миру придется вернуться к обменным ставкам, зафиксированным по отношению к новой мировой валюте, которая будет регулироваться МВФ. При этом китайский юань станет полностью конвертируемой резервной валютой наряду с долларом. Это также поможет устранить системную угрозу, которая исходит от фиатных денег и заключается в нехватке доверия, проистекающего от вероятности краха глобализации. Однако ценой за это станет окончательное прекращение глобальных дисбалансов: валюты стран, имеющих положительное сальдо, укрепятся, а Китаю, Индии и остальным странам придется отказаться от преимуществ, обеспечиваемых дешевой рабочей силой.
В то же время финансиализацию нужно будет обратить вспять. Политическая власть должна перейти от банков и поддерживающих их политиков к тем, кто выступает за возвращение промышленности и сферы услуг обратно на Запад, что позволит создать высокооплачиваемые рабочие места в развитом мире. В результате сложность финансового мира уменьшится, зарплаты вырастут, а доля финансового сектора в ВВП упадет, как и наше доверие к кредитам.
Наиболее дальновидные представители мировой элиты знают, что это единственный ответ, который можно дать: стабилизация фиатных денег, отказ от финансиализации и прекращение дисбалансов. Однако на этом пути есть огромные социальные и политические препятствия.
В первую очередь, богатые противятся росту зарплат и регулированию финансов – они хотят обратного. Во-вторых, на национальном уровне будут победители и проигравшие: германская правящая элита извлекает выгоду из долговой колонизации Греции и Испании; китайская правящая элита извлекает выгоду из того, что держит ключи к экономике дешевой рабочей силы, в которую вовлечены 1,4 миллиарда человек. У них есть личный интерес в том, чтобы блокировать пути выхода.
Но главная проблема заключается в другом. Для осуществления этого сценария огромные суверенные долги, которые невозможно выплатить, должны быть списаны, равно как и значительная часть долгов домохозяйств и компаний в мире.
Однако для достижения этого не существует глобальной системы. Спишите долги Америки, и китайские держатели сбережений потеряют свои средства. Результатом станет разрыв ключевой сделки между Азией и Западом: вы занимаете, мы даем в долг. Спишите греческий долг перед ЕС, и немецкие налогоплательщики потеряют десятки миллиардов евро, что опять-таки приведет к нарушению важнейшей сделки.
Результатом этого самого оптимистичного сценария, даже если удастся перейти к нему мирным путем, станет полный провал глобализации.
А это, разумеется, нельзя урегулировать мирным путем.
С 2014 года Россия превратилась в державу, которая занимается тем, что подрывает западные экономики, а не сотрудничает с ними. Китай, при всей мягкой силе, которую он начал проецировать, не может сделать то, что сделала Америка по окончании Второй мировой войны: поглотить мировые долги, установить ясные правила и создать новую мировую валютную систему.
Тем временем на Западе не просматривается никакой стратегии, которая походила бы на ту, что мы изложили выше. Ведутся разговоры об этом – от восхваления французского экономиста Томаса Пикетти до прозвучавших в 2014 году призывов Бундесбанка поднять зарплаты в Европе. Однако на практике основные партии по-прежнему придерживаются неолиберализма.
А ведь в отсутствие путей выхода становится все более явной перспектива длительного застоя.
В 2014 году ОЭСР опубликовала свои прогнозы о развитии мировой экономики на период до 2060 года[48]. Рост в мире замедлится до 2,7 %, заявили в этом парижском аналитическом центре, потому что эффект наверстывания, который стимулирует рост в развивающемся мире – увеличение населения, рост уровня образования и урбанизации, – сойдет на нет. Еще до наступления этой даты в результате фактического застоя развитых экономик среднемировые темпы роста в ближайшие пятьдесят лет будут едва достигать 3 %, что заметно ниже средних показателей докризисного периода.
Тем временем, поскольку рабочие места, требующие среднего уровня квалификации, будут автоматизированы и останутся только мало- и высокооплачиваемые работы, неравенство в мировом масштабе вырастет на 40 %. К 2060 году в таких странах, как Швеция, уровень неравенства достигнет тех показателей, которые сегодня наблюдаются в США: представьте себе Гэри, штат Индиана, в окрестностях Стокгольма. Весьма вероятна опасность того, что изменения климата начнут уничтожать капитал, прибрежные земли и сельское хозяйство, сокращая ВВП на 2,5 % в мире и на 6 % в Юго-Восточной Азии.
Однако самые мрачные страницы доклада ОЭСР посвящены не прогнозам, а тому, что она принимает как данность: быстрому росту производительности за счет развития информационных технологий. Ожидается, что три четверти всего роста в период до 2060 года будет обеспечено повышением производительности. Однако это утверждение, как иносказательно говорится в докладе, основано «на сравнении с недавней историей».
На самом деле, как я расскажу в пятой главе, нет уверенности в том, что информационная революция последних двадцати лет обеспечит такой рост и такую производительность, которые можно измерить рыночными категориями. В этом случае имеется серьезный риск того, что скудные 3 % ежегодного роста, прогнозируемые ОЭСР в течение ближайших пятидесяти лет, в действительности будут ближе к 0,75 %.
Кроме того, существует и проблема миграции. Чтобы основной сценарий роста, предложенный ОЭСР, мог осуществиться, Европа и США должны будут принять по 50 миллионов мигрантов в период с сегодняшнего дня до 2060 года, а остальная часть развитого мира должна будет ассимилировать еще 30 миллионов. Без них рабочая сила и налогооблагаемая база на Западе сократятся настолько, что государства рухнут. Как свидетельствуют 25 % голосов, отданных за Национальный фронт во Франции, и вооруженные дети мигрантов, произносящие речи крайне правого содержания на границе Калифорнии и Мексики, есть риск того, что население развитого мира этого не допустит.
Попытайтесь представить, каким будет мир в 2060 году по прогнозу ОЭСР. Лос-Анджелес и Детройт выглядят так, как Манила сегодня: жалкие трущобы, соседствующие с охраняемыми небоскребами. Стокгольм и Копенгаген выглядят так же, как разрушенные города американского промышленного пояса. Рабочие места со средним уровнем зарплат исчезли. Будет идти четвертое десятилетие застоя капитализма.
Но даже для того, чтобы достичь такого радужного будущего, говорит ОЭСР, нам придется сделать труд «более гибким», а экономику более глобализированной. Мы должны будем приватизировать высшее образование – поскольку стоимость его расширения, необходимого для удовлетворения спроса на выпускников вузов, приведет многие государства к банкротству – и ассимилировать десятки миллионов мигрантов в развитых странах мира.
А пока мы будем за все это бороться, вполне вероятно, что нынешние способы финансирования государства испарятся. ОЭСР отмечает, что расслоение населения на группы с высоким и низким доходом приведет к тому, что подоходные налоги станут неэффективными. Вместо них, как считает Томас Пикетти, нам потребуется налог на состояния. Проблема здесь в том, что активы, будь то скаковая лошадь-чемпион, тайный банковский счет или авторские права на галочку Nike, как правило, держат в юрисдикциях, позволяющих избежать уплаты налогов с состояния, даже если кому-нибудь захотелось бы их поднять, чего, впрочем, пока и не происходит.
Если ситуация не изменится, говорит ОЭСР, вполне реалистично ожидать застоя на Западе, замедления темпов роста в развивающихся странах и вероятного банкротства многих государств.
Таким образом, вероятнее всего, в какой-то момент одна или несколько стран покинут глобализацию, выбрав путь протекционизма, списания долгов и манипулирования валютой. Или же кризис деглобализации вызовет дипломатические и военные конфликты, перекинется на мировую экономику и приведет к тем же результатам.
Урок, который можно извлечь из доклада ОЭСР, состоит в том, что нам нужно полностью перепланировать всю структуру системы. Самое образованное поколение в истории человечества с самым высоким уровнем взаимосвязей не согласится на будущее, в котором будут царить высокий уровень неравенства и нулевой рост.
Вместо хаотической гонки к деглобализированному миру и десятилетий застоя в сочетании с растущим неравенством нам нужна новая экономическая модель. Для ее разработки потребуется не просто задействовать утопическое мышление. В 1930-е годы гениальность Кейнса выразилась в том, что он выявил кризис в существующей системе: работающую новую модель нужно выстраивать, исходя из постоянных дефектов старой модели, которые классические экономисты не могли разглядеть.
На этот раз проблема еще серьезнее.
Главный посыл этой книги состоит в том, что помимо проблемы долговременного застоя, вызванного финансовым кризисом и демографией, информационные технологии лишили рыночные силы их способности создавать динамизм. Вместо этого они создают условия для становления посткапиталистической экономики. Вероятно, «спасти» капитализм, как это удалось Кейнсу, выдвинувшему радикальные политические решения, невозможно, потому что его технологические основы изменились.
Поэтому, прежде чем требовать «зеленого нового курса», передачи банков в собственность государства, бесплатного университетского образования или долгосрочных нулевых процентных ставок, мы должны понять, как все это встроится в ту экономику, которая сейчас складывается. Мы очень плохо подготовлены для этого. Порядок нарушился, но традиционная экономическая наука не имеет никакого представления о масштабе этого сбоя.
Чтобы идти вперед, мы должны держать в голове образ, меньший, чем «финансовая осень увядающей империи», но больший, чем теория бумов и спадов. Нам нужна теория, которая могла бы объяснить, почему происходили масштабные преобразования в ходе эволюции капитализма в последние два столетия и как именно технологические изменения заряжают батареи капиталистического роста.
Коротко говоря, нам нужна теория, которая встраивает нынешний кризис в картину общей судьбы капитализма. Ее поиск выведет нас за пределы традиционной экономической науки и традиционного марксизма. А начинается он в камере русской тюрьмы в 1938 году.
Глава 2. Длинные волны, короткая память
Волны прекрасны. Шум океана, омывающего песок, свидетельствует о том, что в природе есть порядок.
Если рассмотреть физику волн, они становятся еще прекраснее. Это форма, которая обнаруживает тенденцию к обращению вспять: энергия, поднимающая волну, затем обрушивает ее.
Если рассмотреть математические свойства волн, они завораживают еще больше. Полторы тысячи лет назад один индийский математик обнаружил, что если вычислить любое возможное соотношение между двумя сторонами треугольника, то получится волнообразная модель. Средневековые ученые назвали ее синусом. Сегодня мы называем плавные, повторяющиеся волны, наблюдаемые в природе, синусоидами. Электрический ток движется по синусоиде; так же распространяется звук; так же распространяется свет.
А внутри волн есть другие волны. Серферу кажется, что волны идут группами, увеличиваясь в размерах, поэтому шестая или седьмая – это та самая большая волна, которую он хочет поймать. В действительности, это лишь результат более длинной и плоской волны, двигающейся «через» короткие.
Взаимосвязь между длинными и короткими волнами служит источником порядка в акустике. Музыканты считают, что именно гармония, создаваемая короткими волнами внутри длинных, придает каждому инструменту особое звучание. Музыка звучит слаженно тогда, когда длинные и короткие волны находятся в строгой математической пропорции.
В природе волны присутствуют повсюду. На субатомном уровне волнообразное движение частицы – это единственный известный нам признак ее существования. Однако волны существуют и в рамках больших, сложных, неприродных систем – таких, как рынки. Для тех, кто анализирует деятельность фондовых рынков, волны превратились в своего рода религиозную икону: они используют инструменты для того, чтобы устранить «шум» ежедневных колебаний и вывести прогнозную кривую. «Пики» и «падения» стали повседневными экономическими терминами.
Однако в экономике волны могут быть опасными. Они могут означать порядок и регулярность там, где их на самом деле нет. Звуковая волна просто переходит в тишину. Однако волны, порождаемые случайными данными, со временем искажаются и прерываются. А экономика – это мир сложных, случайных событий, а не простых волн.
Специалисты по анализу волн времен последнего бума не сумели предсказать спад. Выражаясь языком серферов, они смотрели на отдельные волны, а не на группы волн; на группы волн, а не на приливы; на приливы, а не на цунами, которое было готово на них обрушиться. Мы представляем себе цунами как большую волну: как стену воды. На самом деле цунами – это длинная волна: она нарастает и приближается.
Для человека, обнаружившего длинные волны в экономике, они оказались роковыми.
Казнь через расстрел
Заключенный волочит ноги; он не может идти. Он частично ослеп, у него хроническая сердечная недостаточность и клиническая депрессия. «Я никак не могу заставить себя мыслить системно, – пишет он. – Вообще очень трудно мыслить научно, не работая активно с материалами и книгами и мучаясь от головной боли»[49].
Николай Кондратьев провел восемь лет политическим заключенным в Суздале, к востоку от Москвы, читая лишь те книги и газеты, которые разрешала ему сталинская тайная полиция. Он дрожал от холода зимой и изнемогал от жары летом, но однажды его мучения закончились. 17 сентября 1938 года, в день, когда истекал срок действия его первоначального приговора, Кондратьева судили во второй раз и признали виновным в антисоветской деятельности – расстрельная команда казнила его прямо в камере.
Так погиб один из гигантов экономической мысли ХХ столетия. В свое время Кондратьев стоял в одном ряду с такими влиятельными мыслителями мирового масштаба, как Кейнс, Шумпетер, Хайек и Джини. Его «преступления» были сфабрикованы. Подпольной «Трудовой крестьянской партии», руководителем которой он якобы являлся, не существовало.
Настоящее преступление Кондратьева, по мнению его преследователей, заключалось в том, что он думал о капитализме то, что думать было нельзя. Думал, что вместо того, чтобы рухнуть под давлением кризиса, капитализм обычно приспосабливается и видоизменяется. В двух новаторских работах он на основе анализа данных доказал, что, помимо краткосрочных экономических циклов, существует более длительная модель продолжительностью 50 лет, крайние точки которой совпадают с крупнейшими структурными изменениями в капитализме и с крупнейшими конфликтами. Таким образом, эти моменты жестокого кризиса и выживания являются проявлениями не хаоса, а порядка. Кондратьев стал первым, кто доказал существование длинных волн в экономической истории.
Хотя позднее эта идея стала популярной под названием «теория волн», самая ценная догадка Кондратьева заключалась в том, что он понял, почему мировая экономика переживает внезапные изменения, почему капитализм переживает структурный кризис и как он меняется и мутирует в ответ. Он показал нам, почему деловые экосистемы, существовавшие в течение десятилетий, могут вдруг развалиться. Слову «волна» он предпочитал термин «длинный цикл», поскольку циклы в научном мышлении создают отдельный, очень полезный язык: мы говорим о фазах, состояниях и их внезапной смене.
Кондратьев изучал промышленный капитализм. Хотя другие утверждают, что обнаружили длинные волны в ценах, которые восходят к Средневековью, его ряды данных начинаются с промышленной революции в 1770-е годы.
Согласно теории Кондратьева, у каждого длинного цикла есть подъем, длящийся около двадцати пяти лет и стимулируемый внедрением новых технологий и высокими капиталовложениями, за которым следует спад, продолжающийся примерно столько же и обычно заканчивающийся депрессией. В «восходящей» фазе рецессии редки, а в «нисходящей» фазе они случаются часто. В восходящей фазе капитал устремляется в производительную сферу, а в нисходящей фазе – застревает в финансовой системе.
Есть и другие аспекты, однако основа теории такова. В этой главе я приведу доводы в пользу того, что она в целом верна, но нынешний кризис представляет собой слом модели – и это означает, что произошло нечто большее, чем окончание очередного пятидесятилетнего цикла.
Сам Кондратьев выказывал чрезвычайную осторожность в применении, может, своей теории. Хотя он и предсказал депрессию 1930-х годов за десять лет до того, как она наступила, он никогда не утверждал, что может предсказывать события. Он опубликовал свои выводы вместе с резкой критикой его работы, подготовленной коллегами[50].
Однако сталинские чекисты в определенном смысле поняли кондратьевскую теорию глубже, чем он сам. Они поняли, что, если ее довести до логического заключения, она поставит марксизм лицом к лицу с опасным предположением о том, что «окончательного» кризиса капитализма не будет. Может быть хаос, паника и революция, но, если исходить из данных Кондратьева, капитализм проявляет тенденцию не к гибели, а скорее к трансформации. Большой объем капитала может быть уничтожен, экономические модели могут разваливаться, империи могут ликвидироваться в ходе мировых войн, но система выживет, пусть и в другой форме.
Для убежденных марксистов 1920-х годов кондратьевское объяснение того, что приводит к этим изменениям, было очень опасно. События, ведущие к переломным моментам – войны, революции, обнаружение новых месторождений золота и новых колоний – были, по его словам, простыми следствиями, вытекавшими из потребностей самой экономики. Даже если человечество попытается влиять на ход экономической истории, в долгосрочном плане оно окажется относительно бессильным.
В 1930-е годы теория длинных волн на некоторое время стала влиятельной на Западе. Австрийский экономист Йозеф Шумпетер выдвинул собственную теорию экономических циклов, способствовав популяризации термина «кондратьевская волна». Однако, когда после 1945 года капитализм стабилизировался, теория длинных волн стала казаться лишней. Экономисты верили, что вмешательство государства может выровнять даже малейшие колебания капитализма вверх и вниз. Что же касается пятидесятилетнего цикла, то кейнсианский гуру Пол Самуэльсон отбросил эту идею, назвав ее «научной фантастикой»[51].
И когда в 1960-е годы новые левые попытались возродить марксизм как критическую социальную науку, на Кондратьева и его волны они обратили мало внимания – они искали теорию краха капитализма, а не выживания.
Лишь несколько упрямцев, в основном инвесторов, по-прежнему были одержимы Кондратьевым. В 1980-е годы аналитики с Уолл-стрит превратили его осторожные предварительные выводы в грубую тарабарщину с претензией на предвидение. Вместо его сложных данных они прочертили простые линии, представив волну в стилизованном виде: подъем, вершина, кризис и крах. Они назвали это «К-волны».
Если Кондратьев был прав, говорили эти инвесторы, то экономическое восстановление, начавшееся в конце 1940-х, положило начало пятидесятилетнему циклу, а это означало, что примерно в конце 1990-х годов должна была наступить депрессия. Они выстроили сложные стратегии инвестирования, надеясь застраховаться от катастрофы. А потом стали ее ждать…
Что на самом деле говорил Кондратьев
В 2008 году то, чего ждали инвесторы, наконец-то произошло – хотя по причинам, которые мы выясним, на десять лет позже, чем ожидалось.
Теперь традиционные экономисты опять заинтересовались длинными циклами. Когда их осенило, что кризис Lehman был системным, аналитики стали искать модели, возникающие в результате взаимодействия технических инноваций и роста. В 2010 году экономисты из Standard Chartered заявили, что мы находимся в середине глобального «суперцикла»[52]. Карлота Перес, англо-венесуэльский экономист, последовательница Шумпетера, отталкиваясь от теории волн, пообещала новый «золотой век» капитализма – достаточно лишь побороть финансовую панику и вернуться к государственному финансированию инноваций, которое обеспечило послевоенный бум[53].
Однако для правильного использования догадок Кондратьева мы должны понимать, что он на самом деле говорил. Исследования, которые он проводил в 1920-е годы, были основаны на данных пяти передовых экономик за период с 1790 по 1920 год. Он не отслеживал непосредственно ВВП, а изучал процентные ставки, зарплаты, товарные цены, производство угля и стали и международную торговлю. Используя самые передовые статистические методы того времени – и двух ассистентов, должность которых именовалась «компьютеры», – он определил линию тренда на основе исходной информации. Он разделил данные на численность населения и выровнял их, используя девятилетние «скользящие среднестатистические коэффициенты», чтобы отсеять случайные колебания и более короткие циклы.
Результатом стал ряд графиков, которые выглядят как плавные синусоиды. Они показывают первый длинный цикл, начавшийся с появлением в Великобритании фабричной системы в 1780-е годы и закончившийся около 1849 года. Намного четче выраженная волна начинается в 1849 году: она совпадает с массовым строительством железных дорог, распространением пароходов и телеграфа по всему миру, затем входит в нисходящую фазу, когда в 1873 году разражается так называемая долгая депрессия, и завершается она в 1890-е годы.
Кондратьев полагал, что в начале 1920-х шел третий цикл. Он уже достиг своего пика и перешел в нисходящую фазу примерно между 1914 и 1920 годами. Однако эта нисходящая фаза была далека от завершения. Поэтому, предсказывал он, политический кризис, которым оказалась охвачена Европа с 1917 по 1921 год, не приведет к немедленному экономическому краху. Возможно шаткое восстановление, утверждал Кондратьев, перед тем, как наступит депрессия. Это полностью подтвердилось дальнейшими событиями.
В отличие от сегодняшних аналитиков с Уолл-стрит, Кондратьева не столько интересовали сами формы волн. Синусоиды, нарисованные им на миллиметровке, он считал проявлением каких-то более глубоких процессов, происходящих в действительности: последовательности чередующихся «фаз», которые для наших целей являются самым полезным инструментом для понимания пятидесятилетних циклов[54].
Рассмотрим подробнее фазы, описанные Кондратьевым. Первая, или восходящая, обычно начинается с бурного десятилетия экспансии, которое сопровождается войнами и революциями и в ходе которого новые технологии, изобретенные в течение предшествовавшего спада, быстро стандартизируются и внедряются. Затем начинается замедление, обусловленное сокращением капиталовложений, ростом сбережений и накоплением капиталов со стороны банков и промышленности; его усугубляет разрушительное воздействие войн и рост непроизводительных военных расходов. Тем не менее это замедление является частью восходящей фазы: быстрый рост лишь иногда прерывается короткими и неглубокими рецессиями.
Наконец, наступает нисходящая фаза, в течение которой товарные цены и доходность капитала падают. Капитала накапливается больше, чем можно вложить в производственную сферу, поэтому он направляется в финансовый сектор, в результате чего снижаются процентные ставки, поскольку широкое предложение кредита снижает цену заимствования. Рецессии становятся тяжелее и происходят чаще. Зарплаты и цены обрушиваются, и начинается депрессия.
Во всем этом нет притязаний ни на точное определение временной продолжительности событий, ни на то, что волны носят равномерный характер. Кондратьев подчеркивал, что каждая длинная волна протекает «в новых конкретно-исторических условиях, на новом уровне развития производительных сил и потому вовсе не является простым повторением предыдущего цикла»[55]. Если коротко, то это больше, чем просто дежавю.
И тут мы подходим к самому противоречивому аргументу Кондратьева. Он заметил, что начало каждого пятидесятилетнего цикла сопровождается событиями-триггерами. Я процитирую его полностью, несмотря на старомодный язык, потому что параллели с настоящим поражают:
В течение примерно двух десятилетий перед началом восходящей фазы большого цикла наблюдается оживление в сфере технических изобретений. Перед началом и в самом начале повышательной волны наблюдается широкое применение этих изобретений в сфере промышленной практики, связанное с реорганизацией производственных отношений. Начало больших циклов обычно совпадает с расширением орбиты мировых экономических связей. Началу двух последних циклов предшествуют, наконец, серьезные изменения в добыче драгоценных металлов и в денежном обращении[56].
Если перевести это на современный язык, то мы получим следующее. Начало длинного цикла сопровождается:
• внедрением новых технологий;
• появлением новых моделей ведения бизнеса;
• вовлечением новых стран в мировой рынок;
• увеличением количества и доступности денег.
Значение этого списка для нас очевидно: он очень хорошо описывает то, что произошло с мировой экономикой между серединой 1990-х годов и крахом Lehman. Однако Кондратьев был убежден, что такие феномены являются не причинами, а лишь триггерами. «Мы абсолютно не склонны думать, что здесь дано какое-либо объяснение причин больших циклов»[57], – настаивал он.
Кондратьев намеревался обнаружить причину длинных циклов в экономике, а не в технологиях или в мировой политике. И он был прав. Однако в своих поисках он отталкивался от постулатов, при помощи которых Карл Маркс пытался объяснить более короткие десятилетние экономические циклы в XIX веке, а именно истощение капиталовложений и необходимость реинвестирования капитала.
Если, утверждал он, «регулярные» кризисы, которые происходят каждое десятилетие, проистекают из необходимости заменить инструменты и машины, то пятидесятилетние кризисы, вероятно, вызваны «изнашиванием, сменой и расширением основных капитальных благ, требующих длительного времени и огромных затрат для своего производства»[58]. Он имел в виду, например, бум строительства каналов в конце XVIII века или железных дорог в 1840-е годы.
В кондратьевской теории длинная волна начинается потому, что в финансовой системе накоплены, централизованы и мобилизованы большие объемы дешевого капитала, что обычно сопровождается расширением денежного предложения, которое необходимо для финансирования инвестиционного бума. Осуществляются грандиозные капиталовложения – в каналы и фабрики в конце XVIII века, в железные дороги и городскую инфраструктуру в середине XIX века. Внедряются новые технологии и создаются новые экономические модели, ведущие к борьбе за новые рынки, что вызывает ожесточенные войны и усиление соперничества в борьбе за колонии. Новые социальные группы, связанные с вновь появившимися отраслями промышленности и технологиями, сталкиваются со старой элитой, что вызывает социальные беспорядки.
Разумеется, в каждом отдельном цикле есть некоторые уникальные детали, однако в кондратьевской теории важен довод о причине и следствии. Начало волны определяется тем, что в течение предыдущей нисходящей фазы капитал накапливался быстрее, чем инвестировался. Одним из последствий этого становится поиск расширенного предложения денег; другим – большая доступность новых, более дешевых технологий. Когда начинается новый виток роста, вспыхивают войны и революции.
Утверждение Кондратьева об экономических причинах и политических/технологических последствиях подверглось критике с трех направлений. Марксисты настаивали, что переломные моменты в развитии капитализма могут происходить только в результате внешних потрясений. Шумпетер, его современник, считал, что длинные волны определяются технологиями, а не ритмом капиталовложений. Третья группа критиков говорила, что Кондратьев использовал ошибочные данные и преувеличивал сам факт наличия волн.
Однако Кондратьев был прав – его доводы о причинах блестяще описывают то, что происходило в экономике после 1945 года. Если мы сможем заполнить пробелы в кондратьевской теории, мы приблизимся к пониманию не только того, как капитализм приспосабливается и видоизменяется под влиянием кризиса, но и того, почему его способность к адаптации, возможно, достигла предела. Во второй части книги я покажу, что на наших глазах происходит значительный и, возможно, необратимый распад моделей, которым промышленный капитализм следовал на протяжении 200 лет.
Однако сначала нужно ответить критикам.
Воображаемая кривая
В 1922 году, сразу после публикации первого очерка Кондратьева о длинных циклах, разгорелись споры. Лев Троцкий, один из трех вождей русского коммунизма в те времена, писал, что если пятидесятилетние циклы и существуют, то «их характер и длительность определяются не внутренней игрой капиталистических сил, а теми внешними условиями, в русле которых протекает капиталистическое развитие»[59].
В начале XX столетия марксисты-революционеры были одержимы мыслью о том, что человеческое действие – «субъективная воля» – важнее, чем экономика. Они чувствовали, что попали в ловушку экономики, которая стала вотчиной умеренных социалистов, не веривших в вероятность революции. Кондратьев, как настаивал Троцкий, пошел по неверному пути:
Приобщение к капитализму новых стран и материков, открытие новых естественных богатств и, вслед за этим, большие факты «надстроечного» порядка, как войны и революции, определяют характер и смену подъемных, застойных или упадочных эпох в капиталистическом развитии[60].
Это может показаться странным тем, кто знает марксизм только как форму экономического детерминизма, но Троцкий утверждал, что политический конфликт между странами и классами важнее экономических сил. Троцкий считал, что вместо длинных волн советская экономическая наука должна сосредоточиться на объяснении «всей кривой капиталистического развития», от рождения до взлета и упадка, т. е. всей истории капитализма. Длинные волны интересны, но для тех, кто жаждал конца капитализма, самой главной моделью был полный жизненный цикл капитализма, который обязательно должен быть конечным.
К этому времени марксисты уже разработали собственное объяснение масштабных изменений экономических структур, произошедших после 1890 года, которое они нарекли «империализмом» и которое, как они полагали, было последней, или «высшей», стадией капитализма. Поэтому, ознакомившись с данными Кондратьева, Троцкий тоже нарисовал кривую, которая была исключительно плодом его воображения. Кривая показывала взлет и упадок воображаемой капиталистической страны на протяжении девяноста лет. Задача графика, как объяснял Троцкий, заключалась в том, чтобы показать, к чему может привести полный и скрупулезный расчет данных. По его мнению, достаточно понять общую линию развития капиталистической экономики, чтобы осознать, является ли пятидесятилетний цикл (если он вообще существует) частью общего подъема, спада или конца. Троцкий никак не оправдывал воображаемый характер своей кривой. Чтобы прочертить реальную кривую, говорил он, не хватало надежных данных, однако, если продолжить работу в этом направлении, это можно сделать.
Атака, предпринятая Троцким в 1922 году, впоследствии использовалась для опровержения идеи длинных циклов. Но она их не опровергает. Она просто говорит, что волны, во-первых, вряд ли носят равномерный характер, поскольку их вызывают внешние потрясения, и, во-вторых, их нужно поместить в более масштабную волнообразную линию, которая отражает подъем и упадок самого капитализма. Иными словами, Троцкий призывал дать более точное, подкрепленное историческими данными определение «тренда», на основании которого рассчитывались пятидесятилетние циклы.
В принципе, это было логично. Во всех трендах статистики ищут так называемую точку перелома, в которой кривая перестает расти, выпрямляется и начинает готовиться к спаду. Поиск точки перелома в капитализме властвовал над умами левых экономистов на протяжении всего XX века – и так и не увенчался успехом.
Тем временем Кондратьев был занят делом.
Холодная комната в Москве
В январе 1926 года Кондратьев опубликовал окончательную версию своего труда «Большие циклы конъюнктуры». 6 февраля цвет советских экономистов собрался в руководимом Кондратьевым Конъюнктурном институте на Тверской улице в Москве, чтобы разорвать его в клочья.
Стенограмма собрания не фиксирует того страха и иррациональности, которыми сталинские чистки скоро пропитают советскую научную жизнь. Участники говорят свободно и резко. Они придерживаются трех линий атаки, которые с тех пор стали преобладать в критике Кондратьева: его статистические методы ошибочны, он неверно понял причины волн, его политические выводы недопустимы.
Сначала главный оппонент Кондратьева, экономист Дмитрий Опарин, заявил, что метод, использованный им для смягчения более коротких циклов, был ошибочен и привел к искажению результатов. К тому же долгосрочные данные относительно увеличения и сокращения сбережений не подкрепляют теорию Кондратьева.
Затем дискуссия перешла к проблеме причины и следствия. Экономист В.Е. Богданов заявил, что циклы диктуются не капиталовложениями, а инновациями (он стал тем самым первым, но далеко не последним человеком, который свел теорию длинных циклов к истории технологических инноваций). Богданов, однако, поднял важный вопрос. Нелогично, считал он, что стоимость строительства таких объектов, как каналы, железные дороги или сталелитейные заводы, должен определять ритм мировой экономики на протяжении пятидесяти лет. Возражение против цикла, определяемого капиталом, привело его к выдвижению цикла, предопределяемого технологиями, и на этой основе он выдвинул более строгую версию утверждения Троцкого о «внешних потрясениях».
Если длинные волны существуют, то, согласно Богданову, их должно вызывать «случайное пересечение двух ключевых причинных рядов»: внутренней динамики капитализма и внешней некапиталистической среды[61]. Например, кризис некапиталистических обществ, таких как Китай и Османская империя, в конце XIX века создал новые сферы приложения для западного капитала; аграрная отсталость такой страны, как Россия, предопределила рост ее капиталистического сектора, вынудив ее искать средства во Франции и Великобритании.
Отчасти Богданов был прав. Согласно теории Кондратьева, ритм развития капитализма оказывает одностороннее гравитационное воздействие на некапиталистический мир. Действительно, оба мира постоянно взаимодействуют, и любая комплексная версия кондратьевской теории должна была это учитывать.
Ближе к концу семинара аграрный экономист Мирон Нахимсон, давно писавший для коммунистической партии, оценил политические последствия теории длинных волн. Одержимость длинными волнами, сказал он, носит идеологический характер. Ее цель – оправдать кризис, приняв его за нормальное положение дел; заявить, что «мы имеем дело с постоянным движением капитализма, сначала возрастающим, затем ниспадающим, и что пока еще не время мечтать о социальной революции». Нахимсон понял, что длинные циклы – это серьезный теоретический вызов для большевизма, исходившего из тезиса о неминуемой гибели капитализма[62].
Дебаты затронули ключевую проблему работы Кондратьева, считавшего динамику капиталовложений первичной причиной кризисов, происходящих с интервалом в пятьдесят лет. Однако его изложение этой динамики не было тщательно продумано.
Он полагал, что некапиталистический мир был сторонним наблюдателем капиталистических волн, хотя это было не так.
На этом этапе, хотя он рассматривал каждую волну как более сложную версию предыдущей, он не сумел определить роль длинных волн в судьбе капитализма в целом.
В работе Кондратьева была и еще одна проблема, связанная с остальными, – проблема данных. Она преследовала теорию длинных циклов на протяжении всего периода от эпохи логарифмической линейки до компьютера Linux. Мы должны рассмотреть эту проблему, поскольку она стала чем-то вроде таблички «вход запрещен» для работы Кондратьева на протяжении целого поколения.
Вызов случайных чисел
Свидетельством честолюбивого замысла Кондратьева служит тот факт, что в исследовательской группе, которую он возглавлял, состоял один из крупнейших математиков XX века Евгений Слуцкий. Пока Кондратьев бился над реальными данными, Слуцкий занимался собственным проектом с использованием случайных чисел.
Слуцкий показал, что, применяя скользящее среднее значение к случайным данным, можно легко создавать волнообразные модели, которые выглядят как реальные экономические наблюдения. Чтобы доказать это, он создал волнообразную модель на основе случайных лотерейных чисел и наложил ее на статистический график, отражающий рост в Великобритании: при сопоставлении обе кривые оказались очень похожи друг на друга. В статистике это явление известно под названием «эффект Слуцкого-Юла», и сегодня его воспринимают как доказательство того, что сам факт усреднения данных приводит к сомнительным результатам. Тем не менее Слуцкий верил в обратное. Он верил, что появление равномерных волнообразных моделей на основе случайных событий было реальным[63], причем не только в экономике, но и в природе:
Вероятно, что особую роль в природе играет процесс скользящего сложения с теми или иными весами, в котором размер каждого следствия определяется влиянием не только одной, а целого ряда предшествующих причин, как, например, величина урожая, помимо других обстоятельств, обуславливается не только одним, а целым рядом дождей[64].
Иными словами, дождь выпадает случайно на квадратный километр, но в конце сезона вы получаете урожайность, которую можете сравнить с урожайностью прошлого года. Совокупное воздействие случайных событий может создавать равномерные, циклические модели.
К тому моменту как Слуцкий написал об этом, знакомство с Кондратьевым стало небезопасным. В 1927 году конфликты в среде советской бюрократии вылились в изгнания и стычки на улицах. Историк Джуди Кляйн обращает внимание на то, что Слуцкому было бы просто откреститься от Кондратьева, который попал под подозрение, поскольку был открытым приверженцем рыночного социализма. Однако он поддерживал основную теорию Кондратьева[65].
На самом деле, эксперимент Слуцкого добавил ключевой элемент в теорию длинных волн. Слуцкий заметил, что волны, создаваемые путем фильтрации случайных данных, не повторяются бесконечно. Рассчитав их движение во времени, он обнаружил, что модели резко прерываются – это явление он назвал «сменой режима»: «По прошествии большего или меньшего числа периодов определенный режим расстраивается, причем переход к другому режиму может происходить или постепенно от одного “среднего” режима к другому такому же, или определенный режим может соблюдаться сравнительно строго, а переход от одного режима к другому происходит более резко около критических точек»[66].
Каждому, кто интересуется долговременными моделями в экономике, вызов, брошенный наблюдением Слуцкого, очевиден. Во-первых, длинные волны нельзя проследить до осязаемой причины, будь то инновации, внешние потрясения или ритм капиталовложений. Они могут быть просто планомерной чертой любой сложной экономической системы на протяжении определенного периода времени. Во-вторых, какой бы ни была их причина, мы можем ожидать, что плавные волнообразные модели прервутся и снова перезапустятся.
Сам Слуцкий полагал, что это резкое прерывание модели могло осуществляться на двух уровнях: внутри десятилетнего экономического цикла и в рамках пятидесятилетних длинных циклов. Однако его работа указывает и на третью возможность. Если промышленный капитализм породил ряд пятидесятилетних волн в течение более чем двухсотлетнего периода, то в определенный момент эта модель тоже может прерваться, дав начало смене режима, которая приведет к совершенно иной модели.
В последние двадцать лет статистики подвергали теорию Кондратьева нападкам. Различные современные исследования утверждают, что если использовать более точные методы усреднения, то кондратьевские волны просто исчезают или становятся неравномерными. Другие верно указывают на то, что долгосрочные колебания цен, наблюдаемые в трех первых волнах, исчезают, когда после 1945 года появляется глобальный рынок[67].
Тем не менее, учитывая огромное количество дополнительных данных и более точных методов, имеющихся в нашем распоряжении, волны Кондратьева можно проследить на статистических данных, касающихся мирового роста.
В 2010 году это сделали российские исследователи Коротаев и Цирель[68]. Использовав метод «частотного анализа», они убедительно доказали, что в данных по ВВП имеются мощные импульсы, проявляющиеся с интервалом в пятьдесят лет. Для периода после 1945 года они показали, что даже необработанные данные явно демонстрируют восходящую фазу после 1945 года и продолжительную нисходящую фазу, начавшуюся в 1973 году.
Отталкиваясь от определения рецессии, данного МВФ (шесть месяцев, в течение которых мировой рост опускается ниже 3 %), они посчитали, что в период с 1945 по 1973 год рецессий не было, зато после 1973 года их произошло шесть. Они уверены в том, что кондратьевские волны присутствуют в данных по ВВП после 1870 года и могут наблюдаться в экономиках западных стран и до этой даты.
Другие доказательства существования длинных циклов приводятся в работе Чезаре Маркетти, итальянского физика, который проанализировал исторические данные по потреблению энергии и инфраструктурным проектам. Результат, заключил он в 1986 году, «очень четко показывает циклическое или импульсное поведение» во многих сферах экономической жизни, а сами циклы длятся примерно пятьдесят лет[69].
Маркетти отвергает мысль о том, что это волны или что они носят прежде всего экономический характер, предпочитая называть их долгосрочными «импульсами» в общественном поведении. Однако, говорит он, сигналы, неясные в экономической науке, «становятся кристально ясными при анализе “физических свойств”».
Маркетти говорит, что самое явное свидетельство длинных циклов заключается в модели инвестирования в «сети» физических средств связи. Беря в качестве примера каналы, железные и асфальтированные дороги, он показывает, что их строительство достигало пика примерно через пятьдесят лет после того, как достигала пика предыдущая технология. На этом основании он предсказал, что новый тип сети появится около 2000 года. Хотя он писал всего за четырнадцать лет до наступления нового тысячелетия, он не мог предугадать, что это будет за сеть. Сегодня мы знаем ответ – это информационная сеть.
Таким образом, есть физические и экономические свидетельства того, что пятидесятилетняя модель существует. Волны, порождаемые такой моделью, или импульсы, имеют второстепенное значение по сравнению с самим фактом существования модели. Экономисту они показывают действие более глубоких процессов подобно тому, как астрофизик может определить черную дыру только благодаря движению материи вокруг нее.
И вот почему это важно. Кондратьев дал нам способ, позволяющий понять мутации в рамках капитализма. Левые экономисты искали лишь такой процесс, который вел бы к краху. Кондратьев показал, что угроза краха обычно ведет к адаптации и выживанию.
Проблема теории Кондратьева заключается в том, что, по его мнению, циклом движет экономическая сила, и в том, как это связано с судьбой и долговечностью всей системы. Это мы и должны определить.
Спасение Кондратьева
Однажды я прочитал лекцию о Кондратьеве двумстам студентам, изучавшим экономику в одном британском университете. Они вообще понятия не имели, о ком и о чем я говорил. «Ваша ошибка, – сказал мне один ученый после беседы со студентами, – в том, что вы смешали микро- и макроэкономику. Они к этому просто не привыкли». Другой лектор, который преподавал экономическую историю, о Кондратьеве никогда не слышал.
Зато они слышали о Йозефе Шумпетере. В «Экономических циклах» (1939) Шумпетер утверждал, что капитализм предопределяют взаимосвязанные волнообразные циклы – от коротких трех- или пятилетних циклов, возникающих вследствие затоваривания складов на предприятиях, до пятидесятилетних циклов, которые изучал Кондратьев.
Путем замысловатых умозаключений Шумпетер исключил из числа причин пятидесятилетнего цикла кредитный цикл, внешние потрясения, изменения во вкусах и то, что он определил как «рост». Вместе с тем он утверждал: «Инновации – это незаурядный факт в экономической истории капиталистического общества и… во многом именно от них зависит то, что мы на первых порах отнесли бы на счет других факторов»[70]. Затем он изложил подробную историю каждой из кондратьевских волн, представив их циклами инноваций. Первая волна была запущена благодаря изобретению фабричной системы в 1780-е годы, вторая была обусловлена массовым строительством железных дорог после 1842 года, третья – внедрением целого ряда инноваций, которое мы сегодня называем вторым промышленным переворотом, произошедшим в 1880–1890-е годы[71].
Шумпетер взял теорию волн Кондратьева и сделал ее весьма привлекательной для капиталистов: в его версии каждый новый цикл запускают предприниматель и изобретатель. Напротив, периоды спада являются следствием исчерпания инновационного импульса и накопления капитала в финансовой системе. По Шумпетеру, кризис – это необходимая черта капиталистической системы в том смысле, что он способствует «созидательному разрушению» старых неэффективных моделей.
И в то время как Кондратьева по большей части забыли, работа Шумпетера воспринималась как своего рода религиозное озарение, как технологически детерминистская интерпретация бумов и спадов, к которой традиционные экономисты могут обращаться в периоды кризиса, когда их устоявшиеся представления рушатся.
Отталкиваясь от теории технологической обусловленности циклов, Карлота Перес, самая видная современная последовательница Шумпетера, призывала политиков оказывать государственную поддержку информационным и биологическим технологиям и зеленой энергетике и обещала, что примерно в 2020-е годы, когда начнется новая волна, наступит новый «золотой век».
Перес добавила некоторые усовершенствования в теорию волн, которые полезны для понимания нынешней фазы. Важнейшим из них стала идея о «технологически-экономической парадигме». По словам Перес, ее недостаточно ни для того, чтобы возникла группа инноваций в начале каждого волнового цикла, ни даже для того, чтобы эти инновации просто взаимодействовали друг с другом. Должны возникнуть «новые общие принципы, обеспечивающие распространение каждой революции», узнаваемая «логика нового», которая позволяет заменить один набор технологий и методов ведения бизнеса другим.
Однако Перес датирует волны изобретением ключевых технологий, а не их внедрением, и в этом расходится и с Кондратьевым, и с Шумпетером. Кроме того, она предлагает другую последовательность причин: изобретатели изобретают, охваченные энтузиазмом финансисты спекулируют, все заканчивается слезами, после чего в дело вступает государство, регулирующее ситуацию таким образом, что становится возможным золотой век быстрого роста и высокой производительности.
Сторонники Перес говорят, что такая последовательность дат, смещающая исходную точку каждой волны на двадцать пять лет раньше, лишь переформулирует теории Шумпетера. Однако дело этим не ограничивается. Для нее суть теории длинных волн заключается в «начале и постепенном освоении каждой технологической революции», а не в восходящих и нисходящих фазах ВВП, на которых сосредотачивал внимание Кондратьев[72].
В результате она сталкивается с целым рядом логических проблем. Почему четвертая волна (1909–1971) продлилась почти семьдесят лет? Потому что до 1945 года политический ответ на депрессию 1930-х годов не приносил плодов, отвечает она. Почему с 1990 по 2008 год четкая последовательность «инновации, пузырь, кризис» имела место дважды? Опять-таки, отвечает она, из-за политических ошибок.
Предложенная Перес версия теории волн делает акцент на реакцию правительств на кризисы, однако уделяет крайне мало внимания борьбе между классами или распределению богатства. Практически полное перевертывание кондратьевской теории приводит к тому, что технологии предопределяют развитие экономики, а правительства предопределяют развитие технологий.
Привлекательность теории волн, обусловленных технологиями, состоит в том, что имеются осязаемые свидетельства в ее пользу: концентрация инноваций происходит перед началом длинных волн, а их взаимодействие можно проследить. Она материалистична в том, что рассматривает революции и перемены в общественном настрое в качестве производной от чего-то более глубокого. Новые технологии приводят к власти тех, кого Шумпетер называл «новыми людьми», которые, в свою очередь, навязывают свои вкусы и свои правила потребления.
Но Кондратьев был прав, отвергая технологии в качестве источника крупных перемен. Эта мысль подходит для описания начала пятидесятилетних циклов, но она не полностью объясняет, почему происходит концентрация технологий, почему возникает новая социальная парадигма и почему волна заканчивается.
Если мы будем придерживаться того, что говорил Кондратьев, и продлим его последовательность длинных циклов до настоящего времени, позаимствовав идею Маркетти о «физических свойствах» и опираясь на намного более точные данные по сравнению с теми, которые были доступны в 1920-е годы, мы сможем предложить следующую схему.
1. 1790–1848 годы: в английских, французских и американских данных прослеживается первый длинный цикл. Фабричная система, паровые машины и каналы стали основой новой парадигмы. Переломным моментом стала депрессия конца 1820-х годов. Революции 1848–1851 годов в Европе вкупе с Мексиканской войной и с Миссурийским компромиссом в США образует явный поворотный момент.
2. 1848 – середина 1890-х годов: второй длинный цикл наблюдается в развитом мире и, ближе к концу этого периода, в мировой экономике. Железные дороги, телеграф, океанские пароходы, стабильные валюты и промышленное производство машин формируют новую парадигму. Волна достигает высшей точки в середине 1870-х годов, когда разражается финансовый кризис в США и в Европе, за которым следует «долгая депрессия» (1873–1896). В 1880–1890-е годы, в ответ на экономический и социальный кризис, получают развитие новые технологии, что дает импульс третьей волне.
3. 1890-е – 1945 год: в третьем цикле ключевыми технологиями стали тяжелая промышленность, электротехника, телефон, научная организация управления и массовое производство. Перелом происходит в конце Первой мировой войны, а Великая депрессия 1930-х годов, за которой следует уничтожение капитала в течение Второй мировой войны, обозначает нисходящую фазу.
4. Конец 1940-х – 2008 год: в четвертом длинном цикле транзисторы, синтетические материалы, товары массового потребления, автоматизация производства, ядерная энергия и автоматические вычисления создают новую парадигму и приводят к самому длительному экономическому буму в истории. Высшая точка совершенно очевидна – это нефтяной шок в октябре 1973 года, после которого наступает длительный период нестабильности, но крупная депрессия не наступает.
5. Конец 1990-х годов: перекрещиваясь с концом предыдущей волны, появляются основные элементы пятого длинного цикла. Его источниками выступают сетевые технологии, мобильная связь, действительно мировой рынок и информационные товары. Но он заглох. И причина того, что он заглох, отчасти связана с неолиберализмом, отчасти – с самими технологиями.
Это лишь набросок: список начальных и конечных точек, концентраций технологий и значительных кризисов. Чтобы продвинуться дальше, мы должны понять динамику накопления капитала лучше, чем ее понимал Кондратьев, опираясь на методы, которых теоретики технологий мало касались. Мы должны не только понять, как видоизменяется капитализм, но и выявить, что в экономике вызывает изменения, а что может их ограничить.
Кондратьев дал нам метод, при помощи которого мы можем понять то, что системные теоретики называют «мезоуровнем» в экономике: нечто между абстрактной моделью системы и ее конкретной историей. Он оставил нам метод, позволяющий понять ее мутации лучше, чем теории, выдвигавшиеся в XX веке последователями Маркса, которые сосредотачивались на внешних факторах и на апокалиптических сценариях.
Мы еще не закончили с Кондратьевым. Однако, чтобы довершить то, что он пытался сделать, мы должны погрузиться в проблему, которая владела умами экономистов на протяжении более чем столетия: что вызывает кризис.
Глава 3. Был ли прав Маркс?
В 2008 году с Карлом Марксом произошло что-то странное – «Он вернулся», – кричал заголовок лондонской Times. Немецкие издатели «Капитала» Маркса отчитались о трехсотпроцентном росте продаж после того, как один министр правительства заявил, что его идеи «не так уж плохи». Тем временем в Японии получила широкую популярность версия «Капитала» в комиксах. Во Франции Николя Саркози сфотографировали за тем, как он перелистывал французское издание Марксова шедевра.
Толчком к одержимости Марксом, конечно, стал финансовый кризис. Капитализм рушился. Маркс это предсказывал, поэтому следовало согласиться с тем, что он был прав, или оценить его по-новому или хотя бы признать за ним право на посмертное Schadenfreude[73].
Но есть одна проблема. Марксизм – это и теория истории, и теория кризиса. Как теория истории он великолепен: вооружившись знанием о классах, власти и технологиях, мы можем предсказать действия могущественных людей до того, как сами они узнают, что они будут делать. Но как теория кризиса марксизм имеет изъяны. Если мы используем идеи Маркса для понимания нынешней ситуации, мы должны понимать их ограниченность – и теоретическую путаницу, в которую попали его последователи, пытавшиеся ее преодолеть.
Это не пустые вопросы. Чем чаще бородатое лицо Маркса появляется на страницах охваченных паникой ведущих газет и чем глубже становится социальная катастрофа, уготованная завтрашней молодежи, тем больше вероятность, что будет предпринята попытка повторить провалившиеся эксперименты последователей Маркса: большевизм и форсированное устранение рынка. Основной посыл этой книги, заключающийся в том, что за рамками капитализма есть другой путь, на который можно выйти другими методами, заставляет нас заняться марксистской теорией кризиса.
Так в чем проблема?
Маркс считал капитализм нестабильной, хрупкой, комплексной системой. Он признавал, что классовые различия дают разным экономическим агентам неравную силу на рынке. Однако марксизм недооценивал способность капитализма к адаптации.
Сам Маркс стал свидетелем лишь одной глобальной адаптации, а именно восходящей фазы второй длинной волны, которая пришлась на два десятилетия, последовавшие за революцией 1848 года. К сожалению, к тому времени, когда его последовали находились в середине третьей длинной волны, марксистская экономическая мысль как эффективная системная теория перестала развиваться.
В конечном счете марксизму бросали вызов три общие для всех комплексных адаптивных систем свойства. Во-первых, такие системы обычно являются «открытыми», т. е. они успешно развиваются, если контактируют с внешним миром. Во-вторых, на вызовы они отвечают совершенно непредсказуемыми инновациями и изменениями: каждая инновация создает новый замысловатый набор возможностей для роста и расширения в рамках системы. В-третьих, они создают «внезапно появляющиеся» феномены, которые можно изучать лишь на более высоком уровне, чем уровень функционирования самой системы. Например, поведение колонии муравьев может быть результатом муравьиного генетического кода, однако его нужно изучать с точки зрения поведения, а не генетики.
В определенном смысле марксизм был самой систематической из всех когда-либо предпринимавшихся форм изучения внезапно возникающих феноменов, однако его постоянно сбивала с толку их природа. Только в 1970-е годы, когда в марксистскую экономику проникла идея «относительной автономии», ее приверженцы начали осознавать, что не все слои реальности являются простым выражением слоев, лежащих под ними.
В этой главе я покажу, как на протяжении последних ста лет приспособляющаяся природа капитализма путала не только марксистов, но и в целом левых. Тем не менее высказанная Марксом в «Капитале» изначальная догадка о том, как рыночные механизмы ведут к краху, не только остается справедливой, но и играет ключевую роль в понимании примеров масштабной адаптации.
По сравнению с теорией Кондратьева Марксова теория кризиса при правильном понимании предлагает лучшее объяснение того, что движет масштабными изменениями, и того, почему они могут прекратиться. Однако Маркс, который интересует нас здесь, – это воображение XXI века, заточенное в мозгу века XIX.
О чем говорил Маркс…
В первые восемьдесят лет существования промышленного капитализма экономисты оценивали его будущее пессимистично. Классических экономистов – Смита, Сэя, Милля, Мальтуса и Рикардо – обуревали сомнения относительно того, сможет ли он вообще выжить. Их работы были посвящены ограничениям капитала: препятствиям, стоящим на пути его экспансии, сокращению прибыли, неустойчивости роста.
В центре их споров была мысль о том, что человеческий труд представляет собой меру стоимости и определяет среднюю цену вещей. Она известна как «трудовая теория стоимости», и в шестой главе я подробно объясню, как она помогает нам обозначить схему перехода от капитализма к нерыночной экономике.
Маркс потратил свою жизнь на то, чтобы, исправив изъяны трудовой теории, объяснить кризисы и провалы, которые неотступно преследовали ранний капитализм. По Марксу, зрелой рыночной экономике присуща нестабильность. Впервые в истории возникает вероятность кризиса посреди изобилия. Производятся вещи, которые нельзя купить или использовать – такая ситуация показалась бы безумием в эпоху феодализма или в Древнем мире.
Маркс также признавал, что в экономической науке есть противоречие между тем, что реально, и тем, что мы считаем реальным. Рынок – это машина, позволяющая примирить первое со вторым. Реальная стоимость вещей диктуется количеством труда, машин и сырья, используемого для их производства, – все это измеряется в категориях трудовой стоимости, – но ее нельзя рассчитать заранее. Мы не можем ее увидеть, потому что законы экономики действуют «за спиной» каждого, кто вовлечен в нее.
Это противоречие ведет как к мелким поправкам – например, когда ко времени закрытия рынка остается слишком много фруктов, – так и к масштабной корректировке, например, когда от правительства США требуют спасти Lehman Brothers. Это означает, что когда вы изучаете кризис, то вы пытаетесь понять, что пошло не так глубже, чем об этом сообщают передовицы Wall Street Journal.
Маркс утверждал, что при зрелом капитализме прибыль, как правило, стремится к средним значениям. Поэтому управленцы, даже если внутренний голос говорит им, что они жестко конкурируют друг с другом, действительно создают осязаемую среднюю норму прибыли в каждой отрасли и во всей экономике, ориентируясь на которую устанавливают цены и оценивают результаты. Затем, через финансовую систему, они создают общий фонд прибыли, с которого инвесторы могут получать относительно стабильную доходность при любом заданном уровне риска. Хотя финансовый сектор был невелик во времена, когда Маркс писал «Капитал», он прекрасно понимал, что финансы – в виде дохода с капитала – становятся основным механизмом рационального распределения капитала в ответ на усредненный уровень риска и вознаграждения в различных отраслях.
Он также осознавал, что изначальным источником прибыли является труд, а именно прибавочная стоимость, отчуждаемая от работников благодаря неравным властным отношениям на рабочем месте. Однако существует внутренняя тенденция к замене ручного труда машинным, обусловленная необходимостью увеличения производительности. Поскольку труд – это изначальный источник прибыли, эта тенденция приведет к снижению нормы прибыли по мере того, как механизация будет все больше и больше распространяться в экономике. В отдельной компании, отрасли или всей экономике увеличение доли капитала, вкладываемого в машины, сырье и другие нетрудовые факторы, снижает сферу применения труда, создающего прибыль. Маркс называл это «основным законом капитализма».
Однако на эту угрозу система реагирует спонтанно: она создает институты и формы поведения, которые противодействуют тенденции к снижению капитала. Инвесторы выходят на новые рынки, где прибыль выше. Издержки на труд уменьшаются благодаря удешевлению потребительских товаров и продовольствия. Управленцы ищут новые источники дешевого труда за рубежом, производят более дешевые с точки зрения трудовых затрат машины, переходят от более машиноемких производств к более трудоемким или же стремятся увеличить долю на рынке (размер прибыли), а не маржу (норму прибыли).
Становление финансовой сферы, по мнению Маркса, является более стратегической контртенденцией. Определенная доля инвесторов начинает считать доход с капитала – а не непосредственную предпринимательскую прибыль, которая обеспечивается за счет создания компании и управления ею, – нормальным вознаграждением за обладание большим количеством денег. Предприниматели все равно будут брать на себя риск в одностороннем порядке – так действует частный капитал и хедж-фонды сегодня, – однако значительные части системы ориентируются на инвестиции, которые сопряжены с низким уровнем риска, приносят низкую прибыль и осуществляются посредством финансовой системы, позволяющей капитализму, по словам Маркса, продолжать функционировать тогда, когда сокращаются прибыли.
Мы должны обозначить это предельно ясно: по Марксу, эти контртенденции действуют постоянно. Кризис происходит только тогда, когда они выдыхаются или прекращаются[74], т. е. когда у вас заканчивается дешевая рабочая сила, или не появляются новые рынки, или же финансовая система не может больше надежно хранить весь капитал, который направляют в нее инвесторы, не желающие рисковать.
Вкратце, Маркс утверждал, что кризис представляет собой предохранительный клапан для всей системы в целом. Это нормальная черта капитализма, являющаяся продуктом его технологического динамизма.
Даже из этого небольшого очерка видно, что Маркс моделирует капитализм как комплексную систему. Даже когда кажется, что капитализм устойчив, он не находится в равновесии: есть спонтанные разрушительные процессы, которые уравновешиваются многочисленными спонтанными стабилизаторами. Теория кризиса объясняет, когда и почему эти стабилизаторы перестают работать.
В трех томах «Капитала» Маркс описывает различные формы кризиса. Первая – это кризис перепроизводства, когда слишком много товаров конкурирует в условиях слишком низкого спроса, в результате чего становится невозможным получить прибыль, порождаемую в процессе производства, посредством продажи товаров. Маркс также предполагал, что кризисы возникают вследствие неэффективного перетекания капитала между различными отраслями. Он видел множество кризисов, возникавших из-за того, что тяжелая промышленность перерастала отрасли, производившие потребительские товары, что приводило к рецессиям, длившимся до тех пор, пока между ними не восстанавливалось равновесие. Наконец, бывают кризисы, обусловленные сбоем описанных выше противодействующих тенденций, что вызывает заметное падение нормы прибыли, замораживание инвестиций, временное увольнение рабочих и сокращение ВВП.
Наконец, в третьем томе «Капитала» Маркс описывает, как происходят финансовые кризисы: кредитование становится чрезмерно раздутым, а затем спекуляции и преступления доводят его до разрушительных масштабов, когда кризис неизбежно корректирует бум – это сталкивает экономику в многолетнюю депрессию. В одной яркой фразе Маркс предвосхитил мир компании Enron, Берни Мэдоффа и «одного процента» богатых. Главная функция кредита, писал он, состоит в том, чтобы «развивать движущую силу капиталистического производства, обогащение на эксплуатации чужого труда, в систему чистейшего и колоссальнейшего азарта и мошенничества и все более сокращать число тех немногих, которые эксплуатируют общественное богатство»[75]. В 2008 году параллели между коллапсом финансовой сферы и знаменитым процитированным высказыванием привели к появлению статей, в которых утверждалось, что Маркс был прав. Сегодня, по мере того как финансовый кризис отступает, но реальные зарплаты в западном мире не растут, люди снова говорят: «Маркс был прав» – на этот раз в том, что касается проблемы перепроизводства: прибыль и рост вновь пошли вверх, а зарплаты рабочих – нет.
Однако Марксова теория кризиса неполна. В ней есть логические изъяны, на исправление которых у ее сторонников ушло много времени, прежде всего там, где он пытается связать абстрактную модель с конкретикой. Более того, его теория – продукт своего времени: Маркс не мог принять в расчет ключевые явления ХХ столетия – государственный капитализм, монополии, сложные финансовые рынки и глобализацию.
Для того чтобы Маркс оказался прав – т. е. чтобы он оказался кем-то более значительным, чем просто пророк, заявивший: «Кризис – это нормально», – мы должны сделать его теорию внутренне логичной и сообразующейся с фактами. Мы должны отрегулировать ее так, чтобы она включала в себя черты, присущие сложным адаптивным системам, с которыми она боролась: открытость, непредсказуемость реакции на опасность и длинные циклы (лежащие где-то между нормальным кризисом и окончательным крахом). Но даже когда это будет исправлено, одной теории циклического кризиса все еще будет недостаточно для изучения изменений на уровне выживания, которым посвящена эта книга.
В знаменитых строках, написанных в 1859 году, Маркс предсказывал, что «на известной ступени своего развития материальные производительные силы общества приходят в противоречие с существующими производственными отношениями… Из форм развития производительных сил эти отношения превращаются в их оковы. Тогда наступает эпоха социальной революции»[76]. Однако он так и не объяснил, как спорадические кризисы создают – или могут создавать – условия для складывания новой системы. Задача заполнить эту лакуну досталась его последователям.
Когда Маркс умер, его сторонники решили, что кризисы перепроизводства нельзя сглаживать в течение длительного времени за счет нахождения или изобретения новых рынков. «Расширению рынков есть пределы, – писал лидер немецких социалистов Карл Каутский в 1892 году. – Сегодня вряд ли можно открыть новые рынки»[77]. Они ожидали, что краткосрочные кризисы, следующие один за другим словно снежный ком, наберут силу и приведут к полному краху. В 1898 году польская социалистка Роза Люксембург предсказывала, что когда система останется без новых рынков, то произойдет «взрыв, крах, и в этот момент мы сыграем роль управляющего, который ликвидирует обанкротившуюся компанию»[78].
Вместо этого, как мы знаем, начало третьего длинного цикла привело к трансформации капитализма. Его адаптивная природа позволила ему создать рынки внутри системы, даже несмотря на то, что схватка за колонии зашла в тупик. И он доказал свою способность уничтожать некоторые черты рынка ради собственного выживания.
Апокалиптические предостережения, которые марксисты делали в 1890-е годы, оказались ошибочными. Сначала им пришлось пережить массовый подъем капитализма, а затем хаос и крах в 1914–1921 годах. Его последствия дезориентировали левых экономистов на многие десятилетия.
Капитализм подавляет рынок
В 1900-е годы мировая экономика переживала глубокие изменения. Технологии, модели ведения бизнеса и торговли, потребительские привычки быстро эволюционировали, взаимодействуя друг с другом. Теперь они слились в капитализме нового типа.
Сегодня нас поражает смелость и скорость, с которой все это осуществлялось: сталь заменила чугун; электричество заменило газ; телефон вытеснил телеграф; появились кинематограф и таблоиды; быстро рос выпуск промышленной продукции; в столицах разных стран мира вырастали впечатляющие здания со стальными каркасами, а мимо них проезжали автомобили.
Однако в то время капитаны бизнеса считали это само собой разумеющимся. Их беспокоили взаимоотношения между крупными компаниями и рыночными силами. Если это возможно, заключали они, рыночные силы нужно отменить.
«Конкуренция – это промышленная война, – писал Джеймс Логан, глава US Envelope Company в 1901 году. – Невежественная, неограниченная конкуренция, доведенная до своего логического завершения, означает смерть для некоторых участников сражений и ущерб для всех»[79]. В это время его компания почти полностью господствовала на американском рынке. В то же самое время Теодор Вайль, босс Bell Telephone, предупреждал, что «все издержки агрессивной, неконтролируемой конкуренции, в конечном итоге, ложатся прямо или косвенно на плечи общества»[80]. Чтобы избавить общество от такого бремени, Вайль намеревался приобрести все телефонные коммутаторы в Америке.
Конкуренция, утверждали воротилы бизнеса, привносит хаос в производство и снижает цены до такого уровня, что прибыльное внедрение новых технологий становится невозможным. Решение следовало искать на трех уровнях: монополия, фиксирование цен и защита рынков. Средствами для достижения этих целей были (1) слияния, осуществляемые при поддержке новых агрессивных инвестиционных банков; (2) создание картелей и концернов для установления цен; (3) введение правительством ограничений на импорт товаров.
Американская сталелитейная корпорация была создана в 1901 году на основе 138 различных компаний и мгновенно получила контроль над 60 % рынка. В те же годы Standard Oil располагала 90 % имевшихся в США мощностей по переработке нефти и использовала свою власть так беспощадно, что заставляла железнодорожные компании перевозить нефть себе в убыток. Bell Telephone пользовалась полной монополией в области телекоммуникаций до середины 1890-х годов и вернула ее себе в 1909 году, когда Дж. П. Морган объединился с Вайлем, чтобы скупить конкурентов.
В Германии поощрялось создание ценовых картелей, получавших законную регистрацию, вследствие чего их число увеличилось более чем вдвое с 1901 по 1911 год[81]. Лишь один из этих картелей, Рейнско-Вестфальский угольный синдикат, охватывавший 67 компаний, обладал достаточной властью, чтобы диктовать 1,4 тысячи различных цен и контролировать 95 % энергетического рынка своего региона[82].
Поскольку сегодня понять это трудно, для внесения полной ясности мы уточним, что это была система, в которой цены устанавливали не спрос и предложение, а миллионеры.
К 1915 году в немецкой электротехнической промышленности господствовали два промышленных гиганта; в химической и горнодобывающей отраслях и в сфере грузоперевозок тоже было по два доминирующих игрока. В Японии вся экономика находилась во власти шести дзайбацу, конгломератов, которые, начав как торговые компании, превратились в промышленные, вертикально интегрированные империи, выстроенные вокруг мощного банковского центра и контролировавшие горнорудную, сталелитейную, оружейную промышленность и сектор грузоперевозок. К 1909 году, например, «Мицуи» производил, по меньшей мере, 60 % всего японского электротехнического оборудования[83].
Для создания таких крупных компаний финансовая сфера была реорганизована. В США, Великобритании и Франции процессом управляли фондовый рынок и инвестиционные банки. В 1890 году на Уолл-стрит котировались акции 10 промышленных компаний, а к 1897 году их стало более 200[84]. В Японии и Германии, где промышленный капитализм был создан «сверху» авторитарными правительствами, мобилизация финансов осуществлялась не столько через фондовый рынок, сколько посредством банков и даже самого государства. Россия, которая отставала в этом процессе и в которой большая часть промышленности принадлежала иностранцам, сделала выбор в пользу смешанной модели.
Таким образом, англосаксонская и германо-японская модели выглядели очень по-разному, и в течение многих лет велись споры о том, какая из них лучше[85]. Однако каждая из них была основана на разных вариантах одной и той же идеи: финансы получали контрольный пакет в промышленности, добивались монопольного положения там, где это было возможно, и устраняли рыночные силы – а государство напрямую поддерживало весь этот проект.
Коротко говоря, рынок стал организованным. Теперь его надо было защищать. Помимо участия в схватке за колонии, великие державы ввели многочисленные тарифы на зарубежную торговлю, цель которых заключалась в продвижении интересов их компаний. К 1913 году, например, большинство промышленных стран защищали отечественную промышленность двузначными импортными пошлинами на фабричные товары[86]. Монополии, в свою очередь, добивались назначения своих людей на ключевые должности в правительстве. Идеология, согласно которой государство было «ночным сторожем» и не вмешивалось в экономическую жизнь, умерла.
Становление этой новой системы не обошлось без кризисов. В Америке мини-депрессия 1893–1897 годов ускорила процесс слияний; затем финансовый кризис 1907 года скорректировал стоимость акций, переоцененную в ходе бума слияний. В Японии и Германии процесс концентрации был ускорен короткими спазмами бума и спада в 1890-е годы.
Однако если рассматривать весь период примерно с 1895 года до Первой мировой войны, то прогресс перевесил кризис: американская экономика увеличилась вдвое в 1900-е годы, а канадская – втрое[87]. Даже в Европе, где импульс от трудовой миграции был не столь велик, за эти годы итальянская экономика выросла на треть, а немецкая – на четверть.
Это была восходящая фаза третьей кондратьевской волны. Вы можете «прочесть» ее результаты в городском пейзаже Нью-Йорка, Шанхая, Парижа и Барселоны: постройка самых прочных и красивых общественных зданий: библиотек, баров, офисов и даже бань, – как правило, относится к периоду 1890–1914 годов. История, которую они рассказывают, очевидна: в течение периода, который мы называем «прекрасной эпохой» или «прогрессивной эрой», – времени быстрого роста, либерализации и подъема культуры, – мир процветал не благодаря рынку, а благодаря его контролируемому подавлению. В те времена консерваторов это совершенно не смущало. Смущало это марксистов.
Капитализм видоизменяется
Задача обновления марксистской экономической мысли выпала 33-летнему австрийскому врачу Рудольфу Гильфердингу. Гильфердинг был классическим интеллектуалом «прекрасной эпохи»: изучая педиатрию в Вене в конце 1890-х годов, он заинтересовался экономической наукой, в которой блистала целая плеяда выдающихся умов. Ойген фон Бём-Баверк, профессор экономики, написавший знаменитую критику Маркса, проводил семинары, на которых Гильфердингу пришлось иметь дело, среди прочих, с Шумпетером, Людвигом фон Мизесом, основателем неолиберализма, и венгерским студентом Йено Варгой, который позднее оказал мощное влияние на экономическую науку.
В 1906 году Гильфердинг ушел из медицины и переехал в Берлин, где занялся преподаванием экономики в учебном центре Германской социалистической партии, который служил интеллектуальной кузницей для левых всего мира. В 1910 году Гильфердинг дал имя слиянию банковского и промышленного капитала: «Через эту связь… капитал принимает форму финансового капитала, являющуюся его наивысшим и наиболее абстрактным выражением»[88].
Его книга «Финансовый капитал» стала исходной точкой для всех споров о будущем капитализма, которые левые вели в течение столетия. Гильфердинг был первым марксистом, понявшим масштаб трансформации капитализма. Более того, в новой структуре многие постоянные черты выглядели точно так же, как и перечисленные Марксом контртенденции, возникающие в ответ на падение нормы прибыли: экспорт капитала, экспорт избыточной рабочей силы за счет миграции в заморские белые переселенческие колонии, концентрация прибыли посредством фондового рынка, переход от предпринимательства к инвестированию в стиле рантье.
Финансовая система, которая в предшествующем столетии выполняла функцию хилого распределительного центра экономической прибыли и ненадежного источника капитала, теперь властно господствовала над деловым миром. Контртендеции, противодействовавшие кризису, были объединены в рамках новой, более стабильной системы.
Гильфердинг утверждал, что эта новая структура могла устранить циклические кризисы. Крупные фирмы и крупные банки могли выживать в течение длительного периода даже при низкой или нулевой прибыли. А инвесторы скорее согласились бы на продолжительный застой, чем на внезапное крушение в результате кризиса таких фирм, как Siemens, Bell или Mitsui. Поэтому кризисные периоды в условиях финансового капитализма должны были быть скорее долгими и застойными, чем резкими и болезненными. Банки уничтожат спекуляцию, потому что понимают, какой разрушительной силой она обладает. Картели устранят действие рыночных сил, а значит, и кризисы для крупнейших фирм, переложив потери на более слабые отрасли экономики. Основное бремя каждой рецессии будут нести мелкие фирмы, что будет ускорять процесс их скупки монополиями.
По мнению Гильфердинга, силы нестабильности не исчезли, а были сведены в одну сферу: дисбаланс между производственными отраслями и теми, что ориентированы на потребление. Он ясно обозначил «недопотребление» в качестве причины кризиса, подчеркнув, что капитализм всегда может создавать новые рынки, когда старые истощаются, и благодаря этому продолжает расширять производство. Однако оставалась вероятность того, что отрасли будут расти разными темпами. Отсюда проистекала необходимость государственного вмешательства, которое должно было предотвратить подобный дисбаланс.
На левых книга Гильфердинга оказала очень сильное влияние, поставив их перед лицом реальных данных. Ее автор обошелся без тезиса о том, что «кризис, накатывающий, словно снежный ком», выступает инициатором социальных изменений; он ввел концепции и термины, которые впоследствии традиционная экономика позаимствовала у марксизма. И он раньше Шумпетера заявил, что главным двигателем инноваций теперь были крупные компании, использующие прикладную науку, а не предприниматели, корпящие в своих мастерских[89].
Однако книга Гильфердинга завела левых экономистов в тупик. Хотя он и описывал финансовый капитализм как «позднейшую стадию» системы, подразумевалось, что она же будет последней. Система, в которой господствует финансовый капитал, писал он, представляет собой «наивысшую и наиболее абстрактную» форму капитализма и дальше развиваться он не может:
Выполняя функцию обобществления производства, финансовый капитал чрезвычайно облегчает преодоление капитализма. Раз финансовый капитал поставил под свой контроль важнейшие отрасли производства, то достаточно, чтобы общество через свой сознательный исполнительный орган, завоеванное пролетариатом государство, овладело финансовым капиталом; это немедленно передаст ему распоряжение важнейшими отраслями производства.
Гильфердинг был умеренным социалистом, а со временем стал еще более умеренным. Он верил, что капитализм постепенно перерастет в социализм. Однако его идеи оказали влияние и на реформистов, и на революционеров. Оба крыла рабочего движения вдохновлялись верой в то, что социализм будет введен путем установления контроля над государством и над организованным рынком. Финансовый капитал представлял собой, как позднее писал Ленин, «умирающий капитализм, капитализм переходный к социализму: монополия, вырастающая из капитализма, есть уже умирание капитализма»[90]. Социалисты расходились лишь в том, какие действия требовались для того, чтобы его добить.
Важно, что Гильфердинг не просто связал социализм с проектом перехода под руководством государства, но и исключил любое видоизменение капитализма за рамками модели, созданной в 1900-е годы. А его основная теория сохраняла свое влияние и после его смерти. Еще в 1970-е годы вы могли утверждать, что, хотя капитализм сумел прожить дольше, чем ожидалось, по сути, он представлял собой высокомонополизированную национальную систему, управляемую государством. Левые рабочие могли искренне верить, что мир государственных авиакомпаний, сталелитейных и автомобильных заводов являлся второй стадией следующей последовательности: свободные рынки => монополия => социализм.
Эта идея умерла после 1989 года, когда развалился советский блок, началась глобализация и стала создаваться раздробленная, маркетизированная и приватизированная экономика, с которой мы имеем дело сегодня. Последовательность, которую представлял Гильфердинг и которая подспудно направляла социализм в течение восьмидесяти лет, нарушилась и, более того, обратилась вспять. Однако пока она существовала, доктрина о неизбежном линейном переходе от Standard Oil к социализму господствовала безраздельно.
Потребность левых в катастрофе
К 1910 году, когда была издана книга Гильфердинга, социал- демократия пользовалась влиянием во всех развитых странах. Ее признанным интеллектуальным центром был Берлин, а труды немецкоязычных лидеров переводились и обсуждались на фабриках в Чикаго, на золотых приисках в Новом Южном Уэльсе и в подпольных ячейках на российских броненосцах. Но даже несмотря на то, что рабочие усваивали посыл Гильфердинга, что-то в нем было не так. Трудящиеся устраивали все больше массовых забастовок, от рабочих текстильных фабрик в Нью-Йорке до вагоновожатых в Токио – и повсеместно между этими двумя городами. На Балканах назревала война. В системе, которая якобы избавилась от кризисов, царила политическая и социальная нестабильность.
Роза Люксембург, пришедшая на смену Гильфердингу в социалистической школе в Берлине, начала работу над масштабной книгой, в которой намеревалась оспорить его тезис о стабильности. Прежде Люксембург поддерживала массовые забастовки и критиковала милитаризм – более того, она критиковала Ленина за его элитарную концепцию революционной политики. Теперь она стала критиковать Гильфердинга.
Книга «Накопление капитала», выпущенная Люксембург в 1913 году, преследовала двойную цель: объяснить экономические мотивы колониального соперничества между великими державами и показать, что капитализм обречен. Заодно она выдвинула первую современную теорию недопотребления.
Перепроверив расчеты Маркса, она доказала, по крайней мере самой себе, что капитализм постоянно находится в состоянии перепроизводства. Он все время сталкивается с проблемой слишком слабой покупательной способности рабочих. Поэтому он вынужден добиваться доступа к колониям, которые выступают не только в роли источников сырья, но и в качестве рынков сбыта. Военные издержки, понесенные в ходе завоевания и защиты колоний, обладают тем дополнительным преимуществом, что поглощают избыточный капитал. Это, по словам Люксембург, похоже на расточительство или на избыточное потребление: так устраняются излишки капитала.
Поскольку колониальная экспансия была единственным предохранительным клапаном в системе, предрасположенной к кризису, Люксембург предсказывала, что, когда весь земной шар будет колонизирован и в колониальном мире будет внедрен капитализм, система рухнет. Капитализм, заключала она, это «первая хозяйственная форма, которая без других хозяйственных форм, как ее среды и питательной почвы, существовать не может; тенденция капитализма превратиться в мировую форму производства разбивается о его имманентную неспособность охватить все мировое производство»[91].
Ее книгу тут же разорвали в клочья Ленин и большинство профессоров-социалистов, с которыми она работала. Они справедливо утверждали, что любая нестыковка между производством и потреблением носит временный характер и будет преодолена за счет перетекания капиталовложений от тяжелой промышленности к потребительским товарам. В любом случае, новые колониальные рынки не были единственным предохранительным клапаном, спасающим от кризиса.
Однако книга Люксембург сыграла важную роль. Она ввела в левую экономическую мысль концепцию «финального кризиса» и выразила разделявшееся многими активистами предчувствие того, что монополии, финансы и колониализм даже во времена мира и процветания 1900-х годов готовили ужасную финальную катастрофу. К 1920-м годам недопотребление превратилось для левых в основную теорию кризиса и, после того как ситуация нормализовалась, стало площадкой, на которой социалисты и кейнсианцы сосуществовали в течение последующих пятидесяти лет.
Люксембург остается значимой фигурой потому, что она обнаружила один элемент, играющий ключевую роль в сегодняшних спорах о посткапитализме: значение «внешнего мира» для успешно адаптирующихся систем.
Если не обращать внимание на одержимость Люксембург колониями и военными тратами и просто сказать, что «капитализм – это открытая система», то мы окажемся ближе к признанию его адаптивной природы, чем те, кто, следуя за Марксом, пытался описать его как систему закрытую.
Больше всего в работе Люксембург профессоров-социалистов раздражала догадка, что на протяжении всей своей истории капитализм должен взаимодействовать с внешним, некапиталистическим миром, что это часть его сущности. Когда мир, лежащий непосредственно за пределами системы, преобразуется – уничтожаются туземные общества, крестьяне сгоняются с земли, – капитализм должен искать новые места, чтобы продолжить этот процесс.
Однако Люксембург ошибочно ограничивала это лишь обладанием колониями. Новые рынки могут создаваться и у себя дома не только за счет увеличения покупательной способности рабочих, но и посредством превращения нерыночной деятельности в рыночную. Любопытно, что Люксембург это упустила, хотя такое превращение происходило прямо у нее на глазах.
Пока она работала над своей книгой, с конвейеров Ford в Хайленд-Парке в Детройте сходили первые автомобили. Граммофонная компания Victor продавала 250 тысяч аппаратов в год в США. Когда она начала писать в 1911 году, в Берлине был всего лишь один кинотеатр, а к 1915 году их стало уже 168[92]. Мощная восходящая фаза третьей длинной волны (1896–1945) выражалась, прежде всего, в расширении нового потребительского рынка, в который вовлекались нижние слои среднего класса и квалифицированные рабочие. Досуг, главный нерыночный вид деятельности XIX века, начал коммерциализироваться.
Люксембург не учла тот факт, что формирование новых рынков протекает в сложном, интерактивном ключе и что они могут создаваться не только в колониях, но и в рамках национальных экономик, в отдельных отраслях, в домах людей и даже в их головах.
Настоящий вопрос, который породила догадка Люксембург, состоит не в том, «что происходит, когда весь мир индустриализуется», а в том, что происходит, если капитализм лишается возможностей взаимодействовать с остальным миром? Более того, что происходит, если он не может создавать новые рынки в рамках существующей экономики? Как мы увидим, именно эту проблему сегодня ставят перед капитализмом информационные технологии.
Великий разброд
В январе 1919 года, после подавления восстания в Берлине, Роза Люксембург была убита участниками правых полувоенных формирований, а ее тело было сброшено в канал. Рудольф Гильфердинг умер, то ли совершив самоубийство, то ли от пыток, в гестаповской камере в Париже в 1941 году. Эти два события ограничивают период, в который антикапиталистическая экономическая мысль оказалась серьезно сбита с толку.
Люксембург всегда выступала против большевизма, предсказывая, что захват власти в России ленинской партией приведет к авторитарному правлению. Однако к середине 1920-х годов, по иронии судьбы, ее теория стала государственной доктриной в Советском Союзе. Для того чтобы понять, как это произошло и к каким последствиям для левых это привело, мы должны осознать то, что пришлось пережить людям в начале 1920-х годов, – это был хаос.
В 1919–1920 годах произошел самый мощный цикл бума и спада в истории. За безудержной инфляцией последовал внезапный взлет процентных ставок, что привело к краху фондового рынка, который ощущался от Вашингтона до Токио. Массовая безработица и простой гигантских заводов опустили объем производства намного ниже уровня 1914 года.
И вот посреди всего этого произошли события, о которых большинство социалистов не смело и мечтать. Не прошло и года с революции 1917 года в России, как появились рабочие республики в Баварии и Венгрии. Германия предотвратила социалистическую революцию только благодаря масштабным реформам, проведенным на заре существования Веймарской республики, и обещаниям «социализировать» экономику. В 1919 году в Италии захватывались фабрики, во Франции и Шотландии происходили стачки, грозившие вот-вот перерасти в восстания, в Сиэтле и Шанхае проводились всеобщие забастовки. По всему западному миру ведущие политики столкнулись с перспективой революции.
К этому времени у левых было нечто большее, чем одна лишь книга Люксембург. Во время войны Ленин и теоретик большевизма Николай Бухарин, вдохновленные Гильфердингом, написали труды, в которых пришли к выводу, что капитализм, находящийся под властью финансов, является доказательством неминуемой гибели системы. Ленин назвал эту новую модель капитализма в упадке «империализмом» и определил его как «переходный капитализм». Масштаб организации – вертикально интегрированные корпорации, картели и государство – означал, что при капитализме экономика начинает социализироваться. «Частнохозяйственные и частнособственнические отношения, – писал Ленин в работе “Империализм как высшая стадия капитализма”, – составляют оболочку, которая уже не соответствует содержанию, которая неизбежно должна загнивать, если искусственно оттягивать ее устранение, – которая может оставаться в гниющем состоянии сравнительно долгое… время, но которая все же неизбежно будет устранена»[93].
Бухарин в своем памфлете, написанном в 1915 году в круглосуточно открытой нью-йоркской библиотеке, пошел еще дальше. Он утверждал, что, поскольку интересы национальных государств совпали с интересами их крупнейших промышленных компаний, единственной оставшейся формой конкуренции была война[94].
Эти памфлеты почитались левыми на протяжении десятилетий потому, что, хотя их и написали экономисты-любители, они рассказывали историю, которая согласовывалась с фактическими данными. Монополии привели к колониальным захватам, которые, в свою очередь, привели ко всеобщей войне – а война привела к революции. Господство финансов привело к организованному капитализму, который уже созрел для того, чтобы его захватил и социализировал рабочий класс.
И Ленин, и Бухарин потратили немало времени на борьбу с идеей о том, что мог появиться какой-то еще тип капитализма, при котором могло иметь место межгосударственное сотрудничество. Эта блестящая идея пришла в голову умеренному немецкому социалисту Каутскому накануне Первой мировой войны. Он предположил вероятность создания единого мирового рынка, в котором бы господствовали транснациональные корпорации. Однако ко времени публикации его статьи «Ультраимпериализм» война уже началась и весь этот вопрос стал казаться лишь научной фантазией[95].
Но большевики поняли, что тезис Каутского об ультраимпериализме был для них серьезным вызовом. Нападая на него, они твердо заявляли, что капитализм достиг своих пределов, что захват власти при первой же возможности необходим и что все разговоры о том, что рабочему классу нужно «больше времени», чтобы стать более образованным и политически зрелым, ошибочны.
С точки зрения большевиков, существовала четкая диалектическая последовательность – от рынка к монополии, от колонизации к мировой войне. Когда это произошло, их философская схема не могла допустить дальнейшей эволюции: единственный путь, по которому капитализм мог развиваться, – это путь его собственного разрушения.
К тому времени крайние левые усвоили одно из ключевых предложений Люксембург: теория кризиса должна описывать конечность, а не цикличность развития капитализма.
В период с 1917 по 1923 год оба крыла социализма могли проверить правильность мысли о том, что рабочие способны использовать государственную власть, чтобы социализировать капитализм.
В январе 1919 года Гильфердинг вступил в комиссию по социализации при германском правительстве в Берлине, которая в течение четырех месяцев пыталась осуществить национализацию и ввести экономическое планирование. Однако проект провалился на стадии разработки после обструкции, которую ему устроили умеренные социалисты и либералы, входившие в правительство. В Австрии – новой стране, появившейся на руинах Австро-Венгерской империи, – социализация протекала успешнее. Коалиционное христианско-социалистическое правительство продавило закон, который разрешал национализацию обанкротившихся фирм, но социалистический план по установлению контроля над банковской системой был отвергнут. В конце концов, у Австрии осталось три значительных государственных предприятия: обувная фабрика, фармацевтический завод и арсенал Австро-Венгерской империи, который правительство попыталось превратить в разноплановое производственное предприятие. Судьбу этого проекта лучше всего подытожил человек, пытавшийся его запустить: «Перед вновь образованной корпорацией стояла проблема использования сотрудников и машин для производства товаров, рынок для которых еще только предстояло создать»[96].
В Венгрии в 1919 году Йено Варга, некогда посещавший венские семинары Гильфердинга, стал министром финансов недолговечной советской республики. Он издал распоряжение о национализации всех предприятий, на которых число занятых превышало двадцать человек. Все крупные магазины были закрыты, чтобы средний класс не мог скупить предметы роскоши, используя их в качестве вложений. Земля была национализирована. Скоро республика венгерских рабочих столкнулась с другой проблемой. Фабрики нуждались в управлении, но рабочие ими управлять не могли. Варга честно обозначил эту проблему:
Члены рабочих комитетов стремились уклониться от производительного труда. Будучи контролерами, они все сидели за столом заседаний… они пытались добиться расположения рабочих, делая им уступки в вопросах дисциплины, в объемах выполняемой работы и в зарплатах, в ущерб общему интересу[97].
Иными словами, рабочие комитеты действовали в интересах рабочих, а не комиссаров.
В России большевики преодолели эти проблемы, введя военную дисциплину на фабриках и устранив рабочий контроль. Теперь перед ними стояла более масштабная проблема: экономика разваливалась в условиях промышленного хаоса, дефицита и отказа крестьян поставлять зерно в города.
В 1920 году Бухарин предложил решение: подробный план по быстрому переходу от этой импровизированной системы, известной как «военный коммунизм», к постоянной системе централизованного планирования для всей экономики. Ленин отверг его годом позже, когда голод и хаос заставили большевиков перейти к грубой форме рыночного социализма.
На протяжении предвоенных десятилетий социал-демократические лидеры утверждали, что нет смысла в разработке плана действий, которые они предприняли бы, если бы пришли к власти. В этом были согласны все, от большевиков до умеренных руководителей британской лейбористской партии: всё их мировоззрение сформировалось в борьбе с утопическим социализмом и его обреченными на провал экспериментами и мечтами. Они признавали, что технологический процесс и реорганизация бизнеса накануне 1914 года протекали так быстро, что любой план, спрятанный в ящике стола в партийном бюро, устарел бы к тому времени, когда в нем возникла бы надобность. Они знали, что должны были установить контроль над финансовой системой или национализировать ее; они знали, что возникнет конфликт между потребностями крестьян и городских потребителей, поскольку нельзя одновременно удовлетворить нужды тех и других. Однако они проявляли крайне мало интереса к проблеме, которая позднее привела к краху реформистской и революционной версий социализации – независимые действия рабочих, преследовавших собственные краткосрочные интересы, вступали в конфликт с необходимостью технократического управления и централизованного планирования.
От описанных Варгой неуступчивых рабочих комитетов в Будапеште до русских рабочих, требовавших самоуправления, или рабочих фабрики Fiat в Милане, даже попытавшихся производить автомобили без помощи управленцев – проблема конфликта между рабочим контролем и планированием стала для лидеров социалистов полной неожиданностью.
Хотя эти ранние попытки установить социализм провалились, стоит помнить, что провалились и капиталистические попытки добиться стабилизации. По итогам мирного договора 1919 года восстановление германской экономики было обречено из-за удушающего ярма наложенных на страну репараций. «В континентальной Европе, – писал расстроенный Джон Мейнард Кейнс вскоре после того, как он покинул британскую делегацию в Версале, – земля вздымается, но никто не замечает ее рокота. Это вопрос не просто экстравагантности или “рабочих проблем”; это вопрос жизни и смерти, голода и выживания и пугающих конвульсий умирающей цивилизации»[98].
С высоты нашего времени мы можем рассматривать период с 1917 по 1921 год как почти терминальный социальный кризис, однако как экономический кризис он не был неизбежен – он стал результатом неудачных политических решений. В Германии кризис вытекал из неподъемных военных репараций. В Великобритании и США кризис был вызван слишком высокими процентными ставками, установленными центральными банками, чтобы купировать бум 1919 года. В Австрии и Венгрии кризис стал следствием того, что в Версале эти страны были оставлены на произвол судьбы с огромными долгами, а империи, готовой за них заплатить, уже не существовало.
После 1921 года ситуация начала стабилизироваться. Кондратьев, как мы видели, описывал период с 1917 по 1921 год лишь как первый кризис в ходе длинного спада. Однако стабилизация поставила марксистов, которые переняли последовательность «монополия – война – крах», в тупиковое положение. Капитализм, утверждали они, продолжал существовать исключительно из-за незрелости пролетариата, нежелания рабочих брать власть и тактических ошибок социалистических партий. Ленин допускал возможность скачков роста в той или иной отрасли, но полагал, что их не будет достаточно для выживания всей системы.
Однако в 1924 году Ленин умер, Троцкий был отстранен, а Сталин взял контроль в свои руки. Варга, сбежавший из Венгрии в Москву, стал его главным экономистом. Сталину не была нужна теория для объяснения сложности – ему была нужна теория уверенности. Уверенность в грядущем крахе капитализма оправдала бы попытку построить то, что, по мнению всех левых экономистов, было невозможно: «социализм в отдельно взятой стране» – да еще и в очень отсталой стране. Основа теории катастрофы была изложена в книге Люксембург, но ее нужно было развить, что Варга и сделал.
«Закон Варги» предсказывал, что реальные доходы рабочих будут постоянно падать. Это, писал он, является «экономической основой общего кризиса капитализма… абсолютное обеднение рабочего класса выходит на первый план»[99]. Варга не сомневался: тенденция к снижению массового потребления не была циклической, а являлась характерной чертой XX века и со временем должна была лишить реформистскую и либеральную политику всякой поддержки среди рабочих. Вместо роста должна была наступить, по выражению Варги, «декумуляция».
Сегодня трудно поверить, насколько влиятельными становились эти идеи, распространявшиеся из уст в уста на кухнях в домах рабочих. В 1920–1930-е годы словосочетание «закон Варги» часто использовалось активистами рабочего движения. Оно отражало их собственный опыт: разве вся стратегия британского и французского правительств в 1920-е годы не заключалась в сокращении зарплат? А когда в 1929 году произошел крах, разве американское правительство не усугубило ситуацию намеренно, пытаясь уменьшить зарплаты? Теория недопотребления хоть и была полностью ошибочна, получила всеобщее признание.
Сам Варга в 1930-е годы написал довольно утонченную книгу. Будучи последователем Люксембург, он осознавал, что условия за пределами развитых стран могут повлиять на динамику кризиса, и потому выделял крах сельского хозяйства в колониальном мире в качестве фактора, подавляющего экономическое восстановление на Западе. В результате «авторизованная версия» марксистской экономической мысли, подразумевающая неминуемый крах, стала казаться правдоподобной. Даже троцкисты, преследуемые Сталиным, в конце 1930-х годов были убеждены в крахе капитализма, а их лидер утверждал, что «производительные силы человечества перестали расти»[100].
В мировом рабочем движении, где теперь господствовала московская версия марксизма, не допускалось никакой другой возможности, кроме краха.
Маркс пытался описать капитализм абстрактно: использовать минимальное число общих понятий и перейти от них к объяснению комплексной, поверхностной реальности кризиса. Поэтому у Маркса снижение нормы прибыли порождает контртенденции на многих уровнях абстракции, как в чистом мире совокупных прибылей, так и в грязном мире колоний и эксплуатации. По Марксу, несмотря на то, что у каждого реального кризиса есть конкретная причина, цель состоит в том, чтобы описать глубинные процессы, действующие за рамками всех кризисов.
Однако первое структурное изменение капитализма не могло поместиться в эти рамки. Финансовый капитализм создал новую реальность.
В 1900-е годы попытки понять финансовый капитализм неизбежно толкали марксистскую теорию к рассмотрению конкретных феноменов: к вопросам о несостыковке между различными отраслями и низким потреблением, о многоотраслевой экономике, о реальных ценах, а не об абстрактных объемах труда, которыми оперировал Маркс.
Это внимание к «реальности» привело Гильфердинга к выводу о том, что циклический кризис закончился, Люксембург – к тому, что в теории кризиса следует сместить акцент на крах, Ленина – к признанию необратимости экономического упадка. Варга переносит нас от рациональности к догме: наименее утонченная из всех теорий кризиса становится неоспоримым учением о беспощадном государстве, всякая коммунистическая партия в мире становится его глашатаем и на протяжении целого поколения каждому левому интеллектуалу вбивают в голову полнейшую чепуху.
Учитывая, что участники дебатов были обществоведами, политические последствия беспокоили их слишком сильно. Если Гильфердинг прав, говорила Люксембург, то социализм не является неизбежным. Он становится «роскошью» для рабочего класса. Рабочие могут также легко выбрать сосуществование с капитализмом и – учитывая их политическое сознание, – вероятно, именно так и поступят. Поэтому Люксембург искала объективные причины краха.
Тем не менее у всех форм теории недопотребления была ахиллесова пята: а что если капитализм найдет способ решить проблему низкой покупательной способности масс? К 1928 году у Бухарина уже было ощущение, что это произошло. Капитализм, утверждал он, стабилизировался в 1920-е годы, причем не временно и не частично, и дал толчок новому подъему технических инноваций. Причиной этого подъема, говорил он, стало появление «государственного капитализма», т. е. слияние монополий, банков и картелей с самим государством[101].
Так теория кризиса совершила полный круг, вернувшись к вероятности того, что организованный капитализм мог преодолеть кризис. Беда Бухарина заключалась в том, что он заявил об этом накануне краха Уолл-стрит и в разгар внутрипартийных споров со Сталиным. Он был исключен из числа руководителей партии и, несмотря на все попытки сосуществовать со Сталиным, которые он предпринимал в течение десяти лет, и на публичное отречение от своих прежних взглядов, был казнен, как и Кондратьев, в 1938 году.
Проблема теории кризиса
Лишь в 1970-е годы начала проводиться серьезная научная работа по связыванию разрозненных частей теории Маркса в единое целое, пригодное к использованию. Несмотря на достижения экономистов из поколения новых левых в области прояснения и спасения настоящего Маркса, ключевая проблема остается: для понимания судьбы капитализма и его крупнейших изменений теории кризиса недостаточно.
По словам Маркса, существует процесс вытеснения труда машинами, из которого вытекает тенденция к снижению нормы прибыли. С другой стороны, существует тенденция к компенсации сокращающейся нормы прибыли посредством адаптации (контртенденция), а циклический кризис – это то, что случается, когда адаптации не происходит.
Однако Кондратьев показал, что в определенный момент – когда кризисы становятся частыми, глубокими и хаотичными – начинается адаптация, носящая более структурный характер. Поскольку в экономической модели кризисов не было места структурной адаптации, марксисты начала ХХ века были вынуждены описывать ее в терминах исторических «эпох» или в таких философских категориях, как паразитизм, разложение и переход.
Действительно, момент мутации носит прежде всего экономический характер. Он заключается в исчерпании целой структуры – моделей ведения бизнеса, навыков, рынков, валют, технологий – и в ее быстрой замене новой структурой.
Выражаясь системной терминологией, это происходит на «мезоуровне», т. е. на уровне между микро- и макроэкономикой. Масштаб мутации помещает ее где-то между кредитным циклом и кризисом всей системы. Когда мутации воспринимаются как вероятные и закономерные события, то всякая модель капитализма, расценивающая их как случайное и произвольное явление, оказывается ошибочной.
Нет ни одного варианта теории кризиса, которая охватывала бы весь феномен мутации системы, однако теория кризиса может описать, что приводит к ней в каждом конкретном случае.
Современная теория кризиса должна быть макроэкономической, а не абстрактной. Она может использовать абстракции для выявления основных рыночных механизмов, как это делал Маркс, однако она не может игнорировать государство как экономическую силу, профсоюзы, монополии, валюты или центральные банки. Не может она игнорировать и роль финансовой системы в ускорении кризиса и, в нынешнем контексте, последствия финансиализированного поведения потребителей и нестабильности, привнесенной фиатными деньгами, позволяющими раздуть кредитование и спекуляции до таких масштабов, которые капитализм XIX века просто бы не выдержал.
В этом смысле Гильфердинг, Люксембург и все остальные не стали «плохими марксистами», когда начали отходить от абстракций и уделять больше внимания конкретным фактам. Они действовали как хорошие материалисты. Их ошибка была в том, что они утверждали, будто монополизированный государственный капитализм – это единственный возможный путь, по которому может пойти посткапиталистическая система. Сегодня мы можем быть уверены в том, что это не так.
Марксистские экономисты внесли заметный вклад в наше понимание того, что произошло в 2008 году. Французский экономист Мишель Юссон и профессор Новой школы Ахмед Шейх показали, как неолиберализм восстанавливал норму прибыли начиная с конца 1980-х годов. Однако она резко снизилась в последнее время перед финансовым кризисом 2008 года[102]. Юссон справедливо утверждает, что неолиберализм «решил» проблему рентабельности – и для отдельных фирм (снижая издержки на труд), и для всей системы в целом (путем массового расширения финансовой прибыли). Однако, несмотря на более высокую прибыль, инвестиции с 1970-х годов в целом находятся на низком уровне.
На этой головоломке увеличения прибыли при сокращении инвестиций и должна была бы сосредоточиться современная теория кризиса. Но у нее есть очень четкое объяснение: в неолиберальной системе фирмы используют прибыль для выплаты дивидендов, а не для повторных инвестиций. А в условиях финансового стресса, очевидного после азиатского кризиса 1997 года, они используют прибыль для накопления резервной наличности, которая выполняет роль амортизатора в случае кредитного сжатия. Они также постоянно списывают долги и в хорошие времена выкупают акции, обеспечивая своего рода непредвиденную прибыль своим финансовым владельцам. Они снижают до минимума риск финансовой эксплуатации и максимизируют свои возможности играть на финансовых рынках.
Поэтому, хотя Юссон и Шейх успешно объяснили факт «падения нормы прибыли» в период до 2008 года, кризис стал результатом чего-то более масштабного и структурного. Его причина (как предполагал Ларри Саммерс в своей работе, посвященной вековому застою) заключается во внезапном исчезновении факторов, которые на протяжении десятилетий компенсировали неэффективность и низкую производительность[103].
Стремление свести кризисы к одной абстрактной причине без учета структурной трансформации, которая уже происходила, стало источником путаницы в марксистской теории. На этот раз мы должны ее избежать. Изложение должно быть точным, а значит, должно включать в себя реальные структуры капитализма – государства, корпорации, системы социальной защиты, финансовые рынки.
В 2008 году кризис разразился не потому, что перестала действовать та или иная контртенденция или произошло краткосрочное падение нормы прибыли. Это был сбой всей системы факторов, поддерживающих норму прибыли, системы под названием неолиберализм. Неолиберализм не был ни большим бумом, ни, как утверждают некоторые, скрытым периодом застоя. Это был эксперимент, который провалился.
Идеальная волна
В следующей главе я объясню, что привело к этому эксперименту. Я подробно опишу, как в период с 1948 по 2008 год разворачивалась четвертая кондратьевская волна, что ее прерывало и что ее продлевало. Я выскажу предположение о том, что долгосрочную модель прервали развитие технологий и неожиданно открывшийся новый внешний мир.
Прежде всего мы должны определить модель нормальной волны, которую можно использовать как интеллектуальный инструмент. Кондратьев был прав, когда предупреждал, что каждая волна, давая начало следующей, создает и новую версию модели. Однако лишь выяснив суть трех первых волн, мы сможем понять, чем отличалась от них четвертая.
Ниже я предлагаю свою «нормативную» формулировку теории длинных циклов, сочетающейся с рациональными элементами марксистского понимания кризиса:
1. Началу волны обычно предшествует накопление капитала в финансовой системе, которое стимулирует поиск новых рынков и приводит к внедрению новых технологий. Начальный подъем вызывает войны и революции и в определенный момент обеспечивает стабилизацию мирового рынка на основе нового набора правил или соглашений.
2. Когда новые технологии, модели ведения бизнеса и рыночные структуры начинают слаженно функционировать, а новая «технологическая парадигма» становится очевидной, капитал устремляется в производительный сектор, обеспечивая золотой век, в котором рост превышает средние значения, а рецессии редки. Поскольку прибыль можно получить везде, обретает популярность идея ее рационального распределения между игроками, равно как и возможность перераспределения богатства в пользу менее обеспеченных слоев. Эта эпоха воспринимается как время социального мира и «сотрудничества через конкуренцию».
3. На протяжении всего цикла действует тенденция к замещению труда машинами. Однако в восходящей фазе всякое падение нормы прибыли компенсируется расширением масштабов производства, вследствие чего общая прибыль растет. В ходе каждой восходящей стадии экономика без проблем поглощает новых рабочих даже несмотря на то, что производительность растет. Например, к 1910-м годам стеклодув, вытесненный машинами, превратился в киномеханика или рабочего на конвейере по сборке автомобилей.
4. Когда золотой век подходит к концу, то зачастую причиной этого становится эйфория, которая приводит либо к чрезмерным инвестициям в отдельные отрасли, либо к инфляции, либо к разрушительной войне между доминирующими державами. Следствием этого обычно становится болезненный «перелом», когда повсеместно распространяется неуверенность относительно будущего моделей ведения бизнеса и валютных соглашений и в целом относительно мировой стабильности.
5. Так начинается первая адаптация: происходит наступление на зарплаты и предпринимаются попытки сократить квалифицированную рабочую силу. Над перераспределительными проектами вроде государства всеобщего благоденствия или строительства городской инфраструктуры за счет государства нависает угроза сокращения. Модели ведения бизнеса быстро меняются для того, чтобы ухватывать прибыль там, где это возможно; от государства требуется быстрее осуществлять перемены. Рецессии происходят чаще.
6. Если первые попытки адаптироваться проваливаются (как это было в 1830, 1870 и 1920-е годы), капитал покидает производительный сектор и устремляется в финансовую систему, в результате чего кризисы обретают более выраженную финансовую форму. Цены падают. За паникой следует депрессия. Начинается поиск радикально новых технологий, моделей ведения бизнеса и новых источников денежного предложения. Мировые властные структуры теряют устойчивость.
Здесь мы должны принять в расчет понятие «агентов», т. е. социальных групп, преследующих собственные интересы. Проблема той версии теории волн, в основе которой лежали идеи Шумпетера, заключается в том, что она была слишком сосредоточена на новаторах и технологиях и игнорировала классы. Если мы внимательно исследуем социальную историю, то поймем, что всякая «провальная» адаптация обусловлена сопротивлением рабочего класса, а всякая успешная адаптация организуется государством.
Во время первой волны, продолжавшейся в Великобритании примерно с 1790 по 1848 год, промышленную экономику сковывало аристократическое государство. Затяжной кризис начинается в конце 1820-х годов: его отличительными чертами является стремление хозяев фабрик выжить за счет сокращения квалифицированной рабочей силы и урезания зарплат, а также хаос в банковской системе. Сопротивление рабочего класса, которое нашло выражение в чартистском движении, достигшем пика во всеобщей стачке 1842 года, заставило государство принять меры для стабилизации экономики.
Но в 1840-е годы происходит успешная адаптация: Банк Англии добивается монополии на выпуск банкнот; фабричное законодательство кладет конец мечтам о замене квалифицированных рабочих-мужчин женщинами и детьми. Хлебные законы – протекционистский тариф, защищавший интересы аристократии, – отменены. Вводится подоходный налог, а британское государство перестает быть ареной борьбы между старой аристократией и получившими власть промышленными капиталистами и начинает функционировать как машина, действующая в интересах последних.
Нисходящая фаза второй волны, охватившей сначала Великобританию, Западную Европу и Северную Америку, а затем распространившейся на Россию и Японию, начинается в 1873 году. Система пытается приспособиться посредством создания монополий, проведения аграрной реформы, посягательств на зарплаты квалифицированных рабочих и вовлечения новых рабочих-мигрантов в качестве дешевой рабочей силы там, где это возможно. Страны переходят на золотой стандарт, объединяются в валютные блоки и вводят торговые пошлины. Однако спорадическая нестабильность все равно препятствует росту. В 1880-е годы появляются первые массовые рабочие движения. Несмотря на то что эти движения часто терпят поражения, квалифицированные рабочие добиваются впечатляющего успеха, сопротивляясь автоматизации, тогда как неквалифицированные рабочие пользуются благами формирующейся системы социального обеспечения. Лишь в 1890-е годы, когда монополии сливаются с банками или получают возможность опереться на ликвидный финансовый рынок, происходят стратегические изменения. Вводится ряд совершенно новых технологий и, как и в 1840-е годы, происходит качественное изменение экономической роли государства. Государство, будь то в Берлине, Токио или Вашингтоне, начинает играть незаменимую роль в поддержании оптимальных условий для деятельности крупных монопольных компаний, вводя тарифы, проводя колониальную экспансию и создавая инфраструктуру.
И вновь сопротивление рабочего класса не позволяет системе адаптироваться задешево, без технологических инноваций.
Если мы примем период с 1917 по 1921 год за начало нисходящей фазы третьей волны, то система адаптируется за счет ужесточения государственного контроля над промышленностью и попыток оживить золотой стандарт. В большинстве стран в течение 1920-х годов зарплаты пытаются урезать, однако их не удается сократить настолько быстро, чтобы преодолеть кризис. Затем, когда начинается депрессия, страх социальных беспорядков толкает все крупные страны на агрессивные меры для выхода из кризиса: уничтожение золотого стандарта, создание закрытых торговых блоков, использование государственных расходов для стимулирования роста и сокращения безработицы.
Подчеркивая это, я привношу, на мой взгляд, ключевое дополнение в волновую теорию: в каждом длинном цикле посягательства на зарплаты и на условия труда в начале нисходящей фазы являются одной из наиболее явных черт модели. Они ведут к классовой войне в 1830-е годы, к образованию профсоюзов в 1880–1890-е, к социальным конфликтам в 1920-е. Результат этой борьбы имеет критическое значение: если рабочему классу удается устоять, то система претерпевает более глубокие изменения, благодаря чему возникает новая парадигма. Однако в четвертой волне мы увидели, что происходит, когда рабочие оказываются неспособны успешно сопротивляться.
Роль государства в создании новой парадигмы столь же очевидна. 1840-е годы – это время триумфа экономистов валютной школы, которые навязывают британскому капитализму устойчивую валюту, настаивая на необходимости введения монополии Банка Англии на выпуск банкнот. В 1880–1890-е годы вмешательство государства расширяется. В 1930-е годы наступает эпоха прямого государственного капитализма и фашизма.
История длинных циклов показывает, что лишь тогда, когда капиталу не удается снизить зарплаты, а новые модели ведения бизнеса не возникают из-за недостаточных условий, государство вынуждено действовать, задавая рамки новых систем, поощряя новые технологии, обеспечивая новаторам капитал и защиту.
Роль государства в масштабных трансформациях была хорошо осмыслена. В то же время значение классов недооценивалось. В работе Карлоты Перес о длинных циклах сопротивление трудящихся рассматривается как часть более общей проблемы «сопротивления изменениям». На мой взгляд, сопротивление трудящихся играет ключевую роль в формировании следующей длинной волны.
Если рабочий класс способен сопротивляться сокращению зарплат и нападкам на систему социального обеспечения, новаторы вынуждены разрабатывать новые технологии и модели ведения бизнеса, которые могут восстановить динамику на основе более высоких зарплат – благодаря инновациям и более высокой производительности, а не за счет эксплуатации. В целом в трех первых длинных циклах сопротивление рабочего класса заставило капитализм заново изобретать себя на основе существующего или более высокого уровня потребления (хотя обратной стороной этого было то, что империалистические державы применяли еще более брутальные методы для выкачивания прибыли из периферии).
В предлагаемом Перес изложении длинных волн сопротивление отмиранию старой системы расценивается как бессмысленное. Проводится разделение «между теми, кто с ностальгией смотрит назад, пытаясь сохранить старые порядки, и теми, кто принимает новую парадигму»[104].
Однако, если сосредоточиться на классах, зарплатах и государстве всеобщего благоденствия, сопротивление рабочего класса может быть прогрессивным с точки зрения технологии. Оно стимулирует появление новой парадигмы на более высоком уровне производительности и потребления. Оно заставляет «новых мужчин и женщин» следующей эры обещать и находить пути создания более производительной формы капитализма, которая поднимает реальные зарплаты.
Длинные циклы порождаются не одними лишь технологиями и экономикой – третьим ключевым фактором является классовая борьба. И именно в этом контексте изначальная теория кризиса Маркса предлагает более правильное объяснение, чем кондратьевская теория «истощения инвестиций».
Что создает волну?
Теория Маркса успешно описывает, откуда берется энергия, создающая пятидесятилетнюю волну. Если мы отбросим ошибочные добавления, сделанные его последователями, мы сможем понять, что у Маркса было правильного и в чем эти верные догадки совпадают с пятидесятилетними изменениями, которые мы описали.
Можно предположить, что на протяжении пятидесятилетнего цикла действуют падение нормы прибыли и противодействующие ему тенденции. Сбои происходят, когда эти контртенденции выдыхаются. В незрелом капитализме XIX века они случались часто – но, как правило, в фазе упадка. Маркс, например, недооценивал вероятность того, что сопротивление рабочего класса сокращению зарплат могло быть фактором, способствующим возникновению кризисов доходности. Тем не менее сокращение нормы прибыли, имеющее фундаментальное значение, теперь действует под спудом социальных норм, которые призваны ему противодействовать.
Изложение Кондратьева, согласно которому причиной пятидесятилетних циклов была необходимость в обновлении базовой инфраструктуры, носило слишком упрощенный характер. Лучше сказать, что каждая волна порождает специфическое и конкретное решение проблемы сокращения нормы прибыли в течение восходящей фазы – набор моделей ведения бизнеса, навыков и технологий – и что нисходящая фаза начинается тогда, когда это решение исчерпывается или перестает работать. Наиболее эффективные варианты решения в ходе восходящей фазы – те, которые марксистская теория описывает на глубоком уровне в рамках производственного процесса: увеличение производительности, сокращение затрат, массовое повышение прибыли. Когда волна спадает и решения начинают давать сбои, в дело вступают наиболее случайные поверхностные факторы. Можно ли найти новые рынки за пределами системы? Согласятся ли инвесторы получать меньшую долю прибыли в виде дивидендов?
Тенденция к снижению нормы прибыли, которая находится в постоянном взаимодействии с контртенденциями, намного лучше объясняет истоки пятидесятилетнего цикла, чем это делал Кондратьев. А если смешать оба объяснения, то теория длинных циклов превращается в намного более мощный инструмент, чем предполагали убежденные марксисты.
Проще говоря, пятидесятилетние циклы – это долгосрочный ритм системы прибыли.
Механизм, позволяющий быстро заменить труд машинами, действует на протяжении определенного времени, обеспечивая увеличение прибыли, но затем приходит в негодность. Это моя альтернатива кондратьевскому тезису об «исчерпании инвестиций».
Что касается финансового кризиса, то он всегда возможен в течение восходящей фазы длинного цикла (например, паника в США в 1907 году) и практически неизбежен во время нисходящей фазы. Когда капитал перетекает из охваченного трудностями производственного сектора в финансовую сферу, он дестабилизирует последнюю, приводя к спекулятивным циклам бума и спада. А в последние три длинных цикла капитал в целом приобрел более сложный и системный характер.
Последнее замечание касается и взаимодействия с внешним миром, в котором капитализм нуждается, чтобы находить новые рынки сбыта товаров и новые источники рабочей силы. Это ключевой аргумент в теории систем, который, впрочем, недооценивается в марксистской теории кризиса, фокусирующей внимание на закрытых и абстрактных моделях.
В XIX веке в странах, дальше всех продвинувшихся по пути капитализма, имелся готовый внутренний рынок, который можно было бы развивать в том случае, если бы аграрная экономика сумела пережить выпавший на ее долю тяжелый кризис. Кроме того, в наличии имелось большое предложение рабочей силы. Однако после 1848 года адаптация осуществлялась также за счет поиска внешних рынков.
К началу XX века внутреннее предложение рабочей силы было ограничено отчасти из-за сопротивления рабочего класса внедрению женского и детского труда, отчасти из-за показателей рождаемости. Что касается новых рынков, то к 1930-м годам весь мир был поделен на закрытые торговые блоки.
Когда началась четвертая волна, значительная часть внешнего мира еще была изолирована. В начале «холодной войны» около 20 % мирового ВВП производилось за пределами рынка[105]. После 1989 года неожиданное открытие новых рынков и новой рабочей силы сыграло важную роль в продлении волны, а Запад обрел новую свободу действий в процессе формирования рынков в нейтральных странах, которые прежде находились за пределами его влияния.
Иными словами, с 1917 по 1989 год весь потенциал капитализма в области комплексного адаптивного поведения был подавлен. После 1989 года он находился в состоянии эйфории: рабочая сила, рынки, свобода предпринимательства и новая экономия на масштабе. Исходя из этого, 1989 год сам по себе должен считаться важным элементом истории об искажении фазы, которую я собираюсь рассказать. Но он не может объяснить ее целиком.
Модель длинных волн была прервана. Четвертый длинный цикл был продлен, искажен и, в конце концов, прерван факторами, которые прежде не вмешивались в историю капитализма: поражение и моральная капитуляция профсоюзов, развитие информационных технологий и выход на сцену единственной супердержавы, которой никто не может бросить вызов, а сама она может создавать деньги из ничего на протяжении длительного времени.
Глава 4. Длинная прерванная волна
В 1948 году был запущен план Маршалла, началась «холодная война», а в Bell Laboratories был изобретен транзистор. Каждое из этих событий повлияло на четвертую волну, которая тогда только начиналась.
План Маршалла, представлявший собой пакет помощи европейским странам на сумму 12 миллиардов долларов, создал условия для послевоенного экономического бума под американским лидерством. «Холодная война» исказила начинавшуюся волну, сначала лишив капитал доступа к 20 % мирового производства, а затем обеспечив новое ускорение роста после своего окончания в 1989 году. Что касается транзистора, то он стал ключевой технологией послевоенной эпохи, позволив использовать информацию в промышленных масштабах.
Тех, кто жил в условиях послевоенного бума, он удивлял и завораживал. Кроме того, они постоянно беспокоились, чем же этот бум закончится. Даже Гарольд Макмиллан, который в 1957 году сказал британцам, что «им никогда не жилось так хорошо», добавил: «Некоторых из нас начинает беспокоить вопрос – а не слишком ли это хорошо, чтобы быть правдой»[106]. В Германии, Японии и Италии массовая пресса – практически независимо в каждой стране – окрестила «чудом» быстрый рост, который они переживали.
Цифры поражали. План Маршалла в сочетании с усилиями по восстановлению экономики, предпринимавшимися европейскими странами, позволил большинству из них расти темпами, превышавшими 10 % в год, пока они не достигли максимальных предвоенных показателей – в большинстве случаев это произошло к 1951 году[107]. Планомерный рост впечатлял воображение и не останавливался. Американская экономика выросла более чем вдвое с 1948 по 1973 год[108]. Экономики Великобритании, Западной Германии и Италии выросли в четыре раза каждая. В то же время японская экономика выросла десятикратно – и это по сравнению с базовыми цифрами, близкими к нормальным довоенным показателям, т. е. речь не шла об эффекте наверстывания, масштабы которого определялись разрушениями от атомных бомбардировок. На протяжении всего этого периода средние показатели роста в Западной Европе составляли 4,6 % в год, что было почти вдвое выше, чем во время восходящей фазы 1900–1913 годов[109].
Этот рост обеспечивало беспрецедентное увеличение производительности. Результаты хорошо видны на примере данных ВВП на душу населения. С 1950 по 1973 год в шестнадцати самых передовых странах ВВП на душу населения в среднем рос на 3,2 % в год. На протяжении всего периода с 1870 по 1950 год рост составлял в среднем 1,3 % в год[110]. Реальные доходы быстро увеличивались: в США реальные доходы большинства домохозяйств выросли более чем на 90 % с 1947 по 1975 год[111]; в Японии реальные доходы увеличились на умопомрачительные 700 %[112].
В развитом мире новая технологически-экономическая парадигма была очевидна, даже если в каждой стране имелась ее собственная версия. В общество проникло стандартизированное массовое производство, обеспечивавшее достаточно высокие зарплаты, чтобы стимулировать потребление того, что производили фабрики. После того как завершилась фаза реконструкции, обеспечивалась полная занятость мужчин и расширенная занятость молодежи и женщин – в масштабах, определявшихся культурными особенностями каждой страны. В развитом мире массы людей перемещались с полей на фабрики: в Европе с 1950 по 1970 год число занятых в сельском хозяйстве сократилось с 66 до 40 миллионов; в США их доля упала с 16 до всего 4 % населения[113].
Период самого бурного роста в человеческой истории сопровождался и определенными трудностями. Однако их помогали преодолеть сложные методы управления экономикой: статистика в режиме реального времени, институты, занимавшиеся экономическим планированием на национальном уровне, армии экономистов и бухгалтеров в головных офисах крупных корпораций.
Наступление бума повергло левых в смятение. Прирученный Сталиным экономист Варга все правильно понял: в 1946 году он предупредил советских лидеров, что методы государственного капитализма, опробованные во время войны, могли обеспечить Западу стабилизацию[114]. Доминирующие англосаксонские державы, прогнозировал он, вероятно, одолжат остальному миру достаточно денег для того, чтобы оживить потребление, а методы организации государства времен войны заменят «анархию капиталистического производства»[115]. За эти слова его сняли с должности, заставили покаяться и признать себя «космополитом». Стабилизация западных экономик невозможна – так постановил Сталин.
На Западе радикальные левые придерживались мрачных прогнозов: «Оживление экономической активности в капиталистических странах, ослабленных войной… будет характеризоваться особо медленными темпами, вследствие чего их экономики будут оставаться на уровне, близком к застою, а то и к спаду», – писали троцкисты в 1946 году[116].
Когда выяснилось, что это абсурд, в замешательстве оказались не только марксисты. Даже умеренные теоретики социал- демократии были настолько растеряны, что стали заявлять, будто экономическая система Запада стала некапиталистической. «Наиболее отличительные черты капитализма исчезли, – писал в 1956 году Энтони Кросленд, член британского парламента от Лейбористской партии, – а именно: полное господство частной собственности, подчинение всей жизни влиянию рынка, преобладание стремления к выгоде, нейтральность правительства, характерное либеральное разделение дохода и идеология прав личности»[117].
К середине 1950-х годов почти все левые разделяли теорию «государственно-монополистического капитализма», впервые выдвинутую Бухариным, затем Варгой и теперь превращенную в полноценную теорию американским левым экономистом Полом Суизи[118]. Он считал, что вмешательство государства, меры по обеспечению социальной защиты и постоянные высокие военные расходы уничтожили тенденцию к кризису. Сокращение нормы прибыли могло компенсироваться растущей производительностью – опять-таки постоянно. Советскому Союзу, разумеется, придется привыкнуть к сосуществованию с капитализмом: западное рабочее движение должно забыть о революции и извлечь максимальную выгоду из бума, который достиг значительных масштабов.
На протяжении всего периода дискуссии велись, прежде всего, вокруг вопроса о том, что изменилось на уровне государства, фабрики, супермаркета, зала заседаний совета директоров и лаборатории. Деньгам уделялось очень мало внимания. Однако ключевым фактором, на котором зиждились экономические реалии 1950–1960-х годов, была стабильная международная валютная система и эффективное сдерживание финансовых рынков.
Сила четких правил
1 июля 1944 года специальный поезд доставил группу экономистов, политиков и банкиров в Уайт-Ривер-Джанкшен, штат Вермонт, откуда они паромом добрались до отеля в Нью-Гемпшире. «Все поезда, ехавшие по расписанию или нет, должны были нас пропускать, – вспоминал помощник машиниста, – мы имели преимущество перед всеми»[119]. Пунктом назначения был Бреттон-Вудс. Там они должны были создать мировую денежную систему, которая, подобно поезду, имела бы «преимущество перед всеми».
Бреттон-Вудская конференция установила систему фиксированных обменных курсов, которая должна была восстановить стабильность, царившую до 1914 года, но на этот раз на основе четко прописанных правил. Все валюты фиксировались по отношению к доллару, а США фиксировали доллар по отношению к золоту по цене 35 долларов за унцию. Страны, испытывавшие серьезный торговый дисбаланс, должны были покупать или продавать доллары для того, чтобы удерживать свою валюту на установленном уровне.
На конференции британский экономист Джон Мейнард Кейнс предлагал создать отдельную мировую валюту, однако США отвергли эту идею. Вместо этого они обеспечили доллару положение неофициальной мировой валюты. Мирового центрального банка не появилось, однако были созданы Международный валютный фонд и Всемирный банк, которые должны были устранять трения в системе. При этом МВФ отводилась роль краткосрочного кредитора последней инстанции и института, обеспечивающего соблюдение правил.
Система была явно устроена в пользу США. Они были самой большой экономикой мира и обладали самым высоким – на тот момент – уровнем производительности, а их инфраструктура не пострадала во время войны. Они также получили право назначать главу фонда. Система была устроена так, чтобы поддерживать инфляцию. Поскольку связь с золотом была непрямой, в привязке валют существовало отклонение, а правила сбалансированной торговли и проведения структурных реформ не были жесткими, система была рассчитана на то, чтобы порождать инфляцию. Это было признано правыми сторонниками свободного рынка еще до того, как поезд в Бреттон-Вудс тронулся со станции. Журналист Генри Хэзлитт, доверенное лицо гуру свободного рынка Людвига фон Мизеса, раскритиковал план на страницах New York Times: «Трудно придумать более серьезную угрозу стабильности в мире и полноценному производству, чем постоянная перспектива единообразной мировой инфляции, которая бы легко соблазняла политиков из любой страны»[120].
Однако эта система также была предназначена для противодействия крупному финансовому капиталу. Строгие ограничения объема средств, которые могли давать взаймы банки, были установлены законом и поддерживались посредством «морального воздействия», т. е. мягкого давления, которое центральные банки оказывали на банки, одалживавшие слишком много денег. В США крупнейшие банки были обязаны держать наличность или облигации в объеме, равном 24 % средств, которые они одолжили[121]. В Великобритании эта норма была установлена на уровне 28 %. К 1950 году кредиты, выданные банками в четырнадцати передовых капиталистических странах, составляли лишь пятую часть ВВП – самый низкий показатель с 1870 года, заметно уступавший масштабам банковского кредитования во время восходящей фазы до 1914 года.
В результате была создана такая форма капитализма, которая носила глубоко национальный характер. Банки и пенсионные фонды по закону должны были держать долговые облигации своих стран; кроме того, им не рекомендовалось осуществлять капиталовложения за рубежом. Добавьте к этому четкий потолок для процентных ставок, и вы получите то, что теперь мы называем «финансовым подавлением».
Финансовое подавление действует так: вы удерживаете процентные ставки ниже уровня инфляции, вследствие чего вкладчики фактически платят за привилегию обладания деньгами; вы не позволяете им выводить деньги из страны в поисках более выгодных вложений и заставляете их покупать долги их собственной страны по цене выше номинала. Как показали экономисты Рейнхарт и Збранча, результатом стало резкое сокращение общего объема долгов развитого мира[122].
В 1945 году, вследствие понесенных военных расходов, государственные долги развитых стран приближались к отметке 90 % ВВП. Однако благодаря скачку инфляции, произошедшему сразу после войны, и умеренной инфляции в период послевоенного бума реальные процентные ставки стали отрицательными: в США между 1945 и 1973 годами долгосрочные реальные процентные ставки в среднем составляли 1,6 %. Поскольку регулирование банковской сферы фактически действовало как налог на финансовые активы, по подсчетам экономистов, оно увеличило общие доходы правительства на одну пятую в период бума, а в Великобритании еще больше[123]. В итоге к 1973 году долги передовых стран упали до исторически низкого уровня – ниже 25 % ВВП.
Вкратце, Бреттон-Вудс добился беспрецедентного результата: сократил выросшие за время мировой войны долги, подавил спекуляцию, направил сбережения в инвестиции в производство и обеспечил впечатляющий рост. Он вытеснил всю скрытую нестабильность системы в сферу взаимоотношений между валютами, однако американское доминирование на первых порах позволяло ее сдерживать. Возмущение правых тем, что Бреттон-Вудс поощрял инфляцию, сошло на нет в период прежде не виданной стабильности и расширения производства.
На стадии разработки Бреттон-Вудского соглашения Кейнс подчеркивал важность установления четких правил, а не заключения джентльменского соглашения, на котором основывался золотой стандарт. В данном случае четкие правила, чье исполнение гарантировала мировая сверхдержава, имели мультипликативный эффект, который мало кто мог предположить.
Если депрессия стала результатом как упадка Великобритании, так и отказа Америки от роли мировой супердержавы, то в Бреттон-Вудсе США взяли на себя обязанности супердержавы с большой охотой. Действительно, двадцать пять послевоенных лет были единственным временем в современной истории, когда одна великая держава была настоящим гегемоном. Доминирование Великобритании в XIX веке всегда носило договорный и относительный характер. В капиталистическом мире середины XX века господство Америки было абсолютным. На мировую экономику оно подействовало как кнопка перезагрузки, усилив восходящую фазу. Однако это была не единственная кнопка перезагрузки, которую тогда нажали.
Послевоенный бум как цикл
Второе масштабное изменение произошло во время войны и выразилось в установлении государственного контроля над инновациями. К 1945 году национальные бюрократии научились мастерски использовать государственную собственность и контроль – а еще и СМИ – для того, чтобы влиять на поведение частного сектора. Опираясь на принцип «если проиграешь, то умрешь», совершенно заурядные менеджеры поставили технократию под свой контроль. Даже в державах «Оси», где государство было демонтировано в 1945 году, эта культура инноваций и значительная часть технократической системы пережили войну.
Показателен пример General Motors. В 1940 году правительство США пригласило президента компании Альфреда Кнудсена на должность руководителя Департамента по управлению производством, который занимался координацией всей военной экономики. Во время войны он заключил с GM контрактов на сумму 14 миллиардов долларов. Корпорация перевела все свои 200 фабрик на производство военной продукции и выпустила, среди прочего, 38 тысяч танков, 206 тысяч авиационных двигателей и 119 миллионов снарядов. Иными словами, она превратилась в огромную оружейную компанию, имевшую одного заказчика. В этой и других гигантских сегментах американской промышленности управление представляло собой бюро государственного планирования, нацеленное на получение прибыли. Ничего подобного не существовало ни до, ни после.
На федеральном уровне исследования и развитие были централизованы и связаны с промышленностью в рамках Отдела научных исследований и развития (ОНИР). Ключевым элементом во всей этой структуре был запрет на получение прибыли непосредственно от исследований. «Прибыль – это производная от производственной деятельности промышленного предприятия, а не исследовательского отдела», – заявлял ОНИР[124]. Контракты заключались с теми, кто располагал высокой квалификацией, сводил к минимуму угрозу перегруженности конвейеров и «охватывал максимальное число организаций». Лишь тогда, когда соблюдались эти критерии, можно было принять в расчет фактор наиболее низкой стоимости. Проблемы конкуренции и владения патентами были отложены[125].
Капитализм достиг удивительных рубежей – исследования стали общественным имуществом, подавление конкуренции развивалось, а планирование не только производства, но и направления исследований было значительным достижением. И хотя США достигли в этом совершенства, подобные попытки предпринимали все основные воюющие государства. Результатом стало стимулирование прежде невиданной культуры взаимного обогащения между стратегическими научными направлениями. Новый подход поместил математику и физику в самый центр промышленного процесса, а экономику и обработку данных – в основу принятия политических решений.
Именно ОНИР забрал Клода Шеннона, создателя теории информации, из Принстона и перевел его в Bell Labs, где тот стал разрабатывать алгоритмы для зенитных орудий[126]. Там он встретил Алана Тьюринга и начал обсуждать с ним возможность создания «думающих машин». Тьюринга из университетской среды забрало британское правительство, поручив ему заниматься операцией по взлому кода «Энигмы» в Блетчи-Парк.
Эта культура инноваций пережила переход к мирному времени несмотря на то, что отдельные корпорации пытались установить свою монополию на ее результаты и грызлись между собой за патентные права. И она не ограничивалась лишь техническими новшествами.
В 1942 году GM предоставила Питеру Друкеру, разрабатывавшему теорию управления, возможность изучать ее деятельность. На основе полученного опыта Друкер написал «Концепцию корпорации», возможно первую современную книгу об управлении, которая выступала за разрушение систем управления и децентрализацию контроля. Хотя GM отвергла его совет, тысячи других фирм им воспользовались: послевоенная японская автомобильная промышленность применила его в полном объеме. Теория управления стала полноценной дисциплиной, а не секретным знанием, и целая когорта консалтинговых фирм предпочла распространять успешные методы, а не хранить их в тайне.
В этом смысле военная экономика создала один из основных методов капитализма времен долгого бума, который заключался в том, что проблемы решались путем смелых технологических скачков, объединения в одну команду специалистов из разных областей, распространения наилучших решений в рамках всей отрасли и изменения процесса ведения бизнеса по мере того, как меняется сам продукт.
Роль государства во всем этом заметно отличалась от той бледной роли, которую играл финансовый сектор. Во всех нормативных моделях длинных циклов именно он стимулирует инновации и помогает капиталу перетекать в новые, более производительные сферы. Однако в 1930-е годы финансовый сектор пришел в расстройство.
Война породила совершенно иной капитализм. Все, что ему было нужно, это череда новых технологий – а в них недостатка не было: реактивные двигатели, интегральные схемы, атомная энергия и синтетические материалы. После 1945 года мир вдруг запах нейлоном, пластиком и винилом, в нем загудели электрифицированные процессы.
Однако одна ключевая технология оставалась невидимой – информационная. Хотя до появления «информационной экономики» еще оставались десятилетия, в послевоенных экономиках информация использовалась в промышленных масштабах. Она принимала форму науки, теории управления, данных, СМИ и даже – в немногих освященных местах – облекалась в компьютеры и лотки оберточной бумаги.
Транзистор – это просто переключатель между неподвижными частями. Теория информации плюс транзисторы дают вам возможность автоматизировать физические процессы. Благодаря этому фабрики на Западе были оснащены полуавтоматизированным оборудованием: пневматическими прессами, сверлами, токарными станками, швейными машинами и конвейерами. Им не хватало сложных механизмов обратной связи: электронные сенсоры и автоматизированные логические системы были настолько примитивны, что последние использовали сжатый воздух, чтобы делать то, что мы делаем при помощи приложений для iPhone. Однако людей было в избытке, поэтому для многих ручной труд превратился в контроль над полуавтоматизированными процессами.
Экономист из Кэмбриджа Эндрю Глин считал, что потрясающий успех послевоенного бума можно объяснить лишь «уникальным экономическим режимом»[127]. Он описывал этот режим как смесь экономических, социальных и геополитических факторов, которые оказывали благотворное влияние во время восходящей фазы до тех пор, пока не стали противоречить друг другу в конце 1960-х годов.
Государственное руководство создавало культуру инноваций, в которой ведущую роль играла наука. Инновации стимулировали рост производительности. Производительность приводила к росту зарплат, поэтому потребление шло в ногу с производством на протяжении двадцати пяти лет. Четкие глобальные правила системы усиливали рост. Частичное банковское резервирование стимулировало «благотворную» инфляцию, которая, наряду с подавлением финансовой сферы, направляла капитал в производительные отрасли и держала финансовых спекулянтов в узде. Использование удобрений и механизация в развитом мире способствовали увеличению урожайности и удешевили производственные издержки. Издержки на энергию в те времена также были очень низкими.
В результате восходящая фаза в период с 1948 по 1973 год росла, будто напичканная стероидами.
Что привело к спаду волны?
В экономической истории нет более четкой разделительной линии, чем 17 октября 1973 года. Большинство арабских стран – экспортеров нефти, чьи армии воевали с Израилем, наложили эмбарго на экспорт нефти в США и сократили ее добычу. Цены на нефть выросли в четыре раза. Последовавший шок столкнул ключевые экономики в рецессию. Американская экономика сократилась на 6,5 % между январем 1974 и мартом 1975 года[128], британская – на 3,4 %[129]. Даже экономика Японии, рост которой в послевоенный период приближался к 10 %, ненадолго ушла в минус. Кризис был уникальным потому, что в странах, пострадавших от него сильнее всего, падение роста совпало с высокой инфляцией. В 1975 году инфляция достигла 20 % в Великобритании и 11 % в США. В заголовках газет запестрело слово «стагфляция».
Впрочем, уже тогда было очевидно, что нефтяной шок стал лишь пусковым крючком. Восходящая фаза начала выдыхаться до него. В конце 1960-х годов казалось, что во всех развитых странах росту мешали национальные или локальные проблемы: инфляция, забастовки рабочих, проблемы с производительностью, вспыхивавшие тут и там финансовые скандалы. Однако 1973 год стал водоразделом, моментом, когда энергия, толкавшая четвертую волну вверх, довела ее до пика, а затем потянула вниз. Вопрос «почему это произошло?» предопределил развитие современной экономики.
Для правых экономистов ответ заключался в исчерпании кейнсианской политики. Для левых же объяснение с течением времени менялось: в конце 1960-х годов они возлагали ответственность на высокие зарплаты, а в следующем десятилетии экономисты из числа новых левых попытались опереться на марксистскую теорию перепроизводства.
Действительно, 1973 год лучше рассматривать как классическую смену фазы в кондратьевской модели. Такая перемена происходит примерно раз в двадцать пять лет в экономическом цикле. Она носит глобальный характер и предвещает длинный кризисный период. А поскольку мы выяснили, что вызывает восходящую фазу – высокая производительность, четкие правила в мировом масштабе и подавление финансовой сферы, – мы можем понять, почему она выдохлась.
Послевоенные соглашения вытеснили нестабильность в две контролируемые зоны: отношения между валютами и отношения между классами. Когда действовали нормы Бреттон-Вудса, вам не нужно было девальвировать валюту, чтобы удешевить экспорт и увеличить занятость. В то же время, если ваша экономика была неконкурентоспособной, вы могли защищать себя от международной конкуренции посредством торговых барьеров или «внутренней девальвации», т. е. за счет сокращения зарплат, контроля над ценами, снижения расходов на программы социального обеспечения. На практике Бреттон-Вудские правила не поощряли протекционизм, а к урезанию зарплат всерьез не прибегали вплоть до середины 1970-х годов, а значит, оставался лишь вариант девальвации. В 1949 году Великобритания девальвировала фунт стерлинга на 30 % по отношению к доллару, после чего ее примеру последовали еще 23 страны. Всего до 1973 года было произведено около 400 девальваций.
Таким образом, в Бреттон-Вудской системе государства с самого начала постоянно пытались компенсировать свои экономические провалы путем манипуляций с обменным курсом национальных валют по отношению к доллару. В Вашингтоне это считали разновидностью недобросовестной конкуренции, и США отвечали тем же. В 1960-е годы они девальвировали свою валюту в реальном выражении по отношению к валютам своих конкурентов, что находило отражение в разнице цен. Эта подспудная экономическая война стала вестись в открытую во время инфляционных кризисов конца 1960-х годов.
На фабриках долгий экономический бум выразился в повышении производительности и зарплат. В развитых странах производительность росла на 4,5 % в год, тогда как частное потребление увеличивалось на 4,2 %. Растущие производительные мощности автоматизированных машин с лихвой окупали растущие зарплаты тех, кто на них работал. Все это было результатом новых инвестиций. Однако восходящая фаза закончилась, когда инвестиции оказались неспособны поддерживать рост производительности в прежнем темпе.
Есть очевидные признаки снижения роста производительности и падения соотношения производимой продукции ко вложенному капиталу до 1973 года[130]. Производительность, выступающая в роли контртенденции по отношению к сжатию прибыли, исчерпала себя. Однако по мере того, как ухудшались условия, сильные переговорные позиции рабочего класса в странах, где была достигнута полная занятость и отсутствовало желание нарушать послевоенный общественный договор, обрекали на провал любые попытки сократить зарплату. Управляющие были скорее вынуждены увеличивать зарплаты и дополнительные выплаты и уменьшать продолжительность рабочего времени.
В результате прибыль стала сокращаться. Сравнивая норму прибыли в Америке, Европе и Японии в 1973 году с ее пиковыми показателями в годы экономического бума, Эндрю Глин обнаружил, что во всех трех случаях она сократилась на треть. В условиях уменьшения прибыли, роста зарплат и пугающего уровня профсоюзной активности имелось два предохранительных клапана: позволить инфляции вырасти, чтобы она снизила реальные зарплаты, не вызывая при этом новых споров, и продолжить увеличивать социальные выплаты, снижая тем самым давление на отдельных предпринимателей за счет, например, увеличения пособий многодетным семьям и других выплат, которые рабочие получают от государства. В итоге социальные расходы государства на пособия, субсидии и другие меры по увеличению доходов резко взмыли вверх, особенно в Европе – с 8 % ВВП в конце 1950-х годов до 16 % в 1975 году[131]. Примерно за тот же период в США федеральные расходы на социальное обеспечение, пенсии и здравоохранение удвоились, достигнув 10 % ВВП к концу 1970-х годов.
Чтобы повергнуть эту хрупкую систему в кризис, достаточно было одного потрясения. В августе 1971 года его устроил Ричард Никсон, в одностороннем порядке отказавшись менять доллары на золото и уничтожив тем самым Бреттон-Вудскую систему.
Соображения, которыми при этом руководствовался Никсон, хорошо задокументированы[132]. Поскольку конкуренты догнали Америку по уровню производительности, капитал стал утекать из США в Европу на фоне ухудшения американского торгового баланса. К концу 1960-х годов, когда все страны проводили политику стимулирования экономики, наращивая государственные расходы и удерживая процентные ставки на низком уровне, Америка превратилась в главного проигравшего Бреттон-Вудской системы. Она должна была расплачиваться за войну во Вьетнаме и за социальные реформы конца 1960-х годов, но не могла. Она должна была девальвировать доллар, но не могла, потому что для этого остальные страны должны были ревальвировать свои валюты по отношению к доллару, но они отказывались это делать. Поэтому Никсон решил действовать.
Мир перешел от фиксированных по отношению к доллару обменных ставок к совершенно свободно плавающим валютам. С тех пор мировая банковская система действительно стала создавать деньги из ничего.
В условиях этих перемен каждая страна, которой они касались, на какое-то время получила возможность решить скрытые проблемы производительности и доходности такими методами, которые были невозможны в рамках прежней системы – за счет больших государственных расходов и меньших процентных ставок. В 1971–1973 годах мир переживал своего рода нервную эйфорию.
Неизбежный крах фондового рынка разразился на Уолл-стрит и в Лондоне в январе 1973 года и привел к банкротству многих инвестиционных банков. Нефтяной шок октября 1973 года стал лишь последней каплей.
Продолжайте, Кейнс
К 1973 году все основы уникального режима, который поддерживал длительный экономический бум, были подорваны. Однако кризис казался случайным: издержки выросли из-за ОПЕК; глобальные правила были отменены Ричардом Никсоном; прибыли сократились из-за этого отвратительного персонажа – «жадного рабочего».
Авторы легендарной британской серии фильмов «Продолжайте» выбрали этот момент, чтобы перейти от нелепых исторических пародий к попытке дать острый социальный комментарий. Фильм «Продолжайте, когда вам будет удобно» (1971), действие которого разворачивается на туалетной фабрике, высмеивает мир, где рабочие контролируют производство, управленцы некомпетентны, а сексуальная свобода меняет жизнь даже в цехах фабрики, расположенной в маленьком городке. Подтекст фильма заключается в том, что нынешняя система нелепа: мы не можем так продолжать, но у нас, похоже, нет альтернативы. Это, как выяснялось, было также подтекстом политического ответа на кризис.
После 1973 года правительства попытались стабилизировать систему, строже придерживаясь старых кейнсианских правил. Они использовали контроль над ценами и зарплатами для того, чтобы сдерживать инфляцию и успокаивать недовольных рабочих. Они увеличили государственные расходы – и заимствования – для поддержания спроса в условиях экономического спада. Однако, несмотря на то, что после 1975 года рост восстановился, он так и не достиг прежнего уровня.
В конце 1970-х годов кейнсианская система разрушила саму себя. Этот развал был результатом действий не только наиболее влиятельных лиц, но и всех остальных игроков, участвовавших в кейнсианской игре: рабочих, бюрократов, технократов, политиков.
Борьба рабочего класса уже переместилась с фабрик на уровень торга с правительствами. В середине 1970-х годов почти во всех странах внимание профсоюзных лидеров было сосредоточено на национальных соглашениях о зарплатах, на программах социальных реформ, а также на стратегиях, которые помогли бы им удержать контроль над определенными отраслями – это проявилось, например, в попытке британских докеров оказывать сопротивление контейнерной технологии. Главной целью рабочего движения в развитом мире стало приведение к власти левых социал-демократических правительств, которые бы постоянно придерживались кейнсианской политики.
Однако к этому времени и класс предпринимателей, и ключевые правые политики уже отошли от кейнсианского мира.
Атака на труд
Представление о том, что триумф глобализации и неолиберализма был неизбежен, стало общим местом. Но это не так. Своим появлением они настолько же обязаны правительственной политике, насколько в 1930-е годы ей были обязаны корпоративизм и фашизм.
Неолиберализм разработали и внедрили дальновидные политики: Пиночет в Чили, Тэтчер и ее ультраконсервативное окружение в Великобритании, Рейган и рыцари «холодной войны», которые привели его к власти. Они столкнулись с массовым сопротивлением со стороны профсоюзов, которое им быстро надоело. Эти пионеры неолиберализма сделали выводы, которые предопределили нашу эпоху: по их мнению, современная экономика не может сосуществовать с организованным рабочим классом. Соответственно, они решили проблему, полностью уничтожив коллективную переговорную силу, традиции и социальную сплоченность трудящихся.
Профсоюзы подвергались атакам и ранее, однако нападали на них патерналистские политики, которые стремились к меньшему из зол: вместо борьбы с рабочими они поддерживали «хорошую» рабочую силу, придерживавшуюся умеренного социализма, и профсоюзы, управлявшиеся ставленниками государства. И они помогли построить стабильные, консервативные с социальной точки зрения сообщества, которые могли быть питательной почвой для появления солдат и слуг. Общей программой для консерватизма и даже для фашизма было стимулирование солидарности другого рода, такой, которая служила усилению позиций капитала. Но это все-таки была солидарность.
У неолибералов на уме было нечто другое – атомизация. Поскольку сегодняшнее поколение видит только результаты неолиберализма, оно легко упускает тот факт, что эта цель – уничтожение переговорной силы трудящихся – была сутью всего проекта: это было средство для достижения всех остальных целей. Ведущий принцип неолиберализма заключается не в свободных рынках, бюджетной дисциплине, твердых деньгах, приватизации или переносе производства за рубеж – и даже не в глобализации. Все это лишь побочные продукты или орудия для достижения главной задачи – устранения профсоюзов из уравнения.
Не все промышленные страны следовали по одному и тому же пути или в одном и том же ритме. Япония в 1970-е годы стала первопроходцем в области гибкого режима работы, внедрив принцип работы маленькими командами на конвейерах посредством заключения договоров об индивидуальной зарплате и громких пропагандистских собраний на фабриках. Япония была единственной из всех развитых экономик, которая после 1973 года сумела успешно рационализировать модели ведения бизнеса в промышленности. Разумеется, не обошлось без сопротивления, с которым расправлялись брутальными методами – зачинщиков хватали и избивали каждый день до тех пор, пока сопротивление не прекращалось. «Кажется, будто для “мира бизнеса” законы государства не писаны, – писал японский левый активист Муто Ичийо, который сам стал свидетелем таких избиений. – Поэтому естественно, что в этом мире бизнеса рабочие, остолбенев от ужаса, не смеют мыслить свободно и держат рот на замке»[133].
Германия, напротив, сопротивлялась трудовым реформам до начала 2000-х годов, предпочитая создавать периферийную мигрантскую рабочую силу в сфере низкоквалифицированных услуг и в строительстве при сохранении патерналистского мира конвейеров. За это журнал The Economist обозвал ее «больным человеком Европы» и еще в 1999 году раскритиковал ее «раздутую систему социального обеспечения и чрезмерные издержки на рабочую силу»[134]. В 2003 году они были устранены вторым пакетом трудовых реформ Харца, которые превратили Германию в общество, где царит неравенство, а многие социальные группы погрузились в бедность[135].
Многие развитые страны воспользовались рецессией начала 1980-х годов для того, чтобы навязать массовую безработицу. Они стали проводить политику, явно направленную на углубление рецессии: повысив процентные ставки, они приперли старые промышленные компании к стенке. Они приватизировали или закрыли многие государственные компании в угольной и сталелитейной отраслях, а также в тяжелом машиностроении. Они запретили несанкционированные забастовки и акции солидарности, которые изводили управляющих в годы экономического бума. Но они пока еще не пытались демонтировать системы социального обеспечения, необходимые для поддержания общественного порядка в тех социальных группах, которым вырвали сердца.
В атаке на профсоюзы были определенные сигнальные моменты. В 1981 году руководители американского профсоюза авиадиспетчеров были арестованы и выставлены на всеобщее обозрение в наручниках, а работников подвергли массовым увольнениям за участие в забастовках. Тэтчер использовала полувоенные полицейские отряды для подавления забастовки шахтеров в 1984–1985 годах. Однако подлинного успеха наступление на права трудящихся добилось на нравственном и культурном уровне. После 1980 года в развитом мире уменьшилось и число забастовок, и количество членов профсоюзов. В США число членов профсоюзов упало с изначально низкого уровня в 20 % от всей рабочей силы в 1980 году до 12 % в 2003 году, причем оставшиеся в основном работали в государственном секторе[136]. В Японии этот показатель упал с 31 до 20 %, а в Великобритании падение было еще более впечатляющим – с 50 до 30 %[137].
После того как профсоюзам связали руки, можно было взяться за полномасштабную трансформацию труда путем создания атомизированной и неустойчивой рабочей силы, которую мы наблюдаем сегодня. Для тех из нас, кто пережил поражение профсоюзов в 1980-е годы, оно было болезненным, но мы говорили себе, что наши деды пережили то же самое. Однако если мы отступим на шаг назад и рассмотрим его через призму теории длинных волн, окажется, что это явление уникально.
В истории длинных волн на 1980-е годы пришлась первая «фаза адаптации», когда сопротивление рабочих было сломлено. В обычной модели, описанной в третьей главе, оно вынуждает капиталистов энергичнее адаптироваться и создавать новую модель, основанную на более высокой производительности и более высоких реальных зарплатах. После 1979 года провал рабочего сопротивления позволил ключевым капиталистическим странам найти решение кризиса в сокращении зарплат и в незатратных производственных моделях. Это важнейший факт, дающий ключ к пониманию всего того, что произошло далее.
Поражение профсоюзов не создало, как думали приверженцы неолиберализма, «капитализм нового рода», а скорее позволило продлить четвертую длинную волну за счет прекращения роста зарплат и атомизации. Вместо того чтобы придумывать способы выхода из кризиса за счет использования технологий, как это было на поздней стадии всех трех предыдущих циклов, «один процент» просто навязал рабочему классу нужду и атомизацию.
Во всем западном мире доля зарплат в ВВП заметно упала. Экономист Энгельберт Стокхаммер, исследуя для Международной организации труда экономический ущерб, показал, что падение доли зарплат было целиком обусловлено последствиями глобализации, финансиализации и сокращением социального обеспечения. Он писал: «Это представляет собой важнейшее историческое изменение, ведь в послевоенный период доля зарплат оставалась стабильной или росла»[138].
Как выясняется, это еще мягко сказано. Это стало толчком к переустройству мира.
Прерванная волна на графиках
Когда перемены масштабны и очевидны, но протекают в течение десятилетий, полную картину иногда проще представить при помощи диаграмм. Нижеследующие графики очень четко показывают, что укладывается, а что нет в классическую модель, предложенную Кондратьевым. Они также дают нам ключ к пониманию причин этого.
Рис. 1. Рост мирового ВВП
Рис. 1 показывает четвертую длинную волну как единое целое. В ней прослеживается явный переход от одной фазы к другой в начале 1970-х. Если использовать предложенное МВФ определение мировой рецессии – т. е. падение темпов роста ниже 3 %, – то в первые двадцать пять лет волны рецессий не было, зато после 1973 года их случилось шесть, причем последняя хуже некуда[139].
Рис. 2. Средние процентные ставки в США[140]
Кондратьев измерял свои волны, используя процентные ставки (рис. 2), а для периода после 1945 года нет более точного показателя, чем средние процентные ставки, под которые банки кредитуют компании и отдельных лиц в США. Процентные ставки постепенно росли во время длинного бума, взмыли вверх в начале 1980-х, когда с их помощью уничтожали старые промышленные компании, и затем стали плавно снижаться, выровнявшись к концу графика вследствие количественного смягчения. Коллеги Кондратьева, которые разглядели именно эту модель во всех предыдущих циклах, сказали бы: «Товарищ, это длинная волна».
Однако Кондратьев отслеживал также цены основных сырьевых товаров, таких как уголь и железо. Рис. 3 отражает изменение цены на их современный эквивалент – никель, ключевой компонент для выплавки нержавеющей стали, – на протяжении 57 лет. Я думаю, что он выбил бы Кондратьева из колеи. Это лишь один товар, но, за некоторыми исключениями, он точно отражает, что происходило с ценами на сырье после 1945 года: в правой части графика снова взлет, обусловленный быстрым развитием промышленности и массовым потреблением на глобальном юге, прежде всего в Китае.
Рис. 3. Цены на сырьевые товары: никель
Отчет, подготовленный Геологической службой США в 2007 году, показывает, что после 1989 года все цены на промышленные товары росли вследствие вовлечения Китая в мировой рынок[141]. Потребление никеля в Китае выросло с 30 тысяч тонн в 1991 году до 60 тысяч тонн в 2001-м и 780 тысяч тонн в 2012-м. В то же время потребление никеля и прочих металлов другими крупнейшими производителями росло довольно медленно: например, в Германии оно увеличилось с 80 до 110 тысяч тонн за тот же период[142].
Рис. 4. Государственный долг 20 передовых экономик в отношении к ВВП (средневзвешенные значения)[143]
Кондратьев не измерял правительственный долг, но в современном государстве это хороший показатель общего состояния экономики. На рис. 4 показан долг государств в соотношении с их годовым ВВП. Финансовое подавление в сочетании с инфляцией уничтожило их военные долги за двадцать пять лет устойчивого роста. Затем, в условиях кризиса, начавшегося в 1973 году, развитый мир был вынужден безостановочно наращивать долги. Этот долг подбирается к 100 % ВВП, несмотря на три десятилетия сокращения социальных расходов и доходов от приватизации.
Рис. 5. Деньги в обращении
Рис. 5 является приложением к истории о фиатных деньгах, т. е. деньгах, не обеспеченных золотом. График начинается с того момента, когда Никсон отменил Бреттон-Вудскую систему в 1971 году, и показывает объем денег, находившихся в обращении в девяноста странах в различных формах – от наличности, которая мало меняется, до кредитов и финансовых инструментов, которые постоянно росли в неолиберальную эпоху и буквально взмыли вверх после 2000 года[144].
Никсон разорвал связь денег и кредитов с реальностью и, хотя на создание финансовой системы, которая могла в полной мере извлечь выгоду из этой свободы, ушли десятилетия, с конца 1990-х годов она стала расти по экспоненте.
Рис. 6. Неравенство в США
Темная линия на рис. 6 показывает реальные доходы 99 % на протяжении четвертой длинной волны. Они почти удвоились во время Второй мировой войны, когда люди покидали фермы и отправлялись на фабрики, и снова удвоились между окончанием войны и нефтяным шоком. Затем они росли очень медленно в течение всего периода после 1989 года. Эволюция доходов «одного процента» была ровно противоположной: нисходящая фаза стала для него чрезвычайно прибыльной. Его реальные доходы в течение бума и кризисных лет не менялись, зато взлетели вверх, когда в конце 1980-х получила развитие экономика свободного рынка. Нет лучшего примера того, кто победил, а кто проиграл[145] в развитых странах после того, как началась нисходящая фаза.
Рис. 7. Финансиализация[146]
Рис. 7 отражает доходы финансового сектора в США в соотношении к общему объему доходов бизнеса. В течение долгого бума доходы финансового сектора в США были невелики. Перемены стали набирать обороты в середине 1980-х годов, а в годы, предшествующие краху Lehman Brothers, на банки, хедж-фонды и страховые компании приходилось более 40 % прибыли корпораций. Это очевидное подтверждение идеи о том, что доходы, которые прибрал к рукам финансиализированный капитализм, были созданы в большей степени за счет заимствований и потребления и в меньшей степени – за счет создания рабочих мест для нас. Накануне кризиса на финансовые доходы приходилось 4 из каждых 10 долларов корпоративной прибыли.
Рис. 8. Глобальные инвестиционные потоки
Рис. 8 создает яркий образ реальности глобализации. Верхняя линия – это общий объем прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в мире с 1970 по 2012 год (млн долларов США в текущих ценах и по текущему обменному курсу). Средняя линия отражает объем притока инвестиций в развивающие страны; нижняя линия – в бывшие коммунистические страны. Разрыв между верхней и средней линиями представляет собой объем иностранных инвестиций в развитых странах[147].
Глобализация начинается тогда, когда происходит отказ от кейнсианской парадигмы. Вырастают зарубежные инвестиции между развитыми странами при сохранении стабильного притока инвестиций в то, что мы называем «третьим миром». Приток капитала в Россию и ее сателлиты значителен, если учитывать масштаб их экономик, но не столь значителен в рамках более широкой картины.
ВВП на душу населения – это способ отразить человеческий прогресс: сколько роста распределяется среди какого количества людей? Верхняя линия на рис. 9 показывает, что мировой ВВП на душу населения вырос на 162 % с 1989 по 2012 год. Бывшие коммунистические страны достигли почти таких же показателей – хотя и после двадцати лет катастрофического упадка и последующего роста, подстегнутого введением евро в случае бывших советских сателлитов и нефтяными доходами в случае самой России. Однако больше всего поражает траектория средней линии, показывающей развивающийся мир. Здесь ВВП на душу населения после 1989 года вырос на 404 %.
Рис. 9. ВВП на душу населения (тыс. долл. США)[148]
Под влиянием этого факта британский экономист Дуглас Макуильямс в своих лекциях, прочитанных в Грешемовском колледже, охарактеризовал последние двадцать пять лет как «величайшее экономическое явление в человеческой истории». Мировой ВВП вырос на 33 % за сто лет, последовавшие за открытием Америки, а ВВП на душу населения – на 5 %. За пятьдесят лет после 1820 года, в то время как в Европе и обеих Америках осуществлялся промышленный переворот, мировой ВВП вырос на 60 %, а ВВП на душу населения – на 30 %. Однако с 1989 по 2012 год мировой ВВП увеличился с 20 до 71 триллиона долларов – на 272 %, – а ВВП на душу населения, как мы видели, на 162 %. По обоим этим показателям период после 1989 года превзошел долгий послевоенный бум[149].
Рис. 10. Выигравшие от глобализации
Во время послевоенного бума капитализм подавлял развитие глобального Юга. Методы, которыми он этого добивался, очевидны и хорошо задокументированы[150]. Неравноправные торговые отношения заставляли многие страны Латинской Америки, всю Африку и бóльшую часть Азии придерживаться таких моделей развития, которые обеспечивали сверхприбыли западным компаниям и сеяли бедность в самих этих странах. В странах, отказывавшихся от подобных моделей, вроде Чили или Гвианы, правительства свергались при помощи государственных переворотов, которые устраивало ЦРУ, или путем вторжения, как на Гренаде. Экономики многих из них рушились под бременем долга и вследствие применения «программ структурной перестройки», которые МВФ диктовал им в обмен на списание долгов. Поскольку промышленность в них была развита слабо, их модели роста полагались на экспорт сырьевых товаров, а доходы бедных не росли.
Глобализация изменила все это. С 1988 по 2008 год, как показывает рис. 10, реальные доходы двух третей населения мира значительно выросли. Это отражает скачок в левой части графика.
Теперь перейдем к правой части графика: доходы верхнего процента также выросли на 60 %. Однако для всех тех, кто находится между сверхбогатым и развивающимся мирами, т. е. для рабочих и низших слоев среднего класса на Западе, этот U-образный провал означает очень маленькое увеличение дохода или вовсе отсутствие такового. Этот провал рассказывает историю большинства населения в Америке, Японии и Европе – они почти ничего не получили от капитализма в последние двадцать лет. Более того, некоторые из них потеряли. Этот провал ниже нуля, вероятно, включает чернокожее население Америки, белых бедняков Великобритании и большинство трудящихся Южной Европы.
По словам экономиста Бранко Милановича, рассчитавшего эти цифры для Всемирного банка, это, «возможно, самая значительная рокировка экономического положения людей со времен промышленного переворота»[151].
Гарвардский экономист Ричард Фримен подсчитал, что с 1980 по 2000 год мировая рабочая сила в абсолютных цифрах выросла вдвое, что сократило наполовину соотношение капитала к труду[152]. Рост населения и иностранные инвестиции увеличили рабочую силу развивающегося мира, а урбанизация создала 250-миллионный рабочий класс в Китае, в то время как мировому рынку вдруг стала доступна рабочая сила бывших стран СЭВ.
Следующие два графика показывают ограничения того, чего можно достичь за счет использования труда большого количества низкооплачиваемых рабочих из бедных стран.
На рис. 11 видно, что происходило с доходами рабочих в развивающемся мире с тех пор, как началась глобализация.
Рис. 11. Удвоение мировой рабочей силы
В глаза бросается то, что группа, зарабатывающая от 4 до 13 долларов в день, росла быстрее всего: с 600 миллионов до 1,4 миллиарда человек[153]. (Несмотря на то что демографы называют их «развивающимся средним классом», уровень ежедневного дохода в 13 долларов примерно соответствует черте бедности в США.) Эти люди в массе своей рабочие. Они имеют доступ к банковским и страховым услугам, как правило, располагают собственным телевизором и обычно живут по одиночке или в небольших семейных группах, а не в семьях из трущоб, в которых сосуществуют несколько поколений. Три четверти из них работает в сфере услуг. Ее рост в развивающемся мире отражает как естественную эволюцию смешения труда в современном капитализме, так и второй этап перенесения производства за рубеж, выражающийся в открытии колл-центров, отделов информационных технологий и бэк-офисов. Коротко говоря, график показывает пределы того, чего можно добиться за счет перенесения деятельности за рубеж. Этот выступающий клин рабочих, получающих 13 долларов в день, упирается в уровень дохода беднейших американских трудящихся.
Это означает, что дни легких побед для компаний, выводящих свое производство за рубеж, подходят к концу. В последние двадцать пять лет значительная часть промышленности на глобальном Юге использовала не интенсивные, а экстенсивные методы расширения производства. Иначе говоря, если вы хотите выпускать в два раза больше кроссовок, вы скорее построите дополнительную фабрику, чем будете развивать более эффективные методы производства. Однако этот вариант становится недоступным тогда, когда вы должны платить вашим наиболее квалифицированным работникам столько же, сколько бедняку в Америке. Действительно, влияние роста зарплат в развивающемся мире становится очевидным, когда мы смотрим на второй график.
Этот строгий подсчет показывает, что изначальный толчок к увеличению производства посредством перенесения за рубеж сотен миллионов рабочих мест больше не действует.
Рис. 12. Сравнительная производительность труда в мире
Посмотрите на все три линии на рис. 12. Верхняя, отражающая развитый мир, стремится к нулю. Трудящиеся здесь практически не вносят никакого вклада в общемировую производительность. Нижняя линия, показывающая развивающийся мир, свидетельствует о масштабном вкладе в первые годы глобализации, но затем сводится практически к нулю в последние несколько лет. Из этого вытекает, что глобализация рабочей силы перестала увеличивать производительность и что замедление роста в развивающихся странах, от Китая до Бразилии, вот-вот превратится в стратегическую проблему. Эти графики демонстрируют, что нормальная волновая модель была прервана.
Как прервалась модель?
Когда в 1960-е годы восходящая фаза выдыхается, это происходит по причине, которая не удивила бы Кондратьева – себя исчерпал режим, который обеспечивал высокую производительность наряду с ростом зарплат. Это привело к знаменитым кризисам «стой-иди» 1960-х годов, когда глобальная система заставляла правительства сдерживать рост, а затем и к слому мирового экономического порядка, высокой инфляции и столь отвратительной войне во Вьетнаме, что американская психика до сих пор не восстановилась от потрясения, вызванного поражением в ней.
Здесь есть критическое различие: во всех трех предыдущих циклах рабочие сопротивлялись дешевому и подлому выходу из кризиса: сокращению зарплат, вытеснению квалифицированного труда и урезанию социальных выплат. В ходе четвертой волны по причинам, которые мы исследуем в седьмой главе, их сопротивление не увенчалось успехом. Именно благодаря этому провалу удалось переломить баланс во всей мировой экономике в пользу капитала.
На протяжении примерно двадцати лет этот баланс работал, причем настолько хорошо, что многие разумные люди стали верить в то, что началась новая эпоха. То, что, согласно теории Кондратьева, должно было привести к спаду и депрессии, привело к двум пьянящим десятилетиям, в ходе которых рост прибылей сопровождался социальным упадком, военными конфликтами, возвращением крайней нищеты и преступности в западные общества – и потрясающим обогащением «одного процента».
Однако это не социальный порядок, а социальный беспорядок. Это то, что получается, когда переход от производства к финансам (которого ожидал бы Кондратьев) сочетается с разгромом и атомизацией рабочей силы и быстрым обогащением элиты, живущей за счет финансовых доходов.
Мы перечислили факторы, которые сделали возможным появление неолиберализма: фиатные деньги, финансиализация, удвоение рабочей силы, глобальные дисбалансы, в том числе дефляционные последствия использования дешевой рабочей силы и удешевление всего остального в результате распространения информационных технологий. Каждый из них казался своего рода карточкой «Бесплатно выйти из тюрьмы», которая позволяла отменить обычную карму экономической науки. Но, как мы видели – и как большинство из нас могли убедиться на собственном опыте, – за это пришлось заплатить высокую цену.
Что родится из этой рухнувшей мечты? Из подручных материалов нужно будет строить новую техническую и экономическую систему. Мы знаем, что в нее войдут сети, наукоемный труд, прикладные науки и большие капиталовложения в зеленые технологии.
Вопрос в следующем: может ли это сделать капитализм?
Часть II
Сегодня мы вовлечены в огромную систему, которая увеличивает, расширяет, усиливает и растягивает отношения и связи между всеми существами и всеми предметами.
Кевин Келли, 1997[154]Глава 5. Пророки посткапитализма
Реактивный двигатель стал одной из ключевых технологий длинной волны, начавшейся после 1945 года. Изобретенный во время Второй мировой войны, турбовентиляторный реактивный двигатель (ТВРД) – это его настоящее имя – представляет собой зрелую технологию и не должен был бы преподносить сюрпризов. Но он их преподносит.
ТВРД работает, втягивая сжатый воздух спереди и пропуская через него пламя. Вследствие этого воздух расширяется и приводит в движение лопасти, находящиеся сзади и превращающие тепло в энергию. Однако у ТВРД очень низкая эффективность. Первые реактивные двигатели превращали в тягу лишь 20 % тепла. К 2001 году они достигли 35 % КПД, и один опытный промышленник осторожно предсказал, что «в течение второй четверти XXI века» удастся достичь 55 %[155].
Почему нас это должно волновать? Потому что к 2030 году промышленники ожидают удвоения числа используемых авиалайнеров. Это означает, что появится 60 тысяч новых ТВРД[156]. Они увеличат вклад авиапромышленности в глобальное потепление с 3,5 % в 2005 году примерно до 5 % к середине столетия[157]. Поэтому эффективность ТВРД это не занудный вопрос, а вопрос выживания всей планеты.
В первые 50 лет жизни ТВРД конструкторам удавалось улучшать его КПД на 0,5 % в год. Однако сегодня они совершают инновационный скачок: 65 % КПД уже в пределах досягаемости и вот-вот будут внедрены совершенно новые виды двигателей. Стимулом к переменам служит сочетание правил, касающихся выбросов углекислого газа, и цен на топливо. Возможным это сделала ключевая технология пятой длинной волны – информация.
Лопасти еще на памяти ныне живущих людей, производящих их, ковались из твердых металлов. Начиная с 1960-х годов их стали формовать, т. е. отливать из расплавленного металла. Однако у литого металла есть дефекты, из-за которых лопасти подвергаются разрушению.
Затем появилось одно из самых поразительных инженерных решений, о которых вы, возможно, никогда и не слышали. В 1980 году инженеры американской авиационной компании Pratt&Whitney вырастили лопасти из монокристаллического металла, сформированного в вакууме[158]. В результате был получен металл, имеющий такую атомную структуру, которая никогда прежде не существовала. Монокристаллическая лопасть может выдерживать более высокие скорости. Благодаря металлическим суперсплавам лопасти могут справляться с воздухом, температура которого выше их собственной точки плавления. Поэтому в официальную дорожную карту[159] для авиационных двигателей шасси будут добавлены в 2015 году, открытые лопасти индивидуальной формы – к 2020 году, а после 2035 года появятся самоохлаждающиеся двигатели, которые смогут повысить тепловой КПД почти до 100 %.
Информационные технологии определяют каждый аспект этой эволюции. Современные реактивные двигатели контролируются компьютером, который может анализировать их технические характеристики, предсказывать ошибки и управлять эксплуатацией. Наиболее передовые двигатели передают данные с летящего самолета в офис производителя в реальном времени.
Теперь представьте, как информационные технологии повлияли на процесс проектирования. Еще летают самолеты, которые были спроектированы на бумаге, проверены при помощи логарифмической линейки, построены на основе полноразмерных образцов, нарисованных на шелке. Новые самолеты проектируются и испытываются виртуально на суперкомпьютере. «Когда мы проектировали хвостовое оперение истребителя “Торнадо”, мы провели 12 испытаний, – рассказывал мне один опытный инженер. – Когда ему на смену пришел “Тайфун”, было проведено 186 миллионов испытаний».
Компьютеры произвели революцию и в самом процессе производства. Теперь инженеры могут изготавливать любой элемент самолета «виртуально», используя трехмерные цифровые модели на суперкомпьютерах. В этих моделях каждый латунный винт располагает характеристиками латунного винта, каждый лист углеродного волокна гнется и скручивается так же, как и в реальности. Каждая стадия процесса производства моделируется прежде, чем изготавливается любой физический объект.
Объем глобального рынка ТВРД достигает 21 миллиарда долларов в год, так что дальше следует вопрос на 21 миллиард: какая часть стоимости ТВРД приходится на физические компоненты, применяемые для его изготовления, какая часть – на труд, а какая – на информацию, которую он воплощает?
В бухгалтерской отчетности ответа вы не найдете – современные бухгалтерские стандарты оценивают интеллектуальную собственность наугад. Исследование, проведенное SAS Institute в 2013 году, обнаружило, что при попытке определить стоимость данных невозможно правильно подсчитать ни стоимость их сбора, ни их рыночную стоимость, ни доход, который они могут обеспечить в будущем. Своим акционерам важность данных компании могли объяснить лишь посредством такой формы учета, которая включала неэкономические выгоды и риски[160].
Исследование показало, что, несмотря на то, что в балансах американских и британских компаний «неосязаемые активы» росли почти в три раза быстрее, чем активы осязаемые, фактический размер цифровой отрасли, выраженный в долях ВВП, оставался неизменным. Иными словами, в логике, при помощи которой мы оцениваем самые важные вещи в современной экономике, что-то не так.
Тем не менее, как их ни измеряй, очевидно, что комбинация производственных ресурсов изменилась. Авиалайнер уже кажется старой технологией. Однако, если вспомнить об атомной структуре лопастей, о сжатом цикле проектирования, о потоке данных, которые он передает в главный офис своего производителя, то окажется, что он напичкан информацией.
Этот феномен слияния виртуального и реального миров проявляется во многих отраслях – это и автомобильные двигатели, чьи физические характеристики определяются кремниевыми микросхемами; и цифровые пианино, которые могут выбирать из тысяч сэмплов настоящих пианино в зависимости от того, насколько сильно вы нажимаете на клавиши. Сегодня мы смотрим фильмы, состоящие из пикселей, а не из целлулоидных гранул и содержащие целые сцены, в которых на самом деле перед камерой не находилось ни одного реального объекта. На автосборочных конвейерах у каждого компонента есть штрихкод: то, что делают люди, наряду с посвистыванием и гудением роботов, направляется и проверяется компьютерным алгоритмом. Взаимоотношения между физической работой и информацией изменились.
Великий технологический прорыв начала XXI века заключается не в новых объектах, а в старых предметах, ставших «умными». Интеллектуальный контент товаров становится ценнее, чем физические элементы, используемые для их изготовления.
В 1990-е годы, по мере того, как росло понимание последствий, к которым вели информационные технологии, представители различных наук одновременно пришли к одной и той же мысли: капитализм становится качественно иным.
Появились устойчивые словосочетания: экономика знаний, информационное общество, когнитивный капитализм. Считалось, что информационный капитализм и модель свободного рынка работают в тандеме, порождая и укрепляя друг друга. Некоторые полагали, что перемены настолько важны, что не уступают по своему значению переходу от торгового капитализма к промышленному в XVIII веке. Но как только экономисты стали объяснять, как этот «третий тип капитализма работает», они столкнулись с одной проблемой – он не работает.
Появляется все больше подтверждений тому, что информационные технологии не создают новую, более стабильную форму капитализма, а расшатывают его, разъедая рыночные механизмы, подтачивая права собственности и разрушая прежние взаимосвязи между зарплатами, трудом и прибылью. Первой об этом заговорила довольно разношерстная команда, состоявшая из философов, гуру менеджмента и юристов.
В этой главе я рассмотрю и подвергну критике их ключевые идеи. Затем я предложу и обосную еще более радикальную мысль: информационные технологии ведут нас к посткапиталистической экономике.
Друкер: правильно поставленные вопросы
В 1993 году гуру менеджмента Питер Друкер писал: «Тот факт, что знания стали единственным, а не одним из ресурсов, делает наше общество “посткапиталистическим”. Он коренным образом меняет структуру общества. Он создает новую социальную динамику. Он создает новую экономическую динамику. Он создает новую политику»[161]. В свои девяносто лет последний остававшийся в живых ученик Йозефа Шумпетера несколько опередил события, однако его догадка была верной.
Друкер исходил из того, что прежние факторы производства – земля, труд и капитал – стали вторичными по отношению к информации. В своей книге «Посткапиталистическое общество» Друкер утверждал, что на смену некоторым нормам, имевшим ключевое значение для капитализма, приходят новые. Наблюдая за насыщенным информацией капитализмом 1980-х годов, Друкер, писавший в те времена, когда никто еще в глаза не видел интернет-браузер, описал широкими мазками сетевую экономику, которая появилась в последующие двадцать лет.
Именно для этого и нужны провидцы. В то время как многие люди из его окружения считали сочетание «информационные технологии плюс неолиберализм» усовершенствованным капитализмом, Друкер представил информационный капитализм как переход к чему-то иному. Он отмечал, что, несмотря на разглагольствования об информации, не существовало экономической теории о том, как информация действует на самом деле. В отсутствие такой теории он задал ряд вопросов о том, к чему могло привести становление посткапиталистической экономики.
Во-первых, спрашивал он, как мы будем повышать производительность знаний? Если в предшествующие эпохи капитализм опирался на возраставшую производительность машин и труда, то, значит, в следующей он должен опираться на увеличенную производительность знаний. Друкер предполагал, что решение должно заключаться в творческом соединении различных отраслей знаний: «Способность связывать, возможно, носит врожденный характер и является частью той тайны, которую мы называем гением. Однако установление связей и повышение производительности существующих знаний, будь то для человека, команды или целой организации, в значительной степени поддается изучению»[162].
Вызов состоял в том, чтобы научить работников умственного труда устанавливать связи такого рода, которые мозг Эйнштейна устанавливал произвольно. Решение Друкера, казалось, было напрямую позаимствовано из сборника по теории менеджмента: методология, план проекта, усовершенствованный тренинг.
Человечество придумало лучшее решение – сети. Они стали результатом не работы какого-либо отдела централизованного планирования или менеджмента, а произвольного взаимодействия между людьми, использовавшими информационные каналы и формы организации, которые двадцать пять лет назад еще не существовали. Тем не менее Друкеру, подчеркивающему важность «связей» и модульного использования информации, в которых он видел ключ к росту производительности, было на что опираться.
Его второй вопрос был столь же глубоким: кто является социальным архетипом посткапитализма? Если символом феодального общества был средневековый рыцарь, а символом капитализма – буржуазия, то кто в исторической схеме вещей будет носителем посткапиталистических общественных отношений? Этот вопрос волновал и Карла Маркса, однако ответ Друкера ужаснул бы многих традиционных левых, считавших, что это пролетариат. По мнению Друкера, им стал бы «универсально образованный человек».
Друкер считал, что этот новый тип человека возникнет благодаря слиянию управленческого и интеллектуального классов западного общества и объединит в себе умение управленца применять знания со способностью интеллектуала оперировать чистыми концептами. Такой индивид был бы противоположностью эрудита, т. е. такого редко встречающегося человека, который одновременно является специалистом и в китайском языке, и в ядерной физике. Этот новый тип человека, напротив, мог бы собирать и использовать результаты специальных исследований в узких сферах и применять их в более общем контексте: теорию хаоса в экономике, генетику в археологии или анализ данных в социальной истории.
Друкер охарактеризовал этот новый тип людей как «группу лидеров нового общества», как «объединяющую силу… которая умеет выделять особенное, превращать традиции в приверженность коллективным ценностям, в общее понятие совершенства и во взаимоуважение»[163].
С тех пор как он это написал, такая группа появилась: технобуржуазия начала XXI века, которая носит футболки, хранит информацию в сети и придерживается ультралиберальных взглядов на сексуальность, экологию и филантропию, считается новой нормой. Если в ближайшие пять лет мы только и будем говорить, что о пятой длинной волне капитализма, основанной на информации, то у нас уже есть новые мужчины и женщины, о появлении которых говорит нам теория длинных волн. Проблема в том, что они не проявляют никакого интереса к свержению старого капитализма и вообще слабо интересуются политикой.
Тем не менее если мы говорим о посткапитализме, то таких универсально образованных людей должно было бы быть много, а их интересы должны были бы вступать в конфликт с интересами иерархических фирм, которые господствовали в XX веке. Они должны были бы бороться за новую экономическую модель, как это делала буржуазия, и воплощать ее ценности в своем поведении. Они должны были бы быть, как гласит материалистический подход к истории, носителями новых социальных отношений в рамках старых.
Теперь оглянитесь вокруг себя.
В лондонской подземке я еду в вагоне, где у всех, кому меньше 35 лет, есть белые провода, которые соединяют их уши с плеером и через которые они слушают что-то, что скачали через сеть. Даже у тех, кто занимается бизнесом или работает управленцем, нарочито неформальный внешний вид и стиль одежды. Некоторые – даже несмотря на то, что здесь нет беспроводного интернета – просматривают рабочую почту на своих смартфонах. Или играют в игры, ведь для этого требуются ровно те же действия и такой же высокий уровень концентрации. Они приклеены к цифровой информации и, выйдя на улицу, первым делом снова подключаются к интернету через сеть 3G.
Все остальные пассажиры вагона подходят под демографический типаж XX века: пожилая пара, относящаяся к среднему классу с его шляпами и твидовыми костюмами; невысокий чернорабочий, читающий газету; парень в костюме, который строчит что-то на своем ноутбуке и слишком занят, чтобы пользоваться наушниками, но зато нашел время для того, чтобы начистить до блеска ботинки (это я).
Первая группа состоит из тех, кого социологи называют «индивидами, подключенными к сети» и кто готов черпать знания из относительно открытой глобальной системы. Их жизнь подчинена сетевому ритму – от работы и потребления до отношений и культуры. Через тридцать лет после того, как Стюарт Бранд произнес свое знаменитое «информация хочет быть свободной», они инстинктивно верят, что в нормальных условиях она должна быть свободной. Они будут платить за наркотики на дискотеке, но будут считать нечестным платить за скачанную музыку.
Эта группа уже так велика и имеет столь ясные черты в некоторых городах, например, в Лондоне, Токио или Сиднее, что теперь меньшинством являются представители XX века, все еще использующие аналоговые карты вместо GPS, все еще теряющиеся перед обилием возможностей в Starbucks, потрясенные и завороженные переменчивым образом жизни, который другая группа считает нормальным.
Подключенные к сети индивиды начала XXI века – «люди с белыми проводами» – точно соответствуют тому типу людей, появления которого ожидал Друкер: универсально образованного человека. Они больше не ограничиваются технологическо-демографической нишей. Любой бармен, административный работник или временный сотрудник юридической фирмы может стать, если захочет, универсально образованным человеком – для этого ему достаточно иметь базовое образование и смартфон. Действительно, последние исследования показывают, что благодаря распространению мобильного интернета даже китайские фабричные рабочие при всей жесткости их трудовой дисциплины и продолжительности рабочего дня стали активно пользоваться сетью в нерабочее время[164].
Когда вы осознаете, что информация действует как экономический ресурс, и понимаете, кто является новым социальным архетипом, вы приближаетесь к пониманию того, как мог бы осуществиться переход к посткапитализму. Однако возникает вопрос: почему он должен осуществиться? Хотя Друкер приводит умозрительные ответы, они все же дают первое представление о тех основах, на которых следует строить строгую теорию посткапитализма.
Друкер делит историю промышленного капитализма на четыре фазы: механическая революция, продолжавшаяся большую часть XIX века; революция производительности, начавшаяся со становлением научного управления в 1890-е годы; революция менеджмента после 1945 года, вызванная применением знаний к процессу ведения бизнеса; и, наконец, информационная революция, основанная на «применении знаний к знаниям».
Друкер, будучи учеником Шумпетера, осознанно использовал здесь длинные циклы (хотя и соединил первые два воедино), но с точки зрения отдельных компаний. Это привело Друкера к более глубокому осознанию того, что ни один из этих поворотных моментов нельзя осмыслить без понимания экономики труда. От Вергилия до Маркса, утверждал он, никто не удосужился изучить, что крестьянин или фабричный рабочий делал в повседневной жизни. Лишь в конце XIX века капиталисты обратили внимание на то, что на самом деле делали их рабочие, и попытались это изменить.
«По-прежнему нет ни одной истории труда», – сокрушался Друкер; двадцать пять лет спустя история труда все еще мало изучена. Экономика трудового рынка по-прежнему сосредоточена на безработице и уровне зарплаты и имеет в научном мире весьма скромное положение. Однако когда мы поймем, как информация влияет на труд, на границы между трудом и свободным временем и на работу, то масштаб перемен, которые мы переживаем, проявится в полной мере.
В конце Друкер оставил нам ряд вопросов. Это были правильные вопросы, но и двадцать пять лет спустя у нас все еще нет обобщающей теории информационного капитализма, не говоря уже о посткапитализме. Тем не менее традиционная экономическая наука, пусть и случайно, но все же близко подошла к тому, чтобы ее открыть.
Информационные товары меняют всё
В 1990 году американский экономист Пол Ромер разгромил одно из ключевых утверждений современной экономики и заодно выдвинул на первый план вопрос об информационном капитализме.
В своих поисках модели, которая могла бы предсказать темпы роста той или иной страны, экономисты определили список различных факторов: сбережения, производительность, рост населения. Они знали, что технологические изменения оказывают влияние на все эти факторы, но, исходя из соображений построения модели, считали их «экзогенными», т. е. внешними по отношению к ней, а значит, не влияющими на уравнение, которое они пытались вывести. В своем исследовании «Эндогенные технологические изменения» Ромер целиком пересмотрел этот вопрос[165]. Он доказал, что, поскольку инновациями движут рыночные силы, их следует рассматривать не как случайные или внешние применительно к экономическому росту факторы, а как неотъемлемую («эндогенную») их часть. Инновации сами по себе нужно включить в рамки теории роста: их воздействие носит предсказуемый, а не случайный характер.
Однако Ромер не просто вывел общее математическое заключение о капитализме, но и выдвинул предположение непосредственно относительно информационного капитализма, которое имело революционные последствия. Он определил технологические изменения нарочито просто – как «улучшение инструкций по сочетанию между собой исходных материалов». Он отделил вещи от идей – ведь именно это подразумевается под «инструкциями». Информация, по мнению Ромера, подобна проекту или рецепту, который рассказывает, как сделать что-то в физическом или цифровом мире. Это ведет к тому, что он называл новой фундаментальной предпосылкой: «инструкции для работы с исходными материалами по сути своей отличаются от прочих экономических товаров»[166].
Информационный продукт отличается от любого физического товара, производившегося до сих пор. А экономика, основанная в первую очередь на информационных продуктах, будет вести себя иначе, чем экономика, основанная на производстве вещей и оказании услуг. Ромер объяснил почему: «После оплаты стоимости создания нового набора инструкций они могут использоваться снова и снова без дополнительных расходов. Разработка новых, более качественных инструкций равносильна уплате фиксированной стоимости»[167].
В одном абзаце Ромер отразил революционный потенциал простого действия, которое я только что совершил для того, чтобы взять цитату из файла PDF и вставить ее в эту книгу – вырезать и вставить. Если вы можете вырезать и вставлять абзацы, вы можете делать это и с музыкальным треком, с фильмом, с проектом турбореактивного двигателя и с цифровой моделью фабрики, которая будет его производить.
Когда вы можете вырезать и вставлять что-то, это что-то может воспроизводиться бесплатно. Выражаясь экономическим языком, у этого действия «нулевые предельные издержки».
У информационных капиталистов есть решение: сделать юридически невозможным копирование определенных видов информации. Например, мне разрешено бесплатно цитировать Ромера в этой книге, но скачивание файла PDF с его знаменитой работой 1990 года с университетского сайта JSTOR обходится мне в 16 долларов 80 центов. Если бы я попытался скопировать и вставить проект турбореактивного двигателя, я мог бы угодить в тюрьму.
Однако права интеллектуальной собственности сильно запутаны: я могу легально скопировать компакт-диск, который у меня есть, в папку iTunes, но конвертировать DVD нелегально. Законы, касающиеся того, что можно, а что нельзя копировать, неясны. Они приводятся в исполнение социально и юридически и, подобно патентам доцифровой эпохи, со временем отмирают.
Если вы пытаетесь «владеть» какой-то информацией – неважно, являетесь ли вы рок-группой или производителем ТВРД, – ваша проблема заключается в том, что она не приходит в негодность вследствие ее использования и что человек, потребляющий ее, не может не допустить, чтобы ее потреблял другой человек. Экономисты называют это «неконкурентностью». Проще это назвать «коллективным доступом».
Когда речь идет о физических товарах, их потребление одним человеком обычно препятствует их использованию другим: это моя сигарета, а не твоя, мой взятый напрокат автомобиль, мой капучино, мои полчаса психотерапии. Мои, а не ваши. Но в случае mp3-трека товаром является информация. Технически она может существовать в разных физических формах и в таких мелких масштабах, что я могу держать любую купленную мной песню на двухдюймовой флешке, также известной как iPod.
Когда товар «неконкурентен», единственный способ защитить права собственности на него – это то, что экономисты называют «исключением». Вы можете настроить программное обеспечение так, что копировать товар становится невозможно – как это происходит с DVD, – либо сделать копирование нелегальным. Но факт остается фактом: как бы вы ни защищали информацию – будь то путем настройки программного обеспечения, кодирования или ареста продавца пиратских DVD на парковке, – саму по себе информацию все равно можно копировать и делиться ею с другими, причем по ничтожной цене.
Это оказывает серьезное воздействие на функционирование рынка.
Традиционные экономисты предполагают, что рынок способствует совершенной конкуренции и что несовершенства, такие как монополии, патенты, профсоюзы, ценовые картели, всегда носят временный характер. Они также предполагают, что люди на рынке располагают совершенной информацией. Ромер показал, что, когда экономика состоит из информационных товаров, которыми можно обмениваться, несовершенная конкуренция становится нормой.
Своего равновесного положения экономика, основанная на информационных технологиях, достигает тогда, когда доминируют монополии, а люди имеют неравный доступ к информации, которая им нужна для принятия рациональных решений о покупках. Коротко говоря, информационные технологии разрушают нормальный ценовой механизм, тогда как конкуренция снижает цены до уровня издержек производства. Трек в iTunes не стоит почти ничего магазину на сервере Apple, также как почти ничего не стоит передать его на мой компьютер. Во сколько бы ни обходилась компании запись песни (учитывая платежи исполнителям и маркетинговые расходы), я плачу 99 центов просто потому, что копировать ее бесплатно незаконно.
Взаимное влияние между спросом и предложением не учитывается в цене трека iTunes: предложения песни The Beatles «Love Me Do» в iTunes бесконечны. И, в отличие от физической записи, цена не меняется в зависимости от колебаний спроса. Цена определяется совершенно законным правом Apple взимать плату в 99 центов.
Для ведения многомиллионного бизнеса, основанного на информации, Apple полагается не только на законодательство об авторском праве – она построила настоящую золотую клетку из дорогих технологий, которые работают вместе – компьютеры Mac, iPod, iCloud, iPhone и iPad, – чтобы нам было проще подчиняться закону, а не нарушать его. В результате iTunes господствует в области продажи цифровой музыки, занимая около 75 % рынка[168].
В условиях информационного капитализма монополия – это не просто хитрая тактика для максимизации прибыли. Индустрии иначе развиваться не могут. Поражает, как мало компаний господствует в каждом секторе. В традиционных секторах, как правило, есть от четырех до шести крупных игроков на каждом рынке: четыре крупные бухгалтерские фирмы; четыре или пять ритейлинговых групп; четыре крупных производителя ТВРД. Однако основным брендам в сфере информационных технологий нужно полное господство: Google нужно стать единственным поисковиком; Facebook должен быть единственным местом, где вы создаете свой образ в интернете; Twitter – единственным местом, где вы публикуете свои мысли; iTunes – единственным музыкальным интернет-магазином. На двух ключевых рынках, коими являются поиск в интернете и мобильные операционные системы, ведется борьба не на жизнь, а на смерть между двумя фирмами и пока что Google одерживает верх на обоих.
До тех пор пока не появились информационные товары, которыми можно делиться, основной закон экономики заключался в том, что все ресурсы ограничены. Спрос и предложение исходят из недостатка. Теперь некоторые товары не ограничены, они есть в избытке, поэтому спрос и предложение теряют значение. Предложение трека в iTunes – это, в конечном итоге, один файл на сервере в Купертино, которым с технической точки зрения можно поделиться с кем угодно. Лишь закон об интеллектуальной собственности и маленькая часть кода в треке в iTunes не позволяют всем и каждому на земле владеть любой когда-либо написанной песней. Если правильно сформулировать миссию Apple, то она состоит в том, чтобы не допустить изобилия музыки.
Поэтому новая теория Ромера была одновременно плохой новостью для традиционной экономики и хорошей новостью для нарождавшихся гигантов информационного капитализма. Она связывала в одном объяснении многие аномалии, которые пыталась объяснить традиционная экономическая наука. И она подспудно оправдала положение технологических монополий на рынке. Журналист Дэвид Уорш так резюмировал ее воздействие:
Земля, труд и капитал перестали быть теми фундаментальными категориями экономического анализа, которыми они были на протяжении двухсот лет. На смену этой самой элементарной классификации пришли люди, идеи и вещи… привычный принцип недостатка был дополнен важным принципом изобилия[169].
Так что же, когда в 1990 году Ромер опубликовал свою работу, мир экономистов начал петь «Аллилуйю»? Нет. К Ромеру отнеслись враждебно и безразлично. Критики из лагеря традиционных экономистов во главе с Джозефом Стиглицем на протяжении многих лет говорили, что его основные доводы о совершенной информации и эффективных рынках были ошибочны. Но Ромер, работая в русле традиционной экономической науки и используя ее метод, направил против своих критиков их же защитные приемы. Исследования Ромера показали, что при переходе к информационной экономике рыночный механизм определения цен со временем сведет предельные издержки для некоторых товаров к нулю и устранит тем самым прибыль.
Короче говоря, информационные технологии подрывают нормальное функционирование ценового механизма. Это оказывает революционное влияние на все, как будет показано в оставшейся части этой книги.
Если бы Ромер и его сторонники рассматривали капитализм как конечную систему, они могли бы исследовать масштабные последствия этого поразительного постулата – но они так не считали. Они исходили из того, что экономика, как пишут в учебниках, состоит из активных и пассивных участников рынка, т. е. из рациональных индивидов, которые пытаются удовлетворять свои эгоистические интересы посредством рынка.
Более масштабную картину видели не профессиональные экономисты, а технологические провидцы. К концу 1990-х годов они начали понимать то, чего не понимал Ромер: информационные технологии делают возможной нерыночную экономику и приводят к появлению людей, готовых преследовать свои эгоистические интересы при помощи нерыночных действий.
Появление открытого кода
Вероятно, вы читаете это с планшета Kindle, Nexus или iPad. Они редко зависают, и вы даже мечтать не можете о том, чтобы их запрограммировать, но тем не менее это тоже компьютеры. Чип одного iPad Air – это миллиард транзисторов, встроенных в одну микросхему, что соответствует вычислительной мощности пяти тысяч стационарных компьютеров тридцатилетней давности[170].
Базовый уровень программного обеспечения, необходимого для работы iPad – это операционная система iOS. Сегодня компьютеры довольно просты в обращении, поэтому нам очень трудно понять, каким вызовом были операционные системы для пионеров 1970-х годов. На заре существования программного обеспечения началась битва за операционные системы, которая вылилась в борьбу за то, кто будет или кто может владеть информацией.
В первые тридцать лет компьютеры были большими и их было мало. Вычислениями занимались в компаниях и в университетах. Когда в середине 1970-х годов были изобретены стационарные компьютеры, они представляли собой лишь набор электронных схем и монитор. А их изготовлением занимались не корпорации, а любители.
Altair 8800 был принципиально новым устройством, продававшимся – благодаря журнальным рекламным объявлениям – чудаковатым представителям определенной субкультуры, которые хотели научиться программированию. Для того чтобы заставить компьютер делать то, что вы хотели, вам нужен был язык программирования, и два парня из Сиэтла его разработали. Это был Altair BASIC, распространявшийся на рулонах перфорированной бумаги по цене 200 долларов за штуку. Однако скоро они заметили, что продажи языка стали отставать от продаж компьютеров. Пользователи бесплатно копировали и распространяли рулоны перфорированной бумаги. В гневном «Открытом письме» автор программного обеспечения пригрозил вышвырнуть пиратов с собраний компьютерных клубов и заставить их платить: «Большинство из вас ворует программное обеспечение. [Вы считаете], что за железо надо платить, а обеспечение можно распространять бесплатно. Кого волнует, заплатили ли за это людям, которые его разработали?»[171]
Автором письма был Билл Гейтс, и скоро он нашел решение проблемы владения операционной системой и языком программирования. Гейтс разработал Windows, которая стала стандартной операционной системой для ПК. Вскоре Windows добилась почти полной монополии на корпоративные стационарные компьютеры, а Гейтс стал миллиардером. Его «Открытое письмо» стало вторым по значимости документом в истории цифровой экономики.
А вот выдержка из документа, который я считаю самым важным:
Если что-то и заслуживает вознаграждения, так это вклад в развитие общества. Творчество может быть таким вкладом, но в том случае, если общество в состоянии свободно пользоваться его результатами. Выкачивание денег из пользователей программы и ограничение ее использования разрушительно, поскольку такие ограничения сокращают масштабы и способы использования этой программы. Это уменьшает объем богатства, которое человечество может получить благодаря этой программе[172].
Эти слова взяты из «Манифеста GNU» Ричарда Столлмана, который в 1985 году основал движение за бесплатное программное обеспечение. Столлмана бесила не только Microsoft, но и вообще попытка производителей намного более мощных компьютеров для компаний «завладеть» конкурирующей операционной системой Unix. Его план состоял в том, чтобы написать версию Unix под названием GNU, распространять ее бесплатно и привлечь энтузиастов для работы над ее усовершенствованием – с условием, что никто не мог ею владеть или зарабатывать на ней. Эти принципы стали известны как «открытый исходный код».
К 1991 году GNU вобрала в себя Linux – версию Unix для ПК, разработанную сотнями бесплатно сотрудничавших между собой программистов и лицензированную оригинальным законным контрактом, который составил Столлман.
Перенесемся в 2014 год – примерно 10 % всех компьютеров в компаниях используют Linux. Десять самых быстрых суперкомпьютеров в мире используют Linux. Еще важнее то, что стандартные инструменты для управления сайтом – от операционной системы и веб-сервера до базы данных и языка программирования – это инструменты с открытым кодом.
Firefox, браузер с открытым кодом, в настоящее время занимает около 24 % мирового рынка браузеров[173]. Целых 70 % смартфонов работают на платформе Android, которая с технической точки зрения также является программным обеспечением с открытым кодом[174]. Отчасти это обусловлено стратегией Samsung и Google, которые не скрывают, что используют программы с открытым кодом, чтобы подорвать монополию Apple и удержать собственные позиции на рынке. Однако это не отменяет того факта, что доминирующий на мировом рынке смартфон использует программное обеспечение, которое не может никому принадлежать.
Успех программного обеспечения с открытым кодом поражает. Он свидетельствует о том, что новые формы прав собственности и управления стали не просто возможными, но и необходимыми в насыщенной информацией экономике. Он показывает, что есть такие аспекты информационных товаров, которые не могут монополизировать даже монополии.
Согласно стандартной экономической науке, такой человек, как Ричард Столлман, не должен был бы существовать: он не преследует собственные интересы, а подавляет их ради коллективного интереса, не только экономического, но и нравственного.
Согласно рыночной теории, те, кто стремится зарабатывать деньги, должны были бы быть самыми эффективными новаторами. Согласно традиционной экономике, крупные корпорации вроде Google и Samsung должны были бы поступать так же, как и Билл Гейтс: захватить все, что можно, и постараться уничтожить программное обеспечение с открытым кодом. Сегодня Google и Samsung – это агрессивные капиталистические фирмы, но для удовлетворения собственных интересов они должны бороться за то, чтобы некоторые стандарты оставались открытыми, а некоторая часть программного обеспечения – бесплатной. Ни Google, ни Samsung не являются посткапиталистическими компаниями, но пока они поддерживают Android с открытым кодом, они вынуждены предпринимать определенные действия, которые предвосхищают некапиталистические формы собственности и обмена.
Появление бесплатного программного обеспечения и разработка совместных проектов в этой области в 1980-е годы стали лишь первыми выстрелами в войне, которая все еще продолжается и поле брани которой изменчиво. Движение за открытый код также дало толчок развитию движения за свободу информации – Википедии, Wikileaks и целому направлению в юриспруденции, занимающемуся составлением контрактов, которые должны защищать открытость и право коллективного доступа.
Именно в этой среде в конце 1990-х годов впервые стали систематически размышлять над вопросом, который был очевиден для Друкера, но не для Ромера: может ли экономика, основанная на информационных сетях, создать новый способ производства за рамками капитализма?
Скольжение по краю хаоса
Есть один звук, который сегодня уже забыт, но который останется впечатанным в память поколений, родившихся до 1980 года: пронзительный протяжный вой, который сначала колеблется, а затем выливается в череду хрипов, увенчанную двумя шумными басовыми нотами. Это звук подключения телефонного модема.
Я впервые услышал его в 1980-е годы, когда пытался подключиться к Compuserve. Compuserve была частной сетью, которая позволяла пользоваться электронной почтой, пересылать файлы и была целым собранием досок объявлений. То был черно-белый мир, состоявший только из слов. Но даже тогда он был переполнен злостью, диверсиями и порнографией.
В 1994 году я отказался от Compuserve и стал пользоваться услугами Easynet, одного из первых интернет-провайдеров: та же технология, но в другом виде. Теперь, гласило руководство пользователя, у меня был доступ «ко всей дорожной системе, а не только к одной автозаправке». Она давала вам доступ ко всемирной паутине – системе, позволявшей найти все, что имелось в подключенных к ней компьютерах по всему миру.
Там мало чего было. Мой рабочий компьютер был подключен лишь к другим компьютерам, находившимся в здании издательства Reed Elsevier. Когда мы попытались написать нашу первую интернет-страницу, IТ-отдел не разрешил нам сохранить ее на «их» сервере, который использовался для составления зарплатных ведомостей. На моем рабочем «Маке» не было ни электронной почты, ни доступа в интернет. Компьютеры занимались обработкой данных и были связаны друг с другом только для решения специальных задач.
Тем большим провидцем оказался американский журналист Кевин Келли, написавший в 1997 году следующее:
Великая ирония нашего времени в том, что эпоха компьютеров закончилась. Все основные последствия обособленных компьютеров уже дали о себе знать. Компьютеры немного ускорили нашу жизнь – вот и все. Напротив, все самые многообещающие технологии, которые сейчас только появляются, рождаются из соединения компьютеров друг с другом, т. е. скорее благодаря подключению, чем благодаря вычислениям[175].
Статья Келли в журнале Wired стала откровением для моего поколения. Все, что появлялось до этого момента: пятидюймовая дискета для университетских системных блоков, зеленые экраны первых компьютеров Amstrad, хрипы и шумы модемов, – все это было лишь прологом. Внезапно сетевая экономика начала обретать формы. Келли писал: «Я предпочитаю термин “сетевая экономика”, потому что информации недостаточно, чтобы объяснить скачки, которые мы наблюдаем. На протяжении последнего столетия мы барахтались во все нараставшей волне информации… но лишь недавно полная перестройка самой информации изменила всю экономику»[176].
Сам Келли не ратовал за посткапитализм. Его книга «Новые правила для новой экономики» стала бесполезной инструкцией по выживанию для старых компаний, которые пытались найти свое место в сетевом мире. Однако он сделал важную вещь. Именно в этот момент мы начали понимать, что «умная» машина – это не компьютер, а сеть и что сеть ускорит темпы перемен и сделает их непредсказуемыми. В одной фразе Келли определил нашу эпоху: «Сегодня мы вовлечены в огромную систему, которая увеличивает, расширяет, усиливает и растягивает отношения и связи между всеми существами и всеми предметами»[177].
Вехами с того момента и до наших дней стали: запуск eBay (1997), который привел к буму интернет-компаний; первый «Мак» со встроенным вайфаем (1999); внедрение широкополосного интернета, который работал всегда и был в десять раз быстрее телефонных модемов (2000); распространение телекоммуникационных сетей 3G, сделавших возможным мобильный интернет; запуск Википедии (2001); внезапное появление дешевых, стандартизированных цифровых инструментов, которые получили название Web 2.0 (2004).
В этот момент программы и данные стали размещаться скорее в сети, чем на индивидуальных компьютерах. Типичными действиями стали поиск, самостоятельная публикация материалов и взаимодействие, в том числе посредством онлайн-игр, с многомиллионным оборотом.
Настал черед запуска социальных сетей – MySpace в 2003 году,
Facebook – в 2004-м, Twitter – в 2006 году. В 2007 году появился iPhone, ставший первым настоящим смартфоном. В том же году iPad и Kindlе дали толчок быстрому росту публикаций электронных книг, объем которых вырос менее чем с 1,5 миллиарда долларов в 2009 году до 15 миллиардов по всему миру в 2015-м. В 2008 году объем продаж ноутбуков превзошел объем продаж стационарных ПК. Первый телефон Samsung на платформе Android был выпущен в 2009 году[178].
Тем временем в области высокопроизводительных вычислений первым компьютером, достигшим порога в один квадриллион операций в секунду, стал компьютер IBM в 2008 году. В 2014 году китайский суперкомпьютер «Тяньхэ-2», работающий на Linux, уже мог производить 33 квадриллиона операций. Что касается хранения данных, то в 2002 году объем цифровой информации в мире превзошел объем аналоговой информации. С 2006 по 2012 год ежегодный объем информации, создаваемой человечеством, вырос в десять раз[179].
Трудно точно сказать, на каком этапе технологической революции мы находимся, но мне кажется, что одновременное появление планшетов, потокового видео и музыки и расцвет социальных медиа в период с 2009 по 2014 год будет рассматриваться как ключевой момент синергии. Благодаря процессу создания миллиардов связей между машинами, получившему название «интернета вещей», в ближайшие десять лет мировая информационная сеть пополнится таким количеством более «умных» устройств, которое превосходит число людей на земле.
Наблюдать за всем этим было волнительно. Еще более волнительно видеть, как сегодня ребенок получает свой первый смартфон и находит все это – Bluetooth, GPS, 3G, беспроводной интернет, потоковое видео, фотографии с высоким разрешением, пульсиметры, – как будто это было всегда.
Сетевая экономика появилась и стала социальной. В 1997 году всего 2 % мирового населения имело доступ в интернет. Теперь этот показатель достигает 38 %, а в развитом мире – 75 %. Сегодня на каждые 100 человек в мире приходится 96 договоров об оказании услуг мобильной связи, а у 30 % обитателей Земли есть мобильник с поддержкой сетей 3G (или более мощных сетей). Количество стационарных телефонных аппаратов на душу населения в настоящее время сокращается[180].
Всего за десятилетие сеть наводнила нашу жизнь. У среднестатистического подростка, имеющего смарт-устройство, жизнь психологически больше связана с интернетом, чем у самого эксцентричного компьютерного чудака пятнадцать лет назад.
Когда Ромер и Друкер писали в начале 1990-х годов, главной проблемой все еще было влияние «умных» машин. Сегодня мы внутренне понимаем, что сеть – это машина. И по мере того, как программное обеспечение и данные смещаются в сеть, споры об экономических последствиях информационных технологий также стали сосредотачиваться вокруг сетей.
В 1997 году Келли возвестил о становлении нового экономического порядка, имевшего три основные отличительные черты: «Он глобален. Он предпочитает неосязаемое – идеи, информацию и отношения. И он тесно взаимосвязан. Эти три атрибута создают новый тип рынка и общества»[181].
Келли считал банальностью то, в чем Ромер видел новизну семью годами ранее, а именно тенденцию информационных технологий к такому удешевлению данных и физических продуктов, что предельные издержки их производства падают до нуля. Однако, уверял он своих читателей, у бесконечного предложения и падающих цен есть противовес – бесконечный спрос: «Технологии и знания увеличивают предложение быстрее, чем снижают цены… Масштабы человеческих потребностей и желаний ограничены лишь человеческим воображением, а это, с практической точки зрения, означает, что ограничений нет»[182].
Выход, по словам Келли, был в том, чтобы изобретать новые товары и услуги быстрее, чем они будут скользить по кривой к полному отсутствию ценности. Вместо того чтобы защищать цены, нужно признать, что со временем они все равно рухнут, и создать свой бизнес в этом промежутке между единицей и нулем. Нужно, предупреждал он, «катиться по краю хаоса», использовать свободные знания, которые клиенты дарят, когда взаимодействуют с интернет-сайтами. К концу 1990-х годов те, кто понимал эту проблему, разделяли убеждение в том, что капитализм выживет, поскольку инновации будут противодействовать давлению, которое технологии оказывают на цены. Однако Келли не стал рассуждать о том, что может случиться, если этого не будет происходить.
Затем наступил крах интернет-компаний. Впечатляющий обвал индекса Nasdaq, начавшийся в апреле 2000 года, изменил представления поколения, боровшегося с телефонными модемами и разбогатевшего на этом. Вскоре после краха Джон Перри Барлоу, активист движения за права в киберпространстве, потерявший 95 % своих денег, пришел к неутешительному выводу: «Вся история интернет-компаний – это попытка использовать представления об экономике, сложившиеся в XIX и XX веках, в условиях, которых раньше просто не существовало; интернет их просто игнорировал. Это был наскок чужеродной силы, который был отбит естественными силами интернета». И он указал, в каком направлении могут развиваться дебаты. «В долгосрочной перспективе дела у интернет-коммунистов будут идти очень хорошо»[183].
Новый способ производства?
В 2006 году Йохай Бенклер, бывший тогда профессором права в Йельском университете, пришел к выводу о том, что сетевая экономика представляла собой «новый способ производства, зарождающийся в самых развитых экономиках мира»[184]. Бенклер попытался определить юридические рамки публикаций с открытым кодом, получивших название «творческого сообщества». В «Сетевом богатстве» он описал экономические силы, которые подрывали права интеллектуальной собственности, способствуя распространению моделей совместного владения и неуправляемого производства.
Во-первых, говорил он, благодаря появлению дешевых физических вычислительных мощностей и коммуникационных сетей средства производства интеллектуальных товаров оказались в распоряжении многих людей. Люди могут вести блоги, могут делать фильмы и обмениваться ими, могут сами публиковать электронные книги, создавая в некоторых случаях миллионную аудиторию еще до того, как традиционные издательства узнают об их авторах: «В результате теперь намного больше ценностей может создаваться индивидами, которые взаимодействуют друг с другом в социальном плане, в качестве социальных существ, а не в качестве участников рынка, взаимодействующих посредством ценовой системы»[185].
Это, утверждал он, ведет к складыванию нерыночных механизмов: децентрализованной деятельности индивидов, которые работают, опираясь на кооперативные, добровольные формы организации. Это создает новые формы «солидарной» экономики, в которых деньги либо вовсе отсутствуют, либо не являются основной мерой стоимости.
Лучший пример тому – Википедия. Основанная в 2001 году энциклопедия пишется сообща и к моменту написания этой книги насчитывает 26 миллионов страниц. 24 миллиона человек, зарегистрировавшиеся на сайте, могут писать и редактировать статьи – при этом 12 тысяч человек регулярно занимаются редактированием и еще 140 тысяч участвуют в проекте время от времени[186].
У Википедии 208 сотрудников[187]. Тысячи людей, занимающиеся редактурой, работают бесплатно. Одно исследование пользователей установило, что 71 % из них делают это потому, что им нравится мысль работать бесплатно, а 63 % – потому, что верят, что информация должна быть бесплатной[188]. Количество просмотров Википедии достигает 8,5 миллиарда ежемесячно, что делает ее шестым по популярности сайтом в мире – это больше, чем у Amazon, самой успешной в мире компании, занимающейся интернет-торговлей[189]. Согласно одной оценке, если бы Википедия была коммерческим сайтом, ее доход мог бы составлять 2,8 миллиарда долларов в год[190].
И тем не менее Википедия не получает прибыли. Это делает практически невозможным получение прибыли кем-либо другим в той же области. Более того, Википедия – один из самых ценных когда-либо изобретенных образовательных ресурсов. Ей удалось пресечь все попытки подвергнуть ее цензуре и троллингу или как-то нарушить исправную работу сайта, потому что сила десятков миллионов человеческих глаз мощнее любого правительства, хакера, лобби или вредителя.
Википедия работает по тому же принципу, который первые разработчики открытого кода использовали в GNU или Linux, но применяет его в отношении продукта массового потребления. Когда мы заходим на сайт Amazon.com и покупаем камеру или книгу, наши зарегистрированные покупки помогают другим пользователям сделать выбор. В экономике это называется положительным «внешним эффектом» – непреднамеренной экономической выгодой.
В случае с Amazon бóльшая часть прибыли достается корпорации в виде растущих покупок и продаж. В случае Википедии прибыль носит чисто человеческий характер: ни одному ребенку никогда больше не придется сидеть в библиотеке маленького городка, как это делал я, теряясь в лабиринте посредственных и случайных знаний, навсегда заточенных на листах бумаги, которые можно обновить или исправить только путем издания совершенно новой книги.
Бенклер извлекает экономический урок из такого явления, как Википедия: благодаря сети производство может быть децентрализованным и совместным и не опираться на рыночную или управленческую иерархию.
Экономисты любят демонстрировать архаическую природу командного планирования интеллектуальными играми вроде «представьте, что было бы, если бы Советский Союз попытался создать Starbucks». Теперь есть более интригующая игра: представьте, что было бы, если бы Википедию попытались создать Amazon, Toyota или Boeing.
Без совместного производства и открытого кода это можно было бы сделать только двумя способами – используя либо рынок, либо систему управления какой-нибудь корпорации. Раз в Википедии есть где-то 12 тысяч активных авторов и редакторов, вы могли бы нанять такое же количество людей и, возможно, найти надомных работников в потогонных экономиках мира, находящихся под контролем лучше оплачиваемых управленцев из солнечного пояса США. Потом вы могли бы вдохновить их идеей написать лучшую интернет-энциклопедию из всех возможных. Вы дали бы им задачи и бонусы, поощряли бы командную работу через «кружки качества» и т. д.
Но вы не смогли бы произвести ничего, что сравнилось бы по динамизму с Википедией. Создание корпорации с 12 тысячами сотрудников, которая выдала 26 миллионов страниц, имело бы столько же смысла, сколько попытки Советского Союза создать собственную версию Starbucks. Организация, в которой заняты 208 человек, в любом случае будет делать это лучше. И даже если вам удалось бы сделать что-то такое же хорошее, как Википедия, вы бы столкнулись с большой проблемой – с самой Википедией, вашим основным конкурентом, который делает все это бесплатно.
Поэтому, возможно, вместо того, чтобы использовать корпорацию для воплощения в жизнь Википедии, вы могли бы использовать силы рынка, чтобы сделать ее коммерческим проектом. В конце концов, разве бизнес-школы не учат нас, что рынок – это самая эффективная система?
Вероятно, люди платили бы немного денег за небольшие фрагменты знаний, мирясь с мыслью о том, что информация остается бесплатной и в общественном пользовании. Вероятно, ученые, любители и энтузиасты, которые пишут статьи, были бы рады получить немного денег за каждую из них.
Действительно, это больше похоже на то, что происходит на самом деле, но участники проекта обмениваются вовсе не деньгами. Они обмениваются подарками. А, как уже давно поняли антропологи, подарок – это физический символ чего-то менее осязаемого, можете назвать это доброй волей или счастьем.
Википедия, как и Linux, радикальна в двух отношениях. Во-первых, из-за коллективной природы того, что она производит: ее продукт можно использовать, но нельзя захватить, сделать своей собственностью и эксплуатировать. Во-вторых, из-за совместного характера производственного процесса – никто в головном офисе не решает, чему должны быть посвящены статьи, сотрудники Википедии просто регулируют стандарты их написания и редактирования и защищают платформу от разъедающего воздействия собственности и управленческих иерархий.
Бенклер называет это «одноранговым производством на равных» – это понятие бросает еще более серьезный вызов устоявшимся представлениям традиционной экономики. Человечество нисколько не изменилось. Просто наше человеческое желание заводить друзей, выстраивать отношения, основанные на взаимном доверии и обязанностях, удовлетворять эмоциональные и психологические потребности прорвалось в экономическую жизнь.
В конкретный исторический момент, когда стало возможно производить вещи без рынка или фирм, этим стало заниматься много людей.
В первую очередь, благодаря удешевлению вычислительных мощностей и сетевого доступа не единицы, а очень многие получают возможность создавать информационные товары. Далее, вам нужна, как пишет Бенклер, «плановая модулярность», т. е. любая задача разбивается на части, достаточно мелкие для того, чтобы люди могли с ними справиться и затем передать свои результаты в более широкую сеть. Статьи Википедии – прекрасный тому пример, т. к. добавление нового фрагмента или удаление ошибочной информации – это модульная задача, которую можно выполнить, сидя на верхнем ярусе автобуса со смартфоном в руках или работая на ПК в интернет-кафе в трущобах Манилы.
Согласно Бенклеру, дешевые технологии и модулярные формы производства подтолкнули нас к нерыночному, совместному труду. Это не причуда, утверждает он, а «жизнеспособная модель человеческого производства». Бенклер хотя и использует словосочетание «новый способ производства», но не говорит, что он чем-то отличается от капитализма. Напротив, он утверждает, что этот «новый способ» приведет к радикально новой и более жизнеспособной форме капитализма. Он предсказывает грядущее перераспределение богатства и власти от господствующих фирм и элит к более широкой массе индивидов, совместных сетей и компаний, которые смогут адаптироваться к новой ситуации.
Проблема в том, что Бенклер описывает новые формы информационного капитализма, не описывая их динамику, которая носит довольно противоречивый характер.
Информационные технологии исключают труд из производственного процесса, снижают рыночную цену товаров, уничтожают некоторые модели получения прибыли и создают поколение потребителей, психологически предрасположенных к бесплатным вещам. Однако в первое полное десятилетие своего существования они способствовали разгоранию мирового кризиса, в ходе которого беднейшие жители развитых стран были вынуждены копаться в мусорных баках и при этом тратили последние центы кредита на пополнение счета своих мобильников.
Информационный капитализм реален, но если анализировать ситуацию целиком, т. е. рассматривать столкновение неолиберальной экономики с сетевыми технологиями, то мы должны сделать вывод о том, что он находится в кризисе.
Экономика бесплатных вещей
В конце XIX века экономисты стали замечать, что не все последствия капитализма можно рассматривать через призму акта купли-продажи. Поскольку большинство фабрик в те времена были окружены отвалами шлака, трущобами и вонючими речками, было трудно не заметить, что у капитализма есть последствия, выходящие за рамки того, что происходит на рынке. Они назвали это «внешними эффектами», после чего начались споры относительно того, как их объяснять.
Сначала они сосредоточились на «плохих» внешних эффектах: если я покупаю у поставщика электроэнергию, произведенную за счет сжигания угля и загрязняющую воздух, то загрязнение представляет собой внешний эффект. У проблемы плохих внешних эффектов есть простое решение: нужно придумать, как распределить издержки между покупателем и продавцом. Например, грязную электростанцию можно обложить налогом на загрязнение.
Но есть и «хорошие» внешние эффекты вроде снижения затрат на наем рабочей силы в том случае, когда в одном и том же районе размещаются похожие производства. Хорошим внешним эффектам решение не нужно, но зачастую они проявляются в виде сокращения издержек и объема труда.
Однако в информационной экономике внешние эффекты превращаются в большую проблему. В старом мире экономисты расценивали информацию как «общественное благо»: издержки на науку, например, покрывало общество, и все извлекали из этого выгоду. Но в 1960-е годы экономисты стали воспринимать информацию как товар. В 1962 году Кеннет Эрроу, гуру традиционной экономики, заявил, что в свободной рыночной экономике цель изобретательства состоит в создании прав интеллектуальной собственности. «Оно успешно лишь до того момента, пока информация используется недостаточно»[191].
При таком подходе цель патентирования «Дарунавира», передового лекарства от ВИЧ, может заключаться лишь в том, чтобы удерживать его цену на уровне 1095 долларов в год, что, как заявили «Врачи без границ», «запредельно дорого». Информация позволяет обеспечить передовое лечение от ВИЧ миллионам людей, но из-за патента она используется недостаточно. В то же время, вследствие того что Индия не позволила фармацевтическим компаниям продлить патенты двадцатилетней давности на другие лекарства от ВИЧ, их стоимость после 2000 года резко снизилась, а информация о том, как их изготавливать, оказалась общедоступной.
В экономике, в которой информация присутствует повсюду, повсюду есть и внешние последствия этого. Если мы обратимся к примеру гигантов информационного капитализма, то суть их модели ведения бизнеса практически полностью заключается в том, чтобы присваивать себе хорошие внешние побочные эффекты.
Например, работа Amazon основана на том, чтобы продавать вам вещи, исходя из ваших прежних покупок – эту информацию вы предоставили бесплатно и иначе поступить не могли. Вся модель ведения бизнеса отталкивается от одностороннего присвоения внешних эффектов со стороны Amazon. Так же дело обстоит и в супермаркетах: собирая данные о своих клиентах и не допуская, чтобы их использовал кто-то другой, крупные супермаркеты вроде Walmart или Tesco получают большое коммерческое преимущество.
А теперь представьте, что было бы, если бы Walmart или Tesco были готовы бесплатно опубликовать данные их клиентов (должным образом обезличенные). Общество получило бы выгоду: все, от фермеров до эпидемиологов, могли бы исследовать эти данные и на их основе принимать более точные решения. Отдельные клиенты могли бы сразу видеть, насколько рациональными или нерациональными были их решения о покупках. Однако супермаркеты потеряли бы рыночное преимущество; уменьшились бы их возможности манипулирования потребительским поведением за счет использования ценовых ориентиров, сроков годности и акций «два по цене одного». Вся сущность их масштабных систем электронной торговли состоит в том, что их данные о клиентах, как сказал бы Эрроу, «недоиспользуются».
Если мы сформулируем наблюдение Эрроу по-иному, то станет очевидно, что вытекающие из него выводы революционны: раз свободная рыночная экономика с интеллектуальной собственностью ведет к недоиспользованию информации, то в экономике, основанной на полном использовании информации, не может быть свободного рынка или абсолютных прав интеллектуальной собственности. И это лишь другая формулировка того же, что поняли Бенклер и Друкер: информационные технологии подрывают основные принципы, на которых зиждется капитализм.
Но что возникает на его месте? Для того чтобы термин «посткапитализм» звучал убедительно, нужно точно описать, как сетевые технологии дают начало переходу к чему-то еще и какой будет динамика посткапиталистического мира.
Ни один из авторов, работы которых я анализировал, этого не сделал по той причине, что никто из них не работает со всеобъемлющей теорией самого капитализма. А что если кто-то предвосхитил крах капитализма, вызванный информацией? Что если кто-то точно предсказал, что способность создавать цены испарится, если информация начнет распределяться коллективно и найдет свое воплощение в машинах? Вероятно, мы бы назвали труды этого человека провидческими. И такой человек есть. Его имя – Карл Маркс.
Всеобщий интеллект
Действие происходит в Кентиш-Таун, в Лондоне, в феврале 1858 года, примерно в четыре часа утра. Маркс по-прежнему находится в розыске в Германии, и на протяжении последних десяти лет все больше отчаивается в перспективах революции. Но сейчас на Уолл-стрит произошел крах, по всей Европе разоряются банки, и он прилагает все усилия, чтобы закончить давно обещанную книгу по экономике. «Я работаю, словно безумец, ночи напролет, – признается он, – так, чтобы основные очертания были ясны перед началом потопа»[192].
Ресурсы Маркса ограничены. У него есть пропуск в Британскую библиотеку, благодаря которому он располагает доступом к последним данным. Днем он пишет статьи по-английски для New York Daily Tribune. Ночью он заполняет восемь тетрадей практически нечитаемыми каракулями по-немецки: разрозненными наблюдениями, мыслительными экспериментами и заметками для себя.
Тетради, известные под общим названием «Grundrisse» (что переводится как «Набросок»), сохранил, но не прочитал Энгельс. Они будут храниться в главном здании Социал-демократической партии Германии до тех пор, пока Советский Союз не выкупит их в 1920-е годы. В Западной Европе их никто не будет читать до конца 1960-х годов, а по-английски – до 1973 года. Когда ученые, наконец, смогут увидеть то, что писал Маркс в ту холодную ночь 1858 года, они признают, что «это бросает вызов любой интерпретации Маркса, предложенной до сего дня»[193]. Эти записи называются «Отрывок о машинах».
«Отрывок о машинах» начинается с наблюдения о том, что по мере развития крупной промышленности отношения между человеком и машиной меняются. На ранних этапах развития промышленности был человек, ручные инструменты и продукт. Теперь вместо того, чтобы использовать инструмент, рабочий «помещает природный процесс, превращенный в процесс промышленный, как средство между ним и неорганической природой, подчиняя его себе. Он переходит на сторону производственного процесса вместо того, чтобы быть его главным участником»[194].
Маркс описал такую экономику, в которой главная роль машин заключалась в том, чтобы производить, а главная роль людей – в том, чтобы контролировать их. Он четко указывал, что в такой экономике главной производительной силой будет информация. Производительная мощь таких машин, как «самодействующая» хлопкопрядильная машина, телеграф и паровоз, «совершенно непропорциональна непосредственному рабочему времени, затраченному на их производство, и зависит скорее от общего состояния науки и от прогресса технологий или внедрения этой науки в производство»[195].
Организация и знания, иными словами, внесли больший вклад в наращивание производственной мощности, чем труд по созданию и управлению машинами.
Учитывая то, чем марксизм стал позднее, а именно теорией эксплуатации, основанной на краже рабочего времени, это – революционное утверждение. Оно означает, что, когда знания превращаются в самостоятельную производительную силу, которая с лихвой перевешивает непосредственный труд, затраченный на создание машины, главным вопросом становится не соотношение зарплат и прибылей, а то, кто именно контролирует «силу знаний».
И тут Маркс бросает настоящую бомбу. В экономике, в которой машины выполняют основную часть работы, а человеческий труд состоит в контроле, починке и разработке машин, природа знания, заключенного в машинах, должна быть, пишет он, «социальной».
Возьмем современный пример. Если сегодня разработчик программного обеспечения использует язык программирования, чтобы написать код, который связывает интернет-страницу с базой данных, то он явно работает с социальным знанием. Я говорю здесь не конкретно о программировании на основе открытого кода, а лишь об обычном коммерческом проекте по разработке программного обеспечения. Каждый этап этого процесса был создан путем обмена информацией, ее сбора, исправления кода и интерфейсов.
Сам программист, разумеется, не владеет кодом, с которым он работает. Но и компания, на которую он работает, может владеть лишь частью кода. Она может законным путем запатентовать каждую часть кода, которую создает программист. Она даже может заставить его подписать соглашение, согласно которому то, что он пишет в свободное время, тоже принадлежит ей, – но код все равно будет содержать тысячи битов предыдущего кода, которые были написаны другими людьми и не могут быть запатентованы.
К тому же знание, которое потребовалось для создания кода, остается в голове программиста. Он может, если это позволяют условия рынка, перейти на другую работу и предложить такое же решение, будь оно востребовано. При работе с информацией часть продукта остается у работника – в промышленную эпоху такого не было.
То же касается и инструмента, которым пользуется программист, а именно языка программирования. Он был разработан десятками тысяч людей, которые внесли свои знания и опыт. Если программист скачивает последнее обновление, то оно точно содержит изменения, основанные на уроках, выученных кем-то другим, кто его использует.
Вдобавок ко всему, данные о потребителях, т. е. записи о каждом взаимодействии, оставшиеся на сайте, могут полностью принадлежать компании. Тем не менее они производятся социально. Я отправляю вам ссылку, вы кликаете ее или ретвитите ее десяткам тысяч фолловеров.
Маркс не мог представить веб-сервер. Но он мог наблюдать телеграфную систему. К 1858 году телеграф, протянувшийся вдоль железных дорог по всему миру и добравшийся до каждой железнодорожной станции и каждого офиса компаний, стал самой важной частью инфраструктуры в мире. Только в Великобритании была развернута сеть, которая насчитывала 1178 узлов за пределами Лондона и еще несколько сотен узлов, связывавших между собой Сити, парламент и лондонские доки[196].
Телеграфисты обладали высокой квалификацией, однако, как и в случае разработчиков программного обеспечения, знания, необходимые для того, чтобы работать с электрическим ключом, были незначительны по сравнению со знаниями, заключенными в масштабной международной машине, которую они непосредственно контролировали.
Памятки телеграфистов четко показывают социальную природу технологий. Первое правило состояло в том, что можно было отправлять информацию с такой скоростью, с которой человек на другом конце провода мог ее принимать. Однако в комплексной телеграфной системе, где отправители и получатели, сидя в переполненных комнатах, договаривались об использовании перегруженных линий с телеграфистами, находившимися далеко, «умение ладить с разными характерами было такой же частью работы телеграфиста, как и управление телеграфным ключом. Внимательные, готовые помочь телеграфисты облегчали работу; заносчивые, высокомерные или самодовольные телеграфисты ее затрудняли»[197]. Их труд был социальным, и знания, воплощенные в машине, были социальными.
В «Отрывке о машинах» обе эти идеи – что ведущей силой производства является знание и что знание, хранящиеся в машинах, социально – привели Маркса к следующим выводам.
Во-первых, в условиях развитого механизированного капитализма увеличение производительности за счет более качественных знаний является намного более привлекательным источником дохода, чем растягивание рабочего дня или увеличение выпуска продукции. Если рабочие дни длятся дольше, потребляется больше энергии, а ускорение наталкивается на ограничения в виде человеческой сноровки и выносливости. А опора на знания – это решение дешевое и ничем не ограниченное.
Во-вторых, утверждал Маркс, капитализм, основанный на знаниях, не может поддерживать ценовой механизм, в рамках которого стоимость чего-либо диктуется стоимостью факторов производства, необходимых для его изготовления. Когда они обретают форму социального знания, их невозможно правильно оценить. Производство, основанное на знании, стремится к неограниченному созданию богатства, не зависящего от объема затраченного труда. Однако нормальная капиталистическая система исходит из цен, предопределенных издержками на факторы производства, и из того, что предложение последних ограниченно.
По Марксу, капитализм, основанный на знаниях, создает противоречие – между «производительными силами» и «общественными отношениями». Это образует «материальные условия для того, чтобы разнести в прах основы (капитализма)». Более того, капитализм такого типа вынужден развивать умственный потенциал рабочего. Он обнаруживает тенденцию к сокращению рабочих часов (или перестает их увеличивать), благодаря которой у рабочих появляется время для того, чтобы за рамками работы заниматься развитием своих художественных и научных дарований, которые приобретают фундаментальное значение для самой экономической модели. Наконец, Маркс выдвигает новый термин, который больше нигде не встречается в его трудах ни до, ни после, – «всеобщий интеллект». Когда мы измеряем развитие технологии, пишет он, мы измеряем степень того, насколько «общее социальное знание стало производственной силой… под контролем общего интеллекта»[198].
Идеи, высказанные в «Отрывке», в 1960-е были признаны совершенно отличными от классического марксизма. В ХХ веке левые считали, что отход от капитализма лежит через государственное планирование. Они полагали, что внутренние противоречия капитализма лежат в хаотической природе рынка, в его неспособности удовлетворять человеческие потребности и в присущем ему стремлении к катастрофическому краху.
Однако в «Отрывке» 1858 года мы сталкиваемся с иной моделью перехода: обеспеченный знаниями уход от капитализма, в котором главное противоречие лежит между технологиями и рыночным капитализмом. В этой модели, которую Маркс набросал на бумаге в 1858 году и о которой левые узнали лишь через сто с лишним лет, капитализм гибнет потому, что не может сосуществовать с коллективным знанием. Классовая борьба перетекает в борьбу за человечность и за возможность получать образование в свое свободное время.
Итальянский левый мыслитель Антонио Негри охарактеризовал «Отрывок о машинах» как «Маркс за рамками Маркса». Паоло Вирно, один из его единомышленников, отметил, что эти идеи «не присутствуют ни в одном из других его трудов и действительно кажутся альтернативой его привычной формуле»[199].
Но вопрос остается: почему Маркс не стал развивать эту идею? Почему понятие всеобщего интеллекта, появившись в рукописях, затем исчезло? Почему эта модель, в которой рыночный механизм разъедается социальным знанием, не нашла себе места в «Капитале»?
Очевидный ответ – за рамками всех текстологических дискуссий – состоит в том, что сам капитализм того времени не подтверждал это предположение. После того как паника 1858 года закончилась, вновь воцарилась стабильность. Социализация знания, присущая телеграфу и паровозам, была недостаточна для того, чтобы попрать основы капитализма.
В следующее десятилетие Маркс построил теорию капитализма, в которой механизмы обмена не подрываются вследствие возникновения всеобщего интеллекта и в которой знание как независимый источник дохода не упоминается вовсе. Иными словами, Маркс отказался от специфических идей, высказанных им в «Отрывке о машинах».
Становление марксизма ХХ века как учения о государственном социализме и о переходе от капитализма к социализму, который обеспечивается за счет кризиса, не было случайным – его основы лежали в «Капитале» Маркса.
Впрочем, здесь меня интересует не столько история марксизма, сколько следующий вопрос: есть ли возможность уйти от капитализма благодаря развитию информационных технологий? Из «Отрывка» ясно следует, что Маркс, по крайней мере, предполагал такую возможность.
В его концепции социально создаваемая информация получала свое воплощение в машинах. В его концепции она порождала новую динамику, которая разрушает старые механизмы, создающие цены и прибыль. В его концепции капитализм был вынужден развивать интеллектуальные способности рабочего. И в его концепции информация накапливалась и распределялась в чем-то под названием «всеобщий интеллект», который представлял собой разум всех людей на Земле, связанных между собой благодаря социальному знанию, каждое улучшение которого приносит выгоду всем. Коротко говоря, в его концепции описывалось нечто похожее на информационный капитализм, в котором мы живем.
Более того, в его концепции описывалось то, в чем заключалась бы основная цель рабочего класса (если такой мир мог бы появиться когда-нибудь) – быть свободным от труда. Утопический социалист Шарль Фурье предсказывал, что труд превратится в своего рода игру. Маркс не был с этим согласен. Напротив, писал он, освобождение будет обеспечено благодаря досугу: «Свободное время естественным образом превратило его обладателя в иной субъект, и он затем вступает в прямой процесс производства в качестве этого иного субъекта… в голове которого находится накопленное знание общества»[200].
Возможно, это самая революционная мысль, которую когда-либо высказывал Маркс: сведение труда к минимуму может создать человека, способного полностью использовать все накопленное знание общества; создать индивида, которого преобразовала толща произведенных обществом знаний и у которого впервые в истории свободного времени оказалось больше, чем рабочего. Образ рабочего, представленный в «Отрывке», не так далек от «универсально образованного человека», предсказанного Питером Друкером.
Я думаю, что Маркс отказался от этого мыслительного эксперимента потому, что тот был мало востребован в обществе, в котором он жил. Однако он более чем востребован в нашем обществе.
Третий тип капитализма?
Если послушать неолибералов, то становление информационного капитализма является их важнейшим достижением. Но они и представить не могли, что в нем могут быть изъяны. «Умные» машины, полагали они, создадут постиндустриальное общество, в котором каждый выполняет работу, основанную на знаниях и приносящую высокую прибавочную стоимость, и в котором все прежние социальные конфликты исчезнут[201]. Благодаря информации идеализированный мир учебников с его прозрачностью, совершенной конкуренцией и равновесием станет реальностью. В конце 1990-х годов традиционная экономическая литература – от журнала Wired до Harvard Business Review – была полна торжественных описаний новой системы. Однако о том, как она будет работать, не говорилось ни слова.
По иронии судьбы, первую попытку создать теорию информационного капитализма, названную «когнитивным капитализмом», предприняли люди, которые заново открыли «Отрывок о машинах» – это были крайне левые последователи Антонио Негри.
Сторонники концепции «когнитивного капитализма» считают его логичной новой формой капитализма: это «третий капитализм», наступивший вслед за торговым капитализмом XVII–XVIII веков и промышленным капитализмом последних 200 лет. В его основе лежат глобальные рынки, финансиализированное потребление, нематериальный труд и нематериальный капитал.
Французский экономист Янн Мулье-Бутан полагает, что ключевая черта когнитивного капитализма – это присвоение внешних эффектов. Используя цифровые устройства, люди становятся «со-производителями» компаний, с которыми они имеют дело. Компания, обеспечивающая услуги и собирающая информацию, может определить денежную стоимость всех их покупок, приложений, списков друзей в Facebook. «Присвоение положительных внешних эффектов, – пишет Мулье-Бутан, – становится проблемой стоимости номер один»[202].
В когнитивном капитализме природа труда преображается. Ручной труд и промышленность не исчезают, но их место в общей картине меняется. Поскольку прибыль все больше обеспечивается за счет присвоения бесплатной стоимости, порождаемой поведением потребителей, а обществу, сосредоточенному на массовом потреблении, постоянно нужно, чтобы ему подавали кофе, улыбались и обслуживали через колл-центры, «фабрикой» в когнитивном капитализме становится все общество. Для этих теоретиков «общество как фабрика» – это ключевая идея, без которой нельзя понять природу не только эксплуатации, но и сопротивления.
Чтобы пара кроссовок Nike стоила 179,99 доллара, необходимо, чтобы 465 тысяч рабочих на 107 фабриках во Вьетнаме, Китае и Индонезии производили их по одному и тому же образцу. Но для этого также необходимо, чтобы потребитель верил в то, что благодаря галочке Nike эти куски пластика, резины и поролона стоят в семь раз больше средней почасовой зарплаты в США[203]. Nike тратит 2,7 миллиарда долларов в год лишь ради того, чтобы мы верили в это (по сравнению с 13 миллиардами долларов, которые тратятся непосредственно на производство обуви и одежды) – и в то, что расходы на маркетинг окупаются гораздо лучше, чем реклама на «Супербоул».
На самом деле, с тех пор как Nike в начале 2000-х годов разобралась в правилах когнитивного капитализма, ее расходы на рекламу на телевидении и в прессе упали на 40 %. Ставка была сделана на цифровые продукты: Nike+, например, который использует iPod для записи результатов бегунов, записал – и переправил Nike – данные 150 миллионов индивидуальных забегов с момента своего выпуска в 2006 году[204]. Как и все компании, Nike находится в процессе превращения в «информацию плюс вещи».
Это теоретики когнитивного капитала и понимают под «социализированной фабрикой». Мы уже живем не в мире, где производство и потребление четко разграничены, а в мире, где идеи, поведение и взаимодействие потребителей с брендом имеют ключевое значение для создания прибыли. Граница между производством и потреблением размывается. Отчасти это объясняет, почему борьба против нового капитализма зачастую фокусируется на проблемах потребителей или на брендовых ценностях (например, на социальной ответственности корпораций) и почему протестующие ведут себя скорее как «племена», описанные в маркетинговом анализе населения, чем как объединенный пролетариат. По мнению теоретиков когнитивного капитала, например, Друкера, первичной деятельностью новой рабочей силы является «производство знания средствами знания»[205].
Тем не менее в теории когнитивного капитализма есть большой изъян. Одно дело сказать, что «новый вид капитализма зародился в рамках позднего промышленного капитализма». Но ключевые теоретики когнитивного капитализма утверждают ровно противоположное: многие из них считают, что когнитивный капитализм уже представляет собой полноценно работающую систему. Фабрики в Шэньчжэне, трущобы в Маниле, магазины металлолома в Вулверхэмптоне могут выглядеть точно так же, как и десять лет назад – но, с точки зрения этих теоретиков, их экономические функции уже изменились.
Это характерный для европейской мысли прием: придумать категорию и начать применять ее ко всему, просто переквалифицируя все подряд в подкатегории этой новой идеи. Это избавляет вас от хлопот, связанных с анализом сложной и противоречивой реальности.
Из-за этого теоретики когнитивного капитализма недооценивают значение развития промышленного производства старого типа в странах БРИК (Бразилия, Россия, Индия и Китай), а некоторые преуменьшают значение финансового кризиса, начавшегося в 2008 году, или считают его лишь трудностями роста новорожденной системы.
На самом деле, система, в которой мы живем, не представляет собой новую, логичную и полноценно работающую форму капитализма. Она не логична. Ее напряженный, лихорадочный и нестабильный характер проистекает из того факта, что мы живем в эпоху, когда сети соседствуют с иерархией, а трущобы – с интернет-кафе, и для того, чтобы понять сложившуюся ситуацию, мы должны рассматривать ее как незавершенный переход, а не как законченную модель.
Посткапитализм: гипотеза
Дебаты о посткапитализме проделали большой путь со времен Питера Друкера, хотя, с другой точки зрения, они не двинулись с места. Их отличительными чертами стали умозрительные рассуждения, техническая терминология и стремление возвестить о появлении новых систем вместо того, чтобы исследовать их взаимоотношения с прежней реальностью.
И Бенклер, и Келли, и Друкер возвестили о чем-то вроде «нового способа производства», но никто из них не дал объяснения того, какой может быть его динамика. В 1999 году экономист из Онтарио Ник Дайер-Уизефорд в своей книге «Кибер-Маркс» предложил любопытный умозрительный вариант того, как может выглядеть коммунизм, основанный на информации[206]. Однако экономисты редко признают дебаты вокруг этого вопроса стоящими внимания.
Джереми Рифкин, влиятельный консультант по менеджменту, ближе всех подошел к описанию современных реалий в своей книге «Общество с нулевыми предельными издержками»[207]. Рифкин утверждает, что совместное производство и капитализм – это две различные системы. Сейчас они сосуществуют и даже подпитывают друг друга энергией, но, в конечном итоге, совместное производство оставит капиталистическому сектору экономики лишь несколько ниш.
Самая радикальная догадка Рифкина заключалась в том, что он понял, какой потенциал заключен в «интернете вещей». Самые оптимистично настроенные консалтинговые фирмы, например McKinsey, оценили эффект этого процесса в 6 триллионов долларов год, прежде всего в здравоохранении и в обрабатывающей промышленности. Однако бóльшая часть этих 6 триллионов долларов обеспечивается за счет сокращения издержек и повышения эффективности, т. е. он способствует сокращению маржинальных издержек производства физических товаров и услуг так же, как «копирование-вставка» сокращает стоимость информационных товаров.
Рифкин отмечает, что вовлечение каждого человека и каждого предмета в «умную» сеть может иметь колоссальные последствия. Оно может быстро снизить предельные издержки энергии и физических товаров так же, как интернет снижает их для цифровых продуктов.
Однако, как и все книги, написанные для того, чтобы красоваться на полках по бизнесу в книжных магазинах аэропортов, произведение Рифкина обходит стороной социальное измерение вопроса. Он понимает, что мир бесплатных вещей не может быть капиталистическим, что бесплатные вещи начинают наводнять как физический, так и цифровой мир, но борьба между двумя системами сводится к борьбе между моделями ведения бизнеса и хорошими идеями.
Дебаты о посткапитализме, которые ведут теоретики социальных наук, юристы и прорицатели технического прогресса, существуют в параллельном мире относительно споров между экономистами о кризисе неолиберализма и споров историков о проблематичном начале пятой длинной волны. Для того чтобы двинуться дальше, мы должны понять, как связаны между собой новая экономика, основанная на информационных технологиях, кризис, начавшийся в 2008 году, и модель длинных циклов. Ниже мы излагаем первую попытку это сделать. Это гипотеза, но она основана на фактах и может быть проверена реальностью.
Революция изменила то, как мы обрабатываем, храним и передаем информацию, и начиная с середины 1990-х годов привела к возникновению сетевой экономики, которая стала разъедать традиционные капиталистические отношения собственности следующим образом.
Революция разъедает ценовой механизм – в том виде, в каком его понимают традиционные экономисты, – цифровые товары снижают стоимость воспроизведения информации до нуля.
Революция добавляет значительное информационное содержание в физические товары, затягивая их в ту же воронку нулевой цены, в которую попали чисто информационные товары, а зачастую, как в случае с кроссовками, ставя их стоимость в зависимость скорее от социально создаваемых идей (бренда), чем от физической стоимости информации.
Революция делает необходимой финансиализацию, создавая два потока прибыли, которые текут к капиталу от разных слоев населения: от рабочих, производящих товары, услуги и знания, и от заемщиков, выплачивающих процентные платежи. Поэтому, хотя и можно говорить о том, что «все общество превратилось в фабрику», механизмами эксплуатации, как и прежде, являются в первую очередь зарплаты, затем кредиты и лишь после этого молчаливое соглашение по созданию стоимости бренда или отказ от внешних эффектов в пользу технологических компаний.
Именно в ходе революции, затронувшей производительность физических вещей, процессов и энергетических сетей, соединения между компьютерами через интернет численно превзошли связи между людьми.
Если информация подтачивает стоимость, то корпорации отвечают тремя вариантами стратегий выживания: созданием монополий на информацию и энергичной защитой интеллектуальной собственности; «скольжением по краю хаоса», стараясь удержаться в зазоре между расширяющимся предложением и падающими ценами; и попыткой присвоить и эксплуатировать социально создаваемую информацию вроде данных о потребителях или же навязать программистам договоры, в которых говорится, что код, который они пишут в свободное время, принадлежит компании.
Тем не менее, помимо ответа корпораций, мы можем наблюдать становление нерыночного производства: горизонтально распределенные сети однорангового производства, не управляющиеся централизованно и производящие товары, которые либо полностью бесплатны, либо, как в случае открытого кода, имеют весьма ограниченную коммерческую стоимость.
Бесплатные вещи, изготовленные посредством однорангового производства, вытесняют коммерческие товары. Википедия – это пространство, в котором коммерция не может функционировать. Linux и Android явно эксплуатируются в коммерческих целях, но, в конце концов, они не основаны на правах собственности на главный продукт. Теперь можно стать производителем и потребителем в рамках одного и того же процесса.
В ответ капитализм начинает превращать себя в защитный механизм против однорангового производства посредством информационных монополий, ослабления связи зарплат с трудом и иррациональной приверженности к бизнес-моделям, связанным с высоким уровнем углеродных выбросов.
Нерыночные формы производства и обмена отталкиваются от стремления людей к сотрудничеству – к обмену подарками, обладающими неосязаемой ценностью, – которое всегда существовало, но находилось на задворках экономической жизни. И это нечто большее, чем просто установление нового равновесия между общественными благами и частными товарами – совершенно новое, революционное явление. Распространение такой нерыночной экономической деятельности делает возможным появление кооперативного, социально справедливого общества.
Быстрые технологические изменения трансформируют природу труда, размывая различия между трудом и досугом и требуя от нас участия в создании стоимости в любой момент нашей жизни, а не только на рабочем месте. Это дает нам множественные экономические индивидуальности, являющиеся той экономической основой, на которой появился новый тип человека со множеством «я»[208]. Этот новый тип человека, сетевой индивид, представляет собой носителя посткапиталистического общества, которое могло бы возникнуть.
Технологическое направление этой революции вступает в противоречие с ее социальным направлением. С технологической точки зрения мы движемся к товарам с нулевой стоимостью, к работе, которую невозможно измерить, к быстрому увеличению производительности и к масштабной автоматизации физических процессов. С точки зрения социальной мы застряли в мире монополий и неэффективности, посреди развалин свободного рынка, где господствовали финансы, и все шире распространяющейся «бесполезной работы».
Сегодня главное противоречие современного капитализма лежит между возможностью массового бесплатного социального производства товаров и системой монополий, банков и правительств, борющихся за удержание контроля над властью и информацией. Иными словами, все пронизано борьбой между сетями и иерархией.
Это происходит сейчас потому, что распространение неолиберализма прервало нормальную модель капитализма, основанную на пятидесятилетних циклах. Если выразить это иначе, то 240-летний жизненный цикл промышленного капитализма, возможно, приближается к концу.
Итак, перед нами открывается две основные возможности. Либо новая форма когнитивного капитализма появится и добьется стабильности – на основе новой конфигурации фирм, рынков и сетевого сотрудничества, – а остатки индустриальной системы найдут себе подобающее им место в рамках этого третьего капитализма. Либо сеть разъест и механизмы функционирования, и легитимность рыночной системы. В этом случае возникнет конфликт, который приведет к упразднению рыночной системы и к ее замене посткапитализмом.
Посткапитализм может принимать самые разные формы. Мы поймем, что он наступил в том случае, если большое число товаров станут дешевыми или бесплатными, но люди будут продолжать производить их, не обращая внимания на рыночные силы. Мы поймем, что этот процесс идет, когда размытые взаимоотношения между работой и досугом, между рабочими часами и зарплатами получат институциональную форму.
Поскольку предварительным условием посткапитализма является изобилие, он спонтанно обеспечит пределенную социальную справедливость – однако формы и приоритеты социальной справедливости станут предметом обсуждений. В то время как капиталистические общества всегда должны были делать выбор между «пушками или маслом», посткапиталистические общества, возможно, будут выбирать между экономическим ростом и экологической устойчивостью – или между временными рамками решения базовых социальных задач и такими вызовами, как миграция, освобождение женщин или старение населения.
Поэтому мы должны разработать стратегию перехода к посткапитализму. Из-за того, что большинство теоретиков посткапитализма либо просто заявили, что он существует, либо предсказали неизбежность его наступления, мало кто занимался проблемами перехода. А значит, одна из первых задач заключается в том, чтобы очертить и протестировать ряд моделей, которые показывают, как может функционировать такая переходная экономика.
Сегодня мы привыкли слышать, как словом «переход» описывают осторожные локальные попытки построить экономику с низким уровнем выбросов, местные валюты, банки времени, «переходные города» и тому подобное. Однако в нашем случае переход – проект более масштабный.
Чтобы осуществить его, мы должны выучить отрицательные уроки провалившегося перехода в СССР. После 1928 года Советский Союз попытался форсировать движение к социализму посредством централизованного планирования. Это привело к созданию чего-то худшего, чем капитализм, но современные левые демонстрируют стойкое нежелание это обсуждать.
Если мы хотим создать посткапиталистическое общество, мы должны знать в деталях, что пошло не так, и понять фундаментальную разницу между спонтанными нерыночными формами, которые я описывал выше, и сталинскими пятилетними планами.
Чтобы двинуться дальше, мы должны знать, как именно информационные товары разъедают рыночный механизм? Что может произойти, если поощрять эту тенденцию, а не сдерживать? И какая социальная группа заинтересована в том, чтобы переход осуществился? Коротко говоря, нам требуются более точное определение стоимости и более подробная история труда. Ниже я попытаюсь их изложить.
Глава 6. К бесплатным машинам
Палаточный лагерь, шумная толпа, распыленный слезоточивый газ и кучка бесплатных вещей: так выглядел парк Гези во время протестов 2013 года в Стамбуле. Благодаря палаточному лагерю люди в течение нескольких дней могли жить так, как им хотелось. Бесплатные вещи были главным жестом надежды.
В первый день кучка была маленькой: упаковки салями, пакеты с соком, немного сигарет и аспирин. К последнему дню она превратилась в пирамиду всего чего угодно, которая грозила вот-вот обрушиться: еда, одежда, лекарства и табак. Молодежь брала эти вещи охапками и гуляла по парку группами, уговаривая других что-нибудь взять. Конечно, на самом деле ни одна из этих вещей не была бесплатной. Их купили, а потом пожертвовали. Но они символизировали желание жить в обществе, где люди делятся некоторыми базовыми вещами.
И желание это давнее. В первые десятилетия XIX века левые, окруженные системой, которая пыталась назначить цену всему, создавали утопические общины, основанные на совместном пользовании, кооперации и сотрудничестве. Большинство из них ждал провал по той причине, что тогда всего было мало.
Сегодня не так много вещей имеется в недостатке – и способность людей навалить гору бесплатной еды в таком городе, как Стамбул, тому свидетельство. То же самое можно сказать и о кучах мусора, отправляющегося на переработку в европейских городах. Помимо очевидного мусора, вы увидите людей, выбрасывающих вещи, которые вполне можно носить, книги без единого пятнышка, готовые к использованию электронные приборы – все эти предметы, когда-то обладавшие стоимостью, теперь не имеют продажной цены и либо отправляются на переработку, либо отдаются другим людям. Конечно, энергия по-прежнему дефицитна – вернее, энергия, которая добывается из углеводородного топлива и к которой мы так привыкли. Однако ключевой товар XXI века вовсе не дефицитен. Информация имеется в изобилии.
Этот прогресс от дефицита к изобилию – значимое явление в истории человечества и важное достижение четвертой волны развития капитализма. Но он также представляет собой серьезный вызов экономической теории. Капитализм приучил нас считать ценовой механизм самой органичной, спонтанной, основной чертой экономической жизни. Теперь нам нужна теория его исчезновения.
Мы должны начать с преодоления проблемы спроса и предложения. Спрос и предложение, очевидно, работают: если в Бангладеш открывается больше швейных фабрик, дешевая одежда становится еще дешевле. А если полицейские арестовывают торговцев наркотиками прямо перед тем, как открываются клубы, то экстази дорожает. Но спрос и предложение объясняют лишь то, почему цены колеблются. Когда спрос и предложение равны друг другу, почему цена не падает до нуля? Разумеется, это невозможно. В нормальной капиталистической экономике, основанной на нехватке товаров и труда, должна быть объективная цена, исходя из которой цена продажи движется вверх и вниз. Так что же ее определяет?
В последние двести лет на этот вопрос были предложены два совершенно разных ответа. Лишь один из них может быть правильным. К сожалению, не его изучают в курсах по экономике.
В этой главе я буду последовательно отстаивать то, что называют «трудовой теорией стоимости». Она непопулярна, потому что не очень годится для расчета и прогнозирования движений в рамках стабильно функционирующей рыночной системы. Однако в условиях становления информационного капитализма, который разъедает ценовой капитализм, собственность и связь между трудом и зарплатами, трудовая теория является единственным объяснением, которое не опровергается фактами. Это единственная теория, которая дает нам возможность правильно смоделировать, где в экономике знаний стоимость создается, а где заканчивается. Трудовая теория показывает нам, как измерять стоимость в экономике, в которой машины могут изготавливаться бесплатно и служить вечно.
Труд – это источник стоимости
Посреди пустых магазинов на захудалых улицах торговой части города Керколди в Шотландии находится забегаловка Gregg’s. Там продается высококалорийная еда по низким ценам, и это одно из немногих мест, где людно в обеденное время. Достаточно взглянуть на шотландскую карту бедности, чтобы понять контекст – в городе есть крайне бедные и нездоровые районы[209].
На внешней стене Gregg’s есть табличка, рассказывающая о том, что в этом доме Адам Смит написал «Богатство народов». Никто на нее не обращает внимания. Но именно здесь в 1776 году были впервые сформулированы экономические принципы капитализма. Я не уверен, что Смиту понравилось бы, как сегодня выглядит его родной город, оказавшийся в плену деиндустриализации, низких зарплат и хронических болезней. Но он понял бы причину. Источник любого богатства, говорил Смит, это труд.
«Не на золото или серебро, а только на труд первоначально были приобретены все богатства мира, – писал Смит, – и стоимость их для тех, кто владеет ими и кто хочет обменять их на какие-либо новые продукты, в точности равна количеству труда, которое он может купить на них или получить в свое распоряжение»[210]. Это классическая трудовая теория стоимости: она гласит, что труд, необходимый для производства чего-либо, определяет, сколько это что-то будет стоить.
В этом есть грубая логика. Если вы будете довольно долго смотреть на водяное колесо, оно поможет вам понять физику. Если вы последуете примеру Смита и будете наблюдать за тем, как рабочие вкалывают по тринадцать часов в день в механическом цеху, вы поймете, что именно рабочие, а не машины, производят прибавочную стоимость[211].
Стандартные учебники расскажут вам, что Смит считал, будто трудовая теория годится только для первобытных обществ, и что, когда наступил капитализм, «стоимость» стала представлять собой совокупность зарплат, капитала и цены земли. Это неверно[212]. Трудовая теория стоимости Смита была непоследовательной, но при внимательном прочтении «Богатства народов» его довод становится ясным: труд – это источник стоимости, но рынок может лишь грубо отражать его посредством того, что Смит называл «рыночной конкуренцией и торгом». Поэтому этот закон действует под поверхностью полноценной капиталистической экономики. Прибыли и ренты – это производные от стоимости, порожденной трудом[213].
Давид Рикардо, самый влиятельный экономист начала XIX века, создал более развитую модель. Опубликованная в 1817 году, она настолько же прочно укоренила трудовую теорию в общественном сознании, насколько сегодня прочно укоренен принцип спроса и предложения. Рикардо, ставший свидетелем быстрого развития фабричной системы, высмеял мысль о том, что машины являлись источником увеличившегося богатства. Машины лишь передают свою стоимость продукту – только труд добавляет новую стоимость, говорил он.
Магия машин заключалась в увеличении производительности[214]. Если вы используете меньше труда для производства чего-либо, то это что-то станет дешевле и принесет больше прибыли. Если вы сокращаете объем труда, необходимый для изготовления шляп, писал он, «цена их в конце концов упадет до размеров их новой естественной цены, хотя бы спрос на них удвоился, утроился или учетверился»[215].
После Рикардо трудовая теория стала отличительной идеей промышленного капитализма. Она использовалась для оправдания прибыли, которая вознаграждала труд владельца завода. Она использовалась для нападок на земельную аристократию, которая жила за счет ренты вместо того, чтобы работать. И она использовалась для того, чтобы противостоять требованиям рабочих о более коротком рабочем дне и о правах профсоюзов, которые подняли бы цену труда на «искусственный» уровень, т. е. выше минимума, необходимого для того, чтобы обеспечить рабочую семью пропитанием, одеждой и кровом.
Тем не менее, несмотря на свою ультракапиталистическую подоплеку, трудовая теория оказалась разрушительной. Трудовая теория дала начало спорам о том, кто что получает, и собственники фабрик в этом споре сразу же стали проигрывать. В полумраке пивных, где собирались первые профсоюзы, Давид Рикардо неожиданно обрел целый ряд новых последователей.
Рабочие-интеллектуалы 1820-х годов поняли революционные последствия трудовой теории: если источником любого богатства является труд, то возникает законный вопрос о том, как следует это богатство распределять. Подобно тому как стремящуюся к получению ренты аристократию можно выставить паразитами на теле производительной экономики, можно считать, что капиталисты паразитируют за счет труда остальных. Их труд необходим – но фабричная система выглядит так, будто ее предназначение заключается в том, чтобы приносить им чрезмерное вознаграждение.
«Кроме знаний, навыков и труда, необходимых для создания фабрики, нет ничего, на чем капиталист мог бы обосновывать свои требования на какую-либо долю продукции», – писал в 1825 году Томас Ходгскин, лейтенант флота, ставший социалистом[216].
По мере того как профсоюзы распространяли учение «рикардианского социализма», энтузиазм владельцев фабрик относительно трудовой теории угасал. К 1832 году, когда британский средний класс добился права голоса, его потребность в оправдании капитализма какой-либо теорией исчезла. Зарплаты, цены и прибыли перестали быть предметами, которыми должны были заниматься социальные науки, они просто были и их достаточно было описывать и подсчитывать. Рикардо был забыт, но на смену ему пришла теоретическая путаница[217].
Если в итоге экономическая наука середины XIX века свелась к «описанию и подсчету», то параллель этому можно найти в естествознании. Чарльз Дарвин выдвинул теорию естественного отбора в 1844 году, а Альфред Рассел Уоллес – тремя годами позже. Однако последствия ее были таковы, – а заключались они, прежде всего, в ниспровержении мифа о Творении, – что оба ученых обратились к монотонной работе по «сбору, присвоению названий и классификации» своих образцов, которой занимались до 1858 года, когда тот и другой вдруг кинулись публиковать свою потрясающую теорию.
В экономике потрясающая теория появилась благодаря Марксу. Часто говорят, что Маркс отталкивался от теорий Смита и Рикардо. На самом деле он их опроверг. Он характеризовал свой проект как критику политической экономики – Смита, Рикардо, рикардианских социалистов, либеральных моралистов и крохоборов. Он заявил – задолго до того, как в 1870-е годы об этом стали говорить традиционные экономисты, – что Рикардова версия трудовой теории была полным сумбуром. Ее нужно было переписать с чистого листа.
Маркс признавал, что в трудовой теории, несмотря на все ее изъяны, есть нечто, что может объяснить и то, как капитализм функционирует, и то, почему однажды он может перестать функционировать. Предложенная им версия была логична и выдержала проверку временем. Тысячи маститых ученых, в том числе некоторые самые именитые экономисты в мире, учат тому, что она верна. Проблема в том, что лишь очень немногим из них разрешено преподавать.
Трудовая теория в цифрах
Когда закупщик из Primark подписывает с бангладешской фабрикой контракт на поставку 100 тысяч футболок, то это сделка. Когда бангладешский рабочий каждое утро приходит на фабрику, надеясь в обмен получить сумму, эквивалентную 68 долларам в месяц, это тоже сделка[218]. Когда он тратит пятую часть своего дневного заработка, чтобы купить килограмм риса, это тоже сделка[219].
Когда мы совершаем сделки, мы более или менее представляем себе, насколько ценна та вещь, которую мы покупаем. Если трудовая теория верна, мы неосознанно оцениваем ее стоимость, сопоставляя ее с объемом труда других людей, который эта вещь или услуга в себе содержит.
Ниже следует краткое и простое объяснение трудовой теории стоимости. Есть и длинные сложные версии, но для того, чтобы понять, как может функционировать посткапитализм, будет достаточно ее основ.
Стоимость товара определяется средним количеством рабочих часов, необходимых для его изготовления[220]. Стоимость устанавливает не конкретное количество рабочих часов, а «социально необходимые» часы труда в каждой отрасли промышленности или в каждой экономике. Поэтому базовую единицу учета здесь можно выразить как «часы социально необходимого рабочего времени». Если мы знаем, сколько стоит час базового труда – в Бангладеш минимальная зарплата составляет около 28 центов в час, – то мы можем выразить ее в деньгах. Здесь я буду придерживаться измерения в часах.
Стоимость труда складывается из двух факторов: во-первых, труда, задействованного в производственном процессе (который включает в себя маркетинг, исследования, дизайн и т. д.), и, во-вторых, всего остального (машин и оборудования, сырья и т. д.). И то и другое можно измерить количеством трудового времени, которое они содержат.
Трудовая теория рассматривает машины, энергию и сырье как «завершенный труд» – они передают свою стоимость новому продукту. Поэтому если на выращивание, прядение, ткание и транспортировку хлопка для изготовления какого-то предмета одежды ушло 13 минут среднего труда, то хлопок передаст эту стоимость рубашке. Но когда речь идет о станках и других орудиях производства, процесс занимает больше времени, и они передают свою стоимость маленькими порциями. Поэтому, если на изготовление станка ушел миллион рабочих часов, а сам он за время своей эксплуатации производит миллион предметов, окончательная стоимость каждого предмета получит свой час стоимости станка.
Вместе с тем мы рассматриваем непосредственный труд, задействованный в производственном процессе компании, как новую стоимость, добавленную тем, что Маркс называл «живым трудом».
Этот подспудный процесс, состоящий в том, что рабочее время предопределяет объем новой стоимости, действует на глубинном уровне, за спинами рабочих, управленцев, оптовых закупщиков и покупателей Primark. Когда мы договариваемся о цене, на нее могут влиять многие другие факторы: предложение, спрос, краткосрочная полезность, утраченная возможность, если мы не купим эту вещь, расходы в случае покупки вместо сбережения – все, что Адам Смит обобщал в выразительном слове «торг». Но на поверхностном уровне цена всех товаров и услуг, которые продаются в данной экономике, является лишь денежным выражением того, сколько труда потребовалось для их производства.
Проблема в том, что мы узнаем, справедливую ли цену мы заплатили, лишь после покупки. Рынок действует как гигантская вычислительная машина, вознаграждающая тех, кто угадал социально необходимую цену, и наказывающая тех, кто использовал слишком много труда.
Поэтому цены всегда отличаются от исходной стоимости предметов, но, в конечном счете, определяются ею. А стоимость определяется объемом необходимого труда, затраченного на изготовление товара.
Но что определяет стоимость труда? Ответ, сообразующийся со всем остальным, таков: это труд других людей – средний объем труда, благодаря которому каждый рабочий может дойти до ворот фабрики и приступить к труду. Он включает в себя труд, затраченный на производство еды, которую потребляют рабочие, электричества, которым они пользуются, одежды, в которую они одеты, и – по мере того, как общество развивается – на обеспечение среднего объема образования, квалификации, здравоохранения и досуга, который необходим рабочему для выполнения своей работы.
Разумеется, средняя стоимость часа труда меняется в зависимости от страны. Эти различия являются одной из причин, по которым компании переводят производство за рубеж. Уход за ребенком в льготном детском саду при рабочем месте в Бангладеш стоит 38 центов в день, тогда как в Нью-Йорке услуги няни обходятся в 15 долларов в час[221]. В последнее десятилетие мировые производственные цепочки переместились из Китая в Бангладеш, когда повысились ставки зарплат для рабочих, даже несмотря на то, что производительность в Бангладеш ниже. В течение некоторого времени бангладешский труд был настолько дешев, что это компенсировало его неэффективность[222].
Так откуда берется прибыль? В трудовой теории прибыль – это не кража и не мошенничество. В среднем месячная зарплата рабочего будет отражать объем труда других людей, необходимого для производства еды и одежды, которыми он пользуется, покрытия его нужд в энергии и т. д. Однако работодатель предлагает нечто большее. Мой босс может оплатить мне настоящую стоимость тех восьми часов, которые я отработал. Но эта настоящая стоимость может составлять и всего четыре часа.
В этом зазоре между издержками и результатами человеческого труда – вся суть теории, поэтому рассмотрим ее на примере.
Назма, работающая на бангладешской бельевой фабрике, соглашается трудиться за зарплату, которая приблизительно соответствует месячной стоимости еды, аренды, досуга, транспорта, энергии и пр., а также позволяет ей откладывать небольшую сумму. Она хотела бы зарабатывать больше, но диапазон зарплат на фабрике довольно узок, поэтому она очень хорошо понимает, какую часовую оплату она может получить при ее уровне квалификации.
Однако ее работодатель не покупает ее труд сам по себе. Он покупает ее способность трудиться.
Если мы забудем о деньгах и будем измерять все в «часах необходимой работы», мы сможем увидеть, как создается прибыль. Если стоимость пребывания Назмы на фабрике в течение шести дней в неделю составляет 30 часов труда других людей из самых разных слоев общества (тех, кто производит ее пищу, одежду, энергию, обеспечивает ее жильем и заботится о ее ребенке и т. д.), а работает она 60 часов в неделю, то ее труд на выходе дает двойной результат относительно издержек на ее существование. Все, что превышает покрытие издержек, достается работодателю. Из совершенно честной сделки получается нечестный результат. Это то, что Маркс называет «прибавочной стоимостью», которая и является основным источником прибыли.
Можно это сформулировать иначе – труд уникален. Из всего того, что мы покупаем и продаем, лишь труд обладает способностью прибавлять стоимость. Труд – это не просто мера стоимости, но и та жила, из которой добывается прибыль.
Одно из доказательств верности этого состоит в том, что там, где капиталисты могут получить труд бесплатно – будь то в американской тюремной системе или в нацистских лагерях смерти, – они немедленно идут на это. Другое доказательство заключается в том факте, что там, где управленцы должны оплачивать труд ниже его средней стоимости, как это было во времена становления китайской промышленности, работавшей на экспорт, они покрывают издержки коллективно, обеспечивая рабочих общежитием, униформой и столовыми. Труд рабочих, живущих в общежитиях, намного дешевле среднего социального уровня, который определяется стоимостью проживания семьи в доме – и, разумеется, рабочих, живущих в общежитиях, намного проще подчинить дисциплине.
Но почему, если реальная недельная стоимость моего труда составляет 30 часов труда других людей, я буду трудиться 60 часов? Ответ следующий: рынок труда никогда не бывает свободным. Он был создан при помощи принуждения и заново создается каждый день посредством законов, правил, запретов, штрафов и страха перед безработицей.
На заре капитализма средний рабочий день продолжительностью 14 часов или более навязывался, причем не только взрослым, но и восьмилетним детям. Применялась строгая система контроля за временем: четко определенное время пребывания в туалете, штрафы за опоздания, порчу продукции или разговоры, обязательное время начала работы – и жесткие сроки исполнения. Где бы мы ни наблюдали вновь созданную фабричную систему, будь то в Ланкашире в 1790-е годы или в Бангладеш в последние двадцать лет, везде навязываются эти правила.
Даже в развитых странах рынок труда открыто построен на принуждении. Послушайте любого политика, произносящего речь о социальной политике: сокращение безработицы и пособия по нетрудоспособности предназначены для того, чтобы заставлять людей браться за работу, за зарплату с которой они не могут прожить. Правительство не принуждает нас участвовать ни в одной другой сфере рынка. Никто ведь не говорит: «Вы должны кататься на коньках, иначе обществу грозит крах».
Работа за зарплату – это краеугольный камень системы. Мы принимаем это потому, что, как наши предки убедились на собственной шкуре, тот, кто не подчиняется – не ест. Поэтому наша работа столь ценна. Если вы вдруг в этом засомневаетесь, исследуйте, что происходит в отделе реализации какого-нибудь интернет-ритейлера, или в колл-центре, или в рабочем расписании надомного социального работника. Вы увидите, что работа рассчитана и распланирована по минутам, как будто эти минуты – золотой песок. Для работодателя так оно и есть. Разумеется, в высококвалифицированном и высокооплачиваемом секторе рынка труда нет ни расписания, ни дисциплины, но здесь инструментами принуждения выступают поставленные задачи и контроль качества.
Можно продолжить изучение трудовой теории, но давайте сделаем паузу. Мы уже знаем достаточно для того, чтобы взяться за нее, вооружившись инструментами, которые имеются на любой кафедре экономики.
Некоторые весомые возражения…
Вот почему мне нравится трудовая теория стоимости: рассматривая прибыль, она ставит на центральное место в капитализме рабочие места, а не рынок. И она рассматривает одну из основных вещей, которые мы делаем каждый день – работу, – как важный фактор для экономики. Но у трудовой теории есть и длинный список весомых возражений:
Вопрос: Зачем нам вообще нужна «теория»? Почему не обойтись одними фактами – данными ВВП, счетами компаний, показателями фондовых рынков и т. д.?
Ответ: Потому что мы хотим объяснить изменения. В науке мы хотим пойти дальше ровной линии бабочек, приколотых булавками и помещенных под стекло. Нам нужна теория, объясняющая, почему каждый подвид выглядит немного иначе, чем остальные. Мы хотим знать, почему в ходе миллиона повторений их обычного жизненного цикла могут возникнуть небольшие вариации, которые затем приводят к масштабным переменам.
Теории позволяют нам описывать реальность, которую мы не видим. И они позволяют нам прогнозировать. Все формы экономики признают необходимость теории. Однако в конце XIX века сложность разработки теории и анализа ее последствий заставила экономическую науку отказаться от научного метода.
Вопрос: Почему я не могу «увидеть» стоимость, прибавочную стоимость и рабочее время? Если они не отражаются в счетах компаний и их не могут распознать профессиональные экономисты, не являются ли они лишь умозрительными конструкциями?
Ответ: В 1960-е годы кембриджский экономист Джоан Робинсон предложила более сложную формулировку такой точки зрения. Она сказала, что трудовая теория «метафизична», т. е. представляет собой умозрительную конструкцию, существование которой никак нельзя опровергнуть. Более того, она говорила то же самое о «полезности» – ключевом понятии традиционной экономики, – но признавала, что метафизика – это лучше, чем ничего[223].
И все же трудовая теория – это нечто большее, чем метафизика. Конечно, она работает на определенном уровне абстракции, т. е. некоторые части реальности в ней не учитываются. Например, она представляет собой модель чистого капитализма, в которой все работают за зарплату – в ней нет ни рабов, ни крестьян, ни бандитов, ни попрошаек. Она описывает процесс, который действует «за спинами» экономических агентов: никто не может подсчитать, тратят ли они больше или меньше необходимого рабочего времени – хотя более или менее достоверная оценка времени сыграла ключевую роль в управлении производительностью.
В трудовой теории рынок является передаточным механизмом между этим глубинным, непознаваемым процессом и лежащим на поверхности результатом. Только рынок может превращать индивидуальные решения в совокупный результат. Только рынок может показать нам, какой объем рабочего времени является социально необходимым. В этом смысле трудовая теория – это величайшая теория рынка, которая когда-либо выдвигалась. Согласно ей, рынок и только рынок превращает скрытую реальность в конкретику.
Ну да, это абстракция, но не бóльшая, чем концепция «невидимой руки» Адама Смита или эйнштейновская общая теория относительности, сформулированная в 1916 году, но доказанная эмпирическим путем лишь в 1960-е годы.
Вопрос остается: Доказуема ли эта теория? Возможно ли бросить вызов трудовой теории в ее же собственных категориях и противопоставить ее фактам? Пройдет ли она проверку, предложенную философом Карлом Поппером и заключающуюся в том, что если есть один-единственный факт, противоречащий теории, то теория неверна?
Ответ на него будет положительным – когда мы поймем всю теорию. Если бы вы могли сказать «капитализм не подвержен кризисам», то трудовая теория оказалась бы ложной. Если бы вы могли доказать, что капитализм продлится вечно, то она опять-таки оказалась бы ложной. Потому что, как мы увидим ниже, трудовая теория одновременно описывает как планомерный циклический процесс, так и процесс, который в долгосрочной перспективе может привести к краху капитализма.
Вопрос: Зачем нам нужен такой уровень абстракции? Почему теорию нельзя построить путем сбора и перемалывания данных? Зачем оставлять конкретный мир традиционной экономической науке?
Ответ: На последний вопрос мы ответим, что этого делать не надо. Маркс признавал, что, строго говоря, трудовая теория должна описывать реальность на конкретном уровне. Он взялся за это, попытавшись превратить абстрактную модель в более конкретное описание реальной экономики. В результате он сформулировал двухсекторную модель экономики (потребление и производство) во втором томе «Капитала» и описал банковскую систему в третьем. Помимо этого, он попытался показать, как базовая стоимость преображается в цены на конкретном уровне.
В том, как он исследовал так называемую «проблему трансформации», есть несостыковки, которые привели к столетним спорам о том, непоследовательна ли его теория. Поскольку я пытаюсь применить целую теорию к специфической проблеме, а не написать учебник по марксизму, я не стану здесь вступать в эти споры и просто скажу, что «споры о трансформации» были решены (к моему удовлетворению) группой ученых, известной как школа «межвременного односистемного подхода»[224].
Суть в том, что даже в своей самой последовательной форме трудовая теория не станет практическим инструментом, позволяющим измерять и прогнозировать движения цен. Это умозрительный инструмент, предназначенный для понимания того, что представляют собой движения цен. Он относится к тому роду идей, которые Эйнштейн охарактеризовал как «теории основ», т. е. теории, чья задача заключается в том, чтобы выразить суть реальности в простом утверждении, которое может быть абстрагировано от повседневного опыта. Эйнштейн писал, что задача науки состоит в том, чтобы выявить связь между всеми экспериментальными данными «в их совокупности», «используя для этого минимальное количество первичных понятий и взаимоотношений». Он подчеркивал, что чем эти первичные понятия четче и взаимосвязаннее с логической точки зрения, тем отстраненнее они будут от данных[225].
Эйнштейн, разумеется, верил, что истинность теории подтверждается тем, насколько успешно она предсказывает опыт. Однако связь между теорией и опытом можно уловить лишь интуитивным путем.
По причинам, которые мы обсудим ниже, традиционная экономика превратилась в псевдонауку, допускающую лишь те утверждения, что получены за счет перемалывания данных. В результате мы имеем аккуратный набор учебников, которые обладают внутренней логикой, но оказываются хронически неспособны прогнозировать и описывать реальность.
Вопрос: Не слишком ли это идеологизированная формулировка? Не слишком ли трудовая теория проникнута враждебностью к капитализму, чтобы ее можно было применять?
Ответ: Да, в этом есть проблема. Идеологические баталии в экономике, начавшиеся в 1870-е годы, вылились в диалог глухих. Результатом, с которым мы должны иметь дело сегодня, стала непоследовательность традиционной экономики и расплывчатость марксизма.
Вы часто слышите, что левые экономисты клеймят традиционную экономику, называя ее «бесполезной», хотя это не так. Действительно, если понять ее ограничения, традиционная ценовая теория очень хорошо сочетается с верхним слоем трудовой теории.
Проблема в том, что традиционная экономика не понимает своих ограничений. Чем в большей степени она становилась научной дисциплиной, описывающей абстрактную, статичную и неизменную реальность, тем меньше она понимала изменения. Чтобы понять, почему это так, мы перейдем к рассмотрению главного источника изменений в капитализме – той силы, которая удешевляет дорогие вещи и которая теперь начала делать некоторые вещи бесплатными. Речь пойдет о производительности.
Производительность в трудовой теории
Согласно трудовой теории, возможны два способа увеличить производительность. Первый способ – это повышение квалификации рабочих. Благодаря этому труд опытного штамповщика металла обладает большей стоимостью, чем труд вчерашнего безработного. Опытный рабочий может делать обычные вещи быстрее и с меньшим количеством дефектов, и он обладает необходимыми навыками для изготовления необычных вещей, которые менее профессиональный рабочий сделать не способен.
Однако стоимость обучения квалифицированных рабочих обычно пропорционально выше: их труд стоит больше, потому что потребовалось больше труда на формирование и поддержание их навыков. Например, средние заработки выпускников вузов в странах ОЭСР в два с лишним раза выше, чем заработки людей с базовым образованием, и на 60 % больше заработков людей, получивших полное среднее образование[226].
Второй способ поднять производительность – это внедрение новых станков и изобретений или реорганизация производственного процесса.
Это самый распространенный случай, и Маркс рассматривает его следующим образом. Один час работы всегда добавляет час стоимости произведенному товару. Поэтому результатом повышения производительности является сокращение объема стоимости, воплощенной в каждом продукте.
Представим себе фабрику, которая ежедневно производит 10 тысяч предметов одежды. Предположим, что на ней работают тысяча человек, каждый из которых в среднем может работать 10 часов в день. Это значит, что в дневную продукцию добавляются 10 тысяч часов «живого» труда. Допустим, что на вершине этого находятся 10 тысяч часов «произведенного» труда, которые также добавляются к ежедневной продукции в виде изнашивания станков, использования энергии, тканей и другого сырья, расходов на транспорт и т. д. Таким образом, общий объем продукции фабрики, измеренный в рабочем времени, потребляет 20 тысяч часов труда, половина из них – живого, половина – произведенного. Поэтому каждый предмет одежды содержит 2 часа рабочего времени. На рынке он должен был бы обмениваться за количество денег, эквивалентное 2 часам рабочего времени.
Теперь предположим, что внедряется процесс, который удваивает производительность труда. На каждую партию в 10 тысяч предметов одежды вам по-прежнему требуется приблизительно такое же количество произведенного труда (в данном случае, 10 тысяч часов). Однако живой труд сокращается до 5 часов. Теперь каждый предмет одежды содержит 90 минут рабочего времени.
А вот как рынок вас вознаграждает. Если ваша фабрика первой внедрила новый процесс, одежда попадает на рынок, где рабочее время, социально необходимое для ее изготовления, по-прежнему равно 20 тысячам часов. Это та цена, которую вы должны получить на рынке. Но вам нужно всего 15 тысяч часов. Тем самым фабрика пожинает плоды увеличения производительности в виде возросшей прибыли. Хозяин фабрики может сократить цены и расширить рыночную долю или забрать прибыль, выраженную разницей между 2 часами и 90 минутами. Затем вся отрасль промышленности начнет копировать эти инновации и новой нормальной ценой за предмет одежды станут 90 минут рабочего времени[227].
Это подводит нас к сути. Для повышения производительности мы увеличиваем «стоимость машин» в пропорции к используемому живому человеческому труду. Мы выводим людей из производственного процесса, и в краткосрочной перспективе – на уровне фирмы или отрасли – прибыль растет. Но, поскольку труд – это лишь источник дополнительной стоимости, как только инновации внедряются во всей отрасли и устанавливается более низкая средняя социальная стоимость, труда становится меньше, а станков больше. Доля операций, производящих прибавочную стоимость, уменьшается, и, если на это не обращается внимание, это оказывает давление на уровень прибыли в отрасли, заставляя его снижаться.
Инновации, стимулом к которым является потребность в минимизации издержек, в максимизации продукции и в использовании ресурсов, приводят к увеличению материального богатства. И они могут привести к росту прибыли. Однако после внедрения они создают неизбежную и долгосрочную «тенденцию к падению нормы прибыли» – если не уравновешиваются другими факторами.
Несмотря на катастрофическую ауру марксистского словосочетания «тенденция к падению нормы прибыли», для капитализма это, на самом деле, не катастрофа. Как мы видели в третьей главе, уравновешивающие факторы обычно достаточно сильны, чтобы компенсировать снижение содержания труда. Прежде всего, это делается путем создания новых отраслей, требующих факторов производства с более высокой стоимостью – как в форме более качественных физических товаров, так и в виде создания различных услуг.
Поэтому в классической модели капитализма, предложенной Марксом, стремление к повышению производительности увеличивает материальное богатство, но приводит к повторяющимся краткосрочным кризисам, а затем выливается в масштабные перемены, в результате которых система вынуждена сама повышать стоимость труда. Если она не может сделать рабочих достаточно богатыми, чтобы они могли покупать все товары, и не может найти новых потребителей на новых рынках, то нарастание стоимости машин по отношению к стоимости труда ведет к падению нормы прибыли.
Именно так выглядели все кризисы в эпоху дефицита: массовая безработица и простой заводов, вызванные обвалом доходности – и все это объяснялось при помощи трудовой теории стоимости.
Однако трудовую теорию также можно использовать для объяснения того, что происходит, когда товары и новые процессы могут производиться и осуществляться без применения какого-либо труда.
Однако, прежде чем исследовать это, мы должны рассмотреть альтернативную ценовую теорию, предлагаемую традиционной экономикой и известную под названием теории «предельной полезности».
Избегание «того, что будет»
Как и Маркс, основатели традиционной экономики начали с критики Рикардо. Его объяснение прибыли было нелогичным, говорили они, – его никак нельзя заставить работать. Их ответом стало перенесение экономической науки на другую почву – они занялись наблюдением видимых движений цен, спроса и предложения, ренты, налогообложения и процентных ставок.
В результате они создали теорию предельной полезности, которая гласила, что ничто не имеет изначальной стоимости помимо той, что готов заплатить покупатель в данный момент. Леон Вальрас, один из основателей маржинализма, утверждал: «Цены, по которым продаются товары, определяются рынком… в зависимости от их полезности и их количества. Никакие другие условия не должны приниматься в расчет, поскольку эти условия необходимы и достаточны»[228].
Эта «теория полезности» стоимости считалась архаичной уже во времена Адама Смита. Ключевым фактором, обеспечившим ее возрождение, стало добавление понятия предельности. «Объем стоимости определяется не средней, а конечной или предельной полезностью», – писал Уильям Смарт, английский популяризатор теории[229]. Прилагательное «предельный» означает лишь то, что вся стоимость заключается в той «добавке», которую вы хотите купить, а не во всем товаре. Поэтому последняя таблетка экстази в ночном клубе стóит больше, чем все остальные.
По мнению маржиналистов, наши ключевые психологические суждения в момент совершения покупки можно свести к следующему вопросу: «Больше ли моя потребность в покупке следующей вещи, будь то кружка пива, сигарета, презерватив, губная помада или поездка на такси, чем потребность в том, чтобы оставить последнюю банкноту в десять евро в кармане?»
Уильям Стенли Джевонс, английский пионер маржинализма, доказал, что, в принципе, эти тонкие суждения о полезности, которые он рассматривал как выбор между удовольствием и страданием, можно моделировать при помощи расчетов. Для выявления спроса и предложения нужна была лишь скользящая шкала мгновенных цен, а единственным логичным смыслом стоимости было «меновое отношение» – он предложил полностью отказаться от термина «стоимость».
Судя по всему, маржиналисты пытались освободить экономику от философии. Нельзя защищать капитализм, исходя из его «естественности», говорил Вальрас, единственное оправдание может состоять в том, что он эффективен и увеличивает богатство.
Однако в маржинализм встроен один ключевой идеологический момент, а именно допущение о том, что рынок «рационален». У Вальраса вызывала отвращение мысль о том, что экономические законы действуют вне зависимости от человеческой воли. Она приравнивала экономику к зоологии, а человеческий род – к животным. «Наряду со многими слепыми и неотвратимыми силами вселенной, – писал он, – есть сила независимая и осознающая себя, а именно воля человека»[230]. Новая экономика должна признать рынок выражением нашей коллективной рациональной воли, утверждал Вальрас. Но она должна быть математической. Одним ударом избавившись от своих этических и философских корней, она должна использовать абстрактные модели и рассматривать все ситуации в идеализированной форме.
Достижением маржинализма стало доказательство того, что рынки, управляемые свободной и совершенной конкуренцией, должны достичь «равновесия». Именно Вальрас превратил это в закон, который можно доказать: поскольку все цены являются результатом выбора, совершаемого рациональным индивидом (купить губную помаду или сохранить десятиевровую купюру?), то при истощении предложения рациональный выбор заключается в прекращении покупки данного товара. Вместе с тем, если предложение чего-либо увеличивается, для людей становится рациональным хотеть это приобрести и решить, какую цену за это платить. Предложение создает свой собственный спрос, говорит теория. Свободно функционирующий рынок будет «распродавать» товар, пока предложение не уравновесит спрос, а цены не изменятся.
Как и Маркс, Вальрас работал на высоком уровне абстракции. Его модель предполагает, что все экономические агенты располагают совершенной информацией, нет неясности относительно будущего и не существует никаких внешних факторов, влияющих на рынок (таких как монополии, профсоюзы, импортные пошлины и т. д.). Эти абстракции не являются несостоятельными до тех пор, пока мы не считаем, что они отражают реальность. Вопрос в следующем: была ли предельная полезность правильной абстракцией?
Одним из первых признаков того, что это не так, стало отношение маржиналистов к кризису. Они были настолько убеждены в присущей капитализму тенденции к равновесию, что считали, будто кризисы должны порождаться неэкономическими факторами. Джевонс на полном серьезе утверждал, что Долгая депрессия, начавшаяся в 1873 году, была лишь последней в ряду регулярных колебаний, вызванных «неким масштабным и широко распространенным метеорологическим влиянием, повторяющимся через определенные промежутки времени», т. е. солнечными пятнами[231].
Сегодня учебники по экономике исходят из открытий маржинализма. Однако, отдавая предпочтение математике перед «политической экономикой», маржиналисты создали дисциплину, которая игнорировала производственный процесс. Они свели психологию сделки к двухмерному балансу между удовольствием и страданием. Они не считали, что у труда есть какая-то особая роль[232]. Они исключали возможность того, что экономические законы могут действовать на глубинном, недоступном для наблюдения уровне, не зависящем от рациональной воли людей. Они свели всех экономических агентов к торговцам, отстранившись от классовых отношений и прочих отношений власти.
В своей наиболее чистой форме маржинализм отрицал не только возможность эксплуатации, но и прибыль как специфический феномен. Прибыль была лишь вознаграждением за полезность чего-то, что капиталист продавал: за его компетентность или, в более поздних формах теории, за его воздержание, т. е. за «страдание», которое он испытывал в процессе накопления своего капитала. Коротко говоря, маржинализм был сильно пропитан идеологией. Он привнес ту слепоту в рассмотрение проблем распределения и классов, которая до сих пор мешает профессиональной экономике, равно как и глубокое отсутствие интереса к тому, что происходит на рабочем месте.
Маржинализм появился потому, что управленцы, равно как и политики, нуждались в такой форме экономики, которая была бы чем-то бóльшим, чем бухгалтерский учет, но чем-то меньшим, чем историческая теория. Она должна была подробно описывать, как работает ценовая система, причем таким образом, чтобы не принимать во внимание ни классовую динамику, ни социальную справедливость.
Австрийский экономист Карл Менгер отразил внутреннюю психологическую мотивацию маржинализма в своей знаменитой критике Смита и Рикардо. Они были одержимы «богатством человека в теории, далекими вещами, тем, что еще не существует, а только будет в будущем. Поступая так, они… пренебрегали живыми, оправданными интересами настоящего». Цель экономики, согласно Менгеру, должна заключаться в изучении реальности, которую спонтанно создает капитализм, и в его защите от «однобокой рационалистической мании инноваций», которая «противоречит намерениям его представителей и неизбежно ведет к социализму»[233].
Одержимость маржинализма настоящим, его враждебность по отношению к будущему превратила его в блестящую модель для понимания таких форм капитализма, которые не меняются, не мутируют и не умирают.
К сожалению, они и не существуют.
Почему это важно?
Почему в эпоху больших данных, Spotify и высокочастотной торговли мы должны возиться со спорами, которые велись в середине XIX века?
Во-первых, потому, что они объясняют ослиное упрямство сегодняшней экономической науки, столкнувшейся с системным риском. Профессор экономики Стив Кин подчеркивает, что сегодняшний маржинализм, сводящий все к доктрине «эффективных рынков», способствовал краху. Традиционные экономисты сделали «и без того неблагополучное общество еще хуже: выросли неравенство и нестабильность, а “эффективность” уменьшилась»[234].
Но есть и вторая причина, связанная с тем, как именно мы описываем динамику информационного капитализма. Появление информационных товаров расшатывает самые основы маржинализма, потому что его базовой предпосылкой является тезис о дефиците, а информация имеется в изобилии. Вальрас, например, высказывался категорично: «Нет товаров, которые можно было бы увеличивать без ограничений. Все то, что является частью социального богатства… имеется только в ограниченном количестве»[235].
Расскажите об этом создателям «Игры престолов»: в 2014 году за первые сутки пиратскую версию второго эпизода четвертого сезона незаконно скачали 1,5 миллиона человек[236].
Информационные товары существуют в потенциально неограниченном количестве, и, когда это так, их настоящее маржинальное производство равно нулю. Более того, предельная стоимость некоторых физических информационных технологий (хранение данных и беспроводной широкополосный доступ в интернет) также стремится к нулю. Тем временем информационная составляющая других физических товаров растет, вследствие чего возрастает вероятность того, что производственные издержки все большего числа товаров также упадут. Все это разъедает сам ценовой механизм, который так хорошо описывает маржинализм.
На сегодняшний день экономика состоит как из тех товаров, которых не хватает, так и из тех, которые имеются в изобилии. Наше поведение – это смесь старого выбора между удовольствием и страданием, который совершается в наших эгоистических интересах, и коллективного использования и сотрудничества, в которых маржиналисты усматривают диверсию.
Однако в полноценной информационной экономике, где значительная часть услуг предоставлялась бы в виде информации, а физические товары имелись бы в относительном изобилии, ценовой механизм в том виде, в котором его описывает маржинализм, рассыпался бы. Поскольку маржинализм был теорией, касавшейся цен и только цен, он не мог осмыслить мир, где товары имеют нулевую цену, есть коллективное экономическое пространство, нерыночные организации и товары, которыми нельзя владеть.
А трудовая теория может. Она предсказывает и программирует собственное отмирание, т. е. прогнозирует столкновение между социальными формами, определяющими производительность, и самой производительностью.
Трудовая теория в трактовке Маркса предсказывает, что автоматизация может свести необходимый труд к столь незначительному объему, что труд станет необязательным. Теория гласит, что полезные вещи, для изготовления которых требуется небольшой объем человеческого труда, возможно, станут бесплатными, ими будут коллективно владеть и пользоваться. И это верно.
Карл Маркс и информационные машины
Переформулируем то, что Маркс называл «законом стоимости». Цена любой вещи в экономике отражает общий объем труда, необходимого для ее изготовления. Повышение производительности обеспечивается новыми процессами, машинами и реорганизациями – и каждый из этих факторов имеет свою стоимость, которая выражается в объеме труда, потребовавшегося для их осуществления. На практике капитализм избегает присущей инновациям тенденции к снижению содержания труда в экономике, а значит, и к снижению основного источника прибыли, создавая новые потребности, новые рынки и новые отрасли, в которых трудовые издержки высоки и увеличение зарплат стимулирует потребление.
Информационные технологии – это лишь последнее следствие процесса инноваций, который продолжается уже двести пятьдесят лет. Однако информация придает ему новую динамику. Ведь благодаря информационным технологиям становится возможным появление машин, которые ничего не стоят, служат вечно и не ломаются.
Если бы кто-нибудь попытался продать хозяину фабрики в Бангладеш швейную машинку, которая служит вечно, тот, наверное, поперхнулся бы своим завтраком. Однако он с удовольствием покупает программное обеспечение. Программное обеспечение – это машина, которая, будучи создана, служит вечно. Конечно, оно может устареть при появлении новых программ, но мир полон старых программ, которые могли бы работать вечно при условии, что удалось бы найти техническое оборудование для их использования.
После покрытия расходов на разработку стоимость производства программного обеспечения сводится к стоимости носителя, на котором оно хранится, или канала, через который оно скачивается (жесткий диск или оптико-волоконная сеть). Плюс модернизация и поддержка.
И эти издержки быстро сокращаются. Стоимость печатания миллиона транзисторов на кремниевой плате упала с 1 доллара до 6 центов за десять лет. Примерно за тот же период стоимость хранения гигабайта информации сократилась с 1 доллара до 3 центов, а стоимость 1 мегабита высокоскоростного соединения рухнула с 1 тысячи долларов в 2000 году до 23 долларов сегодня. Компания Deloitte, которая произвела эти расчеты, считает, что падение стоимости основных информационных технологий идет по экспоненте: «Нынешний темп технологического развития не имеет прецедентов в истории и не проявляет никаких признаков стабилизации, как это было с другими технологическими новшествами в истории, например с электричеством»[237].
Стало общим местом считать информацию «нематериальной». Норберт Винер, один из основателей теории информации, однажды воскликнул: «Информация – это информация, а не вещество и не энергия. Никакой материализм, который не признает этого, в наши дни не сможет выжить»[238].
Но это заблуждение. В 1961 году физик из IBM Рольф Ландауэр логически доказал, что информация носит физический характер[239]. Он писал: «Информация – это не бесплотная абстрактная сущность; она всегда связана со своим физическим отражением. Поэтому работа с информацией связана со всеми возможностями и ограничениями нашего реального физического мира, с его физическими законами и с его кладезью доступных элементов»[240].
Более того, он доказал, что обработка информации поглощает энергию и что возможно измерить количество энергии, используемой для удаления одного «бита» информации. В 2012 году группа ученых построила маленькую физическую модель, демонстрирующую «правило Ландауэра»[241].
Так что информация – это продукт, для производства которого требуется энергия и который существует как вещество. Биты реально существуют: они потребляют энергию, выделяют тепло и требуют места для хранения. Знаменитая платформа Google Cloud представляет собой парк кондиционируемых серверов, занимающий несколько акров.
Однако Винер правильно понял, что продукт вычислительных процессов качественно отличается от других физических продуктов.
Настоящее чудо информации не в том, что она нематериальна, а в том, что она искореняет потребность в труде в неограниченном масштабе. Она делает все то, что делает машина: заменяет дешевый труд квалифицированным, полностью устраняет труд при совершении отдельных операций и делает возможными новые операции, которые не могли осуществляться при помощи прежних форм труда. Потребительская ценность новой информации, создаваемой компьютером, многократно превышает стоимость составляющих ее частей.
Однако объемом труда, воплощенным в информационных продуктах, можно пренебречь. И как только знание становится поистине социальным, как предсказывал Маркс, выдвигая концепцию «всеобщего интеллекта», некоторая часть стоимости обеспечивается бесплатно следующим образом:
• информационные продукты естественным образом способствуют развитию общих научных знаний;
• их пользователи в режиме реального времени передают данные, которые позволяют их улучшить бесплатно;
• всякое улучшение знаний можно немедленно применить в любой машине, установленной где бы то ни было.
Например, интернет-протокол, изобретенный в 1974 году и опубликованный бесплатно, является «стандартом», а не продуктом. Но это не то же самое, что и, допустим, стандарт безопасности, которого должна придерживаться швейная фабрика. Он больше похож на электросеть, из которой фабрика черпает энергию: он полезен с материальной точки зрения. И бесплатен.
Что происходит, когда вы внедряете эти бесплатные машины в трудовую теорию стоимости? Маркс, как выясняется, это уже продумал.
В «Очерке критики политической экономики» Маркс говорит: если для изготовления машины требуется 100 дней труда и она изнашивается за 100 дней, то производительность не повышается. Намного лучше иметь машину, которая стоит 100 дней труда и изнашивается через 1000 дней. Чем долговечнее машина, тем меньшая часть ее стоимости передается каждому продукту. Если довести это до логического конца, то, в идеале, вы захотите иметь такую машину, которая вообще не изнашивается или замена которой ничего не стоит. Маркс понимал, что с экономической точки зрения это одно и то же: «Если бы капитал мог получать инструмент производства бесплатно, то к чему бы это привело? Прибавочная стоимость [выросла бы] без малейших затрат для капитала». Он указывает два способа, при помощи которых даже в XIX веке капитализм уже получал такой бесплатный подарок: реорганизация трудового процесса и научные открытия. Далее Маркс пишет: «Если бы машины служили вечно, если бы они сами не состояли из недолговечных материалов, которые необходимо воспроизводить… то это полностью соответствовало бы этой концепции»[242].
Мы должны были бы замереть от восхищения, прочитав эту невероятную догадку, высказанную при свете газовой лампы в 1858 году: идеальная машина – это машина, изготовленная из материала, который не подвержен износу и ничего не стоит. Здесь Маркс говорит не о нематериальном, а о непреходящем материале, т. е. о чем-то, что не разлагается.
Машины, в которых часть стоимости приходится на бесплатные социальные знания и науку, не чужды категориям трудовой теории. Они имеют ключевое значение для нее. Но Маркс думал, что если такие машины будут существовать в большом количестве, то они взорвут систему, основанную на трудовых ценностях, – «разнесут ее на части», как он пишет в «Отрывке о машинах».
Наглядный пример, который Маркс приводит в «Очерке», ясно показывает: машина, которая служит вечно или может быть произведена без применения труда, не может добавить рабочие часы к стоимости изготавливаемых ею товаров. Если машина служит вечно, она навсегда передает продукту почти нулевой объем трудовой стоимости, а значит, и стоимость этого продукта сокращается[243].
Конечно, в реальности физические машины еще не служат вечно, но в последние пятнадцать лет мы наблюдали, как создавались машины, чья полезность определяется информацией, при помощи которой они эксплуатируются, разрабатываются или производятся. И только трудовая теория может правильно оценить экономические последствия того, что произойдет, если мир физических предметов оживет благодаря информации.
Когда машины думают
В 1981 году я несколько месяцев проработал штамповщиком на небольшом машиностроительном заводе близ реки Мерси. Пресс работал за счет использования электричества и сжатого воздуха: когда поднимаешь рычаг, он опускает станок на металлический диск, придавая ему нужную форму. Моя работа заключалась в том, чтобы поместить диск на штамп, опустить рычаг и отдернуть пальцы до того, как пресс опустится. Это была неквалифицированная работа, операция повторялась десять раз в минуту, и всегда получалось много брака. В штамповочном прессе не было никакого информационного механизма обратной связи; не было никакой автоматики – только физическое движение молота.
Надо мной было два наладчика, работники средней квалификации, которые закрепляли станок и поправляли его каждые несколько часов. В следующей комнате сидели квалифицированные слесари по металлу, которые изготавливали инструменты. С нами они никогда не разговаривали. Тем не менее общим у всех нас было вот что: без ловких пальцев и острого глаза, замечающего брак, скрытую опасность и неправильные процессы, на фабрике ничего не могло работать.
Сегодня штамповка металла почти полностью автоматизирована. Операция сначала отрабатывается на компьютере с использованием тысяч параметров металла, моделируемых математически для того, чтобы понять, какое давление оказывается на металл. Затем трехмерный чертеж загружается непосредственно в компьютер, который управляет станком. Штамп и станок зачастую устроены намного более мудрено по сравнению с теми, на которых я работал в 1981 году, – и теперь их направляют лазерные лучи, обеспечивающие бóльшую точность. Если что-то идет не так, компьютер, управляющий станком, знает об этом. Когда станок выдает бракованную деталь, робот забирает ее, анализирует и располагает ровно там, куда она должна отправиться дальше. А когда нужно поменять инструмент, это делает рука робота.
Такие машины за час могут сделать столько, сколько мы делали за день, без дефектов и без отпечатков пальцев на рабочем месте – потому что рабочих нет. Это стало возможным благодаря разнообразному применению информационных технологий – компьютерному анализу и трехмерной проектировке на стадии подготовки, обратной передаче данных в режиме реального времени и аналитике в процессе производства и, наконец, сохранению данных для последующего совершенствования процесса. Теперь исследователи изучают, как автоматизировать производство самих инструментов и даже проектирование при помощи компьютерных моделей.
В общем, машина живет за счет информации, равно как и продукт: автоматизированные фабрики требуют, чтобы даже мелкие детали индивидуализировались посредством штрихкодов и номеров. Пресс может добавить и их.
Мы пережили революцию в одной из основных операций промышленного капитализма – ковке металла. Однако никто не удосужился облечь это в теорию, потому что научная литература об автоматизированной штамповке металла относится к кафедре инженерного дела, а не экономики[244].
А все потому, что, как мы уже видели, никто не знает, как измерить стоимость информации в экономических категориях. Можно увидеть последствия покупки автоматизированного пресса в графе прибыли компании; можно оценить трехмерные чертежи и классифицировать компьютерные программы как активы, однако, как показало исследование SAS Institute, в целом нам приходится гадать.
Трудовая теория дает нам лучшие инструменты для понимания, чем гадание. Благодаря ей мы можем рассматривать программное обеспечение как машину, а информацию (трехмерное проектирование, программы, контрольные отчеты) – как завершенную работу, точно так же, как мы рассматриваем инструменты и металлический штамп. И это позволяет нам проследить процесс, посредством которого эффект «нулевой предельной стоимости» чистых информационных товаров распространяется на мир физических продуктов и производящих их машин.
В моем прессовом цеху в начале 1980-х годов работало около двадцати пяти человек. Сегодня для выполнения операций подобного масштаба вам понадобится менее пяти рабочих. Ключевая разница заключается в программном обеспечении, лазерных сенсорах и роботах.
Стоимость этого промышленного программного обеспечения полностью зависит от патентного права, которое не допускает его бесплатного использования и копирования. Хотя его труднее скопировать, чем, допустим, DVD-диск или художественный фильм, принцип остается тем же: стоимость воспроизведения промышленного программного обеспечения равна нулю, а добавленная стоимость содержится в работе по его установке на отдельные станки и по подчинению ему производственных процессов.
Хотя запахи и звуки в токарной мастерской такие же, как и тридцать лет назад, она отличается от той, в которой работал я, так же, как трек в iTunes отличается от записи на виниле.
Бесплатные машины в смешанной экономике
Мы видели, что происходит, если включить товары с нулевой предельной стоимостью в ценовую модель: она обрушивается. Теперь мы должны смоделировать, что происходит, если бесплатные машины внедряются в цикл капиталовложений.
Ясности ради я использую базовую модель со всеми опасностями, вытекающими из чрезмерного упрощения.
Предположим, что в таблице, отражающей издержки экономики с точки зрения трудовой стоимости, есть четыре строки. Единицами измерения могут быть миллионы часов рабочего времени. Предположим, что труд, передаваемый конечному продукту в Период № 1, выглядит следующим образом:
• капитал = 200
• энергия = 200
• исходные материалы = 200
• труд = 200
Строка капитала в таблице всегда отличается в трудовой теории, поскольку машины передают свою стоимость продукту в течение многих лет, тогда как в трех остальных строках стоимость потребляется в текущий момент. Поэтому строка капитала может отражать машины, которые стоят 1000 единиц стоимости, раскладывающихся на 200 единиц в год в рамках общего выпуска продукции за пятилетний период.
Теперь внесем в строку капитала кое-какие радикальные изменения: предположим, что она отражает одну-единственную машину, которая служит вечно. В трудовой теории это немедленно и навсегда сводит к нулю труд, передаваемый из строки капитала. Неважно, какими были начальные затраты (выраженные в часах, потраченных на изготовление этой машины) – если она служит вечно, она практически не передает стоимость, потому что даже миллиард, деленный на «вечно», дает ноль.
Общее количество рабочих часов, передаваемых всеми факторами производства конечной продукции, теперь сокращается до 600 (дотошные марксисты заметят, что я не включаю прибыль в эту модель, но – смотрите ниже).
Теперь исследуем таблицу во времени: в Период № 2 нулевой эффект в строке капитала дает о себе знать, сокращая количество рабочих часов, передаваемых конечному продукту, ведь теперь для воспроизводства труда нужно меньше часов. Если вы продолжите развивать эту модель, не пытаясь противодействовать давлению, снижающему трудовые издержки, очень скоро не только капитальные затраты сведутся к нулю, но и издержки на труд и исходные материалы сильно уменьшатся. Конечно, в реальной экономике машины не служат вечно. Но поскольку они насыщены информацией, часть труда, необходимого для их производства, больше не совершается так, как раньше. Стоимость испаряется.
Доведем эту таблицу до конца, пройдя через несколько временных периодов, на протяжении которых капитал и труд падают до уровня нулевых предельных издержек воспроизводства. Теперь необходимый труд сосредоточен прежде всего в обеспечении энергией и физическим сырьем. Если бы это происходило в реальной жизни, то, поскольку закон стоимости действует глубоко, ценовая система могла бы действовать в нормальном режиме, пытаясь рассчитать предельную полезность вещей. По мере того как падали бы цены, корпорации в ответ, возможно, пытались бы установить монопольные цены для того, чтобы предотвратить снижение стоимости, воплощенной в машине и ее продуктах, до нуля. Однако традиционная экономика была бы в замешательстве. Возникло бы впечатление, будто целые пласты экономической деятельности «украдены» у нормальной рыночной структуры.
И даже несмотря на то, что мы еще далеки от чистой информационной экономики, смоделированной здесь в самых общих чертах, мы уже можем ощутить эти последствия в реальной жизни. Возникают монополии, пытающиеся не допустить того, чтобы программное обеспечение или информационные товары стали бесплатными. Стандарты бухгалтерского учета подтасовываются, когда компании принимаются гадать о стоимости. Предпринимаются попытки стимулировать рост зарплат в то время, как большая часть факторов, обеспечивающих труд, теперь может производиться с меньшими затратами труда.
В своем первом макроэкономическом исследовании интернета, проведенном в 2013 году, ОЭСР признавала: «Хотя интернет, безусловно, оказал далеко идущее влияние на рыночные сделки и на добавленную стоимость, его влияние на нерыночные взаимодействия… еще глубже. Нерыночные взаимодействия во многом характеризуются отсутствием ценового механизма и механизма рыночного саморегулирования».
Маржинализм не предлагает никаких параметров или моделей, благодаря которым можно было бы понять, как ценовая экономика становится, по сути, неценовой. Как писали авторы ОЭСР: «Нерыночным взаимодействиям уделялось мало внимания, поскольку было принято очень мало четко определенных и обоснованных инструментов измерения – если таковые вообще имелись»[245].
Так что признаем, что только маржинализм позволяет нам выстраивать ценовые модели в капиталистическом обществе, где всего недостает. Вместе с тем подчеркнем: лишь трудовая теория дает нам возможность выстраивать модели, в которых последствия нулевых издержек начинают перетекать от информации к сфере машин и продуктов, а оттуда – к трудовым издержкам.
Как только вы включаете бесплатные машины и продукты, которые существуют значительное время, в модель капитализма, пусть даже такую грубую, как эта, она приводит к столь же потрясающим последствиям, к каким в математике привело внедрение цифры ноль.
На самом деле, в таблице с четырьмя строками, описанной выше, должна была бы быть еще одна строка прибыли, а каждая стоимость должна была бы не сокращаться, а расти, скажем, на 3 % в год, что отражало бы рост ВВП. Но предположим, что вы добавили прибыль и рост. Как только начинает действовать эффект нулевых предельных издержек, огромные прибыли и рост должны были бы компенсировать воздействие бесплатных машин на трудовые издержки. Иными словами, новые промышленные перевороты должны были бы происходить каждые 15 лет, номинальный рост должен был бы быть очень быстрым, а монопольные фирмы должны были бы стать еще больше.
Но этого не происходит.
Капитализм функционировал до тех пор, пока при снижении издержек за счет технологических новшеств в отдельных отраслях капитал мог перемещаться в отрасли с более высокими зарплатами, прибылями и издержками. Капитализм не воспроизводит сам себя в том случае, когда результатом являются нулевые издержки.
Эта упрощенная модель также позволяет нам ясно увидеть, как в обществе с нулевыми производственными издержками экономика быстро фокусируется на энергии и сырье: именно они становятся той отраслью, в которой по-прежнему царит дефицит. Ниже мы исследуем, как моделирование такого исчезновения трудовой стоимости может перейти в разработку стратегий перехода и как в них встраиваются вопросы, связанные с энергией. Пока же обратимся к тому, как может развиваться капитализм для того, чтобы справиться с этими экономическими вызовами.
Как мог бы выглядеть информационный капитализм?
Появление бесплатной информации и бесплатных машин – явление новое. Однако сокращение издержек за счет производства старо, как и сам капитализм. От планомерного падения цен капитализм удерживает создание новых рынков, новых потребностей и увеличение количества социально необходимого рабочего времени, которое используется для их удовлетворения (мода вместо тряпья, телевидение вместо журналов), что, в свою очередь, увеличивает количество рабочего времени, воплощенного в каждой машине, продукте или услуге.
Если бы этот встроенный рефлекс мог работать надлежащим образом, то в условиях информационной революции мы бы получили полноценный информационный капитализм. Однако работал бы он следующим образом.
Ему пришлось бы воспрепятствовать падению цен на информационные товары за счет установления монопольных цен: представьте себе раздутые Apple, Microsoft и Nikon/Canon. Ему пришлось бы максимизировать присвоение внешних эффектов корпорациями. Всякое взаимодействие – между производителем и потребителем, между потребителями, между друзьями – должно было бы иметь свою стоимость (с точки зрения трудовой теории наша нерабочая деятельность должна преобразовываться в бесплатную работу в пользу корпораций). Цветущий информационный капитализм, возможно, пытался бы искусственно поддерживать высокие цены на энергию и физическое сырье посредством накопления запасов и других видов монополистического поведения, вследствие чего издержки на них приводили бы к повышению среднего рабочего времени, необходимого для воспроизводства труда. И самое главное ему пришлось бы создавать новые рынки за рамками производства, т. е. в сфере услуг. На протяжении 250 лет истории капитализма рыночные силы проникали в отрасли, где прежде их не было. Информационный капитализм должен был бы довести этот процесс до конца и создать новые формы межличностных микроуслуг, оплачиваемых микроплатежами, прежде всего, в частном секторе.
И наконец, чтобы достичь успеха, информационный капитализм должен был бы найти работу для миллионов людей, чьи рабочие места были автоматизированы. Их нельзя было бы заменить множеством низкооплачиваемых рабочих мест, поскольку традиционный механизм выхода из кризиса предполагает, что трудовые издержки растут. Человеческая жизнь должна усложняться и требовать бóльших, а не меньших трудовых издержек, как это было в четырех восходящих фазах, описанных теорией длинных циклов.
Если бы все это случилось, информационный капитализм мог бы состояться. Предпосылки для этого в современных экономиках есть: Apple – классический ценовой монополист, бизнес-модель Amazon представляет собой классическую модель присвоения внешних эффектов. Спекуляция на товарах – это классический стимул, повышающий издержки на энергию и сырье выше их стоимости, а распространение микроуслуг – уход за собаками, маникюрные салоны, личные консьержи и т. п. – показывает, что капитализм коммерциализирует те виды деятельности, которыми раньше мы занимались в рамках дружеских или неформальных отношений.
Однако у такого варианта развития событий есть очевидные структурные препятствия.
Во-первых, нормальный выход из этой ситуации – инновации создают дорогие новые технологии, заменяющие информационные, – заблокирован. Информация – это не какая-то случайная технология, которая вдруг появилась и от которой можно уйти, как от парового двигателя. Она заражает все будущие инновации динамикой нулевых цен: биотехнологии, космические полеты, изменение структуры мозга или нанотехнологии и другие, которые мы даже представить себе не можем. Единственным способом устранить последствия внедрения информации из этих грядущих технологий мог бы стать запрет компьютеров и их замена дорогостоящими специалистами в области вычислений, как это описано в научно-фантастическом романе Фрэнка Герберта «Дюна».
Второе препятствие – это масштаб перестройки рабочей силы. Во времена Маркса в США было 82 тысячи офисных работников, что составляло 0,6 % рабочей силы. К 1970 году, т. е. накануне информационной революции, их число достигло 14 миллионов – каждый пятый трудящийся[246]. Сегодня, несмотря на автоматизацию и исчезновение самых разных категорий умственного труда, таких как банковские кассиры, стенографисты, операторы вычислительных машин и т. д., – «офисные работники и сотрудники служб административной поддержки» остается самой крупной рабочей категорией в США, на которую приходится 16 % рабочей силы, следующая категория – это «менеджеры по продажам» с их 11 %[247].
В исследовании Оксфордской школы Мартин, проведенном в 2013 году, утверждалось, что 47 % всех рабочих мест в США можно автоматизировать. Из них самая высокая степень риска – у административных работников и продавцов. В ближайшие 20 лет, предсказывали авторы исследования, произойдет две волны компьютеризации: «В первую волну мы обнаружим, что большинство работников, занятых в сферах транспорта и логистики, равно как и основную массу административных и офисных работников и работников производственной сферы, вероятно, заменит компьютерный капитал»[248].
В ходе второй волны все, что связано с ловкостью пальцев, наблюдениями, обратной связью или работой в тесном пространстве, подвергнется роботизации. Они пришли к выводу, что лучше всего от автоматизации застрахованы рабочие места в сфере услуг, где требуется глубокое понимание взаимодействия между людьми – как, например, в уходе за детьми – и работа, основанная на использовании творческих способностей.
Исследование вызвало бурную реакцию, выразившуюся в привычных категориях недопотребления: роботы убьют капитализм, потому что создадут неполную занятость в массовом масштабе, что приведет к обвалу потребления. Это реальная угроза. Чтобы ее преодолеть, капитализм должен был бы значительно расширить сектор человеческих услуг. Мы должны превратить значительную часть того, что сейчас делаем бесплатно, неформально, в оплачиваемый труд. Помимо секс-индустрии, у нас должна появиться «работа в сфере привязанности»: начало этого можно усмотреть в наемных подругах, выгульщиках собак, домашних уборщиках, садовниках, доставщиках продуктов и личных консьержах. Богачи уже окружены такими постмодернистскими слугами, но для замены 47 % всех рабочих мест потребуется массовая коммерциализация обычной человеческой жизни.
И здесь мы сталкиваемся с третьим препятствием – тем, что философ Андре Горц называл «пределами экономической рациональности»[249]. На определенном уровне человеческая жизнь и взаимодействие между людьми сопротивляется коммерциализации. Экономика, в которой большое количество людей оказывает микроуслуги друг другу, может существовать, но как форма капитализма она будет крайне неэффективна и будет характеризоваться низкой стоимостью.
Можно платить зарплаты за домашнюю работу, превратить все сексуальные отношения в оплачиваемую работу, мамы со своими чадами в парке могут взимать друг с друга по пенни всякий раз, когда приходит их очередь толкать качели. Но такая экономика будет противоречить технологическому процессу.
Раннему капитализму, заставлявшему людей работать на фабриках, пришлось превратить значительные пласты нерыночной жизни в серьезные преступления. Если вы теряли работу, вас арестовывали как бродягу. Если вы охотились на дичь, как всегда делали ваши предки, дело могло закончиться виселицей. В сегодняшних условиях эквивалентом таких действий стало бы не только продвижение коммерциализации в самые глубокие поры повседневной жизни, но и криминализация сопротивления ей. Вы должны были бы обращаться с бесплатно целующимися людьми, как обращались с браконьерами в XIX веке. Это невозможно.
Поэтому реальная угроза, которая исходит от роботизации, заключается не просто в массовой безработице, а в исчерпании 250-летней тенденции капитализма к созданию новых рынков там, где старые истощались.
Есть еще одно препятствие – право собственности. Для присвоения внешних эффектов в насыщенной информацией экономике капитал должен расширять права владения на новые сферы. Капитал должен владеть нашими селфи, плейлистами, не только нашими опубликованными научными работами, но и исследованиями, которые мы провели, чтобы их написать. И тем не менее сами технологии дают нам возможности сопротивляться этому и делают это невозможным в долгосрочном плане.
Поэтому на самом деле мы имеем дело с информационным капитализмом, который борется за свое существование.
Мы должны были бы пережить третий промышленный переворот, но он застопорился. Те, кто винят в его провале слабую политику, непродуманную стратегию инвестирования и самонадеянность финансов, путают болезнь с ее симптомами. Те, кто по-прежнему пытаются наложить кооперативные правовые нормы на рыночную структуру, упускают из виду главное.
Экономика, основанная на информации с ее тенденцией к созданию продуктов с нулевыми издержками и со слабыми правами собственности, не может быть капиталистической.
Полезность трудовой теории состоит в том, что она это отражает и позволяет нам использовать одни и те же параметры для измерения рыночного и нерыночного производства, чего экономисты ОЭСР сделать не могут. Важнее всего то, что она дает нам возможность спроектировать процесс перехода так, что мы будем знать, чего мы пытаемся достичь: мира бесплатных машин, нулевых цен на базовые товары и минимума необходимого рабочего времени.
Возникает следующий вопрос: кто всего это добьется?
Глава 7. Прекрасные смутьяны
В 1980 году французский интеллектуал Андре Горц заявил, что рабочий класс умер. С социальной точки зрения он был постоянно разделен и культурно обездолен, а его роль двигателя общественного прогресса была исчерпана.
Эта мысль была высказана поразительно не вовремя. С тех пор рабочая сила в мире удвоилась. В результате перевода производств в другие страны, глобализации и вступления бывших коммунистических стран в мировой рынок число наемных работников превысило 3 миллиарда[250]. Вместе с тем изменилось само понимание того, кто есть рабочий. На протяжении более ста пятидесяти лет слово «пролетариат» означало по большей части белых трудящихся мужчин, занимающихся ручным трудом и сосредоточенных в развитом мире. За последние тридцать лет рабочая сила стала состоять из представителей многих рас, в большинстве своем женщин, сосредоточенных на глобальном Юге.
И все же в одном отношении Горц был прав. За те же тридцать лет сократилось число членов профсоюзов, ослабли переговорные позиции труда в развитом мире, упала доля зарплат в ВВП. В этом заключается первопричина проблемы, на которую сетует Томас Пикетти: невозможность рабочих отстаивать свою долю в общем производстве и рост неравенства[251].
Помимо материальной слабости, рабочее движение пережило идеологический крах, который на фабриках Найроби и Шэньчжэня ощущается так же остро, как и в городах промышленного пояса Европы и Америки. Политический разгром левых после 1989 года был настолько полным, что, как писал философ Фредрик Джеймисон, стало проще представить себе конец света, чем конец капитализма[252]. Если выразить это еще резче, стало невозможным представить, как такой рабочий класс – дезорганизованный и порабощенный консюмеризмом и индивидуализмом – может ниспровергнуть капитализм. Старая последовательность – массовые забастовки, баррикады, советы и власть рабочего класса – выглядит утопической в мире, где ключевая составляющая, а именно солидарность на рабочем месте, ушла в самоволку.
Оптимисты из числа левых возражали, что эти поражения были лишь циклическим явлением, что казалось правдоподобным: в истории рабочего движения прослеживаются четкие модели образования и разложения, которые хорошо сочетаются с кондратьевскими длинными циклами.
Но они ошибались. Это стратегическое изменение. Те, кто по-прежнему верит, что пролетариат – это единственная сила, которая может вывести общество за пределы капитализма, не принимают во внимание две ключевые черты современного мира: к посткапитализму ведет иной путь, а движущей силой изменений теперь потенциально может быть любой человек на земле.
Процесс формирования новой рабочей силы на фабриках в Бангладеш и в Китае столь же жесток, как и тот, через который английские рабочие прошли двести лет назад. Как можно забыть трудовой договор на китайских заводах компании Foxconn, работающей на Apple, который заставлял рабочих подписываться под обещанием не совершать самоубийство под влиянием стресса, испытываемого на рабочем месте?[253]
Тем не менее на этот раз процессу индустриализации не удается уничтожить социальные и идеологические хитросплетения доиндустриальной жизни. Этническое соперничество, связи между членами деревенских общин, религиозный фундаментализм и организованная преступность – на глобальном Юге организаторы труда постоянно сталкиваются со всеми этими препятствиями, которые им не под силу преодолеть. И помимо этих старых проблем, есть новое явление: то, что я назвал «расширенным влиянием индивида» и, как следствие, способность людей, объединенных в сеть, поддерживать множество идентичностей[254].
И хотя двадцать пять лет назад предполагалось, что эта новая рабочая сила на глобальном Юге будет носить периферийный характер по отношению к основной рабочей силе западного капитализма, сегодня она тоже разделена на ядро и периферию. Когда Международная организация труда исследовала рабочую силу на глобальном Юге по уровню доходов, она обнаружила, что на разных уровнях доходов (от 2 долларов в день до суммы, в пять раз большей) наблюдалось равное количество промышленных рабочих. Значит современный промышленный сектор состоит как из бедных временных рабочих, так и из тех, кто обладает более высоким статусом и доходом. На фабрике в Нигерии имеется такое же расслоение по уровню квалификации и доходов, как и на родственных ей фабриках в Кёльне или Нэшвилле.
Старое рабочее движение черпало силу в сплоченности. Оно процветало в локальных экономиках, которые были в первую очередь индустриальными, и в обществах, чьи политические традиции позволяли поглотить и преодолеть технологические изменения. Неолиберализм разрушил эти общества в развитых странах и осложнил их создание в остальной части мира.
На почве временной работы, крайней нищеты, трудовой миграции и жизни в трущобах, характерных для глобального Юга, не могло возникнуть что-либо сравнимое с коллективностью и сознательностью западного рабочего движения времен его расцвета. Только там, где национальные элиты имеют организованную опору в виде профсоюзов, рабочее движение располагает таким же влиянием, что и в ХХ столетии: в Аргентине при Киршнерах, например, или в Южной Африке при Африканском национальном конгрессе. В то же время, хотя в развитом мире костяк профсоюзных активистов тяготеет к старым методам и старой культуре, формирующийся класс молодых временных рабочих обнаруживает, что, как это случилось в Афинах в декабре 2008 года, проще самовольно занимать здания и бунтовать, чем вступить в профсоюз.
Андре Горц ошибался во многом, но был прав, когда говорил о причинах. Труд – определяющий вид деятельности при капитализме – теряет свое центральное положение как по отношению к эксплуатации, так и по отношению к сопротивлению.
Быстрый рост производительности, обеспеченный компьютерами и автоматизацией, утверждал Горц, превратил сферу, лежащую за пределами работы, в главное поле битвы. Все утопии, основанные на труде, прежде всего марксизм, закончились, говорил он. На их месте должны были бы появиться новые утопии, борьба за построение которых велась бы без удобного подспорья в виде исторической определенности и без помощи класса, назначенного на роль невольного спасителя. Такие заявления казались мрачными и слегка безумными в 1980-е годы, когда люди стояли плечом к плечу на митингах. Но сегодня предположения Горца можно обосновать чем-то более конструктивным, чем разочарование.
Как мы видели, информационные технологии вытесняют труд из производства, разрушают ценовые механизмы и поощряют нерыночные формы обмена. В конечном счете они полностью уничтожат связь между трудом и стоимостью.
Если это так, то сегодняшний упадок организованного труда является не просто циклическим явлением или результатом поражения, а имеет не меньшее историческое значение, чем его становление двести лет назад. Если у капитализма должно быть начало, середина и конец, то же должно происходить и с организованным трудом.
Как и в природе, да и в диалектической логике, конец обычно представляет собой «отрицание», понятие, которое одновременно сочетает в себе разрушение чего-то и его выживание в иной форме. Рабочий класс хоть и не умер, но сейчас переживает «отрицание». Он выживет, но обретет настолько отличную форму, что, вероятно, будет казаться чем-то иным. Как историческому субъекту ему на смену приходит разнообразное глобальное население, для которого полем битвы являются все аспекты жизни общества, а не только труд, и чей стиль жизни характеризуется не солидарностью, а непостоянством.
Те, кто первыми обнаружили таких подключенных к сети индивидов, спутали их с нигилистами, которые ни в коей мере не способны осуществлять изменения. Я, напротив, утверждал (в книге «Почему пожар разгорается повсюду» в 2012 году), что новые волны борьбы, поднявшиеся в 2011 году, показывают, что эта группа борется, отстаивая схожие, предопределенные технологиями ценности повсюду, где бы ни пришлось выходить на улицы.
Если это так, нужно сказать то, что многие левые воспримут болезненно: марксизм ошибался относительно рабочего класса. Пролетариат ближе всего подошел к тому, чтобы стать самым просвещенным коллективным историческим субъектом, которого когда-либо порождало человеческое общество. Однако двести лет опыта показывают, что он пытался «жить, несмотря на капитализм», а не низвергнуть его.
К революционным действиям рабочих вынуждали социальные и политические кризисы, причиной которых зачастую были войны и невыносимые репрессии. В тех редких случаях, когда они захватывали власть, они не могли предотвратить ее узурпации элитами, выступавшими под ложными флагами. Парижская коммуна в 1871 году, Барселона в 1937 году, русская, китайская и кубинская революции – все подобные события это подтверждают.
Левая литература полна оправданий этой двухсотлетней истории поражений: государство было слишком сильным, руководство слишком слабым, «рабочая аристократия» слишком влиятельной, сталинизм перебил революционеров и похоронил истину. В конечном итоге все оправдания сводятся к двум: плохие условия или плохие вожди.
Рабочее движение создало свободное пространство для человеческих ценностей внутри бесчеловечной системы. Из самых глубин нищеты выходили создатели того, что мы сегодня называем «прекрасными неурядицами» (beautiful trouble): мученики, самоучки и светские святые. Но, хотя рабочий класс был далек от того, чтобы стать неосознанным носителем социализма, он понимал, чего хотел, и выражал это своими действиями. Он хотел более жизнеспособной формы капитализма.
Это не было следствием умственной отсталости. Это была открытая стратегия, основанная на том, что марксистская традиция так и не смогла осмыслить: сохранение рабочими своих навыков, самостоятельности и статуса.
Когда мы поймем, что на самом деле произошло с трудом на протяжении четырех долгих циклов промышленного капитализма, значимость его трансформации в пятом цикле станет очевидной. Информационные технологии делают возможным упразднение труда. Этому препятствует лишь социальная структура, которая нам известна под именем «капитализм».
Фабрика как поле боя (1771–1848)
Первая настоящая фабрика была построена в Кромфорде, в Англии, в 1771 году. До сих пор можно увидеть каменный цоколь, на котором была установлена первая машина. Для любого гуманиста этот заросший мхом каменный цех должен был быть священным. Именно на этом месте социальная справедливость перестала быть мечтой – впервые в истории борьба за нее стала возможной.
В 1770-е годы это пространство было заполнено женщинами и детьми. Разговаривать им запрещалось. Работали они в клубах хлопковой пыли, натягивая нити на сложных прядильных машинах, которые управлялись взрослыми мужчинами, именовавшимися «прядильщиками». Каждого на фабрике вынуждали обучаться новой культуре труда: следовать часам нанимателя, а не часам своего тела, внимательно относиться к выполнению задачи, не обсуждать инструкции и подвергаться риску серьезных травм по тринадцать часов в сутки. У любой другой группы в обществе были корни, культура и традиции, у фабричной же рабочей силы не было ничего – она была новой и уникальной. В первые тридцать лет это давало возможность управлять этой системой такими методами, которые безжалостно разрушали человеческую жизнь.
Но рабочие стали сопротивляться. Они начали организовываться. Они создали культуру самообразования. И когда в 1818–1819 годах восходящая фаза первой длинной волны стала выдыхаться, устроили массовые забастовки, в которых вопросы заработной платы увязывались с проблемами демократии. Великобритания оказалась в двадцатилетнем политическом кризисе, сопровождавшемся многочисленными вспышками революционного насилия.
Маркс и Энгельс, писавшие в начале 1840-х годов, более чем двадцать лет спустя после начала этого движения, обнаружили в рабочем классе готовое решение одной философской проблемы. Немецкие левые из числа среднего класса стали пламенными коммунистами: они стремились к бесклассовому обществу, основанному на отсутствии собственности и религии – и на полной свободе от труда. В рабочем классе Маркс внезапно открыл ту силу, которая могла все это осуществить.
Маркс утверждал, что именно ужасные жизненные условия рабочих обеспечивали их историческую судьбу. В марксистской схеме отсутствие собственности, отсутствие ремесла, навыков, религии и семейной жизни – и полное отчуждение от почтенного общества – превращало пролетариат в носителя новой социальной системы. Сначала он достигнет классовой сознательности, а затем захватит власть для того, чтобы уничтожить собственность, покончить с отчуждением от труда и начать строить коммунизм.
Лучше всего отношение пролетариата к судьбе выражается так: оно было сложным.
Разумеется, рабочие осознали свои коллективные интересы. Но затем, даже в очень тяжелых условиях 1810-х годов, они создали нечто положительное: не «социалистическую сознательность», а революционное республиканское движение, вдохновлявшееся принципами обучения, гуманизма и работы над собой.
В 1818 году манчестерские прядильщики хлопка устроили массовую забастовку. Затем в течение 1819 года по всей северной Англии рабочие устраивали ночные школы и клубы, обсуждали политику, выбирали делегатов в городские комитеты и образовывали женские группы. Из этих встреч летом 1819 года родилось массовое движение за демократию – неофициальные общественные собрания, на которых выбирались неофициальные члены парламента. Когда 16 августа 1819 года, вопреки закону, сто тысяч рабочих собрались на поле Святого Петра в Манчестере, они были рассеяны кавалерийской атакой.
Бойня при Питерлоо обозначила начало настоящего движения промышленных рабочих. Она также подготовила первую попытку борьбы с социальным недовольством при помощи автоматизации.
В теории прядильщики в большинстве своем должны были быть мужчинами, потому что прядильная машина, известная как «мюль-машина», требовала крепких рук, которые должны были четыре раза в минуту двигать туда-обратно комплект веретен. Истинная цель носила социальный характер: проще было добиться дисциплины на фабрике, опираясь на группу суровых, лучше оплачиваемых рабочих-мужчин, чем иметь дело напрямую с женщинами и детьми[255].
Когда к началу 1820-х годов квалифицированные мужчины стали активистами, единственным способом избавиться от них оказалась автоматизация. В 1824 году была запатентована «автоматическая мюль-машина», и вскоре тысячи их были внедрены на производстве. Работодатели объявили, что в будущем машины будут полностью управляться женщинами и детьми, поскольку «операторам только и придется что следить за ее движениями»[256].
Однако на деле все произошло как раз наоборот.
После 1819 года прядильщики-мужчины регулярно устраивали забастовки против найма женщин. Они отказывались обучать девушек своей работе, которая открыла бы им доступ к более высокой квалификации, и настаивали на том, чтобы на их место выбирали их сыновей. В 1820–1830-е годы те немногие женщины, которые удерживались на местах прядильщиц, были выдавлены, а к 1840-м годам мужчины добились полного господства. И, как показала историк Мэри Фрифельд, новые машины не устранили потребности в высокой квалификации, а лишь создали новые технические навыки, которые пришли на смену старым: «Одну комплексную задачу сменила другая, тогда как контроль качества и функции интеллектуального надзора остались неизменными»[257].
Я так подробно описал этот эпизод потому, что он много раз повторялся в течение последующих двух столетий. Подлинную историю труда нельзя представлять по схеме «экономика плюс технологии». Она включает в себя взаимодействие технологий с организациями, созданными рабочими, а также складывание властных отношений, в основе которых лежат различия в возрасте, поле и национальности.
Более того, этот случай опровергает дорогой многим фрагмент из «Капитала» Маркса. Ведь Маркс, писавший в 1850-е годы, использовал автоматическую мюль-машину как главный пример, иллюстрирующий тенденцию капитализма к устранению квалифицированного труда и подавлению рабочей силы. «Машина, – писал он, – становится самым мощным боевым орудием для подавления периодических возмущений рабочих, стачек и т. д. <…> Прежде всего мы напомним об автоматической мюль-машине…»[258]
Источником путаницы можно считать его соратника Фридриха Энгельса. Когда Энгельс прибыл в Манчестер в 1842 году, все рабочие города приняли участие во всеобщей стачке и потерпели поражение. С помощью своей любовницы Мэри Бернс, происходившей из рабочего класса, двадцатидвухлетний Энгельс обошел фабрики, трущобы и хлопковые биржи, собирая данные для первой серьезной работы по материалистической социологии: «Положение рабочего класса в Англии».
Как антрополог Энгельс во многом оказался прав, описывая жизнь в трущобах, почти полное отсутствие верований и пиетета к религии среди рабочих, их пристрастие к выпивке, опиуму и случайному сексу. Неправ он был в оценке влияния автоматической мюль-машины. Он писал:
…в результате всех усовершенствований машин… работа взрослых мужчин таким образом сводится к простому наблюдению, которое вполне могут осуществлять и слабосильная женщина и ребенок, получающие за это в два или даже в три раза меньшую плату… взрослые рабочие все более и более вытесняются из промышленности и не находят вновь работы, несмотря на расширение производства[259].
В защиту своей точки зрения Энгельс приводил пример радикально настроенных прядильщиков, которые в условиях экономического спада и поражения после стачки 1842 года лишились работы. Тем не менее в долгосрочном плане автоматизация привела к укреплению роли квалифицированных прядильщиков и к увеличению их числа[260]. Многочисленные исследования, прежде всего те, что провел профессор Университета Массачусетса Уильям Лазоник, показывают, как квалифицированный труд, доминирование мужчин и запутанная система отношений власти среди рабочих-мужчин пережили начало механизации[261].
Поэтому первый контакт марксизма с организованным рабочим классом привел к ложному пониманию не только квалифицированного труда, но и порождаемой им разновидности политической сознательности.
Маркс утверждал, что рабочие уничтожат собственность, потому что у них ее не было; уничтожат разделение на классы, потому что оно им было невыгодно – а после того, как они это сделают, им не нужно будет строить альтернативную экономику в рамках старой системы.
Однако это плохо согласуется с историей английского рабочего движения в период до 1848 года. Это была позитивная история выживания и эволюции квалификации, массовых митингов на склонах холмов, учебных кружков, кооперативных магазинов. В первую очередь она создала динамичную культуру рабочего класса: песни, поэзию, фольклор, газеты и книжные магазины. Коротко говоря, там, где, по утверждению марксистской философии, был «ноль», на самом деле была «единица».
Маркс был неправ в своих суждениях о рабочем классе – это должен открыто признать всякий, кто стремится защищать материалистическое понимание истории. Он ошибался, думая, что автоматизация уничтожит квалификацию, и говоря, что пролетариат не может создать жизнестойкую культуру в рамках капитализма. Рабочие создали ее в Ланкашире еще до того, как Маркс окончил университет.
Маркс, будучи последователем Гегеля, всегда настаивал на том, что предметом изучения социальных наук должно быть «целое»: целое в процессе становления и гибели; целое в его противоречии; официальная его сторона, но еще и подспудная, скрытая сторона. Он строго следовал этому методу, когда речь шла о капитализме, но не тогда, когда настал черед анализа рабочего класса.
Предложенная Энгельсом в 1842 году антропология английского рабочего класса подробна, комплексна и конкретна. Этого нельзя сказать о марксистской теории пролетариата, которая сводит целый класс к философской категории. И вскоре она была полностью опровергнута.
Люди против машин (1848–1898)
К концу XIX века профсоюзы были прочно вплетены в ткань промышленности. По большей части их возглавляли квалифицированные рабочие, склонные, с одной стороны, к умеренности, а с другой – рьяно защищавшие свою самостоятельность на рабочем месте.
Книга Энгельса об английском рабочем классе была опубликована в Великобритании только в 1892 году, став к этому времени музейным экспонатом. Его предисловие к первому британскому изданию, в котором он это признавал, стало как блестящим рассуждением о приспосабливающейся природе капитализма, так и отражением его самообмана относительно источников умеренности среди рабочих.
После того как в 1848 году радикальное республиканство выдохлось, устойчивой формой организации британского рабочего класса стали профсоюзы, образованные квалифицированными рабочими. Где бы ни внедрялась фабричная система, особенно в металлообработке и в инженерном деле, самостоятельные квалифицированные рабочие стали нормой. Радикализм и утопический социализм оказались не у дел.
Первый из них был осмыслен Энгельсом в категориях экономики. После 1848 года, когда появились новые рынки и новые технологии и расширилось денежное предложение, Энгельс признал, что началась «новая индустриальная эра» – Кондратьев назовет ее вторым длинным циклом, – которая продолжалась до 1890-х годов. И Энгельс выявил одну ключевую черту ее технологической парадигмы, а именно сотрудничество труда и капитала.
Система теперь была настолько прибыльной, что британским хозяевам больше не нужно было прибегать к методам Оливера Твиста. Рабочий день был ограничен десятью часами, детский труд сокращен, вызванные бедностью болезни преодолены благодаря городскому планированию. Теперь, писал Энгельс, наниматели могли «избегать ненужных склок, смирившись с существованием и с силой профсоюзов»[262].
Британская рабочая сила увеличилась за счет миллионов неквалифицированных, бедных и временных рабочих. Но Энгельс констатировал «постоянное улучшение» в положении двух отдельных групп: фабричных рабочих и тех, кто состоял в «крупных профсоюзах», под которыми он понимал квалифицированных трудящихся, в массе своей взрослых мужчин.
Энгельс говорил, что рабочие стали умеренными потому, что им «досталась часть преимуществ» британской имперской власти. Не только квалифицированные рабочие, которых он характеризовал как «рабочую аристократию», но и широкие народные массы, которые, как считал Энгельс, также получали выгоду от снижения реальных цен, обеспечивавшегося Британской империей. Тем не менее он полагал, что сравнительное преимущество Великобритании носит временный характер и что привилегии квалифицированных рабочих тоже будут временными.
Вместе с тем в остальной части развитого мира в рабочей среде он мог видеть лишь такой уровень бунтарства и отчуждения, который был характерен для периода до 1848 года. Поэтому в конце 1880-х годов Энгельс предпринял вторую попытку осмыслить тот факт, что коммунизм рабочего класса так и не появился: Великобритания подкупила своих рабочих, используя свою имперскую власть, но, когда весь остальной мир догонит Великобританию, умеренность исчезнет.
Такое прочтение ситуации было практически полностью неверным. Во второй половине XIX века квалифицированный труд, пассивность и политическая умеренность распространились среди рабочих всего развитого мира. Мы можем опираться на бесчисленное количество страноведческих исследований, самые подробные – написаны в Канаде.
Рассказ Грегори Кили о бондарях из Торонто показывает, как профсоюз установил цену труда в каждой мастерской. Переговоров о зарплате не было. Бондари встречались, представляли прейскурант цен, а хозяева должны были либо принять его, либо начать массовые увольнения. Хотя рабочая неделя длилась шесть дней, бондари, как и все другие квалифицированные рабочие, регулярно брали «синий понедельник», т. е. неофициальный выходной после попойки в воскресенье вечером.
На своей работе они пользовались полной автономией. Они владели своими инструментами – стачка заключалась в том, что они «забирали свои инструменты из мастерской». Они строго контролировали доступ к обучению ремеслу. Они сокращали выпуск продукции в период экономического спада, чтобы удержать зарплаты. Они добивались всего этого благодаря тайным собраниям, масонским рукопожатиям, клятвам, ритуалам и полной солидарности.
А профсоюзы были лишь базовым слоем сложной мозаики институтов. Брайан Палмер в исследовании рабочих Гамильтона (Онтарио) пишет:
Культура рабочего человека XIX века включала в себя богатую ассоциативную жизнь, институционализированную в дружеском обществе – в институтах мастеровых, спортивных братствах, пожарных командах (т. е. добровольных пожарных бригадах) и клубах рабочих. Дополняли эти формальные отношения менее структурированные, но столь же осязаемые связи на работе, связи соседства, родства, которые проявлялись в совместном распитии пива или в шумных и шутливых вечеринках (в стиле Панча и Джуди)[263].
Неформальный контроль на рабочем месте – не только над зарплатами, но и над самой работой – распространился даже в новых отраслях промышленности[264].
Столь невероятный уровень неформального рабочего контроля не был случайным – его создали новые технологические процессы, появившиеся в середине столетия. Ключевые технологии второй длинной волны – телеграф, паровозы, печатание, литье чугуна и тяжелое машиностроение – были ручными по своей сути, а значит, крепкие руки и опытный ум имели жизненно важное значение. «Мозг управленца под шляпой рабочего человека» – этот лозунг рабочего класса вполне отражал реальность.
Чтобы не допустить постоянного превосходства квалифицированного труда над автоматизацией, хозяевам нужна была «думающая машина», предупреждал руководитель профсоюза бондарей Торонто[265]. Но на это ушло еще сто лет. Даже во время нисходящей фазы второго длинного цикла, начавшейся после 1873 года, когда менеджеры попытались навязать низкоквалифицированный труд и автоматизацию, они потерпели неудачу. В исследовании о квалифицированных рабочих в Торонто в 1890-е годы Кили приходит к выводу: «Они столкнулись с машинами и победили»[266]. К 1890-м годам наличие квалифицированного, привилегированного и организованного слоя рабочих стало общей чертой капитализма, а не результатом сравнительного преимущества одной страны.
Совокупный эффект автономии квалифицированного труда, «богатой ассоциативной жизни» и возникновения социал-демократических партий заставил капитализм вновь адаптироваться. «Столкнувшись с машиной и победив», организованные рабочие в первой половине ХХ века столкнулись с научным менеджментом, бюрократией, а затем и с охраной в концлагере.
Подними свинью и гуляй с ней (1898–1948)
В 1898 году на товарном складе компании Bethlehem Steel в Пенсильвании менеджер по имени Фредерик Уинслоу Тейлор придумал новое решение вековой проблемы автономии квалифицированных рабочих.
«Подними свинью и гуляй с ней», – говорил Тейлор своим чернорабочим, подразумевая под «свиньей» железный брусок весом 92 фунта. Изучив не только, сколько времени им требуется, чтобы сдвинуть брусок, но и точные движения их тел, Тейлор показал, как промышленные задачи можно сделать модульными. Работу можно разбить на шаги, которым можно обучиться, а затем распределить между рабочими, уступающими в квалификации тем, кто выполняет ее сейчас.
Тейлор добился потрясающих результатов: производительность выросла почти в четыре раза. Стимулом было повышение зарплаты с 1,15 до 1,85 доллара в день[267]. «Наука», по собственному лаконичному описанию Тейлора, дала в руки управленцу контроль над отдыхом рабочего и даже над временем, которое он посвящает прогулкам. Тейлор писал, что человек, подходящий для такой работы, «настолько глуп и флегматичен, что по складу своего ума он скорее похож на быка, чем на кого-либо еще». Из таких идей родилось научное управление. Теперь Тейлор стал применять свои методы к другим рабочим местам. На шарикоподшипниковой фабрике он внес такие изменения в производственный процесс, которые позволили сократить число рабочих со 120 до 35, сохранив при этом объем выпускаемой продукции и повысив качество. Он отмечал: «Для этого потребовалось отстранить самых толковых, работящих и надежных девушек просто потому, что они не обладали способностью быстро понимать и быстро действовать»[268].
На первый взгляд, тейлоризм сосредотачивался на времени и движении. Но его настоящая цель заключалась в отборе и стратификации рабочей силы за счет создания прослойки лучше образованных рабочих, которые должны были контролировать, организовывать и обучать низшие слои, и последующего установления строгого управленческого контроля. Это, хвастался Тейлор, «делает невозможными беспорядки любого рода или стачки»[269]. Замысел всего проекта заключался в подрыве автономии квалифицированных рабочих. Нужно провести как можно более глубокое разделение между умственным и ручным трудом.
Хотя Генри Форд никогда не слышал о Тейлоре, в 1913 году он внедрил вторую крупную инновацию, необходимую для расширения сферы полуквалифицированного труда, – конвейер. На заводах Форда, как и в Bethlehem Steel, зарплаты были повышены в обмен на полное послушание. Беспощадная антипрофсоюзная политика найма рабочих облегчала управленцам контроль. На первых порах три четверти рабочих Форда были иммигрантами первого поколения, в большинстве своем молодыми.
Тейлор, Форд и их последователи действительно переделали рабочий класс. Квалифицированная прослойка рабочих, занимающихся ручным трудом, выжила – их ядром стали станкостроители. Но теперь среди рабочего класса появилась элита белых воротничков. Белые воротнички были обязаны своими более высокими зарплатами новой системе, в которой контроль был в руках управленцев. Вступить в число белых воротничков можно было за счет личных достоинств, а не только благодаря семье и семилетнему периоду обучения, как это было в случае инженеров и прядильщиков, кроме того, в некоторых отраслях должности белых воротничков были более доступны и для женщин.
Рабочие среднего уровня квалификации внесли ключевое отличие в процесс внедрения инноваций: теперь они адаптировали свои навыки к новым машинам, не подчиняясь ограничениям, накладываемым отраслевыми профсоюзами. Неквалифицированные чернорабочие по-прежнему оставались, но центр тяжести рабочего класса сместился выше, к полуквалифицированным рабочим, занятым ручным трудом.
Если все это было придумано, чтобы добиться пассивности, то замысел провалился. Никто не мог предусмотреть, что этот видоизменный рабочий класс станет более образованным и более радикальным и будет больше интересоваться политикой. Тейлоровы «бессловесные волы» учили друг друга читать, причем не только копеечные романы, но и философские труды. Секретари и телефонисты, относившиеся к прослойке белых воротничков, стали агитаторами и просветителями в массовых социалистических партиях.
Голые факты подъема рабочего движения в 1900-е годы поражают. На выборах 1903 года Социал-демократическая партия Германии добилась прорыва, получив 31 % голосов. В 1905 году тайное рабочее движение в царской России образовало рабочие советы и вооруженные отряды. В 1905–1906 годах французская промышленность оказалась парализована стачками, а число членов профсоюзов за десятилетие удвоилось. В США численность профсоюзов выросла втрое за десять лет, хотя количество рабочих увеличилось лишь на 50 %[270].
Рабочие пригороды с их клубами, библиотеками, хорами и детскими садами стали центрами утонченной культуры, которые отличали особый образ жизни и, прежде всего, сопротивление на фабриках.
С 1910 по 1913 год неквалифицированные рабочие запустили волну стачек, которая прокатилась по всему миру и вошла в историю как «Великие волнения». Ее сутью была борьба за контроль. Профсоюз уэльских горняков изложил стратегию, которой следовали повсюду: «Каждая отрасль промышленности тщательно подготовилась в первую очередь к борьбе, к установлению контроля, а затем к управлению этой отраслью… предоставляя людям самим решать, в каких условиях и каким образом работа должна выполняться»[271].
Казалось, будто Тейлор и Форд, устроив наступление на старый ремесленный контроль над рабочими местами, создали новый, более утонченный спрос на демократический контроль со стороны рабочих.
«Великие волнения» прекратились вследствие экономического спада, начавшегося в 1913 году, и жестких мер по их подавлению. Когда в августе 1914 года разразилась война, казалось, что все было напрасно. Прежде чем рассматривать то, что произошло далее, мы должны задаться вопросом, как марксисты того времени расценивали эту новую конфигурацию рабочего класса. В целом, никак.
Ленин и аристократы
В 1902 году русский революционер Владимир Ленин, находясь в ссылке, написал памфлет, который, хотя и не оказал заметного влияния в то время, сыграл важную роль в развитии крайне левой мысли в ХХ столетии. В «Что делать?» Ленин прямо заявил, что рабочие не способны понять ту роль, которая отведена им в марксистском проекте. Социалистическое сознание им «могло быть привнесено только извне». «История всех стран свидетельствует, что исключительно своими собственными силами рабочий класс в состоянии выработать лишь сознание тред-юнионистское», – писал он[272]. Рабочее движение, говорил он, следовало «увести» с умеренного пути и подтолкнуть к захвату власти. Это полностью противоречит Марксову пониманию рабочего класса. По Марксу, рабочий класс – самостоятельный субъект истории. По Ленину, он скорее является объектом, которому необходим катализатор в виде возглавляемой интеллектуалами передовой партии – для того, чтобы управлять историческим процессом.
Однако к 1914 году у Ленина появилась новая проблема: почему рабочие, столь рьяно защищавшие свои зарплаты и демократию во время «Великих волнений», оказались то ли опьянены, то ли парализованы патриотизмом, когда началась война?
Для объяснения этого Ленин вернулся к выдвинутой Энгельсом теории «рабочей аристократии», которую он вывернул наизнанку. Вместо упразднения квалифицированной элиты в Великобритании, говорил Ленин, стремление всех промышленных стран завоевать колонии превратило рабочую аристократию в неотъемлемую черту современного капитализма. Она была источником патриотизма и умеренности, отравляющими рабочее движение. К счастью, оставался большой резерв неквалифицированных рабочих, которые были готовым сырьем для революции. Политический раскол между реформизмом и революцией, утверждал Ленин, являлся физическим результатом этого расслоения рабочего класса.
Здесь Ленин уже был очень далек и от Маркса, и от Энгельса. Согласно Марксу, рабочий класс способен стихийно обратиться к коммунизму, а согласно Ленину – нет. По Марксу, квалифицированный труд обречен на исчезновение вследствие автоматизации, а по Ленину, привилегии квалифицированных рабочих в стране – это результат колониализма за рубежом.
У Ленина не встретишь рассуждений об экономической или технической основе привилегий квалифицированной прослойки рабочих. Кажется, будто капиталисты платили им более высокие зарплаты из политических соображений. На самом деле, как мы видели, в то время политика капиталистов преследовала задачу уничтожить привилегии и автономию квалифицированных рабочих.
В 1920 году Ленин переформулировал теорию аристократии рабочего класса, назвав ее представителей «настоящими агентами буржуазии в рабочем движении… настоящими проводниками реформизма и шовинизма»[273]. Но в 1920 году такие заявления выглядели очень странно. К этому времени рабочий класс уже четыре года вел революционную борьбу под руководством квалифицированных рабочих. С 1916 по 1921 год рабочий класс вел лобовую атаку против контроля со стороны управленцев. Она приобрела революционные масштабы в Германии, Италии и России и достигла предреволюционного уровня в Великобритании, Франции и некоторых штатах США. В каждом случае борьбой руководила так называемая рабочая аристократия.
Я далек от того, чтобы лить воду на мельницу противников Ленина. Он сам был опытным революционером, но на деле игнорировал многие положения своей собственной теории. Однако теория реформистской рабочей аристократии никуда не годится. Источником патриотизма, к сожалению, является сам патриотизм, и обусловлено это тем, что нации столь же материальны, как и классы. В своих тюремных тетрадях итальянский коммунист Антонио Грамши признавал, что в развитых капиталистических обществах есть многослойные защитные механизмы. Государство, писал он, было «лишь передним краем обороны; за ним находится череда мощных крепостей и огневых позиций». И одной из самых мощных огневых позиций является способность капитализма идти на реформы[274].
Однако в теории 1902 года есть зерно истины, которое, впрочем, не по душе большинству марксистов. Чтобы понять его, мы должны обратиться к беспрецедентной мировой драме, которая тогда развернулась.
Ужасающая красота (1916–1939)
К 1916 году маховик военной машины начал давать сбои. Пасхальное восстание в Дублине, которое возглавили объединившиеся социалисты и националисты, полностью провалилось. Но оно стало сигнальным выстрелом, за которым последовали беспорядки во всем мире, продолжавшиеся пять лет. Поэт Йейтс прочувствовал его мировое значение, описав обычных людей, возглавивших восстание: «Все изменилось, изменилось бесповоротно. Родилась ужасающая красота»[275].
1 мая 1916 года берлинские фабричные рабочие провели стачку против войны и устроили бой с полицией под руководством лидеров нового типа: цеховых старост, которые выбирались из рядовых рабочих, были независимы от поддерживавших войну лидеров профсоюзов и, как правило, придерживались левосоциалистических идей. В Глазго Комитет рабочих Клайда, другая группа цеховых старост, избранных из среды рабочих, был арестован после того, как организовал забастовки под лозунгом установления рабочего контроля в оружейной промышленности[276].
В феврале 1917 года волна забастовок на оружейных заводах в Петрограде переросла в общенациональную революцию, которая заставила царя отречься от престола и привела к власти временное правительство либералов и умеренных социалистов (Керенский стал министром сельского хозяйства). Русские рабочие создали две новые формы организации: фабричные комитеты и советы рабочих и солдатских депутатов, избираемые по географическому принципу. Благодаря телеграфу, телефону и даже военным радиосигналам беспорядки в мировом масштабе стали подпитывать друг друга. В мае 1917 года взбунтовалась французская армия. Волнения охватили 49 дивизий из 113, а 9 дивизий были лишены возможности вести боевые действия.
Эти события были предопределены новой социальной средой рабочего места и войной нового типа. От Сиэтла до Петрограда мужчины-рабочие уходили на фронт и работодатели нанимали женщин и неквалифицированных подростков для работы на верфях и на машиностроительных заводах, где они трудились вместе с остававшимися квалифицированными мужчинами, обладавшими такой специализацией, которая освобождала их от военной службы.
В условиях, когда профсоюзы поддерживали ведение войны, а значит, выступали против стачек, цеховые старосты стали практически повсеместным явлением; они пользовались поддержкой квалифицированной прослойки, но были готовы к созданию «промышленных профсоюзов» из числа женщин и молодых мужчин за пределами старых иерархических границ. Когда разразились революции, цеховые старосты стали вождями на низовом уровне.
Параллельно с этим, нарастала радикализация и в окопах, где главную роль играла молодежь, на своем опыте познавшая жестокость войны, которая велась в промышленных масштабах. Для них такие понятия, как отвага, нация и мужественность, имевшие ключевое значение для рабочей культуры в период до 1914 года, потеряли всякий смысл.
Повсеместно произошел крах трудового порядка. К июню 1917 года в Петрограде было 367 фабрично-заводских комитетов, представлявших 340 тысяч рабочих. Например, на машиностроительном заводе Бреннера комитет постановил: «Учитывая отказ управленцев поддерживать производство, рабочий комитет на общем собрании решил выполнять заказы и продолжать работу»[277]. Ни одна большевистская программа не призывала к установлению рабочего контроля. Ленин относился к этой идее настороженно и поначалу пытался расценивать его как «вето рабочих на управленцев», а позднее, как мы увидим, и вовсе объявил его вне закона.
Следующей из великих держав рухнула Германия. Немецкий рабочий класс, безуспешно пытавшийся предотвратить начало войны, ускорил ее окончание. В ноябре 1918 года левые активисты в Императорских военно-морских силах устроили бунт, всего за сутки добились возвращения кораблей в порт и отправили тысячи мятежных моряков по всей Германии на военных грузовиках. Одной из их главных целей была радиовышка в Берлине, через которую они хотели установить контакт с революционными моряками в Кронштадте, в России.
По всей Германии стали создаваться фабричные комитеты и советы по российскому образцу. Через сорок восемь часов после начала бунта они добились подписания перемирия, отречения кайзера и учреждения республики. Лишь примкнув к революции в самый последний момент, умеренные лидеры социалистической партии сумели избежать революции наподобие той, что произошла в России.
Затем, в 1919 году, массовые забастовки в Италии привели к скоординированному увольнению рабочих автомобильных заводов в Турине, Милане и Болонье. Они захватили фабрики и попытались – прежде всего на фабрике Fiat в Турине – продолжить производство под собственным контролем с помощью союзников из числа инженеров.
Эти события раскрывают гораздо более интересную социологию, чем ту, которую представлял себе Ленин. Прежде всего, квалифицированные рабочие занимали центральное положение. Они боролись за контроль новыми, открытыми методами. Исследовав этот феномен в Великобритании, Картер Гудрич, занимавшийся социологией рабочего места, назвал его «заразительным контролем»:
Старый, ремесленный контроль почти обязательно подразумевает маленькие группы квалифицированных рабочих; сторонники заразительного контроля, по большей части, являются либо членами производственных профсоюзов, либо приверженцами движения производственных профсоюзов; старые ремесла по природе своей монополистичны и консервативны, тогда как последние склонны к пропаганде и революции[278].
Иными словами, квалифицированная прослойка последовательно отходила от «чистого тред-юнионизма». Но в то же время она настороженно относилась к тем, кто призывал к бескомпромиссной политической революции. Их целью был контроль на рабочем месте и создание параллельного общества в рамках капитализма.
В течение следующих двадцати лет эти цеховые старосты превратились в постоянно колеблющихся избирателей крайне левых сил, все время искавших третий путь между восстанием и реформами. Живя среди рабочих, они понимали, что большинство последних не были готовы немедленно поддержать коммунизм, что западные общества обладали такой политической устойчивостью, о которой Ленин и не подозревал, и что они, активисты, нуждались в выработке стратегий для того, чтобы выжить. Нужно было укрепить автономию рабочего класса, улучшить его культуру и защитить то, что уже удалось завоевать.
История большинства коммунистических партий в межвоенный период заключалась в постоянных столкновениях между ленинцами, пытавшимися подавить эти традиции разработанными в Москве схемами, тактикой и языком, и цеховыми старостами, пытавшимися создать альтернативное общество внутри капитализма.
И в этом заключается зерно истины, которое есть в «Что делать?» Ленин ошибался, говоря, что рабочие не могут самостоятельно преодолеть чистый, ориентированный на реформы тред-юнионизм. Он был прав, говоря, что революционный коммунизм не был их собственной идеологией. В основе их собственной идеологии лежали вопросы контроля, социальная солидарность, самообразование и создание параллельного мира.
Но капитализм не мог этого допустить: третья длинная волна вот-вот должна была перейти в свою нисходящую фазу. После краха на Уолл-стрит в 1929 году правительства во всем мире допустили массовую безработицу, сократили социальные расходы и урезали зарплаты рабочему классу. Там, где ставки были выше, а рабочий класс сильнее, правящие элиты решили, что его нужно уничтожить.
Все было готово для главного события двухсотлетней истории организованного труда – уничтожения фашизмом движения немецких рабочих. Нацизм был окончательным решением, к которому обратился немецкий капитализм, чтобы покончить с мощью организованного труда. В 1933 году профсоюзы были объявлены вне закона, а социалистические партии упразднены. Катастрофа произошла и в других странах. В 1934 году рабочее движение в Австрии было сокрушено в ходе четырехдневной гражданской войны. Затем в Испании в 1936–1939 годах генерал Франко развязал тотальную войну против организованного труда и радикального крестьянства, в которой погибло 350 тысяч человек. В Греции Метаксас, установивший свою диктатуру в 1936 году, объявил вне закона не только социалистические партии и профсоюзы, но даже народную музыку, ассоциировавшуюся с культурой рабочего класса. Рабочее движение в Польше, Венгрии и прибалтийских странах, в том числе массовое еврейское рабочее движение, сначала было подавлено правыми правительствами, а затем сметено во время холокоста.
Лишь в трех передовых экономиках в 1930-е годы рабочие организации выжили и выросли: в Великобритании и ее империи, во Франции и в США. В последних двух странах в 1936–1937 годах происходили массовые захваты тех фабрик, где главной проблемой был вопрос контроля.
Рабочие, сражавшиеся с фашизмом, были поколением с самым высоким уровнем классового сознания и образования и с самой большой готовностью к самопожертвованию за всю двухсотлетнюю историю пролетариата. Но первая половина ХХ века стала главным испытательным стендом для марксистской теории рабочего класса – и испытание это провалилось. Рабочие хотели чего-то большего, чем власть: они хотели контроля. И четвертый длинный цикл обеспечил им его, пусть и на время.
Уничтожение иллюзий
В 2012 году я отправился на кладбище в Валенсии, чтобы посетить массовые захоронения жертв Франко. В годы, последовавшие за смертью Франко, их семьи установили маленькие индивидуальные надгробия, на которые были прикреплены фотографии убитых, сделанные с эффектом сепии. Когда я попытался сфотографировать их на мой iPhone, камера распознала их лица как человеческие, поместив их в маленький зеленый квадрат.
В основном это мужчины и женщины среднего возраста: городские служащие, адвокаты, владельцы магазинов. Большинство молодых мужчин и женщин были казнены или убиты на поле боя. Массовые захоронения предназначались для тех, кого расстреливали скопом между 1939 годом, когда гражданская война закончилась, и 1953 годом, когда убивать уже было некого.
Джордж Оруэлл, сражавшийся плечом к плечу с ними, был потрясен идеализмом, которым дышали их лица. По его словам, они были «цветом европейского рабочего класса, который преследовала полиция всех стран… теперь многие миллионы из них гниют в лагерях»[279]. И эта цифра не была преувеличением. В советском ГУЛаге содержалось 1,4 миллиона заключенных, каждый год гибло около 200 тысяч из них. По меньшей мере 6 миллионов евреев были убиты в нацистских концлагерях, примерно 3,3 миллиона советских военнопленных умерли в немецких лагерях в 1941–1945 годах. На одну только испанскую войну приходится около 350 тысяч погибших[280].
Масштабы смерти во время Второй мировой войны трудно осознать. Поэтому ее воздействие на политику и социологию рабочего класса окутано леденящим молчанием. Пора его прервать. Большинство евреев, убитых в Восточной Европе, происходили из политически активных групп рабочего класса. Многие были членами либо просоветских, либо левых сионистских партий, либо антисионистского Бунда. Холокост всего за три года уничтожил целую политическую традицию в мировом рабочем движении.
В Испании профсоюзы, кооперативы и левые ополченцы были уничтожены путем массовых убийств, а их традиции подавлялись до 1970-х годов. Тем временем в России политическое подполье рабочего класса было истреблено в ГУЛаге и в ходе массовых репрессий.
То, что Оруэлл называл «цветом европейского рабочего класса», было разгромлено. Даже если бы речь шла только о цифрах, эта осознанная бойня политически активных рабочих в сочетании с гибелью десятков миллионов людей в ходе военных действий стала поворотным моментом в истории организованного рабочего класса. Но, помимо этого, были уничтожены и иллюзии. По мере того как приближалась Вторая мировая война, крайние левые – троцкисты и анархисты – пытались придерживаться прежних интернационалистских установок: отказ от поддержки войн между империалистическими державами, продолжение классовой борьбы на родине. Но к маю 1940 года война стала важнее классовой борьбы.
Когда союзники потерпели поражение, а в правящем классе Нидерландов, Франции и Великобритании возникли значительные пронацистские группы, всякой рабочей семье, имевшей радио, стало очевидно, что их культура выживет, только если Германия будет разгромлена в войне. Политика рабочего класса стала зависеть от военной победы союзников. После войны те, кто пережил бойню, осознавали, насколько близко организованный труд оказался к полному уничтожению, и теперь хотели стратегического соглашения.
Труд становится «абсурдным» (1948–1989)
Вторая мировая война была отмечена восстаниями рабочих, но иного типа, чем те, что происходили в 1917–1921 годах.
Забастовочное движение началось со всеобщей стачки в Голландии в 1941 году и достигло пика в 1943–1944 годах, когда стачки привели к свержению Муссолини. Это были прежде всего антифашистские, а не антикапиталистические акции. Когда восстания рабочих ставили под угрозу планы союзников, как это было в Варшаве и в Турине в 1944 году, генералы просто останавливали наступление до тех пор, пока вермахт не заканчивал свою работу. После этого в дело вступали коммунистические партии, которые только и делали, что сдерживали любые действия, направленные на восстановление демократии.
1917–1921 годы не повторились. Но страх того, что это может произойти, заставил повысить жизненный уровень рабочих и сместить баланс в распределении богатства в пользу рабочего класса.
На первом этапе быстрое изгнание женщин из рядов промышленных рабочих, которое произошло после войны и было описано в документальном фильме «Жизнь и времена клепальщицы Рози» (1980), обеспечило повышение зарплат мужчин и привело к сокращению разницы в зарплатах рабочих и среднего класса. Социолог Ч. Райт Миллс отмечал, что к 1948 году доход американских белых воротничков вырос вдвое за десятилетие, тогда как доход промышленных рабочих утроился[281].
К тому же союзники ввели социальное государство, профсоюзные права и демократические конституции в Италии, Германии и Японии в качестве наказания для элит этих стран и для того, чтобы воспрепятствовать их возрождению как фашистских держав.
В результате демобилизации сложилась прослойка детей рабочих, получивших университетское образование благодаря субсидиям. Политика полной занятости, наряду с управлявшимися государством биржами труда, центрами переквалификации и нормами, регулировавшими условия труда, еще больше усилила переговорные позиции рабочих. В результате после того, как в 1950-е годы начался рост, доля зарплат в ВВП в большинстве стран значительно превысила довоенный уровень; увеличились и налоги, взимавшиеся с высших и средних классов и позволявшие финансировать расходы на здравоохранение и социальные нужды.
Что взамен? Рабочие отказались от идеологии сопротивления, которая поддерживала их в ходе третьей длинной волны. Несмотря на всю свою риторику, коммунизм, социал-демократия и тред-юнионизм превратились в идеологии сосуществования с капитализмом. Во многих отраслях промышленности профсоюзные лидеры действительно стали орудием в руках управленцев.
С этого времени берет отсчет память сегодняшних рабочих развитого мира: социальные гарантии, здравоохранение, бесплатное образование, государственное строительство жилья и коллективные трудовые права были закреплены законом. В ходе своей восходящей фазы четвертый длинный цикл обеспечил такие материальные улучшения, о которых предшествующие поколения могли только мечтать.
Но для тех, кто пережил войну, это было больше похоже на кошмар. В 1955 году американский социолог Дэниел Белл утверждал, что «пролетариат замещается служащими с соответствующим изменением психологии рабочих». Отмечая масштабное увеличение числа белых воротничков по сравнению с синими воротничками, Белл, в этом случае выступавший с левых позиций, предупреждал: «Эти группы служащих не говорят на языке труда, и их нельзя рассматривать в старых категориях классового сознания»[282]. Социальный теоретик Герберт Маркузе в 1961 году пришел к выводу о том, что новые технологии, потребительские товары и сексуальное освобождение ослабили отчуждение пролетариата от капитализма: «Поэтому новый мир технологического труда приводит к ослаблению отрицательной позиции рабочего класса: для сложившегося общества последний больше не представляет собой живое противоречие»[283].
В Италии передовое исследование, проведенное производственным активистом Романо Алькуати, выявило, что новый уровень автоматизации труда привел к отчуждению рабочих от фабрики, в результате чего она перестала быть ареной политического самовыражения. Для поколения, которое свергло Муссолини, фабрики были естественным полем боя. Но молодежь чаще всего описывала производственный процесс словом «абсурд». Она жаловалась на «ощущение нелепости, которым была преисполнена их жизнь»[284].
По всему миру самым очевидным последствием этой новой социологии труда стал упадок моделей голосования, основанных на классовых предпочтениях и нашедших отражение в индексе Алфорда[285]. Историк Эрик Хобсбаум, изучавший этот процесс позднее, заявил, что «марш труда» был остановлен в начале 1950-х годов. Он приводил в пример упадок «пролетарского образа жизни», беспрецедентный рост числа работающих женщин и замену крупных производственных помещений разветвленной цепочкой мелких поставщиков. Главное, отмечал Хобсбаум, заключалось в том, что новые технологии 1950–1960-х годов не только увеличили прослойку белых воротничков, но и устранили связь высоких зарплат с уровнем квалификации ручного труда. Работая на двух работах, во внеурочное время или сдельно, полуквалифицированный рабочий мог зарабатывать почти столько же, сколько опытный электрик или инженер[286].
Совокупный эффект этих изменений состоял в том, что с момента окончания войны и до конца 1960-х годов, как сетовал Алькуати, борьба рабочих «всегда была частью системы. Всегда раздробленной и всегда слепой»[287]. Горц мрачно говорил, что послевоенные рабочие места «никогда не создадут ту культуру рабочего класса, которая, вместе с гуманизмом труда, представляла собой великую утопию социалистических и профсоюзных движений вплоть до 1920-х годов»[288].
Поразительно, сколько теоретиков «упадка рабочего класса» лично участвовали в движении в период его предвоенного расцвета. Маркузе был избран в солдатский совет Берлина в 1919 году. Хобсбаум вступил в молодежную организацию Коммунистической партии Германии в 1932 году. Белл присоединился к «Молодым социалистам» в нью-йоркских трущобах в том же году. Горц стал свидетелем восстания рабочих в Вене. Их разочарование стало результатом эмпирических знаний, полученных в течение многих лет.
Оглядываясь назад, мы можем четче увидеть перемены, на которые они реагировали.
Во-первых, рабочий класс увеличился количественно. Многие служащие занимались откровенно черной офисной работой, получали более низкую зарплату по сравнению с рабочими, занятыми на производстве, и были подчинены бессмысленной дисциплине и рутине. Белые воротнички в конечном счете остались рабочими. Степень их отчуждения хорошо передают романы 1950-х годов: Билли Лжец – клерк в похоронном бюро; Джо Лэмптон из «Пути наверх» – бухгалтер в местном совете.
Далее, стратификация изменила сознание этого расширенного рабочего класса. Белые воротнички, даже те из них, кто состоит в профсоюзах или чувствует себя отчужденным, не думают и не действуют так, как производственные рабочие. А у молодых производственных рабочих, испытывавших все большее отчуждение от труда и от связанной с ним культуры, также сформировалась иная разновидность бунтарского создания, прекрасно отраженная в другом популярном романе 1950-х годов – «В субботу вечером, в воскресенье утром».
Доступ к потребительским товарам не снизил воинственность рабочих. Это материальное изменение полностью контролировалось в рамках культуры рабочего класса. Зато автоматизация вызвала долговременные психологические изменения. Если работа казалась «абсурдной, смешной и скучной» рабочим Fiat, которых Алькуати опрашивал в начале 1960-х годов, то у этого была более глубокая причина. В те времена уровень автоматизации был невысок, но достаточен для того, чтобы показать, как работа будет выглядеть в будущем. Хотя до современной фабрики, управляемой компьютерами, оставались еще десятилетия, а до роботизации еще больше, рабочие понимали, что эти вещи перестали быть научной фантастикой, превратившись в вероятные сценарии будущего. Однажды должно было наступить время, когда ручной труд окажется не нужен.
Подспудно изменился и смысл самого понятия «рабочий». По мнению Горца, в 1950-е годы молодых рабочих объединяло отчуждение от труда: «Вкратце, для массы рабочих главной утопией является не власть рабочих, а возможность перестать быть рабочими; акцент делается не столько на освобождении в рамках работы, сколько на освобождении от работы»[289].
Когда в конце 1960-х годов начался кризис, стачки устраивались численно увеличившимся пролетариатом, занятым в сфере услуг, но почти никогда не достигали такого накала, чтобы речь шла о полном закрытии фабрик, портов и шахт. Когда это все же происходило, такие забастовки перерастали в противостояние с государством, которое большинство работников сферы обслуживания не были готовы доводить до логического завершения.
Теоретикам упадка рабочего класса не повезло. Дэниел Белл стал неоконсерватором. Маркузе, Миллс и Горц ратовали за «новую левую философию», основанную на борьбе угнетаемых групп, а не рабочих. Вот то, к чему мы пришли – и то лишь после двух десятилетий, на протяжении которых этот новый рабочий класс бросал вызов теоретикам упадка, устраивая восстания, которые поставили целые регионы развитого мира на грань хаоса.
Мы, активисты середины 1970-х и 1980-х годов, смеялись над теми, кто заявлял, будто старые формы борьбы рабочего класса отмерли, но именно они сумели заглянуть в будущее.
Горячее десятилетие (1967–1976)
В 1967–1976 годах западный капитализм погрузился в кризис, а стихийные забастовки достигли беспрецедентных масштабов. Несмотря на машины, телевизоры, ипотеки и дорогую одежду, рабочие вышли на улицу. Социал-демократические партии полевели, а революционные группы пустили корни на фабриках, завербовав тысячи новых сторонников.
У тех, кто находился у власти, были серьезные опасения относительно рабочей революции: прежде всего, во Франции и в Италии, но также и – в самых страшных кошмарах – в Великобритании и в «черных» городах США. Мы знаем, чем это закончилось – поражением и атомизацией, – но для того, чтобы ответить на вопрос «почему?», я хочу начать с рассказа о моем собственном опыте.
В 1980 году Федерация профсоюзов Великобритании опубликовала книгу архивных фотографий[290]. Когда я принес ее домой и показал бабушке, одна фотография ее словно заворожила и физически потрясла. На ней была изображена обнаженная девушка в жестяной ванне; снимок был сделан до 1914 года. «Не надо мне про это рассказывать, – сказала она. – Я пережила три месяца забастовки 26-го года и вышла замуж во время забастовки 21-го года». Она никогда не делилась воспоминаниями об этих двух крупных забастовках горняков и никогда не говорила о них с моим отцом. Жестяная ванна вызвала в ее памяти воспоминания о бедности; бедность вызывала воспоминания о 1926 годе, когда девятидневная всеобщая стачка вылилась в трехмесячную забастовку горняков, во время которой, как она теперь призналась, она голодала.
Весь период до 1939 года был для нее запечатанной коробкой: бесконечные лишения, унижения, насилие, мертворожденные дети, долги и две гигантские стачки, которые она пыталась забыть. Это была не просто подавленная травма. Пока мы вместе листали снимки голодных маршей, баррикад и оккупированных угольных шахт, я убедился в том, что ее эти изображения потрясали больше, чем меня.
Родившись в 1899 году, она пережила две мировые войны, Депрессию и апогей «общей пролетарской жизни», о которой писал Хобсбаум. Но помимо ее собственных воспоминаний, у нее не было ни общего представления о событиях, ни понимания их значения. И тем не менее у нее была навязчивая привязанность к бунтовской идеологии. Классовое сознание моей бабушки сформировалось только на основе собственного опыта – через разговоры и наблюдения. Споры в пивной, лозунги, нацарапанные мелом на стене, участие в действиях. Рабочие пригороды были настолько отделены от мира, в которых писались газеты или готовились радионовости, что буржуазная идеология их едва затронула.
Логика и детали были важны для практических вещей: как подрезать розы, как обучать щенят, как собирать мины (этому, когда мне было пять лет она научила и меня, использовав мину, украденную с фабрики, на которой она работала во время войны). Но классовое сознание было безотчетным и не поддавалось логике. Оно проявлялось через слова, песни, вздохи, язык тела и постоянные незначительные жесты солидарности.
Эта солидарность сохранялась на протяжении поколений благодаря промышленной и географической стабильности. Она знала историю своей семьи вплоть до 1770 года благодаря именам, записанным на корешке ее Библии. Все они, в том числе ее собственная незамужняя мать, ткали шелк или хлопок. Никто из них не жил дальше, чем в пяти милях от того места, где родился. За свою жизнь она переезжала всего три раза, причем всегда в пределах одной и той же квадратной мили.
Поэтому на вопрос социологов о том, какое значение имели «общепролетарский образ жизни» и его физическая география для классового сознания в период до 1945 года, я бы ответил, что значение – решающее.
Хотя молодым рабочим 1960-х годов казалось, что они живут в рамках стабильной культуры с двухсотлетней историей, ее основы менялись так быстро, что, когда в 1970–1980-е годы они попытались воспользоваться традиционными рычагами солидарности и борьбы, те не сработали.
Ключевое изменение, как блестяще показал Ричард Хоггарт в своем исследовании «О пользе грамотности», заключалось во внедрении формального знания в жизнь рабочего класса: информации, логики и готовности все ставить под вопрос. Ментальная сложность перестала быть уделом фабианских школьных учителей или коммунистических агитаторов с их газетами, полными московской пропаганды. Она стала доступной для всех[291].
Для поколения моего отца знание пришло в послевоенный рабочий класс не только через расширенную систему образования и публичные библиотеки, но и через телевидение, через желтую прессу, кино, книги в мягкой обложке и популярные песни, которые в конце 1950-х годов стали выступать в качестве поэзии рабочего класса.
Да и само знание о мире вдруг усложнилось. Возросла социальная мобильность. Возросла мобильность географическая. Секс, остававшийся табу в публичном дискурсе довоенного рабочего класса, теперь был повсюду. Накануне кризиса получило распространение самое главное технологическое новшество из всех: противозачаточная таблетка, которая впервые была прописана в 1960 году, но разрешена к использованию любой женщиной в конце 1960-х – начале 1970-х, вызвав то, что экономисты Акерлоф, Йеллен и Кац назвали «шоком в технологии репродукции»[292]. Женщины получили доступ к высшему образованию: например, в 1970 году среди американских студентов, изучавших право, девушек было 10 % – десять лет спустя их количество выросло до 30 %.
А возможность контроля над моментом рождения ребенка подготовила почву для решительного расширения женского участия в труде[293]. В итоге появился новый тип рабочего. Поколение, которое вело классовую войну в 1970-е годы, с самого начала имело бóльшие зарплаты, более высокий уровень личной свободы, рассеянные социальные связи и гораздо более широкий доступ к информации. Вопреки мнению теоретиков упадка, ничто из этого не удержало рабочих от борьбы. Но именно из-за этого они в конечном счете и проиграли.
Постиндустриальная модель свободного рынка, которая уничтожила экономическую силу рабочих и их традиционное мировоззрение, рухнула. Появилась новая капиталистическая стратегия. Возникла и новая разновидность бунтарского сознания, которое уже не было негативным, спонтанным или неосведомленным, а основывалось на формальном знании и больше полагалось на каналы массовой коммуникации, находившиеся под контролем элит. Помимо этого, мы должны принимать во внимание мертвый груз как сталинизма, так и социал-демократии, которые на протяжении всего подъема рабочего движения в 1970-е годы фактически пытались сориентировать классовую борьбу на поиск компромисса и свести ее к парламентской политике. Наконец, рабочих сдерживала память о том, что революции 1920–1930-х годов провалились и что фашизм удалось победить только с помощью демократического капитализма.
Все передовые экономики пережили период ожесточенной классовой войны с конца 1960-х до середины 1970-х годов. Мы обратимся к примеру Италии, поскольку он лучше всего задокументирован, больше всего обсуждался, и именно Италия стала одной из первых стран, где были заложены основы понимания того, как нам действовать после поражения.
Италия: новый вид контроля
К 1967 году итальянское экономическое чудо переместило с бедного аграрного Юга в промышленные города Севера семнадцать миллионов рабочих. Вследствие того что государство строило недостаточное количество жилья, многие новые рабочие-мигранты спали по шесть-восемь человек в комнате, в обшарпанных квартирах, а коммунальные службы были перегружены. Зато у фабрик был современный дизайн и технологии мирового уровня, поэтому работа на них казалась заманчивой.
Реальные зарплаты выросли на 15 % в течение 1960-х годов[294]. Крупнейшие промышленные бренды вкладывали крупные средства в заводские столовые, спортивные и социальные клубы, благотворительные фонды и разработанную дизайнерами спецодежду. На уровне отраслей промышленности профсоюзы и руководство совместно договаривались о размерах зарплат, объемах продукции и условиях труда. Но на уровне заводов «правилом является абсолютизм управленцев», как отмечалось в одном исследовании[295].
Это сочетание растущих трудовых доходов и мрачных условий за пределами работы стало первым последствием бума. Вторым было увеличение числа студентов. К 1968 году оно достигло 450 тысяч – вдвое больше, чем десятилетием ранее. Большинство студентов были родом из рабочих семей, и денег у них не было. В университетах они обнаружили кучи бесполезных учебников и устаревшие правила. Историк Пол Гинсборг писал: «Решение открыть доступ к настолько неподходящей для этого университетской системе просто заложило в нее бомбу с часовым механизмом»[296]. Возможно, точнее всего было бы сравнить этот феномен с детонатором. Захваты студентами университетских помещений начались в конце 1967 года и вылились в уличные столкновения в следующем году. Одновременно началась волна забастовок рабочих, которая достигла кульминации «горячей осенью» 1969 года.
На заводах Pirelli в миланском квартале Бикокка бастующие рабочие создали «объединенный низовой комитет», полностью независимый от профсоюза. По мере того как низовой комитет расширялся, появлялись новые формы действий промышленных рабочих: последовательные часовые забастовки в разных цехах, сидячие забастовки, итальянские забастовки, предназначенные для снижения производительности, и стачки, распространявшиеся путем перехода змейкой из одного цеха в другой. Рабочий Fiat так описывал одну из них: «Мы выступили – нас было всего семь. К тому моменту, когда мы добрались до центрального офиса, где торчал весь персонал, нас уже было около семи тысяч!.. В следующий раз мы начнем с семи тысяч и дойдем до семидесяти тысяч, и тогда Fiat настанет конец»[297].
Итальянская компартия бросилась создавать местные переговорные комитеты, но на многих заводах рабочие отказались в них участвовать и выпроводили коммунистов, скандируя: «Мы все делегаты».
В баре рядом с расположенным в Турине заводом Mirafiore Fiat студенты открыли «рабоче-студенческую ассамблею». 3 июля 1969 года они вышли маршем с фабрики, протестуя против повышения арендной платы за жилье, и вступили в стычки с полицией, скандируя лозунг, в котором выразился новый подход: «Чего мы хотим? Всего!»
Левацкая группа «Лотта континуа» выразила то, что происходило по мнению самих бастующих: «Они медленно начинают освобождать себя. Они разрушают устоявшуюся власть на фабрике»[298].
Если бы дело ограничилось несколькими бунтарскими районами в стране, постоянно пребывающей в состоянии хаоса, то это было бы просто любопытным случаем и не более того. Но волнения в Италии отразили изменения, которые происходили во всем развитом мире; 1969 год должен был стать началом периода повсеместной экономической борьбы, которая постоянно выливалась в политические конфликты и привела к полному переосмыслению западной экономической модели.
Важно понимать последовательность событий, поскольку в популярной литературе крах кейнсианства зачастую сводится к одному-единственному моменту. В 1971 году длительный послевоенный подъем выдохся. Но отмена фиксированных обменных ставок, как ни парадоксально, дала каждой стране возможность «разрешить» напряженность в сфере зарплат и производительности за счет разгона инфляции. Затем, когда в 1973 году резко выросли цены на нефть, что привело к двузначной инфляции, прежнее соотношение между зарплатами, ценами и производительностью просто перестало существовать.
В странах ОЭСР трансфертные платежи, т. е. пособия для малоимущих, социальные выплаты и т. д., составлявшие 7,5 % ВВП в период экономического бума, достигли 13,5 % к середине 1970-х годов. Государственные расходы, которые в среднем составляли 28 % ВВП в 1950-е годы, теперь выросли до 41 %[299]. Доля общего богатства, приходившегося на прибыль промышленности, сократилась на 24 %[300].
Чтобы сдержать активность рабочих, правительства подняли социальные расходы до рекордного уровня и включили представителей рабочих в правительство. В Италии это произошло в рамках «исторического компромисса» 1976 года, который положил конец периоду волнений, привязав компартию и подчиненные ей профсоюзы к консервативному правительству. Тот же процесс можно усмотреть в Пакте Монклоа, подписанном в Испании в 1978 году, в «социальном контракте» правительств Вильсона и Каллагана (1974–1979) и в многочисленных попытках американских профсоюзов добиться заключения стратегической сделки с администрацией Картера.
В конце 1970-х все акторы старой кейнсианской системы: организованный рабочий, патерналистски настроенный управленец, политик государства всеобщего благоденствия и глава государственной корпорации – совместными усилиями пытались спасти разваливавшуюся экономическую систему.
Стандартизированный производственный процесс послевоенной эпохи – и контроль со стороны строго научного менеджмента, на котором он основывался, – привел к созданию рабочей силы, которую он не мог контролировать. Тот простой факт, что итальянская забастовка стала самой эффективной формой саботажа, отражает реальную ситуацию. Именно рабочие управляли производственным процессом. Любое предложение решить макроэкономические проблемы без их согласия было бессмысленным.
В ответ новое поколение консервативных политиков решило, что нужно демонтировать всю систему. Второй нефтяной шок, произошедший после иранской революции 1979 года, дал им такую возможность. Он вызвал новую глубокую рецессию, и на этот раз рабочим пришлось иметь дело с корпорациями и политиками, которые были намерены опробовать новые методы: массовую безработицу, закрытие промышленных предприятий, сокращение зарплат и государственных расходов.
Они также столкнулись с явлением, к которому недостаточно подготовились в годы радикализма. Часть рабочей силы была готова примкнуть к консервативным политикам. Белые рабочие Юга США привели к власти Рейгана; многие квалифицированные британские рабочие, уставшие от хаоса, переметнулись на сторону консерваторов в 1979 году, позволив Тэтчер на десять лет занять должность премьера. Откровенный консерватизм рабочего класса никуда не делся: он всегда хотел порядка и процветания и к 1979 году уже не верил, что кейнсианская модель может их обеспечить.
К середине 1980-х годов рабочий класс развитого мира всего за пятнадцать лет проделал путь от пассивности к забастовкам и полуреволюционной борьбе и потерпел стратегическое поражение.
Западный капитализм, на который организованный труд, сосуществовавший с ним почти два столетия, оказал огромное влияние, больше не мог мириться с рабочей культурой солидарности и сопротивления. Перенесение производства за рубеж, деиндустриализация, антипрофсоюзные законы и упорная идеологическая война ее уничтожили.
Цифровые бунтари, аналоговые рабы
После более чем тридцати лет отступлений и атомизации рабочий класс выжил, но сильно изменился.
В развитом мире центр-периферийная модель, впервые примененная в Японии, стала нормой, сменив модель «неквалифицированные рабочие против квалифицированных» в качестве основного критерия разделения внутри рабочего класса. Рабочая сила ядра смогла удержаться на стабильных, постоянных местах и получать дополнительные выплаты, связанные с работой. Те, кто оказался на периферии, работают на временных должностях в офисах или через сеть фирм-подрядчиков. Но ядро сжалось: через семь лет после кризиса 2008 года постоянный трудовой договор и приличная зарплата для многих людей являются недостижимой привилегией. Для четверти населения быть частью «прекариата» – жизненные реалии.
Для обеих групп главным качеством стала гибкость. В среде квалифицированных рабочих особенно ценится умение заново изобретать себя, подстраиваться под краткосрочные корпоративные цели, уметь забывать старые навыки и приобретать новые, работать в сети и, прежде всего, жить интересами компании, на которую они работают. Эти качества, которые в типографии в Торонто в 1890 году назвали бы «продажностью», с 1990-х годов стали обязательными, если вы хотите оставаться в ядре.
Для периферийной рабочей силы гибкость основывается прежде всего на общем и абстрактном характере труда. Поскольку бóльшая его часть автоматизирована, вы должны уметь быстро обучаться автоматизированному процессу и следовать формуле. Зачастую это может подразумевать скучную и грязную ручную работу, как, например, личное надомное обслуживание, предоставляемое определенному количеству людей и разбитое на пятнадцатиминутные отрезки за минимальную оплату. В крайних формах это означает подчинение вашего личного и эмоционального поведения трудовой дисциплине. В Pret а Manger сотрудники должны улыбаться, быть веселыми и «касаться друг друга». Официальный список запрещенных действий включает работу «только ради денег» и «слишком сложные вещи». Один сотрудник сообщал: «После однодневного испытания ваши коллеги по работе голосуют относительно того, насколько вы подходите занимаемому месту; если ваша деятельность не вызывает восторга, вам дают немного денег и отправляют домой»[301].
Рабочая сила всех развитых стран сегодня ориентирована на сферу обслуживания. Лишь в экспортных гигантах вроде Германии, Южной Кореи или Японии промышленные рабочие составляют почти 20 % от числа занятых; в остальных эконо-мически развитых странах их число колеблется от 10 до 20 %[302].
В развивающемся мире промышленные рабочие также составляют всего 20 % от общего числа трудящихся[303]. Хотя численность трудящихся в мировом масштабе достигает трех миллиардов человек, а в Азии и Латинской Америке люди чаще всего работают на крупных предприятиях, представление о том, что глобализация просто перенесла фордистско-тейлористскую модель на глобальный Юг, обманчиво.
Доля зарплат в мировом ВВП демонстрирует тенденцию к снижению. В США она достигла пика в 53 % в 1970 году и к сегодняшнему дню упала до 44 %. Хотя эта динамика проявляется не столь ярко в странах, придерживающихся модели, ориентированной на экспорт, в социальном плане это подтолкнуло рабочих к финансиализированному поведению. Как мы видели в первой части книги, объем доходов, обеспеченных потреблением и кредитами, которые берет рабочий класс, вырос в соотношении к доходам, создаваемым за счет труда[304].
Костас Лапавитсас, профессор экономики в Школе восточных и африканских исследований Лондонского университета, называет это «финансовой экспроприацией» – она оказала глубокое воздействие на представления рабочего класса о самом себе[305]. Для многих рабочих их первичные физические и идеологические отношения с капиталом осуществляются скорее посредством потребления и займов, чем посредством работы.
Это по-новому освещает долговременную тенденцию капитализма, сформировавшегося после 1989 года, к размыванию границ между трудом и досугом. В некоторых отраслях (причем не все из них относятся к высокоприбыльным) все чаще приходится делать выбор между достижением целей проекта и тем, что сотрудники уделяют время личным делам на работе (электронная торговля, социальные сети, общение). В итоге сотрудник должен отвечать на рабочие письма дома, работать во время путешествий, быть готовым работать во внеурочные часы, чтобы выполнить поставленные задачи.
В работе, сосредоточенной в высокой степени на информации, особенно при наличии «умных» мобильных устройств, труд и досуг смешиваются друг с другом. В течение относительно короткого периода это привело к ослаблению связей между зарплатами и рабочим временем. Ведь если вы высококвалифицированный работник, вам платят за то, что вы есть, за то, что вы делитесь идеями со своей фирмой и достигаете целей.
Параллельно с этим изменилась география жизни рабочего класса. Долгие поездки из пригородов, культура которых особо не связана с работой, стали нормой. Такие перемещения изначально требовали от людей, чтобы они активно создавали заново физическую общность посредством нетрудовых организаций: спортзала, детского сада, кегельбанов и т. д. С появлением информационных технологий часть деятельности по созданию общности переместилась в интернет, что еще больше усугубило физическую изоляцию. В результате прежняя солидарность, в рамках которой связи на рабочем месте укреплялись благодаря социально сплоченной общности, теперь возникает намного реже, чем когда-либо еще на всем протяжении истории капитализма.
Молодым трудящимся, занятым на временных работах, важнее соседи в городе; они кучкуются в центре города, предпочитая жить в намного меньшем пространстве, зато быть физически ближе к сети контактов, необходимой для нахождения партнеров, случайной работы и развлечений. Их борьба вроде волнений в районе Эксархия в Афинах или студенческий бунт в Лондоне в 2010 году, как правило, фокусируется в физическом пространстве.
Социологи, пытавшиеся понять эти качественные изменения в трудовой жизни, сначала сосредоточились на пространстве. Барри Уэллман зафиксировал переход от общностей, в основе которых лежат коллективы, к физическим, а затем и цифровым сетям. То, что получилось, он называл «сетевым индивидуализмом»[306] и напрямую связал его с большей гибкостью в отношении работы. В свою очередь, профессор Лондонской школы экономики Ричард Сеннетт начал исследовать новые черты высокотехнологичной рабочей силы[307]. Он обнаружил, что раз работа поощряет отчужденность и поверхностную уступчивость и в ней отдается предпочтение приспособляемости ценностей перед квалификацией и неформальному общению перед преданностью, то это создает новый тип рабочего, который сосредоточен на краткосрочной перспективе и в жизни, и на работе и у которого нет привязанности к иерархии и структурам как на работе, так и в протестной деятельности.
И Сеннетт, и Уэллман отмечали склонность людей, приспособившихся к такому неформальному образу жизни, к развитию множества идентичностей как в реальной жизни, так и в интернете. Сеннетт пишет: «Условия времени при новом капитализме создали конфликт между характером и опытом, опытом расчлененного времени, который ставит под угрозу способность людей превращать свою личность в устойчивые нарративы»[308].
У рабочего кейнсианской эпохи была одна личность: на работе, в местном баре, в социальном клубе, на футбольном поле он был одним и тем же человеком. Сетевой индивид создает более сложную реальность: он живет параллельными жизнями на работе, во множестве фрагментированных субкультур и в интернете.
Одно дело отметить эти изменения; другое – понять их воздействие на способность человечества бороться с эксплуатацией и угнетением. Майкл Хардт и Антонио Негри хорошо это резюмировали в своей книге «Декларация», изданной в 2012 году:
Центр тяжести капиталистического производства более не находится на фабрике, а сместился за ее пределы. Общество стало фабрикой… Вследствие этого смещения первоначальные обязательства между капиталистом и рабочим также изменились… Эксплуатация сегодня основана в первую очередь не на [равном или неравном] обмене, а на долге[309].
Если в 1970-е годы Негри и итальянские левые преждевременно возвестили о том, что рабочее место «перестало быть» полем классовой борьбы и что им стало «все общество», то сегодня они правы.
Какое будущее ждет рабочий класс, если информационный капитализм продолжит развиваться по этому пути?
В первую очередь, нынешнее разделение труда в мировом масштабе можно рассматривать только как переходное. Рабочие на глобальном Юге добьются более высокого уровня жизни, и однажды капитал ответит на это углублением автоматизации и попытками добиться более высокой производительности на развивающихся рынках. Это выведет китайских и бразильских рабочих на тот же путь, по которому идут трудящиеся богатого мира, т. е. на путь подчинения сфере услуг, раскола на квалифицированное ядро и прекариат, причем у обеих прослоек зарплаты отчасти перестанут зависеть от работы. Кроме того, по мнению Оксфордской школы Мартин, именно низкоквалифицированные рабочие места в сфере услуг подвержены самому высокому риску полной автоматизации в ближайшие два десятилетия. Мировой рабочий класс не обречен на то, чтобы вечно оставаться разделенным на заводских роботов в Китае и разработчиков игр в США.
Тем не менее борьба на рабочем месте более не является единственной и самой важной драмой.
Во многих промышленных и коммерческих городах мира сетевые индивиды уже представляют собой не социологическую диковинку, а архетип. Все те качества, которые социологи 1990-х годов выявили среди рабочих, занятых в технологических отраслях: подвижность, произвольное создание контактов, множественность идентичностей, слабые связи, отчужденность, внешнее раболепие, скрывающее глубокое негодование, – стали определяющими чертами молодых, экономически активных людей.
И вы можете обнаружить их даже в Китае, несмотря на тяжелые условия труда и на то, что тамошних рабочих многие считали альтер-эго нерадивых западных потребителей. С середины 2000-х годов в рабочих кварталах городов, ориентированных на экспорт, открылись интернет-кафе с сотнями мониторов. Социологи, опрашивавшие в то время молодых мигрантов, выяснили, что те используют интернет с двумя целями: чтобы налаживать связи с другими рабочими из их родного города и чтобы выпускать пар за компьютерными играми. Для молодежи, которая всегда спала либо в крестьянском доме, либо в заводском общежитии, интернет-кафе были настоящей революцией. «Наш прораб – суровый парень. Но когда я его встречаю в интернет-кафе, я его не боюсь, – сказала одна труженица исследователям в 2012 году. – Там он не имеет права меня контролировать. Он пользователь интернета, как и я»[310].
Теперь это кажется доисторическими временами. Смартфоны создали интернет-кафе в кармане спецовки каждого китайского рабочего. В Китае количество подключений к интернету с мобильников превзошло количество подключений со стационарных компьютеров в 2012 году и сегодня эта возможность доступна 600 миллионам человек. А мобильный интернет подразумевает пользование социальными сетями. В 2014 году 30 тысяч рабочих обувной фабрики компании «Юэ Юэнь» в Шэньчжэне провели первую большую забастовку, используя групповые сообщения и микроблоги в качестве инструментов организации. Сетевые деревни, которые использовались в аналоговой форме для набора рабочих и неформального разделения труда в масштабах отдельной фабрики, теперь используются для контроля за уровнем зарплаты и условиями труда, а также для распространения информации в рамках целых отраслей промышленности.
К ужасу китайских властей, фабричные рабочие Шэньчжэня использовали ту же самую технологию, что и либеральные, подключенные к сети студенты, которые в 2014 году организовали демократические протесты «Оккупай сентрал» в Гонконге.
Если вы признаете, что главная граница в современном мире проходит между сетями и иерархиями, то Китай – прекрасное тому подтверждение, а китайские рабочие, которые сейчас кажутся цифровыми бунтарями и аналоговыми рабами, находятся в самом сердце феномена сетевого бунта. Эти сетевые движения доказывают, что появился новый исторический субъект. Это не просто рабочий класс в ином обличии; это сетевое человечество.
И в этом заключается противоядие против пессимизма поколения Горца. Со смертью «настоящего» рабочего класса, утверждал он, исчезла главная движущая сила антикапитализма. Если вы хотели посткапитализма, вы должны были стремиться к нему как к утопии: это хорошая идея, которая могла осуществиться, а могла и не осуществиться, и в обществе не было ни одной крупной силы, которая бы воплощала его ценности.
В последние двадцать лет капитализм мобилизовал новую социальную силу, которая станет его могильщиком, подобно тому, как он объединил фабричный пролетариат в XIX веке. Именно сетевые индивиды разбивали палаточные лагеря на городских площадях, блокировали площадки, где проводили работы по гидроразрыву пласта, устраивали панк-молебны в русских соборах, поднимали пивные банки, бросая дерзкий вызов исламизму на траве парка Гези, вывели миллион человек на улицы Рио и Сан-Паулу и теперь организовали массовые забастовки в Южном Китае.
Они представляют собой «отринутый» рабочий класс – улучшенный и обновленный. Возможно, в вопросах стратегии они столь же невежественны, как и рабочие начала XIX века, но они больше не порабощены системой. Они крайне ею неудовлетворены. Они – это группа людей, чьи интересы различны, но совпадают в том, что необходимо перейти к посткапитализму, заставить информационную революцию создать экономику нового типа, в которой максимальное количество вещей будет производиться бесплатно для совместного пользования, что позволит обратить вспять волну неравенства. Неолиберализм может предложить им лишь мир слабого роста и банкротства на уровне государства: бюджетная экономия до самой смерти, зато с обновленной версией iPhone каждые несколько лет. А свободу, которой они дорожат, постоянно попирает неолиберальное государство при помощи приемов массовой слежки в стиле АНБ или китайской интернет-полиции. Без их ведома политика во многих странах оказалась под контролем клептократической мафии, чья стратегия состоит в том, чтобы обеспечивать рост ценой подавления свободы и расширения неравенства.
Это новое поколение сетевых людей понимает, что живет в эпоху третьей промышленной революции, и постепенно осознает, почему она застопорилась: если кредитная система вышла из строя, капитализм не может поддерживать тот масштаб автоматизации, которого можно достичь, и не в состоянии обеспечить уничтожение рабочих мест за счет внедрения новых технологий.
Экономика уже производит и воспроизводит сетевой образ жизни и сознание, которые вступают в противоречие с иерархиями капитализма. Стремление к радикальным экономическим переменам очевидно.
Следующий вопрос таков: что мы должны делать, чтобы их осуществить?
Часть III
Всеобщее повышение благосостояния грозит разрушить (в определенном смысле уже разрушает) иерархическое общество.
Эммануэль Гольдштейн в романе Джорджа Оруэлла «1984»Глава 8. О переходах
Обнаружение того факта, что капитализм существовал не всегда, может шокировать. Экономисты изображают «рынок» как естественное состояние человечества. Документальные телефильмы воссоздают фантастические детали жизни в Египте времен пирамид или в Пекине при императорах, но умалчивают об иных экономических системах, которые их создали. «Они были такими же, как мы», – доверительно рассказывают папы своим детям, прохаживаясь по выставке о Геркулануме в Британском музее – пока не наталкиваются на статую Пана, насилующего козу, или настенную роспись, изображающую сцену секса втроем женатой пары и раба.
Когда вы осознаете, что когда-то капитализма не было – ни в форме экономической системы, ни в форме системы ценностей, – возникает еще более шокирующая мысль: возможно, он не будет длиться вечно. Если так, то мы должны осмыслить концепцию переходов, задавшись вопросом о том, что составляет экономическую систему и как одна система уступает место другой?
В предыдущих главах я показал, как появление информационных технологий подорвало базовые институты капитализма: цены, собственность и зарплаты. Я утверждал, что неолиберализм стал ложной надеждой и что кризис, разразившийся в 2008 году, явился результатом изъянов экономической модели, которые препятствуют полноценному использованию новых технологий и началу пятой длинной волны.
Все это делает посткапитализм возможным, но у нас нет модели перехода. Сталинизм оставил нам рецепт катастрофы. Движение «Оккупай» предложило разрозненный набор хороших идей. Движение одноранговых сетей создало модели сотрудничества в малом масштабе. Экологи разработали траекторию перехода к экономике с нулевым уровнем выбросов углекислого газа, но склонны рассматривать ее отдельно от вопроса выживания капитализма.
Поэтому, когда дело доходит до планирования перехода от одного типа экономики к другому, все, что у нас есть, это опыт двух очень разных процессов: становления капитализма и краха Советского Союза. В этой главе я исследую, что мы можем из них почерпнуть, а в конце книги попытаюсь использовать эти уроки для разработки «плана-проекта», предусматривающего отход экономики от капитализма.
Двадцать пять лет неолиберализма приучили нас размышлять об изменениях в мелких масштабах. Однако если мы достаточно смелы для того, чтобы рассуждать о том, как спасти планету, то мы должны представить и то, как нам спасти самих себя от экономической системы, которая не работает. Стадия воображения здесь играет ключевую роль.
Большевик на Марсе
В старом научно-фантастическом романе Александра Богданова «Красная звезда» главного героя – революционера из партии большевиков – везут на Марс на космическом корабле. Там он обнаруживает потрясающие современные фабрики, но самые удивительные вещи он видит в помещении управления: монитор в режиме реального времени каждый час показывает нехватку рабочей силы на каждой фабрике планеты, вкупе со сводкой отраслей, где наблюдается ее избыток. Цель заключается в том, чтобы рабочие добровольно двигались туда, где они нужны. Поскольку дефицита товаров нет, спрос не измеряется. Денег тоже нет. «Каждый берет то, что ему нужно, и столько, сколько хочет», – объясняет марсианский гид. Рабочие, которые контролируют огромные механизмы, но никогда к ним не прикасаются, также вызывают восхищение у нашего землянина. «Они казались любознательными, учеными – наблюдателями, которые, собственно, ни при чем во всем происходящем… Были неуловимы и невидимы со стороны те нити, которые связывали нежный мозг людей с несокрушимыми органами механизма»[311].
В «Красной звезде» Богданов не просто представил, как могла работать посткапиталистическая экономика, – он представил, какой тип человека необходим для того, чтобы она стала возможной. Речь об информационных рабочих, чей мозг связан с механизмом «неуловимыми и невидимыми нитями». Но, описывая коммунистическое будущее, он бросал вызов условностям своего времени – социалисты всех мастей спорили друг с другом о воздушных замках. Но это была не просто фантазия.
Богданов, врач по профессии, был одним из двадцати двух основателей большевистской партии. Его сажали в тюрьму и ссылали, он возглавлял партийную фракцию в петроградском совете, издавал партийную газету, управлял партийными средствами и организовывал их сбор, в т. ч. посредством ограблений банков. Именно Богданов играл в шахматы с Лениным на знаменитой фотографии 1908 года в партийной школе на Капри. Но в том же году, когда была сделана эта фотография, Богданова выгнали из ленинской партии[312]. Он перешел в оппозицию к Ленину из-за разногласий, которые предвосхитили грядущую трагедию.
Революция 1905 года, говорил Богданов, показала, что рабочие не были готовы к управлению обществом. Поскольку он полагал, что посткапиталистическое общество должно быть обществом знаний, то всякая попытка создать его путем слепых революционных действий могла привести к власти лишь технократическую элиту, предупреждал он. Чтобы избежать этого, говорил Богданов, «необходимо распространять в массах новую пролетарскую культуру, развивать пролетарскую науку, вырабатывать пролетарскую философию»[313].
Ленин все это предал анафеме. Марксизм превратился в учение о неизбежном крахе и революции, гласящее, что рабочие могли осуществить революцию, несмотря на свои идеи и предрассудки. Богданов также дерзнул предположить, что марксизм должен адаптироваться к новым формам мышления в науке. Он предсказывал, что умственный труд заменит ручной и что весь труд станет технологическим. Когда это произойдет, наше понимание мира должно будет перешагнуть через диалектические методы мышления, которые Маркс унаследовал от философии. Наука заменит философию, предсказывал Богданов, а мы начнем рассматривать реальность в категориях взаимосвязанных «сетей опыта». Отдельные науки станут частями «универсальной организационной науки» – науки о системах.
В 1909 году на шумной встрече в парижской квартире Ленина Богданова выгнали за то, что он стал первым теоретиком систем и предвосхитил то, что могло произойти в России. Через несколько месяцев был издан его роман «Красная звезда», получивший широкое хождение среди российских рабочих. В свете того, что произошло в годы сталинизма, его трактовка посткапиталистической экономики оказалась очень дальновидной.
В романе марсианский коммунизм основан на изобилии – все имеется в достатке. Производство ведется на основе данных, получаемых в режиме реального времени, и прозрачного расчета спроса. Потребление бесплатно. Оно работает потому, что рабочим присуща массовая психология сотрудничества, в основе которой лежит высокий уровень образования и преимущественно умственный характер труда. Они перевоплощаются из женского пола в мужской и наоборот, сохраняют спокойствие и бескорыстие в условиях стресса и опасности, живут насыщенной эмоциональной и культурной жизнью.
Предыстория, описанная Богдановым, тоже провокационна. Марс пережил индустриализацию при капитализме. Началась борьба за контроль над промышленностью, увенчавшаяся революцией. Революция носила преимущественно мирный характер, поскольку ее осуществили скорее рабочие, чем крестьяне. Затем наступил столетний переходный период, в течение которого потребность в труде постепенно отмирала, в результате чего принудительный рабочий день сократился с шести часов до нуля.
В «Красной звезде» всякий, кто знаком с ортодоксальным марксизмом, легко читает между строк. Богданов использовал роман для того, чтобы предложить альтернативу идеям, которые господствовали среди крайних левых в ХХ веке. Он считает, что необходимым условием революции является технологическая зрелость, что капиталисты будут свергнуты мирным путем, посредством компромисса и компенсаций, что упор на технологии позволит сократить труд до минимума и что менять нужно прежде всего человечество, а не только экономику. Более того, важнейшим постулатом «Красной звезды» является утверждение о том, что посткапиталистическое общество должно быть устойчивым с экологической точки зрения. Марсиане добровольно совершают самоубийство, если осознают, что их слишком много и что планета не может их прокормить. А поскольку их природные ресурсы подходят к концу, они начинают вести ожесточенные дебаты о том, стоит ли колонизировать Землю.
Если вы думаете: «Что произошло бы с Россией, если бы Ленин попал под трамвай, когда шел на встречу, на которой Богданова выгнали из партии?», то вы не первый, кто задается этим вопросом. Богданову посвящена обширная литература под рубрикой «А что, если бы?» – и это справедливо. Хотя он и не мог представить себе компьютер, он представил такой коммунизм, который мог создать общество, основанное на умственном труде, экологической устойчивости и сетевом мышлении.
После 1909 года Богданов отошел от политики и потратил десять лет на написание фундаментальной книги по теории систем. В первые годы существования Советского Союза он организовал массовую рабочую культурную организацию – Пролеткульт, – которая была закрыта после того, как он присоединился к оппозиционной группе, требовавшей введения рабочего контроля[314]. Он вернулся к медицине и умер в 1928 году после того, как подверг себя эксперименту по переливанию крови[315].
Когда в 1930-е годы советские плановики начали строить командный социализм, они охотно говорили, что источником вдохновения для них была «Красная звезда»[316]. Но затем факты разошлись с утопией.
Русский кошмар
Русская революция спутала все стадии. В условиях гражданской войны, продолжавшейся с 1918 по 1921 год, банки и основные отрасли промышленности были национализированы, производством управляли комиссары (профсоюзы были подчинены военной дисциплине), фабрично-заводские комитеты были запрещены, а урожай просто изымался у крестьян. В результате производство упало до 20 % от довоенного уровня, деревню охватил голод, а рубль обесценился. Некоторые компании перешли на бартерный обмен, а зарплаты выплачивались натурой.
В марте 1921 года СССР был вынужден перейти к разновидности рыночного социализма под названием «Новая экономическая политика». Крестьянам разрешили оставлять себе и продавать урожай, что привело к оживлению экономики, но создало две опасности, которые революционерам, осажденным в России, было трудно понять. Во-первых, деньги потекли в руки зажиточных крестьян, которых в просторечии называли «кулаками», а сельское хозяйство фактически получило право вето в определении скорости промышленного развития, что нашло отражение в лозунге «Социализм со скоростью улитки». Во-вторых, укрепилось положение привилегированной бюрократии, управлявшей фабриками, снабженческими организациями, армией, тайной полицией и правительственными учреждениями.
Выступая против богатых крестьян и бюрократов, русский рабочий класс требовал большей демократии, быстрой индустриализации посредством централизованного планирования и уничтожения спекулянтов. Вскоре эти три направления общественной борьбы нашли отражение в самой коммунистической партии.
Внутрипартийные споры разразились между левой оппозицией, которую возглавлял Троцкий и которая требовала больше демократии и больше планирования, прорыночным крылом под руководством Бухарина, который хотел отсрочить индустриализацию и призывал крестьян «обогащаться», и центристской фракцией в лице самого Сталина, отстаивавшего интересы бюрократии.
В ноябре 1927 года на параде в честь годовщины революции около 20 тысяч сторонников левого крыла пронесли транспаранты с требованиями о том, чтобы партия уничтожила кулаков, спекулянтов и бюрократов. Когда рабочие нескольких московских фабрик выступили в поддержку демонстрантов, милиция напала на них, что привело к уличным столкновениям.
Сталин исключил из партии Троцкого и других лидеров левой оппозиции, отправив их в ссылку. Затем Сталин устроил один из тех кульбитов, которые Оруэлл позднее высмеял в «1984»: он перенял левую программу, но в намного более крайней форме, максимально жесткой и брутальной. В 1928 году настал черед Бухарина – он и рыночно ориентированное крыло партии подверглись чистке. Кулаки были «ликвидированы» в ходе насильственной коллективизации крестьянских хозяйств. Оценки различаются, однако в результате голода и массовых расстрелов в деревне за три года погибло около восьми миллионов человек[317].
Масштабы сталинских амбиций, которые должен был воплотить первый пятилетний план (1928–1932), нашли отражение в его фразе: «Мы отстали от передовых стран на 50–100 лет. Мы должны пробежать это расстояние в 10 лет. Либо мы сделаем это, либо нас сомнут»[318].
Официальные цифры показывают мощный рост производства в годы пятилетнего плана: удвоился выпуск угля, стали и нефти, досрочно были выполнены колоссальные инфраструктурные проекты. Но, в отличие от мира научной фантастики «Красной звезды», плановики столкнулись с двумя непреодолимыми препятствиями. В экономике по-прежнему преобладало сельское хозяйство, а техническая основа промышленности была слаба и подорвана десятилетием хаоса. Сталин навязал планирование обществу, которое было далеко от изобилия – напротив, оно страдало от дефицита, а его сельское хозяйство носило полуфеодальный характер. Чтобы добиться хоть какого-то прогресса, Сталин должен был осуществить резкое перераспределение средств от деревни к промышленности и от потребления к тяжелому машиностроению. Промышленные цели были выполнены, но ценой массового голода, массовых казней, рабских условий труда на многих предприятиях и, в конечном итоге, ценой последующего экономического кризиса[319].
СССР не догнал Запад за десять лет. Но к 1977 году ВВП на душу населения в стране составлял 57 % от уровня США и сравнялся с уровнем Италии. По данным исследования, проведенного по заказу ЦРУ, с 1928 года до начала 1980-х средние темпы роста в СССР составляли 4,2 %. «С уверенностью можно сказать, что это рекорд устойчивого роста», – заключили аналитики RAND Corporation[320].
Но рост Советского Союза никогда не был обусловлен производительностью. Согласно исследованию RAND, лишь четверть роста в СССР обеспечивалась за счет улучшения технологий, остальная же часть – за счет наращивания факторов производства, т. е. станков, сырья и энергии. После 1970 года рост производительности прекратился полностью: если нужно было увеличить вдвое производство гвоздей, то рядом со старой фабрикой просто строили еще одну – о производительности речи не шло.
Экономисты называют такое развитие «экстенсивным ростом» – в отличие от интенсивного роста, который увеличивает реальное благосостояние. В среднесрочной перспективе система, в основе которой лежит экстенсивный рост, нежизнеспособна. Вполне вероятно, что, в отсутствие роста производительности, советская система в 1980-е годы рухнула бы под грузом внутренних проблем даже без давления со стороны Запада.
Один урок – который давно сформулировали анархисты, аграрные социалисты вроде Кондратьева и инакомыслящие марксисты вроде Богданова – звучал так: «Не захватывайте власть в отсталой стране». Второй урок: нужно отдавать себе отчет в том, что планирование – это гадание. Как показал экономист Холлэнд Хантер на основе анализа советских статистических данных, цели первого пятилетнего плана были недостижимы без сокращения потребления на 24 %[321]. Советские плановики работали вслепую: наугад устанавливали цель, завышали показатели для своих подчиненных, чтобы оказывать давление, а когда задачи не выполнялись, тратили огромные усилия, чтобы исправить ситуацию или скрыть ее. Они отказывались признавать, что даже у переходных экономик есть объективные законы: динамика, которая действует вне зависимости от экономических агентов и подавляет их волю. «Невозможно исследовать советскую экономику, рассматривая причинность в качестве координаты», – говорилось в партийном учебнике по экономике, изданном в середине 1920-х годов[322]. В выдуманном мире сталинизма даже причины и следствия были неприменимы.
Поскольку на протяжении длительного времени темпы роста в Советском Союзе превосходили темпы роста на Западе, кейнсианские экономисты восхищались плановой экономикой. Ее хаотичный упадок с самого начала предсказали пророки неолиберализма – Мизес и Хайек. Если сегодня мы хотим разработать проект перехода к посткапитализму, то мы должны серьезно отнестись к критике Хайека и Мизеса. В свои самые плодотворные годы они были не просто критиками советских реалий – они настаивали на том, что даже в развитой стране любые формы планирования обречены на провал.
Споры о расчетах
Это хоть и странно, но правда: возможность построения социализма некогда была ключевым принципом традиционной экономики. Поскольку маржиналисты полагали, что рынок – это совершенное воплощение человеческой рациональности, их не смущала идея – пока она оставалась лишь мыслительным экспериментом – о том, что всезнающее государство может достичь тех же результатов, что и совершенный рынок. «Обе системы не отличаются по форме и ведут к одной и той же цели, – писал итальянский экономист Вильфредо Парето в знаменитом учебнике, – результат очень значим»[323].
В 1908 году его коллега Энрико Бароне подробно изложил, как социалистическое государство может рассчитать ровно те же результаты, которых рынок достигает вслепую. Бароне показал, что, используя линейные уравнения, можно выявить самые эффективные формы производства, потребления и обмена. «Это был бы невероятный, колоссальный труд… но это не было бы невозможно», – писал он[324].
Для маржиналистов то был символ веры: в теории совершенный план, разработанный государством, имеющим совершенные знания и способным рассчитывать в реальном времени, так же хорош, как и совершенный рынок.
Но здесь был подвох. Прежде всего, государство, как и рынок, не может заранее рассчитать то, в чем возникнет потребность. Поэтому каждый годовой план на деле представляет собой эксперимент, причем не в малом, а в очень крупном масштабе. Рынок может корректировать себя в реальном времени, плану же на это требуется больший срок. По мнению Бароне, коллективистский режим будет таким же анархичным, как и рынок, но в большем масштабе. И на практике государство никогда не сможет располагать совершенным знанием или производить расчеты достаточно быстро, поэтому обсуждение этого вопроса осталось чисто научным.
Лишь потрясения 1917–1921 годов превратили «социалистические расчеты» в конкретный экономический вопрос. В 1919 году Германия и Австрия предприняли неудачные попытки «социализации», ранняя советская военная экономика была провозглашена формой коммунизма, а в недолговечной Баварской советской республике всерьез обсуждались планы по немедленному упразднению денег. Плановые экономики перестали быть мыслительным экспериментом, превратившись в неминуемую вероятность, к которой стремились с некоторым фанатизмом.
Таков был контекст, в котором Людвиг фон Мизес писал книгу «Экономический расчет при социализме» (1920). Рынок, говорил Мизес, действует как вычислительная машина: люди делают выбор, продают и покупают вещи по определенной цене, а рынок определяет, был ли их выбор правильным. Со временем это обеспечивает наиболее рациональное распределение дефицитных ресурсов. Если устранить частную собственность и начать планировать, вычислительная машина выходит из строя: «Без экономического расчета не может быть экономики. Поэтому в социалистическом государстве, где невозможно проводить экономические расчеты, не может быть никакой экономики в том смысле, в котором мы ее понимаем»[325].
Что же до стремления левых упразднить деньги, то Мизес объяснял, что оно не имеет значения. Если вы продолжаете использовать деньги, но при этом подавляете рыночный механизм путем планирования, вы снижаете способность денег подавать ценовые сигналы. Но если вы устраняете деньги, вы устраняете и мерило спроса и предложения: распределение превращается во вдохновленное гадание. «Таким образом, – говорил Мизес, – при социализме любое экономическое изменение становится делом, успех которого нельзя ни оценить заранее, ни определить ретроспективно. Это блуждание впотьмах»[326].
Мизес сосредоточился на трех ключевых слабостях реального планирования: государство не может рассчитывать так же быстро, как это делает рынок; государство не может поощрять инновации; а когда дело доходит до распределения капитала между основными отраслями, то, в отсутствие финансовой системы, этот процесс становится громоздким и необдуманным. Мизес предсказывал, что в результате планирование приведет к хаосу и, прежде всего, к перепроизводству низкосортных товаров, которые будут никому не нужны. Оно будет работать какое-то время, потому что «память» об адекватных ценах будет оставаться частью системы, но, как только эта память сотрется, наступит хаос. Поскольку его предсказания относительно жизни и смерти советской экономики оказались верными, его книга стала священным текстом для правых сторонников свободного рынка. Но в свое время она не имела большого влияния.
Лишь в 1930-е годы, в условиях депрессии, фашизма и второй пятилетки в СССР, споры о расчете при социализме возобновились. СССР был неэффективен по всем перечисленным традиционным причинам, говорил Фридрих Хайек, ученик Мизеса: отсутствие выбора у потребителя, неповоротливое распределение ресурсов, отсутствие вознаграждения за инновации. Однако Хайек отказался от ключевого тезиса Мизеса – неспособности государства рассчитывать так же точно, как рынок. Социалистическое государство могло эффективно заменять рынок, как говорил еще Бароне, при условии, что оно располагает точной информацией. Проблема заключалась в том, что оно никогда не смогло бы осуществлять расчеты достаточно быстро.
Гарольд Роббинс, коллега Хайека и профессор Лондонской школы экономики, посетовал на то, что для точного расчета плана «потребовалось бы вывести миллионы уравнений из миллионов статистических данных, основанных на многих миллионах отдельных вычислений. К тому времени, когда уравнения будут решены, информация, из которой они исходили, устареет и их придется рассчитывать заново»[327].
Это вызвало оживленный обмен мнениями. Левый польский экономист Оскар Ланге подчеркивал, что Хайек и Роббинс сделали левым большую уступку[328].
Ланге примыкал к школе умеренных социалистов, которые отошли от марксизма и верили, что социализм можно построить, исходя из принципов теории предельной полезности. Он показал, что если вы сохраняете потребительский рынок и оставляете людям свободу выбирать место работы, но планируете производство всех товаров, то процесс проб и ошибок в социалистической экономике концептуально не будет отличаться от процесса, который предопределяется ценами. Неудовлетворенные потребности в экономике дают о себе знать не через движения цен, а посредством дефицита и переизбытка товаров. В ответ центральное управление снабжения просто переформулирует производственные квоты.
Большинство независимых наблюдателей считали, что Ланге доказал выдвинутую им идею. После войны даже эксперт ЦРУ по советской экономике заключал: «Конечно, социализм может функционировать… В этом доводы Ланге, безусловно, убедительны»[329].
Тем не менее нам следует вернуться к спорам о расчетах по причине, которая должна была бы быть очевидной: сегодня технологии разъедают ценовой механизм, но при этом не происходит становления плановой экономики. А суперкомпьютеры и большие данные делают доступными расчеты в реальном времени, которые Роббинс считал невозможными. Роббинс говорил о миллионе в кубе. Это петабайт, ставший теперь единицей, которой мы измеряем производительность суперкомпьютера (петабайты действий в секунду). По мнению некоторых левых, это возродило мысль о том, что «планирование может функционировать» – для этого нужно лишь решить проблему вычислений при помощи технологий. Действительно, в посткапиталистической экономике проблема вычислений не стоит по той причине, о которой Мизес говорил в 1920 году.
В «спорах о расчетах» 1930-х годов обе стороны отвергали трудовую теорию стоимости. И социалист Ланге, и ультракапиталист Хайек верили, что предельная полезность – это единственное объяснение того, что создает стоимость. Поэтому для обеих сторон мысль о переходе, в ходе которого система, основанная на дефиците, уступает место системе, основанной на избытке, – это неисследованная территория. Если капитализм и государственный социализм представляют собой лишь два разных способа рационального распределения продуктов до тех пор, пока не будет достигнуто равновесие, то переход от одного к другому – это лишь технический вызов, но не революция.
Однако, как отмечал еще Мизес, если трудовая теория стоимости верна, то проблема расчетов вообще не возникает. Проблемы распределения товаров, выявления приоритетов и вознаграждения людей, внедряющих инновации, могут решаться в рамках системы, основанной на трудовой стоимости, потому что все можно измерить при помощи одного и того же мерила. Мизес признавал, что социализм возможен, но лишь в том случае, если существует «легко узнаваемая мера стоимости, которая даст возможность производить экономические расчеты в экономике, где отсутствуют и деньги, и обмен. Только труд можно считать такой мерой»[330].
Тем не менее Мизес отклонил трудовую теорию по стандартной причине, признававшейся в Вене 1920-х годов, т. к. ее нельзя использовать ни для измерения различных уровней квалификации, ни для применения рыночной стоимости к естественным ресурсам. Оба этих возражения легко преодолеть. На самом деле, они проистекают из недопонимания теории Маркса. Маркс ясно объяснял, что высококвалифицированный труд можно измерить как величину, кратную низкоквалифицированному труду, а трудовая стоимость, воплощенная в сырье, представляет собой лишь труд, который потребовался на его добычу и транспортировку.
И наконец, в работе Мизеса, посвященной расчетам, есть вторая ценная догадка: настоящим посредником между спросом и предложением в рыночной экономике является не торговля между компаниями, а финансовая система, которая устанавливает цену на капитал. Это проницательное наблюдение сохраняет свою значимость и сегодня: если мы стремимся к посткапиталистической экономике, то нам требуется не только нечто лучшее по сравнению с рынком для распределения товаров, но и нечто лучшее по сравнению с финансовой системой для распределения капитала.
У переходов – своя динамика
Лишь русская левая оппозиция и в первую очередь ее ведущий экономист Евгений Преображенский поняли ключевую роль трудовой теории в процессе перехода. Для них задача перехода формулировалась довольно просто и подразумевала возрастающее предложение бесплатных вещей, имеющихся в избытке, и размывание «необходимого труда» как мерила обмена. Подобно описанию, данному в «Красной звезде», первые советские плановики стремились добиться максимального производства для того, чтобы труд утратил связь с зарплатой и со способностью потреблять. В марксистских категориях это трактовалось как «упразднение закона о стоимости».
Но русские левые могли достичь этого лишь путем развития тяжелой промышленности и внедрения государственного контроля. К началу 1920-х годов дефицитом было все: для производства потребительских товаров была нужна тяжелая промышленность и электрификация, а для того, чтобы прокормить людей, было нужно индустриализированное сельское хозяйство. Поэтому они настаивали на сосредоточении ресурсов в тех секторах, которые затем стали ключевыми для советской пропаганды – электростанции, сталелитейные заводы, крупное машиностроение. Однако они проницательно отмечали, что достижение равновесия маловероятно и что планирование будет носить анархический характер.
С точки зрения экономики самая важная мысль, которую русские троцкисты нам подарили, вероятно, заключалась в том, что фаза перехода порождает собственную динамику. Фаза перехода никогда не ограничивается лишь отмиранием одной системы и становлением другой.
Троцкий утверждал, что на первой стадии перехода в советском стиле нужно было поддерживать и частный бизнес, и потребительский сектор. Было бы слишком заносчивым полагать, что на этой стадии план мог обеспечить лучшее распределение потребительских товаров, чем рынок. Рубль должен был сохранять свою конвертируемость на мировом рынке. Кроме того, все планы представляли собой гипотезы. «План, – говорил Троцкий, – проверяется и, в значительной степени, осуществляется посредством рынка»[331].
Даже самое грубое регулирование требует обмена информацией в реальном времени. Но в забюрократизированном обществе, где выражение несогласия вело прямиком в ГУЛаг, такой обмен информацией был затруднен. Поэтому Троцкий настаивал на поощрении демократии на рабочем месте. Нужен был скользящий план, представляющий собой сочетание плана и рынка и предполагающий использование денег как в качестве средства обмена, так и в качестве средства накопления. Также была необходима рабочая демократия.
Деньги, говорил Преображенский, будут нормально функционировать в тех отраслях, которые невозможно планировать, в то время как в планируемом секторе экономики деньги начнут функционировать в качестве технического бухгалтерского средства. И хотя план ставит своей целью подмять под себя рынок, рынок будет постоянно «загрязнять» план.
В памятном фрагменте, значение которого для XXI столетия будет очевидно, Троцкий писал:
Если б существовал универсальный ум… регистрирующий одновременно все процессы природы и общества, измеряющий динамику их движения, предугадывающий результаты их взаимодействия, – такой ум мог бы, конечно, априори построить безошибочный и законченный хозяйственный план, начиная с числа гектаров пшеницы и кончая пуговицей на жилете[332].
Отсутствие же такого «универсального ума», говорил он, требует развития рабочей демократии, которая была упразднена. Эта грубая вычислительная машина могла бы работать только в том случае, если бы люди, обладая свободой выражения, превратились в сенсоры и механизмы обратной связи планирующей системы.
Преображенский, Троцкий и их соратники были последними обладавшими какой-либо властью марксистами, которые рассматривали переход в категориях трудовой стоимости. Преображенский был казнен в 1936 году, а Троцкий – убит в 1940 году. Но их идеи имеют важное значения для мира, в котором мы живем сегодня.
При неолиберализме рыночный сектор организован намного сложнее, чем в 1920–1930-е годы. США 1933 года и Россия 1933 года сильно различались – но они были намного ближе друг к другу, чем сегодняшняя Америка к Америке тридцатилетней давности. Сегодняшний потребительский сектор не только намного больше, но и гораздо более раздроблен. Производство и потребление переплетаются друг с другом, а в экономике уже присутствуют информационные товары с нулевыми предельными издержками производства. Нам также приходится иметь дело с «социальной фабрикой», описанной Негри, т. е. с финансиализированным разобщенным потребительским обществом, в котором то, что мы покупаем, стало вопросом идентичности.
Итак, первый урок заключается в следующем: рыночный сектор намного сложнее организован, а значит, его намного труднее заменить или улучшить посредством планирования.
Далее, мы должны рассмотреть государственный сектор. Современное государство оказывает гораздо больше услуг, чем любое капиталистическое государство в 1930-е годы. Тратит ли оно доллары налогоплательщиков на услуги частных компаний или на те, что производит само, государство сужает пространство для настоящей частной экономики, в которой частные компании производят товары для частных индивидов. К тому же значительное место занимает одноранговая экономика, хотя она и не измеряется в категориях прибыли и ВВП. Поэтому второй урок состоит в том, что любая попытка выйти за пределы рынка примет иные формы, чем это было в 1930-е годы.
Но мы можем кое-что почерпнуть и из споров о расчетах, и у русских левых экспертов по планированию, если будем знать, как их правильно интерпретировать. Однако прежде мы должны понять, что даже при наличии лучшего суперкомпьютера и мощнейшего сервера планирование – это не основной путь отхода от капитализма.
Атака киберсталинистов
В последние двадцать лет Пол Кокшотт и Эллин Коттрелл, специалист по информатике и профессор экономики, неустанно работали над проблемой, которой, как мы думали, нет: как планировать экономику? Хотя их работа не очень известна, она была проведена скрупулезно и оказала бесценную услугу – это детальное пособие, рассказывающее о том, чего мы не должны делать.
Кокшотт и Коттрелл утверждают, что увеличение мощности компьютеров, наряду с применением высшей математики и теории информации, в принципе, снимает возражение Хайека-Роббинса о том, что плановик никогда не будет располагать более точной информацией в реальном времени, чем рынок. Более того, в отличие от споров левых о расчетах, они говорят, что компьютерная модель, которая нам потребуется для планирования производства, должна основываться на трудовой теории стоимости, а не пытаться воспроизводить результаты действия спроса и предложения.
Это ключевое расхождение с работой Ланге. Кокшотт и Коттрелл понимают, что трудовая теория обеспечивает мерило, при помощи которого можно сравнивать как рыночные, так и нерыночные взаимодействия, а также просчитывать переход. Они считают, что процесс планирования схож с модульной компьютерной программой. Программа сопоставляет запросы потребителей и производителей; определяет издержки и ресурсы, необходимые для их удовлетворения; формулирует задачи; заранее рассчитывает применение ресурсов; проверяет, насколько план осуществим, и затем информирует производителей и поставщиков услуг о целях, которые необходимо достичь[333].
Но, в отличие от русской левой оппозиции 1920-х годов, Кокшотт и Коттрелл не считают план чем-то временным или чем-то, что должен выполнять только государственный сектор; он должен разрабатываться и тестироваться детально, на уровне предприятий и отдельных товаров.
Если устранить рынок, утверждают они, то хозяин фабрики, директор дома для престарелых или владелец кофейни не будут получать сигналов, на которые можно опираться. Они должны точно знать, что им следует производить. Иными словами, авторы исследования предлагают методологию полностью директивного плана, который Троцкий описывал (и высмеивал) в 1930-е годы.
Конечно, за всю свою историю Советский Союз так и не достиг такого уровня планирования. К 1980-м годам в СССР производилось 24 миллиона различных товаров, но весь аппарат планирования мог отследить цену и качество лишь 200 тысяч из них, а реальный центральный план – до 2 тысяч. В результате фабрики выполняли задания по небольшому числу товаров, которые они должны были производить, а все остальные запросы либо удовлетворяли хаотично, либо не удовлетворяли вовсе[334].
В модели Кокшотта и Коттрелла деньги существуют в форме «трудовых жетонов», которые выплачиваются каждому в зависимости от выполняемого труда за вычетом фиксированного налога, за счет которого покрываются расходы на государственные услуги. Потребителю это дает возможность выбора. Когда спрос и предложение какого-либо товара теряют равновесие, центральные плановики корректируют цену в целях обеспечения сбалансированности в краткосрочной перспективе. Затем, на протяжении более длительного периода, они сравнивают цены, устанавливаемые отраслью или производственно-хозяйственной единицей, с фактическим объемом выполняемого ими труда. На следующем этапе плана они увеличивают производство в тех сферах, где цены превышают объем примененного труда, и сокращают его там, где они ниже этого объема. Планирование имеет «повторяющийся» характер; оно постоянно корректируется. Но это не просто метод проб и ошибок. Кокшотт и Коттрелл полагают, что издержки и выпуск продукции можно рассчитать заранее, и предлагают для этого подробный алгоритм.
Вычислительная задача состоит в первую очередь в том, чтобы рассчитать стоимость одного часа труда, т. е. сколько труда приходится на каждый продукт в гигантской сводной таблице. Исследователи утверждают, что ее можно рассчитать на суперкомпьютере, но лишь в том случае, если он применяет такие методы обработки данных, которые отдают предпочтение наиболее значимой информации.
По мнению Кокшотта и Коттрелла, определение стоимости одного часа труда – самая сложная часть работы. Сам по себе план, т. е. распределение ресурсов, рассчитать легче, поскольку вы не управляете программой вслепую. Вы задаете ей реалистичные вопросы, например: сколько товаров будет продано в этом году; сколько различных ресурсов мы обычно используем; каковы сезонные вариации; какой спрос ожидается; сколько нам следует заказывать товаров, исходя из предыдущего опыта? «Благодаря современным компьютерам можно ежедневно осуществлять расчет обновляемого списка трудовой стоимости товаров и готовить новый перспективный план каждую неделю – это превышает скорость реакции рыночной экономики»[335].
Взявшись за применение этих принципов, Кокшотт и Коттрелл предложили очерк плановой экономики в Европейском союзе. Они объяснили не только, как рассчитывать план, но и как перестроить экономику для того, чтобы его внедрить. И здесь становятся ясны допущения, лежащие в основе их методологии: при всей их неприязни к ошибкам 1930-х годов они предлагают разновидность киберсталинизма.
В их модели устранение рынка в Европе будет осуществляться преимущественно не путем национализации, а через реформирование монетарной системы таким образом, чтобы деньги начали отражать трудовую стоимость[336]. Банкноты будут перепечатаны с «цифрами трудового времени», что позволит людям увидеть несоответствие между тем, что им платили за их рабочее время, и тем, сколько с них брали за продукты. Авторы надеются, что с течением времени люди начнут выбирать товары ближе к их настоящей стоимости. Таким образом, выбор потребителей превращается в механизм, выдавливающий прибыль из системы. Закон, запрещающий эксплуатацию, позволит рабочим изобличать получение чрезмерной прибыли; окончательная цель будет заключаться в полном искоренении прибыли. Банки перестанут быть инструментами для накопления капитала – это будет делать государство путем прямого налогообложения. Финансовый сектор будет разрушен.
Здесь Кокшотт и Коттрелл оказывают большую услугу, но не ту, о которой думают они сами. Они показывают, что для всеобъемлющего планирования развитой экономики начала XXI века следовало бы полностью устранить ее сложность, уничтожить финансы и навязать радикальные изменения в поведении на уровне потребления, демократии на рабочем месте и инвестиций.
Откуда появятся динамизм и инновации, не уточняется. Равно как и то, каким образом возникнет значительно более широкий сектор культуры. На самом деле, исследователи отстаивают мысль о том, что вследствие уменьшения сложности плановая экономика потребует меньшего количества расчетов, чем рыночная.
Но в этом и состоит проблема. Для того чтобы план работал, общество, осуществляющее этот проект, должно вернуться к тому состоянию, когда его можно «планировать». Рабочие координируются с каждым аспектом плана Кокшотта и Коттрелла на своих рабочих местах – а что происходит с теми, кто работает на трех работах одновременно, или с матерью-одиночкой, оказывающей сексуальные услуги по веб-камере? Они не существуют. Точно так же должна исчезнуть, причем не постепенно, финансовая сложность, которая стала отличительной чертой современной жизни. В этом мире не может быть кредитных карт, займов до получки, а сфера электронной торговли, вероятно, должна будет значительно сократиться. И конечно, в этой модели нет сетевых структур и однорангового производства бесплатных товаров.
Хотя исследователи осуждают догматический идиотизм советского планирования, они все равно придерживаются мировоззрения иерархического общества, физических продуктов, простой системы, в которой перемены протекают медленно. Модель, которую они создали, – это лучшее доказательство того, почему любая попытка использования государственного планирования и подавления рынка для продвижения к посткапитализму обречена.
К счастью, открылся другой путь. Чтобы пойти по нему, мы должны разрабатывать отдельные, произвольные микропроцессы, а не план. Наше решение должно гармонично сочетаться с миром сетей, информационных товаров, сложности и нарастающих перемен.
Конечно, на пути к посткапитализму нам понадобится планирование. Значительная часть капиталистического мира уже планируется – от городского проектирования и строительных проектов до интегрированных цепочек снабжения в крупных супермаркетах. Это становится возможным благодаря увеличению вычислительных мощностей, использованию больших данных и цифровому отслеживанию отдельных объектов и компонентов за счет применения штрихкодов и RFID-чипов. Так что та часть нашего проекта, которая нуждается в планировании, технически будет хорошо оснащена.
Но природа современного общества меняет проблему. В комплексном глобализированном обществе, где рабочий также является потребителем финансовых услуг и микроуслуг, поставляемых другими трудящимися, план может превзойти рынок только в том случае, если произойдет отказ от сложности и возвращение к иерархии. Компьютеризированный план, даже если он все измеряет в категориях трудовой стоимости, может приказать обувной промышленности производить обувь, но он не может заставить Бейонсе вдруг создать альбом, распространяющийся только через социальные сети, как тот, что она выпустила в 2013 году. Не может план регулировать и самое интересное явление в современной экономике – бесплатные товары. Такой план относился бы к редактированию страницы в Википедии или к обновлению Linux так же, как рынок, т. е. как к бесполезному занятию, которое невозможно рассчитать.
Если возникновение сетевой экономики начинает расшатывать закон стоимости, то и планирование должно стать частью чего-то более всеобъемлющего.
Андре Горц однажды написал, что источником превосходства капитализма над советским социализмом была его «нестабильность, его разнообразие… его комплексный многообразный характер, сравнимый с характером экосистемы, постоянно создающей все новые конфликты между частично автономными силами, которые невозможно контролировать или поставить раз и навсегда на службу стабильному порядку»[337].
То, что мы пытаемся построить, должно быть еще более комплексным, автономным и нестабильным.
Но переход от одной экономической системы к другой требует времени. Если тезис о посткапитализме верен, то нам предстоит пережить что-то подобное переходу от феодализма к капитализму и не похожее на надежды советских плановиков. Он будет долгим, путаным, и в этом процессе придется переформулировать само понятие «экономической системы».
И именно поэтому всякий раз, когда я хочу перестать размышлять о будущем в откровенно марксистских категориях, я думаю о Шекспире.
Большие изменения: Шекспир против Маркса
Если бы вы могли увидеть исторические пьесы Шекспира одну за другой, начиная с «Короля Иоанна» и заканчивая «Генрихом VIII», то на первый взгляд они показались бы чем-то вроде сериалов компании Netflix без общего замысла: убийства, войны и суматоха – все это происходит на фоне кажущихся бессмысленными споров между королями и герцогами. Но когда вы понимаете, каков «способ производства» в этом обществе, смысл проясняется. Вы наблюдаете крах феодализма и становление раннего капитализма.
Способ производства – это одна из самых мощных идей, рожденных марксистской экономической мыслью. Она повлияла на многих исторических мыслителей и сформировала наши представления о прошлом. Начинается она с вопроса: на чем основана преобладающая экономическая система?
Феодализм был системой, основанной на обязательстве: крестьяне были обязаны отдавать часть произведенного продукта землевладельцу и нести воинские повинности в его пользу. Землевладелец, в свою очередь, был обязан выплачивать налоги королю и выставлять армию по запросу последнего. Однако в Англии, описанной в шекспировских исторических пьесах, главная пружина этой системы вышла из строя. Ко времени, когда Ричард III убивал своих противников в реальной жизни, система, основанная на обязательстве, уже была подорвана деньгами: рента выплачивалась деньгами, военная служба оплачивалась деньгами, войны велись при помощи международной банковской системы, раскинувшейся от Флоренции до Амстердама. Шекспировские короли и герцоги убивали друг друга потому, что благодаря деньгам любая власть, основанная на обязательстве, могла быть свергнута.
Шекспир пытался уловить суть этого задолго до того, как были изобретены слова «феодализм» и «капитализм». Ключевая разница между его историческими пьесами, с одной стороны, и комедиями и трагедиями, с другой, заключается в том, что в последних описывается общество, в котором жили его зрители. В комедиях и трагедиях мы внезапно попадаем в мир банкиров, купцов, компаний, наемных солдат и республик. Типичными декорациями для этих пьес служит процветающий торговый город, а не замок. Типичный герой – это человек, величие которого буржуазно по своей сути и который всего добился сам, благодаря храбрости (Отелло), гуманистической философии (Просперо) или знанию законов (Порция в «Венецианском купце»).
Но Шекспир понятия не имел, к чему это приведет. Он видел, как влияет этот новый вид экономики на человеческий характер – обогащает нас знаниями, но делает более подверженными жадности, страстям, неуверенности в себе и одержимости властью в новом масштабе. Но пройдет еще сто пятьдесят лет, прежде чем торговый капитализм, основанный на торговле, завоевании и рабстве, расчистит путь для капитализма промышленного.
Если вы зададите вопрос текстам Шекспира: «Чем различаются прошлое и время, в котором вы живете?», ответом будет: «Идеями и поведением». Люди все больше ценят друг друга. Любовь важнее, чем семейные обязанности. За такие человеческие ценности, как истина, научная точность и справедливость, можно отдать жизнь – с гораздо большей готовностью, чем за иерархию и честь.
Шекспир прекрасно отразил тот момент, когда один способ производства начинает давать сбои и появляется другой. Но нам нужен и Маркс. Согласно материалистическому подходу к истории, разница между феодализмом и ранним капитализмом заключается не только в идеях и поведении. Изменения в социальной и экономической системе имеют ключевое значение. А движущей силой изменений, по сути, являются новые технологии.
По Марксу, способ производства описывает комплекс экономических отношений, законов и социальных традиций, которые образуют исходную «норму» общества. При феодализме понятия власти сеньора и обязательств пронизывали все. При капитализме подобной силой обладают рынок, частная собственность и зарплаты. Чтобы понять способ производства, нужно задаться еще одним важным вопросом: «Что спонтанно воспроизводит себя?» При феодализме это понятия верности и обязанности; при капитализме – рынок.
И именно здесь понятие способа производства становится сложным: изменения настолько масштабны, что мы никогда не сравниваем подобное с подобным. Поэтому, когда речь заходит об экономической системе, которая заменит капитализм, мы не можем ожидать, что она будет основана на чем-то столь же чисто экономическом, как рынок, или на чем-то столь же принудительном, как феодальная власть.
По Марксу, понятие способа производства ведет к строгой исторической последовательности: есть различные докапиталистические формы общества, в которых богатые становятся богатыми посредством узаконенного насилия. Затем есть капитализм, при котором богатые становятся богатыми посредством технических инноваций и рынка. И наконец, есть коммунизм, при котором все человечество становится богаче, потому что на смену недостатку приходит изобилие. Эта последовательность уязвима для критики с двух сторон. Во-первых, ее можно воспринимать как квазимифологию, мол, человеческая судьба кажется предопределенной и протекает в три логичных этапа. Во-вторых, ее применение историками, изучающими прошлое, оборачивается наклеиванием простых ярлыков на сложные общества или поиском экономических мотивов там, где их просто не было.
Но если мы откажемся от мифа о неизбежности и просто признаем, что «должно наступить время относительного изобилия по сравнению с дефицитом, на котором зиждились все предыдущие экономические модели», то окажется, что Маркс лишь говорил то же, что и Кейнс в начале 1930-х годов: когда-нибудь товаров будет в избытке и экономическая проблема разрешится. «Впервые с момента своего создания, – писал Кейнс, – человек столкнется со своей реальной, постоянной проблемой: как использовать свою свободу от насущных экономических забот… как жить мудро, достойно и хорошо»[338].
Рис. 13. ВВП на душу населения (тыс. долл. США)
На самом деле, такая трехфазовая картина мировой истории подтверждается данными относительно населения и ВВП, которыми мы (в отличие от Маркса и Кейнса) на данный момент располагаем. Примерно до 1800 года лишь в Западной Европе наблюдалось ощутимое увеличение ВВП на душу населения, в основном после завоевания обеих Америк. Затем после промышленного переворота начался впечатляющий рост ВВП на душу населения, который вновь ускорился около 1950 года. Сегодня, как показывает рис. 13, темпы роста ВВП на душу населения увеличиваются во всем мире. О стадии, когда все линии почти вертикально устремляются вверх, Кейнс и Маркс позволяли себе мечтать – мы тоже должны себе это позволять[339].
Драйверы перехода
Что привело к краху феодализма и становлению капитализма? Естественно, этот вопрос – предмет гигантских исторических споров. Но если мы считаем, что переход к посткапитализму будет схож с ним по масштабам, то мы можем извлечь уроки относительно переплетения внутренних и внешних факторов, роли технологий и значения идей, а также понять, почему переходы так трудно понять, когда они происходят у тебя на глазах.
Вооружившись новым знанием, которое мы можем почерпнуть у генетиков, эпидемиологов и социальных историков, мы можем выделить четыре причины, обусловивших конец феодализма.
Примерно до 1300 года феодальное сельское хозяйство было динамичным, благодаря чему подушевой ВВП в Западной Европе рос быстрее, чем где бы то ни было еще. Но голод, начавшийся в 1300-е годы, обозначил упадок эффективности феодальных систем использования земли: производительность не поспевала за ростом населения. Затем, в 1345 году, английский король Эдуард III отказался расплачиваться по долгам своей страны, разорив флорентийских банкиров, которые одолжили ему деньги. Хотя с этим дефолтом можно было справиться, он стал одним из симптомов общего неблагополучия, предупреждавшим о том, что кризис в одной части феодальной Европы мог распространиться повсюду.
В 1347 году в Европу проникла чумная палочка. К 1353 году черная смерть уничтожила по меньшей мере четверть населения Европы[340]. Для тех, кто ее пережил, этот опыт стал духовным потрясением – чем-то вроде конца света. Экономические последствия были тяжелыми, т. к. предложение труда рухнуло. Внезапно сельскохозяйственные рабочие, которые прежде находились на самом низком уровне из возможных, получили возможность требовать более высокой оплаты.
Когда эпидемия сошла на нет, разразилась экономическая борьба: крестьянские восстания во Франции и Англии, бунты рабочих в Генте и Флоренции, ключевых ремесленных городах. Историки называют это «всеобщим кризисом феодализма». Хотя восстания были подавлены, чаша экономических весов теперь склонялась в пользу городских рабочих и крестьян. «После черной смерти сельскохозяйственная рента резко упала, а зарплаты в городах увеличились в два и даже в три раза по сравнению с прежним уровнем», – писал историк Дэвид Херлихи[341].
Поскольку цены на шерсть выросли, многие землевладельцы переключились с производства зерна на выпас овец – в отличие от пшеницы, шерсть производилась для продажи, а не для потребления. На смену старой традиции, заставлявшей крестьян нести военную службу, пришла война, которая все в большей степени велась наемниками, оплачиваемыми наличными деньгами. А поскольку рабочих не хватало, пришлось изобретать устройства, которые сокращали трудовые издержки.
По сути, крысы, которые привезли черную смерть в Кадис в 1347 году, вызвали внешний шок, способствовавший краху ослабевшей системы.
Вторым фактором перемен был рост банковского дела. Оно уже стало надежным способом накопления богатства в неучтенном пространстве между официальными классами капитализма: знатью, рыцарями, мелким дворянством, духовенством и т. д. В XV веке Медичи создали транснациональную суперкомпанию, а когда их влияние стало падать, их место заняла семья Фуггеров из Аугсбурга.
Банки не просто систематически внедряют кредит в феодальное общество, но и создают альтернативную сеть власти и тайн. Благодаря своему бизнесу Фуггеры и Медичи располагали неофициальным инструментом влияния на королей, даже несмотря на то, что их деятельность считалась мало соответствующей христианской морали. Всякий, кто был в нее вовлечен, потворствовал созданию неявной формы капитализма в рамках официальной феодальной экономики.
Третьим важным фактором, способствовавшим становлению капитализма, стало завоевание и разграбление Америки, начавшееся в 1503 году. Оно направило в руки неаристократов такой поток денег, который превосходил все, что создавалось за счет органичного роста рынка в рамках позднего феодализма. В Перу конкистадоры одним махом украли 1,3 миллиона унций золота. Огромный объем богатства, ввезенный в Европу в раннее новое время, дал мощный толчок развитию рыночных сил, ремесленного производства и банковского дела. Он также укрепил власть монархических государств над старыми независимыми городами и обедневшими герцогами, остававшимися в своих замках.
Наконец, появилось книгопечатание. Гутенберг запустил первый книгопечатный станок в 1450 году. В последующие 50 лет было напечатано 8 миллионов книг – больше, чем произвели все христианские писари с римских времен. Элизабет Эйзенштейн, крупный специалист по истории книгопечатания, отмечает революционный характер самой типографии. Она объединяла ученых, священников, авторов и слесарей в одном деловом пространстве, которое не могло возникнуть в какой-либо другой социальной конфигурации в рамках феодализма. Печатные книги создали знания, которые можно проверить, и профессию писателя. Они способствовали становлению протестантизма, научной революции и гуманизма. Если средневековый собор был полон смысла – он был энциклопедией в камне, – то книгопечатание уничтожило потребность в нем. Оно изменило мышление людей[342]. В 1620 году философ Фрэнсис Бэкон писал, что книгопечатание, порох и компас «изменили облик и положение вещей во всем мире»[343].
Если мы принимаем предложенные выше четыре фактора, то разложение феодализма не будет обусловлено в первую очередь появлением новых технологий. Оно представляет собой сложное переплетение экономического упадка и внешних шоков. Эти новые технологии были бы бесполезны, если бы не появилось новое мышление, а внешние потрясения не сделали бы уместными новые формы поведения.
Когда мы смотрим на возможность отхода от капитализма, мы должны ожидать столь же сложного переплетения между технологиями, социальной борьбой, идеями и внешними потрясениями. Но у нас голова идет кругом от этого так же, как когда мы пытаемся помыслить масштабы нашей галактики во вселенной. Нам свойственна роковая склонность к тому, чтобы выражать динамику перехода в простых категориях и простых причинно-следственных цепочках.
Классическое марксистское объяснение того, что уничтожило феодализм, заключается в «его противоречиях», т. е. в классовой борьбе между крестьянством и знатью[344]. Однако позднее историки, придерживавшиеся материалистических позиций, делали акцент на упадке и застое старой системы, которые привели ко «всеобщему кризису». Перри Андерсон, историк из числа новых левых, сделал из этого важный общий вывод: ключевой симптом перехода к новому способу производства – это не становление новой жизнеспособной экономической модели. «Напротив, производительные силы, как правило, стагнируют и отступают в рамках существующих производственных отношений»[345].
Какие еще общие уроки мы можем извлечь?
Во-первых, иные способы производства строятся вокруг других вещей: феодализм был экономической системой, построенной на обычаях и законах, касающихся обязанностей. Капитализм был построен на чисто экономическом понятии – рынке. Исходя из этого, мы можем предсказать, что посткапитализм, предпосылкой которого является изобилие, будет не просто модифицированной формой сложного рыночного общества. Но мы можем лишь начать представлять в положительных образах то, каким он будет.
Я не подразумеваю под этим отговорку: общие экономические параметры посткапиталистического общества, скажем, в 2075 году будут обрисованы в следующей главе. Но если это общество будет строиться на основе освобождения человека, а не на основе экономики, то его начнут формировать непредсказуемые вещи. Например, самой очевидной вещью для Шекспира 2075 года будет полный переворот в отношениях между полами, или в сексуальности, или в здравоохранении. Быть может, драматургов больше не будет – изменится сама структура инструментов, при помощи которых мы рассказываем истории, как это произошло во времена Шекспира, когда были построены первые публичные театры.
Марксизм с его уверенностью, что движущей силой перемен является пролетариат, игнорировал вопрос о том, как люди должны измениться для того, чтобы появился посткапитализм. И тем не менее, если мы исследуем переход от феодализма к капитализму, это – одна из самых очевидных проблем.
Подумайте о разнице между, скажем, Горацио в шекспировском «Гамлете» и таким персонажем, как Дэниэл Дойс в диккенсовской «Крошке Доррит». Оба являются второстепенными персонажами, которых герой использует в качестве слушателей – оба одержимы характерными навязчивыми идеями своей эпохи. Горацио одержим гуманистической философией, Дойс – патентированием своего изобретения. В шекспировских пьесах не могло быть такого персонажа, как Дойс. В лучшем случае ему бы досталась горькая роль комической фигуры из рабочего класса. Тем не менее в то время, когда Диккенс описывал Дэниэла Дойса, все его читатели знали кого-нибудь похожего на него. Подобно тому как Шекспир не мог представить себе Дойса, мы не можем представить себе людей, которых породит общество после того, как экономика перестанет занимать центральное положение в жизни.
Повторим еще раз то, что мы знаем о том, как протекал последний переход, и выявим параллели.
Феодальная модель сельского хозяйства сначала достигла своих экологических пределов, а затем столкнулась с масштабным внешним шоком – с черной смертью. После этого произошел демографический шок. Осталось слишком мало способных обрабатывать землю рабочих, которые добились повышения своих зарплат, в результате чего стало невозможно поддерживать старую феодальную систему обязательств. Нехватка рабочих рук сделала необходимыми технологические инновации. Новые технологии, которые сделали возможным становление торгового капитализма, стимулировали торговлю (книгопечатание и бухгалтерский учет), создание оборотоспособного богатства (горное дело, компас и быстроходные суда) и производительность (математика и научный метод).
Во всем этом процессе присутствовало то, что казалось случайным в рамках прежней системы – деньги и кредит, которым было суждено стать основой новой системы. Многие законы и обычаи исходили из пренебрежения деньгами. В эпоху раннего феодализма кредит считался греховным. Поэтому, когда деньги и кредит вырвались за отведенные им пределы и создали рыночную систему, это произвело революцию. Затем новая система получила новый импульс благодаря открытию потенциально неограниченного источника бесплатного богатства в Америке.
Сочетание всех этих факторов вывело людей, которые подвергались преследованиям или пребывали в изоляции при феодализме: гуманистов, ученых, ремесленников, юристов, радикальных проповедников и чуждых условностям драматургов вроде Шекспира, – на ведущие роли в процессе социальной трансформации. В ключевые моменты государство, пусть поначалу и неуверенно, перестало препятствовать переменам и стало их поощрять.
В переходе к посткапитализму точных параллелей не будет, но общее сходство будет присутствовать.
Капитализм разъедается информацией, хотя традиционная экономическая наука едва это осознает. Эквивалентом печатного станка и научного метода стали информационные технологии и их перетекание во все прочие технологии, от генетики до здравоохранения и от сельского хозяйства до кинематографа.
Современный эквивалент длительного застоя позднего феодализма – это застопорившийся пятый кондратьевский цикл, в котором, вместо быстрой автоматизации труда и избавления от ручного труда, мы вынуждены создавать низкооплачиваемые рабочие места, а многие экономики пребывают в застое.
Эквивалент нового источника бесплатного богатства? Речь не совсем о богатстве, а о таких внешних эффектах, как бесплатные товары и благосостояние, создаваемое за счет сетевого взаимодействия. Дело в становлении нерыночного производства, появлении информации, которой нельзя владеть, развитии одноранговых сетей и неуправляемых предприятий. Интернет, по словам французского экономиста Янна Мулье-Бутана, это «и корабль, и океан» для современного завоевания нового света. Действительно, это и корабль, и компас, и океан, и золото.
Современные внешние шоки очевидны: истощение источников энергии, климатические изменения, старение населения и миграция. Они меняют динамику капитализма и делают его неработоспособным в долгосрочной перспективе. Они еще не оказали такого же воздействия, как черная смерть, но любой финансовый крах может нанести огромный ущерб крайне уязвимым урбанизированным обществам, которые мы создали. Как показал ураган «Катрина» в Новом Орлеане в 2005 году, социальный порядок и функциональная инфраструктура в современном городе могут быть уничтожены и без бубонной чумы.
Когда вы начнете рассматривать переход в этой форме, вам понадобится не точно просчитанный на компьютерах пятилетний план, а постепенный, циклический и модульный проект. Его целью должно стать распространение таких технологий, моделей ведения бизнеса и форм поведения, которые растворяют рыночные силы, искореняют необходимость в труде и способствуют продвижению мировой экономики к изобилию. Это не означает, что мы не можем принимать экстренных мер для снижения риска или борьбы с вопиющей несправедливостью. Это означает, что мы должны понимать разницу между стратегическими задачами и краткосрочными действиями.
Наша стратегия должна состоять в том, чтобы начавшийся спонтанно процесс стал необратимым и обеспечил социальные результаты как можно скорее. Это подразумевает смесь планирования, государственного вмешательства, рынков и однорангового производства. Однако нужно оставить место и для современных эквивалентов Гутенберга и Колумба. И для современного Шекспира.
Большинство левых ХХ века полагали, что такая роскошь, как управляемый переход, им недоступна. Они твердо верили в то, что ничто из грядущей системы не может существовать в рамках прежней системы – хотя, как я показал, рабочие всегда испытывали желание создать альтернативную жизнь вопреки капитализму. В результате, после исчезновения возможности осуществить переход в советском стиле, современные левые просто стали выступать против отдельных явлений: приватизации здравоохранения, урезания прав профсоюзов, добычи сланца – список можно продолжить.
Сегодня мы должны вновь научиться делать положительные вещи: создавать альтернативу внутри системы, использовать власть правительства в радикальном, революционном ключе, сосредоточить все наши действия на осуществлении перехода, а не на беспорядочной защите случайных элементов старой системы.
Социалисты начала ХХ века были совершенно убеждены в том, что ничто предварительное невозможно в рамках старой системы. «Социалистическая система, – однажды категорично заявил Преображенский, – не может быть молекулярно выстроена в рамках капиталистического мира»[346].
Самое смелое, что могут сделать приспосабливающиеся левые, – отказаться от этого убеждения. Можно молекулярно построить элементы новой системы в рамках старой. В кооперативах, обществах взаимопомощи, одноранговых сетях, неуправляемых предприятиях и в параллельных, субкультурных экономиках эти элементы уже существуют. Мы должны перестать считать их эксцентричными экспериментами; мы должны поощрять их посредством регулирования так же энергично, как капитализм сгонял крестьян с земли или уничтожал ремесленное производство в XVIII веке.
Наконец, мы должны понять, что срочно, а что важно, и понять, что иногда срочное и важное не совпадают.
Если бы не внешние потрясения, с которыми нам предстоит иметь дело в ближайшие пятьдесят лет, мы могли бы действовать медленно. Государство, осуществляя мягкий переход, действовало бы как главный проводник перемен посредством регулирования. Но масштаб внешних шоков таков, что некоторые действия, которые мы предпринимаем, должны быть немедленными, централизованными и резкими.
Глава 9. Рациональный повод для паники
Везде, где я оказываюсь, я задаю вопросы об экономике – и получаю ответы о климате. В 2011 году на Филиппинах я встретился с безземельными крестьянами, живущими в сельских трущобах. Что произошло? «Тайфуны, – последовал ответ. – Их стало больше, и рис не растет, как раньше. Слишком мало солнечных дней в период между посевом и сбором урожая».
В китайской провинции Нинся, отгороженной от пустыни Гоби крутыми горами, я встретил овцеводов, которые стали использовать химические гранулы из-за того, что пастбища вокруг них истощились. Когда в 2008 году ученые преодолели горы, чтобы выяснить, что случилось со 144 источниками и горными потоками, отмеченными на карте, они сообщили: «Из-за климатических изменений и ухудшения окружающей среды южные горные районы остались без источников и горных потоков»[347].
В Новом Орлеане в 2005 году я наблюдал, как распадался социальный порядок в уже уязвимом современном городе в самой богатой стране в мире. Непосредственной причиной был ураган. Более глубокой проблемой была неготовность городской инфраструктуры адаптироваться к изменению погодных условий и неспособность ослабленной бедностью социальной и расовой структуры города выдержать удар.
Между экономистами и экологами ведется бессмысленный спор о том, какой кризис важнее – экологический или экономический? Материалистический ответ состоит в том, что они связаны между собой. Мы познаем естественный мир лишь путем взаимодействия с ним и его преобразования – природа сделала нас такими. Даже если бы Земле было лучше без нас, как полагают некоторые приверженцы идей «глубокой экологии», на нас возложена задача ее спасения от гибели.
В мире дорогих костюмов и климатических саммитов царит благодушное спокойствие. Внимание сосредоточено на сценариях того, «что произойдет», климатической катастрофы, которой не избежать, если мы допустим повышения мировой температуры более чем на 2 °C по сравнению с уровнем доиндустриальной эпохи. Но в отдаленных уголках мира катастрофа уже происходит. Если бы мы прислушались к тем, чья жизнь была сломлена наводнениями, обезлесением и наступлением пустынь, мы бы лучше понимали, что происходит – полный крах мира.
В Пятом докладе Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК), опубликованном в 2013 году, однозначно утверждается, что планета нагревается. «С 1950-х годов, – говорят наиболее авторитетные климатологи мира, – многие из наблюдаемых изменений имеют беспрецедентный характер для периода, охватывающего от нескольких десятилетий до тысячелетий. Атмосфера и океан нагрелись, количество снега и льда уменьшилось, уровень моря поднялся, а концентрация парниковых газов выросла»[348]. МГЭИК уверена, что, в первую очередь это вызвано деятельностью человечества, которое использует углеводороды для стимулирования экономического роста – в таких объемах, что в докладе вероятность еще большего повышения температуры, большего числа жарких дней и аномально жаркой погоды, вызванной человеческой деятельностью, была повышена с «высокой» до «очень высокой». Ученые не разбрасываются такими терминами, которые количественно отражают степень их уверенности.
Поскольку экосистема очень сложно устроена, мы не можем установить со стопроцентной точностью, что изменения климата вызваны деятельностью человека. Но, по словам МГЭИК, мы можем быть уверены в том, что погодные катаклизмы – ураганы, наводнения, тайфуны, засухи – участятся во второй половине столетия.
В обновленной версии доклада, выпущенной в 2014 году, МГЭИК недвусмысленно предупреждала: провал борьбы с повышением выбросов углерода увеличит вероятность «тяжелых, всепроникающих и необратимых последствий для людей и экосистем». Это, напомню, слова, взятые из доклада, подготовленного учеными. Они не произносят такие слова, как «тяжелые, всепроникающие и необратимые последствия», не взвесив их тщательно.
Если вы – традиционный экономист, то грядущее для вас будет «внешним шоком», т. е. дополнительным источником хаоса в уже хаотичной ситуации. Для филиппинских крестьян, афроамериканцев в Луизиане и жителей провинции Нинся шок уже наступил.
Политики, курирующие вопросы климата, и НПО предложили множество сценариев того, что мы должны сделать, чтобы остановить его. Но, моделируя Землю как сложную систему, они склонны к тому, чтобы моделировать экономику как простую машину, потребляющую сырье и производящую товары, требующую энергии и рациональной контролирующей руки, т. е. рынка. Когда они говорят о «переходе», они подразумевают постепенную эволюцию энергетической политики в сторону снижения выбросов углерода посредством измененного рыночного механизма.
Но сама экономика сложна. Подобно погоде в сезон ураганов, она предрасположена к неконтролируемым реакциям и к сложным петлям обратной связи. Подобно климату, экономика проходит через длинные и короткие циклы. Однако, как я показал, эти циклы ведут к мутациям, а затем и к распаду с частотой, колеблющейся в диапазоне от 50 до 500 лет.
До настоящего момента я старался не «ввязываться» в климатический кризис. Я хотел показать, как столкновение между информационными технологиями и рыночными структурами само по себе ведет нас к важному поворотному моменту. Даже если бы биосфера находилась в устойчивом состоянии, наши технологии все равно выталкивали бы нас за пределы капитализма.
Однако за двести лет промышленный капитализм сделал климат на 0,8 °C теплее и, скорее всего, к 2050 году сделает его на 2 °C теплее по сравнению со средним уровнем доиндустриальной эпохи. Любой проект преодоления капитализма должен формулировать свои приоритеты, учитывая вызов, который бросает нам изменение климата. Либо мы отреагируем вовремя и справимся с ним довольно спокойно, либо нет – и тогда начнется катастрофа.
Высмеивать абсурдность заявлений тех, кто отрицает климатические изменения, стало общим местом, но в их словах есть рациональное зерно. Они знают, что климатология разрушает их авторитет, их власть и их экономический мир. В определенном смысле они осознали, что если климатические изменения реальны, то капитализму пришел конец.
По-настоящему абсурдно выглядят не те, кто отрицает климатические изменения, а политики и экономисты, полагающие, что существующие рыночные механизмы могут остановить климатические изменения, что рынок должен положить пределы воздействию на климат и что рынок можно настроить таким образом, чтобы осуществить самый масштабный проект реинжиниринга, который человечество когда-либо предпринимало.
В январе 2014 года Джон Эштон, профессиональный дипломат и бывший специальный представитель британского правительства по климатическим изменениям, открыл «одному проценту» жестокую истину: «Рынок, предоставленный сам себе, не трансформирует энергетическую систему и не изменит экономику в течение одного поколения»[349].
Согласно данным Международного энергетического агентства, даже если все заявленные планы по сокращению выбросов, все налоги на выбросы и все задачи по возобновляемой энергетике будут достигнуты, т. е. если потребители не взбунтуются против более высоких налогов и мир не откажется от глобализации, выбросы СО2 все равно вырастут на 20 % к 2035 году. Потепление на Земле не ограничится 2 °C, температура может вырасти на 3,6 °C[350].
Столкнувшись с четким предупреждением о том, что планета, существующая уже 4,5 миллиарда лет, лишилась равновесия, власть предержащие решили, что экономическая доктрина, существующая двадцать пять лет, способна предложить выход. Они решили поощрять снижение выбросов за счет их нормирования, обложения налогами и субсидирования альтернативных решений. Поскольку рынок – это наивысшее выражение человеческой рациональности, они считали, что это обеспечит правильное распределение ресурсов и позволит удержать потепление в рамках 2 °C. Это решение было чисто идеологическим и оказалось совершенно неверным.
Чтобы не превысить планку в 2 °C, мы, т. е. мировое население, должны сжечь не более 886 миллиардов тонн углерода в период между 2000 и 2049 годами (по данным Международного энергетического агентства). Однако мировые нефтяные и газовые компании заявили, что запасы углеводородов составляют 2,8 триллиона тонн, а их акции оцениваются так, как если бы все эти запасы можно было сжечь. Организация Carbon Tracker Initiative предупредила инвесторов: «Они должны понимать, что 60–80 % запасов угля, нефти и газа перечисленных фирм нельзя сжечь»[351], т. е., если мы их сожжем, атмосфера нагреется до катастрофического уровня.
Тем не менее растущие цены на энергоносители – это рыночный сигнал. Они показывают энергетическим компаниям, что инвестиции в новые, все более дорогостоящие методы добычи углеводородов – это отличная идея. В 2011 году они вложили 674 миллиарда долларов в разведку и разработку ископаемого топлива: нефтяные пески, гидроразрыв пласта и глубоководные месторождения нефти. Затем, в условиях растущей геополитической напряженности, Саудовская Аравия решила обрушить цены на нефть, стремясь уничтожить новую углеводородную отрасль в Америке и заодно обанкротить путинскую Россию.
Это тоже послужило сигналом для американских водителей – покупайте больше машин и катайтесь больше. В некоторых случаях рынок явно дает ошибочные сигналы.
Взгляните на это как на инвестиционную проблему: либо мировые нефтяные и газовые компании, на самом деле, стóят намного меньше, чем можно судить по цене их акций, либо никто не верит в то, что мы сократим использование углеводородов. Фондовый рынок оценивает стоимость двухсот крупнейших сжигателей углеводородного топлива в 4 триллиона долларов. Значительная часть этой суммы могла бы быть утрачена, если бы мы убедили себя прекратить его сжигать. Это не просто страшилки от экзальтированных НПО, занимающихся вопросами климата. В 2014 году управляющий Банком Англии Марк Карни предупредил мировых гигантов страхования, что, если планка в 2 °C будет значительно превышена, это «поставит под угрозу сохранение вашей модели ведения бизнеса»[352].
Вывод таков: стратегия в отношении изменения климата, которую предопределяет рынок, – это утопия.
С какими препятствиями сталкивается нерыночная стратегия? Во-первых, лоббистская сила сжигателей углеводородного топлива. В США с 2003 по 2010 год лоббистские группы, отрицающие климатические изменения, получили от доноров 558 миллионов долларов. Exxon Mobil и ультраконсервативная Koch Industries были крупнейшими донорами до 2007 года, когда под давлением журналистских расследований произошел явный переход к фондам, финансируемым за счет анонимных третьих лиц[353]. Результат? По разным оценкам, мир тратит 544 миллиарда долларов на субсидии компаниям, занимающимся добычей ископаемого топлива[354].
Но это лишь наиболее очевидная часть климатического безумия. После провала попыток достичь договоренности об удержании планки в 2 °C в глобальном масштабе на саммите 2009 года в Копенгагене энергетические компании сосредоточили свои усилия на выбивании из национальных правительств специфических уступок. Общая задача лоббистов состояла в замедлении процесса введения целей по снижению выбросов или исключении конкретных фирм из числа тех, кто должен был их выполнять.
Однако целенаправленная положительная деятельность может приносить результаты. В Германии резкое прекращение ядерной программы в 2011 году, после Фукусимы, в сочетании с масштабными инвестициями в возобновляемую энергетику сделало для энергетических компаний то, чего бы не смогло обеспечить жесткое применение мер по снижению выбросов в отношении рыночных сил. Такое решение пошатнуло их позиции.
В немецкой системе производители ветряной, солнечной и других видов возобновляемой энергии первыми получают возможность поставлять энергию. Если светит солнце и дует свежий ветер, как, например, 16 июня 2013 года, они могут генерировать половину спроса. В этот день производители газа и угля, которым непросто регулировать объем производимой энергии – они могут лишь включать и выключать свои электростанции, – должны были выплатить по 100 евро за каждый мегаватт, чтобы немецкая энергосистема приняла их нежелательное электричество. Цена энергии, производимой из углеводородного топлива, стала отрицательной. Как писал журнал Economist: «Для существующей инфраструктуры… это катастрофа… вы не можете вести нормальный бизнес, в котором клиенты платят за услуги в зависимости от того, сколько они потребляют, если цены становятся отрицательными»[355].
Во многих странах энергетическая политика парализована – не только из-за лоббизма со стороны нефтяных и газовых компаний, но и из-за сложностей, с которыми сопряжены попытки изменить поведение при помощи рыночных сил, т. е. при помощи повышения цен, – попытки рациональной перестройки всей системы здесь ни при чем.
Сторонникам зеленого капитализма проще представить конец света, чем нерыночную экономику с низким уровнем выбросов.
Так что у нас воображение должно работать лучше.
Как предотвратить климатическую катастрофу
Климатологи говорят нам, что для удержания потепления в рамках 2 °C мы должны сократить наполовину количество выбросов CO2 к 2050 году. МЭА подчеркнуло важность временных рамок: «Если выбросы не достигнут пика около 2020 года и не начнут неуклонно уменьшаться после этой даты, задача сокращения выбросов на 50 % окажется намного более дорогостоящей. Шанс может быть упущен»[356]. Чем позже будет достигнут пик выбросов, тем труднее будет их уполовинить.
В ответ различные инициативные группы и исследователи предложили сценарии, в которых технически показывается, как можно обеспечить сокращение выбросов на 50 %. Хотя они различаются в том, что касается использования альтернативных источников энергии и моделирования энергетической эффективности, у всех них есть одна общая черта: почти все эти сценарии приходят к выводу, что в долгосрочной перспективе будет дешевле сократить потребление углеводородного топлива.
Согласно сценарию «Голубая карта», представленному МЭА и предусматривающему снижение CO2 наполовину к 2050 году, мир потратит на 46 триллионов долларов больше на инвестиции в энергетику, если ничего не изменится. Но поскольку сценарий предполагает сокращение потребления ископаемого топлива, то, даже по самым консервативным оценкам, он позволит сберечь 8 триллионов долларов.
«Гринпис», чей «Сценарий энергетической революции» берется за исходную точку в более широких спорах о развитии энергетической отрасли, хочет добиться цели, заключающейся в отказе от строительства новых АЭС и в меньшем акценте на улавливании и складировании CO2, благодаря чему к 2050 году 85 % всей энергии будет производиться за счет ветровой, приливной и солнечной энергетики, а также из биомассы. Однако даже в этом случае, если учесть намного большие предварительные инвестиционные расходы и более значимые социальные изменения, мир, в конечном итоге, сэкономит деньги[357]. Во всех сценариях, предусматривающих сокращение сжигания углеводородного топлива вдвое, отмечается дополнительная выгода, поскольку такой переход создаст новые рабочие места. Изготовление и обслуживание оборудования, генерирующего электричество за счет приливной, ветровой и солнечной энергии, представляет собой более передовое технологическое решение, чем сжигание газа или угля.
Иными словами, спасение планеты технологически осуществимо и рационально с экономической точки зрения, даже если рассматривать его в категориях наличности. Мешает этому процессу рынок.
Нельзя сказать, что мы ничего не добились. Если исключить Китай, который подпортил мировую статистику, построив сотни угольных электростанций в 2000-е годы, объем вводимых в строй мощностей, генерирующих энергию из возобновляемых источников, превзошел объем мощностей, производящих ее из ископаемого топлива, в 2009 году. Это явный признак того, что государственное вмешательство в функционирование рынка посредством финансовых стимулов, поощряющих использование возобновляемых источников, и постановки задач по сокращению выбросов углекислого газа, работает.
Во-первых, проблема в том, что рыночный переход слишком медлен и уязвим к давлению со стороны потребителей (которые, естественно, хотят дешевой энергии) и производителей ископаемого топлива. Во-вторых, по мере того как растет политическое давление на правительства, энергия становится вопросом геополитики. Платой за отказ Германии от ядерной энергии стало то, что Россия получила возможность шантажировать немецкую экономику во время украинского кризиса. Поворот Америки в сторону сланца не только повлиял на окружающую среду, но и изменил баланс сил в мире настолько значительно, что из-за саудовской мести цена на нефть всего за один год упала более чем вдвое.
Если учитывать растущую геополитическую напряженность, перспективы заключения соглашения на Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, которая пройдет в Париже в декабре 2015 года, выглядят не блестящими. Переговоры по вопросу о климате на таких конференциях все больше походят на мирные договоры, которые расчистили путь ко Второй мировой войне.
Тем временем даже радикальные экологи пребывают в замешательстве относительно рынков. «Гринпис», например, сравнивает Китай с Европой следующим образом: решение Китая стимулировать экономический рост посредством увеличения потребления угля привело к росту выбросов, тогда как приватизация в Европе и США заставила их переключиться на газ, который менее вреден, чем уголь. В этом они усматривают доказательство того, что рынок эффективнее обеспечивает снижение выбросов, чем централизованный контроль[358].
Однако для достижения цели по сокращению выбросов нам придется в определенной степени применять централизованный контроль. Правительства и на государственном, и на региональном уровнях должны будут взять под свой контроль, а возможно, и национализировать крупных производителей углеводородного топлива. Поскольку сети распределения энергии становятся «умными», используя технологии для прогнозирования и уравновешивания спроса и предложения, имеет смысл перевести их под крыло государства.
Если ценовой механизм, находящийся под влиянием государства, не сможет обеспечить необходимый баланс инвестиций в возобновляемую атомную и углеводородную энергетику, то это придется делать посредством перевода их в государственную собственность и установления прямого контроля и целей. Таков окончательный вывод, который мы должны извлечь из приведенной выше цитаты Джона Эштона: если рынок не работает, то, учитывая неотложность проблем, необходимо обратиться к государственному распределению.
С технической точки зрения, если вы опираетесь скорее на планирование, чем на рыночные стимулы, будет проще обеспечить «базовую нагрузку» энергии, производимой за счет ядерного и более чистого углеводородного топлива, тогда как оставшаяся часть будет генерироваться из возобновляемых источников: согласно различным сценариям, предложенным «Гринпис», МЭА и другими организациями, именно таким путем можно добиться удержания потепления в рамках двух градусов.
Очевидно, что попытки создать нерыночную экономику и систему с низким уровнем выбросов взаимосвязаны. Но если к посткапиталистической экономике ведет много путей, то набор потенциальных вариантов того, как мы можем справиться с климатическими проблемами, ограничен.
Коротко говоря, климатические изменения служат рациональным поводом для паники, которую усугубляет взаимосвязанность климата и другого важного неконтролируемого фактора – населения.
Часовая бомба демографии
Дожить до старости – привилегия, которой было лишено большинство наших предков. Если вы отправляетесь в тур, посвященный истории города, будь то в Манчестере, Чикаго или Шанхае, то, всматриваясь в старые промышленные постройки, не забывайте о том, что продолжительность жизни тех, кто в них жил, едва достигала 40 лет[359]. Отправьтесь в любой сталелитейный или шахтерский город от Западной Виргинии до Северного Китая, и вы увидите ряды могильных плит, под которыми покоятся рабочие, умершие в 50 лет или около того, причем не в далеком прошлом, а после 1945 года. На заре капитализма людей убивала антисанитария городской жизни. В ХХ веке ее сменили хронические промышленные заболевания, стрессы, плохое питание и загрязнение.
Однако теперь перед нами стоит новая проблема – старение населения. Активисты не вешают плакаты на здания в знак протеста против старения, не проводятся переговоры в мировом масштабе, нет ни министерств, занимающихся проблемами старения, ни престижных научных организаций. И тем не менее старение может стать таким же масштабным внешним шоком, как и климатические изменения – его последствия будут оказывать гораздо большее влияние на экономику.
Прогнозы ООН никто не оспаривает. Мировое население, составляющее сегодня более 7 миллиардов человек, к 2050 году вырастет до 9,6 миллиарда, причем основную часть этого прироста обеспечит глобальный Юг. К 2050 году в развивающихся странах будет проживать больше людей, чем сегодня живет на всей планете. Так что будущая история человечества в основном будет писаться в таких городах, как Манила, Лагос и Каир.
В мировом масштабе соотношение пожилых людей к лицам трудоспособного возраста будет увеличиваться. В 1950 году 5 % населения были старше 65 лет, к середине XXI века их доля достигнет 17 %. Но в богатом мире проблемы старения станут настоящим шоком.
Ключевой проблемой здесь является соотношение лиц пенсионного возраста к работающему населению. В Европе и Японии на трех трудящихся сегодня приходится по одному пенсионеру. К 2050 году это соотношение будет составлять один к одному. И хотя в большинстве развивающихся стран население по-прежнему будет оставаться довольно молодым, Китай будет выбиваться из общего тренда вследствие своей политики «одна семья – один ребенок». К 2050 году Китай будет самой «старой» из крупнейших экономик мира: по прогнозам, средний возраст населения достигнет 53 лет[360].
Растущий возрастной дисбаланс необратим. Он обусловлен не только тем, что люди теперь живут дольше благодаря лучшему здравоохранению и более высоким доходам. Главным фактором, способствующим нарастанию дисбаланса, является падение рождаемости по мере того, как женщины получают больше контроля над своим телом благодаря контрацепции и больше независимости благодаря образованию, прогрессу в распространении прав человека и урбанизации.
По словам экономиста Джорджа Магнуса из банка UBS, быстро стареющие общества «представляют экзистенциальную угрозу тем социально-экономическим моделям, которые мы построили после Второй мировой войны»[361]. В развитом мире демографические изменения создадут давление в трех критических сферах экономической жизни: на финансовых рынках, в государственных расходах и в миграции.
Во время послевоенного бума частные, корпоративные и управляемые государством пенсионные системы быстро росли. Хотя в некоторых случаях они охватывали лишь меньшинство трудящихся, эти схемы, в которых сбережения, вычтенные из зарплат, дополнялись взносами компаний и инвестировались в фондовый рынок, стали главной опорой финансовой системы. До начала глобализации такие системы, как правило, вкладывали средства в государственные долги своих стран и в акции крупнейших компаний, котирующихся на национальной фондовой бирже, и лишь небольшая часть направлялась на удовлетворение нужд, для которых они были созданы. Вместе с налоговыми послаблениями на прибыль и обязательным членством они составляли окончательную форму того, что Маркс назвал «капиталистическим коммунизмом».
Но в эпоху фиатных денег ситуация изменилась. Многократное урезание процентных ставок в периоды замедления роста превратило инвестиции в акции в беспроигрышную игру и вызвало постоянный рост фондового рынка. В результате, даже несмотря на усугубление демографической проблемы, управляющие фондами рассчитывали, что финансовая система все равно сможет выполнять свои обязательства. Некоторые даже заявляли, что прогнозы настолько положительны, что работодатели могли спокойно брать «каникулы на уплату взносов», перекладывая бремя выплат исключительно на рабочую силу.
Первой в воронку бума-и-спада втянулась Япония. Индекс Nikkei 250, отражающий стоимость акций крупнейших компаний страны, вырос втрое с 1985 по 1990 год. Затем произошел крах, и в последующие десять лет индекс сократился наполовину.
На Западе, где в конце 1990-х годов рост ВВП превышал средние показатели, фондовые рынки вновь поднялись. Индекс FTSE вырос с 3000 пунктов в 1995 году до пикового значения в 6930 пунктов в декабре 1999 года. Американский индекс S&P 500 за тот же период увеличился втрое, немецкий DAX – вчетверо. Если вы вспомните, как выглядели долгосрочные графики этих индексов в период после 2000 года, то вы увидите три горы с отвесными склонами. В течение пятнадцати лет цены акций дважды пережили бум и спад, а нынешнее восстановление – несмотря на то, что оно зиждется на триллионах напечатанных долларов, – подняло их лишь чуть выше пикового значения, достигнутого в 2000 году.
Крах интернет-компаний стал тревожным сигналом. Компании бросились сокращать свои пенсионные обязательства всеми возможными способами. Будущих пенсионеров переводили на программы с пониженной доходностью, новым рабочим закрывали доступ к системе. Иногда компании не выдерживали напряжения и разорялись. В поисках более высоких доходов с инвестиций пенсионные фонды пошли по пути диверсификации, вкладывая средства в хедж-фонды, недвижимость, рынок прямых инвестиций и сырьевые товары. Во всех случаях главной задачей было замаскировать недостачу прибыли. Мы знаем результат. Начиная с масштабных проблем хедж-фондов, которые начали замораживать выдачу кредитов в августе 2007 года, и заканчивая ростом цен на сырьевые товары, который спровоцировал «арабскую весну», эти крупные институциональные инвесторы коллективно превратились – порой неосознанно – в основные факторы нестабильности.
После краха типичный крупный пенсионный фонд направляет 15 % своих средств не в акции, а в альтернативные вложения, такие как недвижимость или сырьевые товары, и одалживает более 55 % своих средств правительствам в виде облигаций, которые, в условиях количественного смягчения, обеспечивают нулевой или отрицательный процент.
В целом в странах ОЭСР в пенсионных и страховых фондах и в государственных пенсионных резервах сосредоточено около 50 триллионов долларов, что заметно больше их совокупного ежегодного ВВП. По всем причинам, рассмотренным в первой главе, а именно вследствие неработающей экономической модели обеспечения жизнедеятельности, в последнем исследовании риск, которому подвергаются эти средства, характеризуется как «высокий», а пенсионные обязательства – как «возросшие»[362].
Проблема не в том, в каком положении сегодня находятся эти 50 триллионов долларов. Проблема в том, что старение населения означает уменьшение потенциальной рабочей силы, более низкие темпы роста и более низкий уровень производства на душу населения. Хотя картина меняется от страны к стране, некоторые небольшие развитые страны, такие как Норвегия, прекрасно готовы к этой ситуации. В целом положение довольно гнетущее: либо пенсионеры должны довольствоваться гораздо меньшими суммами, либо финансовая система должна обеспечивать впечатляющую прибыль. Но для того, чтобы ее обеспечивать, она должна стать более глобальной и идти на больший риск. Если пенсионное обеспечение можно было бы сместить в государственную сферу и финансировать его за счет налогов, то эту дилемму удалось бы смягчить. На деле происходит как раз противоположное.
Второй сферой, в которой мы точно столкнемся с трудностями, вызванными старением населения, является правительственный долг. Старение населения увеличивает спрос на здравоохранение, государственные пенсии и долгосрочный уход. В 2010 году агентство Standard&Poor’s подсчитало, что, если правительства различных стран не будут сдерживать государственное пенсионное обеспечение, к 2050 году их долги затопят мир.
С тех пор правительства сократили свои пенсионные обязательства: во многих странах условия получения пенсии были ужесточены, пенсионный возраст повышен, а привязка к инфляции ослаблена. Когда, после урезания обязательств, S&P пересчитало вероятный ущерб, выяснилось, что средний чистый долг развитых стран к 2050 году достигнет 220 % ВВП, тогда как средний уровень долга развивающихся стран составит 130 %. Япония в 2050 году по-прежнему будет занимать первую строчку с долгом в размере 500 % ВВП (по сравнению с 250 % сегодня), а Америка будет взирать на долговую кучу, которая вырастет в три раза по сравнению с нынешними 17 триллионами долларов.
В этом прогнозе старение населения обрушит государственные финансы во всем развитом мире. Аналитики S&P предсказывают, что к 2050 году, даже при условии сокращения пенсий, кредитный рейтинг 60 % стран мира будет находиться ниже инвестиционного уровня. Одалживать им деньги станет подобным самоубийству для всех тех, кто не хочет рисковать своими деньгами.
Вы уже поддались рациональной панике? Это еще не все – самое страшное впереди.
Более 50 % всех средств частных пенсионных фондов в настоящее время вложены в правительственные долги. При этом две пятых этого объема инвестированы в зарубежные долги. Не имеет значения, насколько устойчивым кажется пенсионный фонд компании сегодня. Если 60 % облигаций всех стран станут «мусорными», а значит, вкладывать в них деньги окажется полным безумием, то частная пенсионная система просто не выживет.
Тем временем социальные последствия мер, принятых к настоящему моменту, утверждает S&P, «уже создали напряженность в отношениях между государством и электоратом и подвергли суровому испытанию социальную сплоченность»[363]. По всему миру государства отказались от последней части негласной сделки, которую они заключили со своими гражданами в годы послевоенного бума и которая предполагала, что либо рынок, либо государство обеспечит достойную жизнь гражданам, достигшим пожилого возраста. Последствия этого невыполненного обещания будут ощущаться на протяжении десятилетий, а не нескольких лет. Когда правительства заявляют, что они стабилизировали свои финансы путем повышения пенсионного возраста или отвязки пенсий от инфляции, это все равно что поздравить вас с тем, что вы сели на диету. Проблемы начинаются, когда эти меры применяются на деле.
Конечный результат, по мнению экономистов МВФ, «вряд ли будет приемлем с социальной и политической точек зрения»[364].
Мы пока не рассматривали последствия миграции. В 2013 году я отправился в Марокко и Грецию, чтобы собрать истории мигрантов, стремящихся нелегально перебраться в Европу. Из Марокко они пытались преодолеть трехметровый забор с колючей проволокой, окружающий испанский анклав Мелилью. В Греции они жили по нескольку месяцев без крова, надеясь сесть на паром и добраться до Северной Европы. Не имея никакой защиты в своей повседневной жизни, они становились жертвами вымогательства, нападений, сексуального насилия и крайней нищеты. Во время переправы они зачастую рисковали жизнью.
Я спрашивал их, почему, несмотря на опасность этих транзитных путей и расизм, с которым они столкнутся в Европе, они настойчиво пытались переправиться туда на протяжении месяцев, а то и лет. Они не верили своим ушам – для них это был идиотский вопрос. Пребывание в доме с бетонным полом в танжерской трущобе или в комнате на пять человек в нелегальной бытовке в Марселе представлялось им намного более заманчивым, чем жизнь на родине, от которой они бежали.
Однако то, что я увидел тем летом, не идет ни в какое сравнение с тем, что будет происходить в будущем. К 2050 году людей трудоспособного возраста в мире будет на 1,2 миллиарда больше, чем сегодня, и бóльшая часть из них будет жить в таких условиях, от которых бежали эти мигранты.
В Уджде, в Марокко, я встретил двух каменщиков из Нигера. Им было чуть больше 20 лет, они жили под открытым небом, питаясь бесплатной едой, которую раздавала местная мечеть. Нигер – настолько неразвитая страна, что вы нечасто встретите ее жителей на дорожных обочинах в разных странах мира. Когда я поговорил с ними и ознакомился с прогнозами ООН относительно их страны, мне стал ясен масштаб того, что будет происходить.
К 2050 году население Нигера вырастет с нынешних 18 до 69 миллионов человек. В Чаде, который они пересекли, население утроится и достигнет 33 миллионов человек. В Афганистане, чьи внутренние проблемы заставили многих его граждан воспользоваться нелегальными системами миграции, охватывающими Грецию, Турцию и Ливию, население увеличится с 30 до 56 миллионов.
Как ни удивительно, половина роста населения в период до 2050 года придется всего на восемь стран[365], шесть из которых расположены в Африке южнее Сахары[366]. В поисках работы жители стран, переживающих демографический бум, будут мигрировать в города. Земля, как мы видели, уже испытывает стресс вследствие климатических изменений. В городах многие пополнят население трущоб, которое уже насчитывает миллиард человек. И все большее число людей будут пытаться нелегально мигрировать в богатый мир[367].
Бранко Миланкович, экономист из Всемирного банка, занимающийся изучением растущего неравенства в развивающихся странах, называет это «немарксистским миром», в котором две пятых всего неравенства обусловлено не классами, а расположением[368]. Его вывод таков: «Либо бедные страны станут богаче, либо бедное население мигрирует в богатые страны».
Но для того, чтобы бедные страны стали богаче, они должны вырваться из так называемой ловушки средних доходов, которая состоит в том, что страны обычно развиваются до определенного уровня, после чего вступают в полосу застоя. Так происходит потому, что им приходится конкурировать со старыми империалистическими державами. Равно как и потому, что их коррумпированные элиты подавляют появление работоспособных современных институтов. Лишь 13 стран из 100, относившихся к категории «стран со средним уровнем доходов» в 1960 году, стали странами с высоким уровнем доходов к 2012 году. В основном это были «азиатские тигры» во главе с Южной Кореей, которые игнорировали режим развития, навязывавшийся мировой системой, и неустанно выстраивали собственную промышленность и инфраструктуру, проводя националистическую экономическую политику.
Как пишет Джордж Магнус из UBS, препятствия носят не только экономический характер: «Когда страна достигает уровня средних доходов, становится все труднее повышать доход на душу населения… обеспечивается этот рост не путем создания новых строк в статистических таблицах, а за счет экономической прибыли, создаваемой постоянно развивающимися инклюзивными институтами»[369]. Но страны с самым высоким демографическим ростом обладают самыми коррумпированными и неэффективными институтами.
Если бы климатические изменения, старение населения и нехватка рабочих мест в развивающемся мире не взаимодействовали с застойной, хрупкой экономической моделью, проблемы можно было бы решать по отдельности. Но они взаимосвязаны. В результате вся мировая система может быть поставлена под удар, что создаст угрозу и для самой демократии.
Всеотрицание мировой элиты
«Наша эпоха, по сути своей, трагична, поэтому мы отказываемся рассматривать ее как трагедию. Произошла катастрофа, вокруг нас – руины… Мы должны жить, даже несмотря на то, что небеса рухнули»[370]. Так Д.Г. Лоуренс описывал английскую аристократию после 1918 года, идеология которой пошатнулась и которая укрылась в мире помещичьих замков и архаичных манер. Но это описание подходит и для современной элиты после катастрофы 2008 года: финансовая аристократия намерена и дальше жить так, как будто угрозы, рассмотренные нами выше, не реальны.
В конце ХХ века целое поколение предпринимателей, политиков, энергетических баронов и банкиров выросло в мире, в котором, казалось, не было противоречий. В течение предыдущего столетия или около того их предшественники наблюдали, как рушился тщательно отстроенный порядок и связанные с ним иллюзии. От империи во Франции в 1871 году до провала во Вьетнаме и краха коммунизма первый урок искусства управления государством, который выучивали те, кто родился до 1980 года, состоял в том, что плохие вещи случаются и что череда событий может сбить вас с ног.
К 2000 году все казалось иным. Может, «конец истории» и не наступил, но поколению, которое строило неолиберальный порядок, казалось, что, в конечном счете, история стала контролируемой. С любым финансовым кризисом можно было справиться путем расширения денежного предложения, любую террористическую угрозу можно было устранить ударом беспилотников. Рабочее движение как независимая переменная в политике было подавлено.
В головах политической элиты это породило психологический побочный продукт, а именно мысль о том, что безвыходных ситуаций не бывает. Всегда есть выбор, даже если иногда он оказывается довольно трудным. Решение всегда есть, и обычно им является рынок.
Но эти внешние шоки должны были бы стать сигналом тревоги. Климатические изменения не предлагают нам выбора между рыночным и нерыночным путями снижения выбросов углерода. Они предусматривают либо упорядоченную замену рыночной экономики, либо ее беспорядочный крах в несколько скачкообразных этапов. Старение населения создает риск обрушения финансовых рынков, а некоторым странам придется развязать социальную войну против собственных граждан просто для того, чтобы сохранить свою платежеспособность. Если это произойдет, то события, произошедшие в Греции после 2010 года, покажутся лишь несколькими неудачными летними сезонами.
В беднейших странах в результате роста населения, институциональной коррупции, неравномерного развития и климатических изменений, безусловно, появятся десятки миллионов безземельных бедняков, для которых самым логичным решением будет эмиграция.
Защитную реакцию развитого Запада уже можно наблюдать: колючая проволока и стычки в Мелилье, испанском анклаве на Севере Африки; нарушения закона, которые допускает австралийский флот в обращении с судами мигрантов из Индонезии; стремительное развитие технологий гидроразрыва пласта в Америке с целью добиться энергетического самообеспечения; соперничество и подготовка к развертыванию военных сил России и Канады в Арктике; решимость Китая установить свою монополию на редкоземельные металлы, имеющие ключевое значение для современной электроники. Ответом на эти проблемы, как правило, является отказ от многостороннего сотрудничества и попытки добиться самообеспеченности.
Мы привыкли считать, что опасностью для глобализации является экономический национализм. Население одной или более экономически развитых стран не может смириться с бюджетной экономией и заставляет свой политический класс искать выход из кризиса на основе принципа «разори соседа», как это было в 1930-е годы. Но внешние шоки создают новое измерение нестабильности, выходящее за рамки чисто экономического соперничества. Стремление к энергетической самообеспеченности ведет к регионализации мирового энергетического рынка. Дипломатическое противостояние России и Запада вокруг Украины и постоянно повторяемая угроза лишить Европу газа хотя и не выведет последнюю из терпения, но заставит ее работать над своей самообеспеченностью.
Тем временем в интернете протекает процесс, схожий с балканизацией мирового энергетического рынка.
В настоящее время практически каждый пятый житель Земли сталкивается с тем, что получаемая им информация фильтруется при помощи абсурдного контроля, введенного китайскими коммунистами. Какого-то политика арестовали за коррупцию? Его имя, естественно, исчезает из данных поисковиков. Если это имя вдруг оказывается похожим на слово, которым обозначается лапша быстрого приготовления (как это было с Чжоу Йонканом в 2014 году), слово, обозначающее лапшу, тоже исчезает, равно как и самый популярный бренд, ее выпускающий[371].
Теперь интернету грозит еще бóльшая фрагментация как следствие реакции государств на разоблачения массовой слежки, которую вело в киберпространстве Агентство национальной безопасности США. К тому же в 2014 году многие правительства, в том числе Турции и России, попытались подавить инакомыслие, обязав интернет-компании регистрироваться в качестве юридических лиц в рамках национального законодательства, что открыло возможности для введения формальной и неформальной политической цензуры.
Так что первая фаза раскола глобальной системы проявляется в расколе в сферах информации и энергии. Но фрагментация на уровне государства также стоит на повестке дня.
Я занимался непосредственным освещением референдума о независимости Шотландии в 2014 году. Вопреки мифам, созданным СМИ, речь шла не о вспышке национализма, а о народном движении левого толка. Получив возможность порвать с неолиберальным государством, которое будет придерживаться бюджетной экономии в течение следующего десятилетия, шотландский народ очень близко подошел к ее реализации, а заодно и к подрыву старейшей капиталистической экономики в мире. По мере того как испанская политическая система погружается в кризис, движение за независимость Каталонии будет усиливаться (в настоящее время его сдерживает неожиданный подъем партии «Подемос»). А от краха всего проекта ЕС нас отделяет всего лишь одна политическая случайность. Когда крайне левая партия победила на выборах в Греции, все институты ЕС набросились на нее, как белые кровяные тельца набрасываются на вирус. В момент написания этой книги греческий кризис находится в самом разгаре – но он покажется мелочью, если крайне правые придут к власти во Франции, что более чем вероятно.
В Пекине, Вашингтоне и Брюсселе в следующие пять лет старые правители, вероятно, в последний раз попытаются заставить работать старую систему. Но чем дольше мы будем молчать, не выдвигая требования покончить с неолиберализмом, тем больше его непредвиденные кризисы будут совпадать и сливаться со стратегическими кризисами, которые я обрисовал выше.
Становление информационного капитализма могло бы предложить ряд вариантов. Можно было бы просто представить застойную западную экономику, которая держится за счет высоких долгов, спасения банков и печатания денег, если бы не было демографического кризиса. Можно было бы представить переход к посткапитализму, который бы осуществлялся путем постепенного, спонтанного развития нерыночного обмена и однорангового производства, в то время как система будет расшатываться под грузом внутренних противоречий. Больше Википедий, больше Linux, больше воспроизведенных лекарственных препаратов и общественной науки, постепенное принятие форм труда в стиле открытого кода – и, возможно, на информационные монополии удастся накинуть законодательную узду. Такой сценарий наступления посткапитализма можно прочитать в книгах, продающихся в аэропортах: хорошая идея, осуществляемая в обстановке, свободной от кризисов, такими темпами, которые определяем мы сами.
Но внешние шоки требуют централизованных, стратегически продуманных и быстрых действий. Организовать их способны только государства, действующие совместно. Жесткость задач по климату и ясность технических средств, позволяющих их решить, означают, что эти действия потребуют больше планирования и больше государственного участия, чем кто-либо ожидает или хочет. Вероятность того, что мы будем жить в мире, где 60 % государств будут банкротами из-за расходов на свое стареющее население, означает, что нам нужны структурные, а не финансовые решения.
Однако иллюзии, которые мы питали на протяжении последних двадцати пяти лет, нас парализовали. Сталкиваясь с необходимостью выполнять ограничения по выбросам, мы компенсируем их, платя кому-то другому за посадку деревьев вместо того, чтобы менять свое поведение. Сталкиваясь с очевидностью старения мира, мы тратим 36 миллиардов долларов в год на пластическую хирургию[372]. Если бы вы представили уровень риска, показанный в этой главе, любому директору компании, гениальному программисту, команде, занимающейся краш-тестами в ремонтной мастерской, любому банковскому специалисту по количественному анализу, они бы сказали: действуйте немедленно! Срочно снижайте риск.
Если бы вы использовали инженерные методы (анализ первопричин) для определения того, почему три системных сбоя происходят одновременно (финансовый, климатический и демографический), вы бы быстро выявили их причину. Причиной является экономическая система, находящаяся в дисбалансе со своим окружением и неспособная удовлетворить нужды быстро меняющегося человечества.
Но для деформированной финансовой системы или невозможной арифметики государственного долга сказать «действуйте немедленно» относительно климата – это настоящая революция. Эта фраза мешает мечтать давосской элите, отравляет атмосферу в средиземноморских портах, где швартуются яхты, и нарушает тишину в политическом мавзолее, коим является центральный аппарат китайских коммунистов. Еще хуже то, что она разрушает иллюзии миллионов людей, верящих в то, что «все будет о’кей». А для активистов она означает то, чего они вполне обоснованно боятся: что надо сотрудничать с мейнстримом и вырабатывать политическую стратегию и длительный структурный проект, который должен быть конкретнее разговоров о том, что «возможен и другой мир».
В этой ситуации нам нужен «революционный реформизм». Даже громко заявить о проблеме означает осознать, какой масштабный вызов она представляет для обеих сторон политической реальности. Скажите о ней социал-демократу в костюме, и он вздрогнет; скажите о ней активисту движения «Оккупай», и он вздрогнет – по совершенно противоположным причинам.
Перед лицом этих вызовов паника была бы рациональной, но происходящие сейчас социальные, технологические и экономические изменения означают, что мы можем с ними справиться, если сумеем понять посткапитализм и как долгосрочный процесс, и как срочный проект.
Поэтому мы должны обогатить движение за сохранение окружающей среды и движение за социальную справедливость элементами, которые на протяжении двадцати пяти лет казались исключительной собственностью правых: волей, уверенностью в себе и планом.
Глава 10. Проект ноль
Если вы верите в то, что возможна система лучше капитализма, то в последние двадцать пять лет вы чувствовали себя «марсианином, застрявшим на Земле», как писал Александр Богданов в «Красной звезде». У вас есть четкое представление о том, каким должно быть общество, но нет средств, чтобы его построить.
В романе Богданова марсиане решают уничтожить человечество, потому что мы оказались неспособны построить посткапиталистическое общество, которое у них уже есть. Это была богдановская метафора отчаяния, наступившего после подавления революции 1905 года.
Возможности, описанные в этой книге, могут послужить противоядием от этого отчаяния. Чтобы понять почему, мы обновим метафору Богданова: предположим, что марсиане действительно прибыли на орбиту и готовы уничтожить нас всех до последнего. Какую экономику они увидели бы?
Такой мыслительный эксперимент был разыгран нобелевским лауреатом Гербертом Саймоном в 1991 году в его знаменитой работе под названием «Организации и рынки». Саймон предположил, что в нашей экономике марсианские пришельцы увидели бы три вещи: организации, которые выглядели бы как большие зеленые шарики; рынки, которые были бы тонкими красными линиями между зелеными шариками; и набор синих линий внутри организаций, которые отражали бы их внутреннюю иерархию. Куда бы марсиане ни смотрели, говорил Саймон, они обнаруживали бы систему, в которой преобладал бы зеленый цвет. Домой они бы отправили следующее сообщение: это общество состоит преимущественно из организаций, а не из рынков[373].
Рисовать такую картину в тот год, когда был провозглашен триумф рынка, было серьезным политическим шагом. На протяжении всей жизни Саймон изучал, как работают организации. Его исследование использовалось для доказательства того, что, несмотря на всю риторику свободного рынка, капиталистическая система состоит прежде всего из организаций, которые планируют и распределяют товары внутри себя методами, не определяемыми напрямую рыночными силами.
Однако если рассматривать модель Саймона более реалистично, то она демонстрирует еще кое-что: она показывает, как неолиберализм открыл возможность построения посткапитализма. Добавим некоторые детали:
1. Оборот каждого зеленого шарика (организации) определяет его размер; деньги, задействованные в каждой сделке, определяют толщину красных линий между ними.
2. Синие линии, отражающие внутреннюю иерархию фирмы, также должны заканчиваться точками, т. е. трудящимися: барменами, программистами, авиационными инженерами, рабочими бельевой фабрики. Саймон не видел необходимости в том, чтобы рассматривать рабочих отдельно, но мы это сделаем. Превратим их в синие точки.
3. Для большей реалистичности каждая синяя точка также находится в центре сети красных линий, которые соединяют каждого получателя зарплаты и потребителя с ритейлерами, банками и обслуживающими компаниями.
4. Шарики уже кажутся намного краснее, чем они были в описании Саймона. Тонкие красные линии исчисляются триллионами.
5. Теперь добавим временнóе измерение: что происходит в течение типичного 24-часового цикла? Если речь идет о нормальной капиталистической экономике, мы отмечаем, что синие точки (рабочая сила) заходят и выходят из организаций один раз в день. Когда они уходят с работы, они начинают растягивать красные линии, тратя свои зарплаты; когда они идут на работу, они этого обычно не делают – напомню, что это капиталистическая экономика 1991 года.
Теперь переместим модель во времени – из 1991 года в наши дни. Что произойдет с картиной?
Во-первых, появится намного больше тонких красных линий. Молодая женщина из деревни в Бангладеш отправляется работать на фабрику – ее зарплата создает новую красную линию; она платит местной няне, которая присматривает за ее детьми, что создает новую рыночную сделку – и новую красную линию. Ее менеджер зарабатывает достаточно для покупки медицинской страховки, выплаты процентов банку, получения займа на обучение сына в колледже. Глобализация и свободные рынки создают больше красных линий.
Во-вторых, зеленые шарики раскалываются, образуя более мелкие зеленые шарики по мере того, как компании и государства отдают на аутсорсинг второстепенные операции. Некоторые синие точки становятся зелеными, т. е. трудящиеся начинают вести свой бизнес. В США 20 % рабочей силы сегодня являются самозанятыми предпринимателями. Они тоже создают новые красные линии.
В-третьих, красные линии удлиняются и опутывают всю планету. И они не замирают, когда люди идут на работу: теперь покупки и продажи совершаются в виртуальном пространстве в течение рабочего дня и за его пределами.
Наконец, появляются желтые линии.
«Вот это да! – восклицает командир марсианского флота. – Что это за желтые линии?»
«Интересно, – говорит судовой экономист. – Мы обнаружили совершенно новый феномен. Желтые линии, похоже, отражают людей, которые обмениваются товарами, трудом и услугами, но не посредством рынка и не в рамках типичных организаций. Многое из того, что они делают, делается бесплатно, поэтому мы понятия не имеем, насколько толстыми должны быть эти линии».
Теперь представьте, что пилот марсианского бомбардировщика, держа палец на гашетке, как в романе Богданова, запрашивает разрешение на сброс атомной бомбы, чтобы наказать человечество за то, что оно неспособно достигнуть коммунизма.
Скорее всего, командующий флотом ответит: «Погоди! Эти желтые линии интересны».
Пять принципов перехода
Желтые линии в этой конструкции – лишь попытка отразить товары, труд и услуги, которые производятся и оказываются совместно, за пределами рынка. Они еще слабы, но служат сигналом того, что за рамками капитализма открылся новый путь, который основан на построении нерыночного производства и обмена на информационных технологиях.
До этого момента я рассматривал посткапитализм как процесс, который протекает спонтанно. Задача состоит в том, чтобы превратить эти догадки в проект.
Почти все, что ведет к переменам, задумывается в форме проекта: Википедия, открытый код, открытые информационные стандарты, энергетические установки с низким уровнем выброса углерода. Но лишь немногие озаботились вопросом о том, как должен выглядеть высококачественный проект, если мы хотим, чтобы мировая экономика отошла от капитализма.
Отчасти это обусловлено тем, что многие представители старых левых охвачены тем же отчаянием, что и растерянный марсианин из романа Богданова. Другие левые, вроде участников движения зеленых или НПО, социальных активистов или приверженцев однорангового производства, так упорно избегают «большого нарратива», что настаивают на необходимости точечных радикальных реформ.
В этой главе я попытаюсь описать то, из чего может состоять крупномасштабный посткапиталистический проект. Я называю его «Проектом ноль», потому что его целями будут безуглеродная энергетическая система; производство машин, товаров и услуг с нулевыми предельными издержками; сокращение необходимого рабочего времени до уровня, максимально близкого к нулю. Прежде чем начать, следует обозначить некоторые принципы, в основе которых лежат знания, приобретенные благодаря неудачам, пережитым в прошлом.
Первый принцип состоит в том, чтобы понять ограничения человеческой воли перед лицом сложной и хрупкой системы. Большевики не сумели этого понять. На самом деле, не смогли этого понять и большинство традиционных политиков ХХ столетия. Теперь мы это хорошо понимаем. Выход заключается в тестировании всех предложений в небольшом масштабе и в многократном моделировании их макроэкономического воздействия перед тем, как начать их внедрять в крупных масштабах.
Евгений Преображенский, расстрелянный советский экономист, предсказывал, что, когда рыночные силы начнут исчезать, экономика превратится в науку, занимающуюся не только анализом прошлого, но и проектированием будущего. «Это совсем другая наука, – говорил он, – это социальная технология»[374].
Эта фраза может вызывать оторопь, поскольку показывает, как опасно относиться к обществу как к машине. Но Преображенский дал прозорливое и тонкое описание инструментов, которые будет использовать «социальная технология». Он призывал создать «чрезвычайно сложную и разветвленную нервную систему социального предвидения и планового руководства». Обратите внимание на эти термины: предвидение и руководство, а не командование и контроль. И обратите внимание: нервная система, а не иерархия. В Советском Союзе было командование, контроль и бюрократическая иерархия, а у нас есть сети. Когда дело доходит до организации перемен, сети могут функционировать лучше, чем иерархия, но лишь в том случае, если мы будем уважать присущую им сложность и хрупкость.
Второй принцип, необходимый для проектирования перехода, – это экологическая устойчивость. Внешние шоки, о которых шла речь в девятой главе, вероятно, обрушатся на нас один за другим: краткосрочный локальный дефицит энергии в следующем десятилетии; старение населения и миграция в следующие тридцать лет; катастрофические последствия климатических изменений после этого. Задача состоит в том, чтобы, в ответ на эти вызовы, разработать технологии, которые смогут обеспечить устойчивый рост. Мы не должны обращать вспять развитие, чтобы спасти планету.
Третий принцип, на котором я настаиваю, звучит так: переход касается не только экономики. Он также должен стать переходом к новому человеку, который создается сетевой экономикой. У него будут новые слабости и новые приоритеты. Наше восприятие себя уже отличается от того, что было в головах наших бабушек и дедушек[375]. Наши роли потребителей, возлюбленных, собеседников столь же важны, как и та роль, которую мы выполняем на работе. Поэтому проект не может основываться исключительно на экономической и социальной справедливости.
Французский писатель Андре Горц был прав, когда говорил, что неолиберализм уничтожил возможность утопии, основанной на труде. Но мы по-прежнему сталкиваемся с вызовом, подобным тому, каким являлись рабочие для молодых советских республик. У специфических социальных групп могут быть краткосрочные приоритеты, которые противоречат более широким экономическим и экологическим приоритетам. Для этого и нужны сети, чтобы договариваться и предлагать альтернативу. Нам понадобятся новые формы демократии, чтобы находить компромисс между конкурирующими претензиями. Но это будет непросто.
Четвертый принцип должен быть следующим: за проблему нужно браться со всех сторон. Благодаря развитию сетей возможностями разумного действия располагают не только государства, корпорации и политические партии; индивиды и временные скопления людей могут быть не менее значимыми двигателями изменений.
В настоящее время сообщество мыслителей и активистов, примыкающих к движению однорангового производства, сосредоточено на экспериментальных, мелких проектах – обществах взаимопомощи или кооперативах, например. О государстве они думают на уровне законов, которые защищают сферу однорангового производства и позволяют ему расширяться. За исключением таких мыслителей, как Мишель Бовен[376] и Маккензи Уорк[377], мало кто озаботился вопросом о том, как может выглядеть вся система управления и регулирования при этом новом способе производства.
В ответ мы должны начать мыслить шире – тогда решения можно будет находить и применять путем обобщения мелких экспериментов, работающих моделей, которые можно расширить, и административных действий властей.
Поэтому если в финансовой сфере решение заключается в создании диверсифицированной социальной банковской системы, то создание обществ взаимопомощи решает эту проблему в одном отношении, законодательный запрет некоторых форм спекуляции – в другом, а изменение нашего собственного финансового поведения – в третьем.
Пятый принцип успешного перехода состоит в том, что мы должны максимально увеличить мощь информации. Разница между приложением для смартфона сегодня и программами для ПК двадцатилетней давности в том, что современные приложения анализируют сами себя и собирают данные о своей работе. Почти все в вашем телефоне и компьютере передает информацию о ваших действиях корпорации, которая их произвела. Скоро информация будет течь от «умных» счетчиков энергии, проездных на общественный транспорт и автомобилей, управляемых компьютерами. Агрегированные данные о нашей жизни – которые скоро будут включать нашу скорость вождения, еженедельную диету, массу тела и частоту сердцебиения – могут сами по себе стать мощнейшей «социальной технологией».
Когда «интернет вещей» будет запущен, мы окажемся в стартовой точке информационной экономики. С этого момента ключевым принципом станет установление демократического социального контроля над агрегированной информацией и предотвращение ее монополизации или злоупотребления ею со стороны государств и корпораций.
«Интернет вещей» дополнит масштабную социальную «машину». Одной лишь его аналитической мощности хватило бы для оптимизирования ресурсов настолько, чтобы значительно сократить использование углеводородов, сырья и труда. Сделать «умными» энергетические и дорожные сети и систему налогообложения – лишь наиболее очевидные пункты в списке задач. Но мощность этой возникающей масштабной машины определяется не только ее способностью отслеживать и передавать информацию. Благодаря социализации знания она также может усиливать результаты коллективных действий.
Социалисты «Прекрасной эпохи» с восторгом взирали на монополии и картели: достаточно их захватить – и общество можно будет легко контролировать из центра, считали они. Наш проект предполагает децентрализацию контроля – но для этого нет лучшего инструмента, чем создание масштабной машины, обрабатывающей физическую информацию.
Когда мы получим ее, мы сможем поставить социальную реальность под коллективный контроль. Например, в эпидемиологии сейчас акцент делается на разрушении петель обратной связи, которые порождают бедность, злость, стресс, разрушают семьи и подрывают здоровье[378]. Усилия по выявлению этих проблем и смягчению их – передовой рубеж социальной медицины. Насколько мощнее была бы эта медицина, если бы бедность и болезни, которые преследуют бедные сообщества, можно было выявить, понять и совместно уничтожить в реальном времени – с участием на микроуровне тех, кто от них страдает?
Усиление мощности и открытости информации должно стать инстинктом, воплощенным в проекте.
Цели высшего уровня
Отталкиваясь от вышеперечисленных принципов, я хочу предложить не политическую проблему, а нечто, больше походящее на рассредоточенный проект. Это ряд связанных, модульных, нелинейных задач, которые ведут к вероятному результату. Принятие решений децентрализовано. Структуры, которые обеспечивают его, возникают в процессе. Задачи видоизменяются, реагируя на информацию, получаемую в реальном времени. И, исходя из принципа предосторожности, мы должны использовать новый набор инструментов симуляции, чтобы моделировать каждое предложение виртуально – прежде, чем внедрять его на практике.
Если бы я мог написать оставшуюся часть этой главы в виде листков для заметок на белой доске, то это лучше отразило бы модульность и взаимозависимость моего проекта. Лучший способ для осуществления рассредоточенного проекта заключается в том, чтобы небольшие группы брали на себя отдельные задачи, недолго работали над ними, записывали то, что сделали, и передавали дальше.
Раз листков для заметок нет, я составлю список. Цели высшего уровня в посткапиталистическом проекте должны быть следующими:
1. Быстро сократить углеродные выбросы, чтобы потепление к 2050 году не превысило 2 °C, предотвратить энергетический кризис и смягчить хаос, вызванный климатическими катаклизмами.
2. Стабилизировать финансовую систему к 2050 году путем ее социализации, чтобы старение населения, климатические изменения и чрезмерные долги не спровоцировали новый цикл бума и спада и не уничтожили мировую экономику.
3. Обеспечить высокий уровень материального процветания и благосостояния большинству людей – в первую очередь за счет ориентирования насыщенных информацией технологий на решение основных социальных проблем, таких как плохое здоровье, зависимость от социальных пособий, сексуальная эксплуатация и низкий уровень образования.
4. Направить технологии на сокращение необходимого труда, чтобы стимулировать быстрый переход к автоматизированной экономике. В дальнейшем труд станет добровольным, основные товары и общественные услуги будут бесплатными, а экономическое управление будет касаться в первую очередь энергии и ресурсов, а не капитала и труда.
В игровых терминах это – «условия победы». Возможно, мы не выполним все из них, но, как известно всем геймерам, можно достичь многого, даже не добившись полной победы.
Совершая любые экономические изменения, мы должны будем посылать прозрачные сигналы для достижения этих целей. Одной из самых сильных сторон Бреттон-Вудской системы были четкие правила, на которых она зиждилась. Напротив, на протяжении двадцати пяти лет неолиберализма мировая экономика следовала неявным правилам или, как в случае еврозоны, правилам, которые постоянно нарушаются.
Социолог Макс Вебер полагал, что становление капитализма определялось не технологиями, а «новым духом» – новым отношением к финансам, машинам и труду, а не к вещам самим по себе. Но для того, чтобы возник новый дух посткапитализма, мы должны сосредоточиться на том, где создаются и распределяются внешние эффекты, и способствовать активному распространению понимания этих феноменов. Мы должны дать ответ на вопрос: что происходит с общественной пользой, которая производится сетевыми взаимодействиями и которую капиталистический учет, как правило, не может зафиксировать? Куда она вписывается?
Возьмем конкретный пример. В наши дни кофейни часто рекламируют себя, утверждая, что «мы используем экологически чистые зерна», т. е. таким образом мы способствуем увеличению общественного блага. Подспудно они имеют ввиду: а вы платите немного больше за то, что чувствуете себя комфортнее. Но этот сигнал прозрачен лишь отчасти.
Теперь представим себе кооперативную кофейню, которая хорошо платит своим сотрудникам, реинвестирует прибыль в деятельность, содействующую укреплению социальной сплоченности, или повышению грамотности, или реабилитации вышедших на свободу заключенных, или улучшению здравоохранения. Важно указать столь же четко, как это делает ярлык «экологически чистого продукта» на кофе, какое именно общественное благо создается и кто получает от него пользу.
Это больше, чем просто жест: это прозрачный сигнал, точно такой же, как заряженная пушка, установленная у ворот хлопковой фабрики Кромфорда в Англии в 1771 году. Вы можете подать сигнал, сказав: «Мы продаем кофе ради прибыли, и это позволяет нам проводить бесплатные психосоциальные консультации». Или, как в случае сети низовых продовольственных банков, спонсируемой «Сиризой» в Греции, вы можете просто спокойно сосуществовать с этим.
Далее я изложу свое ви΄дение и расскажу, как мог бы выглядеть план проекта, если бы мы следовали этим принципам и стремились достичь пяти целей высшего уровня. Я буду более чем счастлив, если разъяренная толпа в своей мудрости немедленно разорвет их на части и полностью пересмотрит.
Сначала моделируй, потом действуй
Для начала нам нужна открытая, точная и всесторонняя компьютерная симуляция нынешних экономических реалий. Источником могли бы послужить модели, которые используют макроэкономисты в банках, в МВФ или в ОЭСР, климатические модели, выстраиваемые МЭА, и другие сценарии. Но их перекосы поражают.
Климатические модели, как правило, моделируют атмосферу с помощью высшей математики, но экономику они симулируют так, как если бы речь шла о вагонном составе. Вместе с тем, наиболее профессионально сконструированные экономические симуляторы, известные как динамические стохастические модели общего равновесия, основаны на двойной ложной посылке – что равновесие вероятно и что все экономические агенты просто выбирают между наслаждением и страданием.
Например, самая совершенная модель еврозоны, разработанная Европейским центральным банком, включает только три вида «агентов»: домохозяйства, фирмы и центральный банк. Как показывают текущие события, возможно, было бы полезно включить в эту модель несколько фашистов, коррумпированных олигархов или миллионы избирателей, готовых привести к власти радикальных левых.
Если учесть, что мы уже несколько десятилетий живем в информационной эпохе, поразительно, что, как отмечает Дж. Дойн Фармер, профессор математики из Оксфордского университета, не существует моделей, которые отражали бы сложность экономики так же, как компьютеры моделируют погоду, рост населения, распространение эпидемий или транспортные потоки[379].
К тому же капиталистическое планирование и моделирование, как правило, носит безответственный характер. Когда крупный инфраструктурный проект начинает приносить результаты через десять или двадцать лет после того, как его влияние было впервые спрогнозировано, не оказывается ни одного человека или организации, которые могли бы продолжать его анализировать. Поэтому экономическое моделирование в условиях рыночного капитализма по большей части походит на абстрактные рассуждения.
Таким образом, одна из самых радикальных – и необходимых – мер, которые мы могли бы предпринять, заключается в создании глобального института или сети, которая занималась бы моделированием долгосрочного перехода к посткапитализму.
Первым шагом стала бы попытка построить точную модель существующих сегодня экономик. Работа велась бы по принципу открытого кода. Каждый мог бы использовать модель и предлагать улучшения, а ее результаты были бы доступны для всех. Скорее всего, для ее построения пришлось бы использовать метод под названием «многоагентное моделирование». Для этого нужно создать при помощи компьютеров миллионы виртуальных рабочих, домохозяйств и фирм и позволить им действовать произвольно в реалистичных рамках. Даже сегодня такая модель могла бы основываться на данных, получаемых в реальном времени. А когда любой объект на Земле будет доступным, умным и сможет передавать информацию, призом станет экономическая модель, которая не только иммитирует реальность, но и на деле ее отображает. Виртуально моделируемые агенты со временем будут заменяться реальными данными, как это происходит в компьютерах, моделирующих погоду.
Когда мы сможем фиксировать экономическую реальность таким образом, станет возможным осуществить разумные изменения в планировании. Подобно тому как авиационные инженеры моделируют миллионы различных стрессовых нагрузок на хвостовое оперение реактивного самолета, станет возможным моделировать миллионы колебаний, которые произойдут, если вы сократите разницу между ценой продажи кроссовок Nike, составляющей сегодня 190 долларов, и их себестоимостью, которая, скорее всего, не достигает и 20 долларов.
Мы могли бы задавать нашему суперкомпьютеру побочные вопросы: впадут ли молодые люди в депрессию, если бренд Nike умрет? Пострадает ли мировая спортивная индустрия, если Nike перестанет расходовать средства на маркетинг? Ухудшится ли качество, если из производственного процесса исключить ценность бренда? А каким будет воздействие на климат? В целях продвижения своего бренда Nike приложила немало усилий для сокращения выбросов углерода. Быть может, мы решим, что цена кроссовок Nike должна оставаться высокой. А может, и нет.
Именно для этого, а не для скрупулезного планирования киберсталинистов, посткапиталистическое государство должно использовать вычисления с петафлоп-быстродействием. И когда у нас будут надежные прогнозы, мы сможем действовать.
Вики-государство
Самое сложное поле действий – это государство. Мы должны положительно осмыслить его роль в переходе к посткапитализму.
Исходный пункт таков: государства представляют собой огромные экономические субъекты. Они дают работу примерно 500 миллионам людей в мире, а их экономическая активность в среднем составляет около 45 % от ВВП всех стран (от 60 % в Дании до 25 % в Мексике). Кроме того, осуществляя закупки и давая понять, как они будут вести себя в будущем, они могут оказывать решающее влияние на рынки.
В социалистическом проекте само государство рассматривалось как новая экономическая форма. При посткапитализме государство должно действовать скорее как команда Википедии, т. е. поддерживать новые экономические формы до того момента, пока они не начнут действовать самостоятельно. Как и в старом представлении о коммунизме, государство должно «отмереть», но в этом случае во главе угла должно стоять экономическое отмирание, а не отмирание его правоохранительных и оборонительных функций.
Есть одно изменение, которое любое лицо, возглавляющее государство, могло бы осуществить немедленно и бесплатно: выключить неолиберальную машину приватизации. То, что государство при неолиберализме пассивно, – миф; на самом деле неолиберальная система не может существовать без постоянного активного вмешательства государства с целью расширения рыночной сферы, приватизации и отстаивания финансовых интересов. Как правило, она проводит либерализацию финансовой сферы, заставляет правительство передавать оказываемые им услуги на аутсорс и снижает качество государственных систем здравоохранения, образования и транспорта, что вынуждает людей пользоваться услугами частных фирм. Правительство, всерьез стремящееся к посткапитализму, подало бы четкий сигнал: опережающего расширения сферы действия рыночных сил не будет. Вполне традиционные левые из греческой коалиции «Сириза» подверглись открытому саботажу лишь за попытку это сделать. ЕЦБ организовал выведение средств из греческих банков и за то, чтобы прекратить его, потребовал больше приватизации, больше аутсорсинга, больше деградации государственных услуг.
Следующее действие, которое могло бы предпринять государство, – это перестройка рынков таким образом, чтобы они способствовали развитию устойчивой, кооперативной и справедливой с социальной точки зрения деятельности. Если вы введете стимулирующий тариф на солнечные панели, люди будут их устанавливать у себя на крыше. Но если вы не уточните, что панели должны производиться на фабриках с высокими социальными стандартами, то эти панели будут изготавливаться в Китае, в результате чего, за исключением экологически чистой энергии, социальная выгода будет меньше. Если вы будете стимулировать создание местных энергетических систем, благодаря чему излишки произведенной энергии можно будет продавать местным предприятиям, вы создадите дополнительные положительные внешние эффекты.
Нам нужно новое понимание роли государства в экономике, которая включает в себя капиталистические и посткапиталистические структуры. Государство должно действовать как сила, внедряющая новые технологии и модели ведения бизнеса, но при этом всегда учитывать, как они соотносятся со стратегическими задачами и принципами, изложенными выше.
Одноранговые проекты, кооперативные модели ведения бизнеса и некоммерческие предприятия, как правило, невелики по масштабам и непрочны. Целое сообщество экономистов и активистов выросло на этой почве, но пока что сырой материал настолько скуден по сравнению с рыночным сектором, что одна из первых вещей, которые нужно сделать, – это расчистить пространство в капиталистических джунглях для того, чтобы эти новые растения могли прорасти.
В посткапиталистическом проекте государство также должно координировать и планировать развитие инфраструктуры: сегодня это делается наобум и под сильным политическим нажимом со стороны углеводородного лобби. В будущем это могло бы делаться демократическим путем и обеспечивать совершенно иные результаты. От социального жилья в городах, пришедших в упадок из-за спекулятивной деятельности девелоперов, до велосипедных дорожек или обеспечения здравоохранения – даже самые прогрессивные инфраструктурные проекты разрабатываются в интересах богатых; при этом предполагается, что рынок будет существовать всегда. В результате планирование инфраструктуры остается одной из тех дисциплин, которые меньше всего затронуло сетевое мышление. Это нужно изменить.
К тому же, поскольку проблемы, с которыми мы сталкиваемся, имеют глобальную природу, государство должно «присвоить» программу действий, призванных дать ответ на климатические изменения, старение населения, проблемы энергетической безопасности и миграции. Иными словами, вне зависимости от действий, которые мы предпринимаем на микроуровне для того, чтобы смягчить эти риски, лишь национальные правительства и многосторонние соглашения могут справиться с ними.
Если государства должны возглавить переход к новой экономической системе, то самый насущный вопрос – это долг. В сегодняшнем мире развитые страны парализованы размерами своих долгов. Как мы видели в девятой главе, они достигнут заоблачных высот в результате старения населения. Есть опасность, что со временем бюджетная экономия и застой приведут к сокращению размеров экономик, которые должны расплачиваться по долгам.
Поэтому правительства должны предпринять какие-то ясные и прогрессивные меры относительно долгов. Их можно было бы списать в одностороннем порядке – и в таких странах, как Греция, где их невозможно оплатить, это необходимая мера. Однако это привело бы к деглобализации, поскольку страны и инвесторы, держащие ничего не стоящие долги, пошли бы на ответные меры, лишив страны, объявившие дефолт, доступа к рынку или выгнав их из различных валютных и торговых зон.
Какую-то часть денег, выпущенных в рамках программ количественного смягчения, можно было бы использовать для выкупа и уничтожения долгов – но в глобальном масштабе даже эта так называемая «монетизация» долга посредством использования 12 триллионов напечатанных долларов не уменьшила бы суверенные долги в соотношении к ВВП, поскольку их объем составляет 54 триллиона долларов и продолжает расти, а мировой объем всех долгов приближается к отметке 300 триллионов долларов.
Было бы разумнее сочетать контролируемое списание долгов с десяти-пятнадцатилетней политикой «финансового подавления» в глобальном масштабе, которая предусматривала бы стимулирование инфляции, удержание процентных ставок ниже уровня инфляции и устранение возможности переводить средства в нефинансовые инвестиции или в офшоры, вследствие чего долги бы сдулись, а оставшаяся их часть была бы списана.
Если быть до конца откровенным, это привело бы к снижению стоимости активов пенсионных фондов, а значит, и материального благосостояния средних классов и пожилых людей. Установление же контроля над движением капиталов вызвало бы частичную деглобализацию финансов. Но это единственный способ сделать в упорядоченной форме то, что рынок сделает хаотично, если, как прогнозирует S&P, к 2050 году долги 60 % всех стран окажутся на мусорном уровне. В условиях практического застоя и долгосрочных нулевых процентных ставок инвестиции пенсионных фондов, в любом случае, уже приносят минимальные доходы. Но государство – это даже не половина этой истории.
Расширить совместный труд
Для осуществления перехода нам нужен решительный поворот в сторону кооперативных моделей ведения бизнеса. Для этого необходимо устранить неравноправные отношения между начальниками и подчиненными, которые подрывали их в прошлом.
Классические рабочие кооперативы всегда терпели крах, потому что у них не было доступа к капиталу и, когда разражался кризис, они не могли убедить своих членов урезать зарплаты или сократить рабочий день. Успешные современные кооперативы вроде «Мондрагона» в Испании существуют благодаря поддержке местных сберегательных банков и своей сложной структуре, которая позволяет перебрасывать рабочих из одного сектора в другой или смягчать неполную занятость посредством нерыночных поощрений тем, кто подвергся сокращению. «Мондрагон» – это не посткапиталистический рай, но он представляет собой исключение, которое подтверждает правило. Если вы взглянете на список трехсот крупнейших кооперативов в мире, то вы увидите, что многие из них являются лишь обществами взаимного кредита, которые сумели не попасть в корпоративную собственность. Во многих отношениях они участвуют в финансовой эксплуатации, пусть и с толикой общественной сознательности.
При переходе, основанном на использовании сетей, важнее всего поощрять именно кооперативные модели ведения бизнеса. Впрочем, и они должны развиваться. Они не могут быть просто некоммерческими предприятиями. Посткапиталистическая форма кооперативов будет пытаться распространять нерыночные, неуправляемые, не основанные на деньгах виды деятельности в противовес исходной рыночной деятельности, от которой они отталкиваются. Нам нужны такие кооперативы, правовая форма которых подкрепляется реальной, кооперативной формой производства или потребления и которые обеспечивают четкие социальные результаты.
Точно так же не стоит превращать в фетиш некоммерческую сторону вещей. Например, одноранговые кредиторы, таксомоторные компании и фирмы, сдающие в аренду недвижимость, могут получать прибыль, но их деятельность должна подвергаться такому регулированию, которое будет ограничивать их возможности усугублять социальную несправедливость.
На правительственном уровне могло бы действовать Управление нерыночной экономики, в чьи обязанности входило бы курирование всех предприятий, которые производят бесплатные вещи или для которых имеют ключевое значение совместное пользование и кооперация, а также максимизация объемов экономической деятельности, осуществляемой за пределами ценовой системы. При помощи относительно небольших поощрений такое ведомство могло бы обеспечить масштабную координацию действий и перестроить экономику.
Например, много людей запускают стартапы, поскольку налоговая система поощряет стартапы, но примерно треть из них заканчивается провалом. Часто они создают предприятия, основанные на использовании дешевого труда, такие как рестораны быстрого питания, строительные фирмы и магазины по франшизе, поскольку система опять-таки поддерживает экономику, основанную на дешевом труде. Если мы перестроим налоговую систему таким образом, чтобы она вознаграждала создание некоммерческого кооперативного производства, и переделаем уставы компаний так, чтобы стало трудно открывать предприятия с низким уровнем зарплат и легко открывать фирмы, обеспечивающие достойную оплату труда, то мы добьемся существенных перемен при небольших издержках.
Крупные корпорации также могли бы быть очень полезны для осуществления перемен просто в силу своего масштаба. Например, McDonald’s является 38-й экономикой мира – больше экономики Эквадора – и крупнейшим дистрибьютором игрушек в Америке. К тому же каждый восьмой американец когда-либо работал на McDonald’s. Представьте, что в день принятия на работу новых работников, McDonald’s должен был бы проводить для них часовой курс, посвященный профсоюзам. Представьте, что Walmart, вместо того чтобы советовать людям требовать привилегий на работе ради снижения фонда заработной платы, давала бы им советы о том, как увеличить зарплату. Или просто представьте, что McDonald’s перестал бы распространять пластиковые игрушки.
Что могло бы подвигнуть корпорации на это? Ответ: законодательное регулирование. Если бы мы наделили сотрудников глобальных корпораций сильными трудовыми правами, то их хозяева были бы вынуждены стимулировать экономические модели, основанные на высоких зарплатах, высоком росте и высоких технологиях, а не наоборот. Корпорации, которые зиждутся на низких зарплатах, низкой квалификации и низком качестве и которые процветают с 1990-х годов, существуют лишь потому, что государство безжалостно расчистило пространство для них. Все, что нам нужно сделать, – обратить этот процесс вспять.
Может показаться радикальным предложение объявить незаконными некоторые модели ведения бизнеса, но именно это произошло с рабством и с детским трудом. Эти ограничения, введенные вопреки интересам хозяев фабрик и плантаторов, упорядочили капитализм и заставили его развиваться далее.
Наша задача состоит в упорядочении посткапитализма: бесплатная беспроводная сеть в горной деревушке должна быть предпочтительнее прав телекоммуникационной монополии. Благодаря таким маленьким изменениям могут появиться новые системы.
Уничтожить или социализировать монополии
Создание монополий для борьбы с падением цен до нуля – это самый важный защитный рефлекс капитализма перед лицом посткапитализма.
В интересах осуществления перехода этот защитный механизм следует устранить. Там, где это возможно, монополии должны быть объявлены вне закона, а правила, препятствующие фиксированию цен, должны строго исполняться. В течение двадцати пяти лет государственный сектор был вынужден обращаться к аутсорсингу и разрывать самого себя на части. Теперь настанет черед монополий вроде Apple и Google. Там, где устранение монополии чревато отрицательными последствиями – как, например, в случае авиастроительной фирмы или компании водоснабжения, – будет достаточно решения, которое Рудольф Гильфердинг отстаивал сто лет назад: общественная собственность.
В своей изначальной форме, т. е. в виде государственной некоммерческой корпорации, государственная собственность принесла капиталу большую социальную пользу, снизив издержки на труд. В посткапиталистической экономике она может обеспечить и нечто большее. Стратегическая цель, светящаяся большими буквами в презентациях PowerPoint в переговорных комнатах всех компаний государственного сектора, должна была бы состоять в снижении расходов на базовые потребности с тем, чтобы общее время общественно необходимого труда сократилось и чтобы можно было производить больше бесплатных товаров.
Если в условиях неолиберальной экономики водо- и энергоснабжение, жилое строительство, транспорт, здравоохранение, телекоммуникационная инфраструктура, образование действительно стали бы общественными, то это было бы воспринято как революция. Приватизация этих секторов в последние тридцать лет стала тем средством, при помощи которого приверженцы неолиберализма вернули доходность в частный сектор. В странах, лишенных промышленности, такие монополии услуг – сердце частного сектора и, наряду с банками, хребет фондового рынка.
Оказание этих услуг по цене издержек стало бы стратегическим актом социального перераспределения, намного более эффективным, чем повышение реальных зарплат.
В итоге при правительстве, которое бы стремилось к посткапитализму, государство, корпоративный сектор и общественные корпорации могли бы преследовать совершенно иные цели, внося сравнительно низкозатратные изменения в регулирование и опираясь на радикальную программу снижения долга.
Однако формы настоящей посткапиталистической экономики возникают не в этой сфере. Подобно тому как британское государство поощряло рост капиталистической экономики в начале XIX века, устанавливая новые правила, сегодня правительства и строго регулируемые корпорации создали бы лишь рамки новой экономической системы, но не ее суть.
Дать рыночным силам исчезнуть
Для развитого сетевого, ориентированного на потребителя общества, где у людей есть сосредоточенная на индивиде модель экономических потребностей, рынки – не враги. Есть большая разница между посткапитализмом, основанным на информационных технологиях, и посткапитализмом, основанным на командном планировании. Нет причин устранять рынки в приказном порядке, если вы устраняете базовые иерархические дисбалансы, скрывающиеся под термином «свободный рынок».
Если фирмам запрещено устанавливать монопольные цены и всем доступен универсальный базовый доход (о нем разговор пойдет ниже), то рынок становится передатчиком эффекта «нулевых предельных издержек», который проявляется в общем снижении рабочего времени в обществе.
Однако для того, чтобы контролировать переход, нам следовало бы подавать четкие сигналы частному сектору, важнейшим из которых является следующий: доход обеспечивается предпринимательством, а не рентой.
Новаторство и творчество – идет ли речь о новом виде реактивного двигателя или о хите танцевальной музыки – будут вознаграждаться, как и сейчас, за счет того, что фирма сможет получать краткосрочную прибыль благодаря более высокому уровню продаж или меньшим издержкам. Однако патенты и права интеллектуальной собственности должны быстро истекать. Этот принцип уже признается на практике, несмотря на протесты голливудских юристов и фармацевтических гигантов. Патенты на лекарства, действующие двадцать лет, зачастую оказываются под угрозой до истечения срока вследствие того, что их начинают производить в странах, не признающих данные патенты, или того, что, как это происходит в случае ВИЧ, держатели патентов соглашаются допустить использование дженериковых препаратов ввиду острой необходимости.
В то же время следует поощрять расширение использования лицензий Creative Commons, которые предусматривают изначальный добровольный отказ изобретателей и создателей от части своих прав. Если бы, как говорилось выше, правительства настаивали на том, что применение результатов финансируемых государством исследований должно быть бесплатным – вследствие чего все, что производится за счет государственного финансирования, оставалось бы в государственной сфере, – то баланс интеллектуальной собственности в мире быстро сместился бы от частного использования к общественному. Люди, которые заинтересованы лишь в материальном вознаграждении, продолжали бы творить и внедрять новшества – потому что рынок по-прежнему поощрял бы предпринимательство и гениальность. Однако, как подобает обществу, где темпы инноваций растут по экспоненте, период вознаграждения сократился бы.
Единственная сфера, где рыночные силы следует уничтожить полностью, – это производство энергии. Для быстрого реагирования на климатические изменения государства должны взять под свой контроль системы распределения энергии, а также всех крупных поставщиков энергии, получаемой за счет углеводородов. Эти корпорации уже обречены, поскольку большую часть их резервов нельзя сжечь, не уничтожив планету. Для поощрения инвестиций в возобновляемую энергетику ее следует субсидировать, а компании, занимающиеся ею, не должны принадлежать государству там, где это возможно.
Это можно было бы сделать за счет сохранения высоких общих цен на энергию для потребителей – чтобы подавить спрос и заставить их изменить свое поведение. Но не менее важно изменить и то, как домохозяйства потребляют энергию. Здесь задача должна состоять в децентрализации потребительской части энергетического рынка с тем, чтобы можно было шире внедрять такие технологии, как совмещение тепловых, энергетических и местных сетей генерации.
На каждом этапе энергоэффективность должна поощряться, а неэффективность наказываться – от проектирования, теплоизоляции и отопления зданий до транспортных сетей. Здесь можно выбирать из целого ряда испытанных методов, но благодаря децентрализации и предоставлению местным общинам возможности удерживать выигрыш в энергоэффективности рыночные силы на розничном энергетическом рынке могли бы использоваться для достижения конкретной измеримой цели.
Однако, помимо энергетических и стратегических государственных услуг, важно оставить широкое пространство для того, что Кейнс называл «животным духом» новатора. Когда информационные технологии пронизывают физический мир, каждая инновация подводит нас все ближе к миру нулевого необходимого труда.
Социализировать финансовую систему
Следующим шагом социальной технологии стало бы реформирование финансовой системы. Финансовая сложность лежит в самом сердце современной экономической жизни. Она включает в себя такие финансовые инструменты, как фьючерсы и опционы, а также высоколиквидные глобальные рынки, работающие 24 часа в сутки. Она также включает в себя новые отношения, которые выстраиваются между нами, выступающими в роли трудящихся и потребителей, с одной стороны, и финансовым капиталом – с другой. Именно по этой причине при каждом новом финансовом кризисе государства вынуждены расширять негласные гарантии спасения, на которые опираются банки, пенсионные фонды и страховые компании.
С нравственной точки зрения, если риски социализированы, то должны быть социализированы и вознаграждения. Однако нет необходимости в полном устранении финансовой сложности. Там, где сложные финансовые рынки ведут к спекуляции и разгоняют движение денег до чрезмерной скорости, их можно обуздывать. Следующие меры были бы эффективнее, если бы их приняли в мировом масштабе, но, учитывая сценарий, изложенный в первой главе, представляется более вероятной перспектива того, что их придется предпринимать отдельным государствам, причем в довольно срочном порядке. Вот эти меры:
1. Национализировать центральный банк, четко поставив перед ним цель устойчивого роста и повышения инфляции относительно нынешних средних значений. Это создаст инструменты для стимулирования социально справедливых форм финансового подавления, направленного на контролируемое списание масштабных долговых излишков. В глобальной экономике, состоящей из государств или валютных блоков, это приведет к антагонизму, но, в конечном счете, как это было при Бреттон-Вудсе, если бы экономика, играющая системную роль, это сделала, то другие страны должны были бы за ней последовать.
Помимо выполнения классических функций (ведения монетарной политики и поддержания финансовой стабильности) центральный банк должен был бы обеспечивать экологическую устойчивость, значит, все решения принимались бы с учетом их климатических, демографических и социальных последствий. Главы центральных банков, разумеется, должны были бы избираться демократическим путем и подлежать контролю.
Монетарная политика центральных банков – возможно, самый мощный политический инструмент в современном капитализме – должна стать открытой, прозрачной и контролируемой. На поздних стадиях перехода центральный банк и деньги выполняли бы иную роль, к которой я еще вернусь.
2. Преобразовать банковскую систему в такую систему, где сочетались бы: учреждения, получающие ограниченную норму прибыли; некоммерческие местные и региональные банки; общества взаимного кредита и одноранговые кредиторы; и всеобъемлющий поставщик финансовых услуг, принадлежащий государству. Государство должно выступать в роли кредитора последней инстанции для этих банков.
3. Оставить хорошо отрегулированное пространство для сложных видов финансовой деятельности. Здесь цель заключалась бы в том, чтобы в кратко- или среднесрочной перспективе вернуть финансовой системе ее историческую роль, состоящую в эффективном распределении капитала между фирмами, отраслями, вкладчиками и кредиторами и т. д. Правила должны были бы быть намного более простыми, чем соглашение «Базель III», потому что они подкреплялись бы строгими уголовными нормами и профессиональными кодексами в банковском деле, бухгалтерии и праве. Руководящими принципами были бы поощрение инноваций и воспрепятствование стремлению к получению ренты. Например, для дипломированного бухгалтера или квалифицированного юриста стало бы нарушением профессиональной этики предлагать схему ухода от налогов, равно как и для хедж-фонда – хранить уран на складе для повышения спотовой цены.
В таких странах, как Великобритания, Сингапур, Швейцария и США, где существует глобально ориентированный финансовый сектор, правительства могли бы предложить сделку, в рамках которой в обмен на ясное и прозрачное возвращение своей деятельности на территорию своих стран ориентированные на высокий риск и на получение прибыли финансовые фирмы получали бы доступ к некоторым ограниченным услугам кредитора последней инстанции. К тем, кто отказался бы вести свою деятельность прозрачно и переводить ее в свою страну, отношение было бы такое же, как к финансовому эквиваленту «Аль-Каиды». После соответствующего срока амнистии их подвергли бы преследованию и уничтожили.
Краткосрочные стратегические меры могли бы обезвредить тикающую часовую бомбу глобальных финансов. Но они все же не представляют собой плана построения настоящей посткапиталистической финансовой системы.
В отличие от того, на чем настаивают монетарные фундаменталисты, посткапиталистический проект не должен стремиться покончить с частичным банковским резервированием. В первую очередь, если бы такие действия были применены по отношению к финансиализации в качестве краткосрочного лекарства, это привело бы к сокращению спроса. Кроме того, нам необходимо кредитование и расширенное денежное предложение для того, чтобы уничтожить горы долга, которые душат рост.
Наиболее срочная задача заключается в том, чтобы спасти глобализацию, уничтожив неолиберализм. Социализированная банковская система и центральный банк, нацеленный на обеспечение экологической устойчивости экономики, могут это сделать за счет использования фиатных денег – которые, как мы говорили в первой главе, работают до тех пор, пока люди доверяют государству.
Тем не менее в ходе долгого перехода к посткапитализму сложная финансовая система разлетится на куски. Создание кредита работает только в том случае, если оно способствует росту рыночного сектора – тогда заемщик может выплатить кредит с процентами. Если нерыночный сектор начинает расти быстрее, чем рыночный, то внутренняя логика банковского дела нарушается. На этом этапе, если мы хотим сохранить комплексную экономику, в которой финансовая система выполняет роль клиринговой палаты, работающей в режиме реального времени для самых разных нужд, государство (посредством центрального банка) должно взять на себя задачу создания денег и обеспечения кредитования, за что ратуют сторонники так называемых «позитивных денег»[380].
Но задача здесь не в том, чтобы построить некий мифический, непоколебимый государственный капитализм. Задача в том, чтобы содействовать переходу к такой экономике, в которой многие вещи бесплатны и инвестиции приносят как денежные, так и неденежные доходы.
Когда через десятилетия этот процесс подойдет к концу, деньги и кредит будут играть намного меньшую роль в экономике, а функции бухгалтерского учета, клиринга и мобилизации ресурсов, которые в настоящее время выполняют банки и финансовые рынки, обретут иную институциональную форму. Это один из самых больших вызовов посткапитализма.
Вот как, на мой взгляд, с ним можно справиться.
Цель состоит в поддержании комплексных, ликвидных рынков товарных инструментов и в устранении возможности окупить средства в денежной форме (поскольку система прибыли и собственности исчезнет). Моделью могла бы послужить история с эмиссионными квотами.
Хотя рынок эмиссионных квот еще не добился достаточного прогресса в борьбе с изменением климата, он оказался небесполезным. В будущем все виды социально полезных инструментов могли бы стать предметами торговли – вопросы здоровья, например. Если государство может создать рынок квот на выбросы, оно может создать рынок и чего-нибудь еще. Оно может использовать рыночные силы для изменения поведения, но в конечном итоге должно пройти время, пока оно наделит эти инструменты – которые, на самом деле, создают параллельные валюты – большей покупательной способностью по сравнению с нынешними деньгами.
По мере того как люди будут избавляться от денег – поскольку рыночный сектор будет замещаться кооперативным производством, – они, возможно, согласятся принимать «техноденьги» до тех пор, пока не начнет действовать управляемая государством система предложений и запросов на товары и услуги, которую Богданов описал в «Красной звезде».
В краткосрочной перспективе суть состоит не в том, чтобы уменьшить сложность – как того хотят монетарные фундаменталисты, – и не в том, чтобы просто стабилизировать банковский сектор, а в том, чтобы самая сложная форма капиталистических финансов могла сочетаться с движением экономики в сторону большей автоматизации, меньшего объема необходимого труда и изобилия дешевых или бесплатных товаров и услуг.
После того как энергетика и банковская сфера будут социализированы, среднесрочной целью станет сохранение максимально широкого частного сектора в нефинансовом мире, который должен оставаться открытым для самых разных инновационных фирм.
Неолиберализм с его высокой степенью терпимости по отношению к монополиям уже задушил инновации и комплексность. Если мы одолеем технологические монополии и банки, мы сможем создать активное пространство для менее крупных компаний, которые придут им на смену и осуществят неисполненное обещание информационных технологий.
Если бы мы этого захотели, государственный сектор мог бы передать частному некоторые функции при условии, что последнему не будет дозволено конкурировать за счет разницы в оплате и условиях труда. Одним из побочных продуктов поощрения конкуренции и разнообразия в сфере услуг будет то, что, когда станет невозможно без конца снижать зарплаты, должен будет начаться бурный рост технологических инноваций, в результате которого в обществе сократится общее количество необходимых рабочих часов.
А это подводит нас, возможно, к самому крупному структурному изменению, необходимому для перехода к посткапитализму, – к универсальному базовому доходу, гарантированному государством.
Платить каждому базовый доход
Базовый доход – это не радикальная политика. Правые, а иногда и левоцентристы, расхваливали различные пилотные проекты и разработки по замене пособий по безработице и снижению административных издержек. Однако в посткапиталистическом проекте задача обеспечить базовый доход носит радикальный характер. Такая задача предусматривает, с одной стороны, формализацию разделения труда и зарплат и, с другой стороны, субсидирование перехода к более короткой рабочей неделе, дню или жизни. Результатом стала бы социализация издержек автоматизации.
Идея проста: каждый человек работоспособного возраста безо всяких предварительных условий получает от государства базовый доход, который финансируется за счет налогообложения и заменяет пособия по безработице. Другие формы социальных выплат – семейных, по инвалидности или по уходу за ребенком – останутся, но станут небольшими дополнениями к базовому доходу.
Зачем платить людям просто ради того, чтобы они существовали? Потому что мы должны радикально ускорить технологический прогресс. Как показало исследование Оксфордской школы Мартин, в передовой экономике 47 % всех рабочих мест окажутся излишними вследствие автоматизации – при неолиберализме это приведет к чрезвычайному расширению прекариата.
Базовый доход, выплачиваемый за счет налогов, которые взимаются с рыночной экономики, дает людям шанс создать себе позиции в нерыночной экономике. Он позволяет им заниматься волонтерством, открывать кооперативы, редактировать Википедию, учиться трехмерному программированию или просто существовать. Иными словами, с большей легкостью браться за интенсивную, напряженную работу и оставлять ее. Бюджетные издержки на него будут высокими: именно поэтому все попытки ввести эту меру в отрыве от проекта общего перехода, скорее всего, обречены на провал, несмотря на растущее число посвященных ему академических работ и всемирных конгрессов[381].
В качестве учебной задачи приведем пример Великобритании. Британские расходы на пособия здесь составляют 160 миллиардов фунтов стерлингов в год, из которых около 30 миллиардов предназначены для инвалидов, беременных, больных и т. д. Беднейшими получателями являются пенсионеры, которые получают базовую пенсию в размере примерно 6 тысяч фунтов в год. Если автоматически выплачивать 51 миллиону взрослых 6 тысяч фунтов в год, то это будет обходиться в 306 миллиардов фунтов, что почти в два раза больше нынешних социальных расходов. Это было бы допустимо, если бы были упразднены налоговые льготы и в то же время осуществлены изменения, позволяющие снизить другие государственные расходы, но потребовало бы значительного расширения использования ресурсов.
На самом деле, базовый доход означает, что рабочих часов осталось очень мало и мы должны впрыскивать «ликвидность» в механизм, который их распределяет. И юристу, и воспитателю в детском саду нужно иметь возможность обменивать рабочие часы своей полной ставки на часы свободного времени, оплачиваемые государством.
Предположим, что в Великобритании мы установим базовый доход на уровне 6 тысяч фунтов и поднимем минимальную зарплату до 18 тысяч фунтов. Преимущества труда будут по-прежнему очевидными, но есть и преимущества, которые можно получить вне работы. Вы можете заботиться о своих детях, сочинять стихи, начать учиться, взяться за лечение какого-нибудь хронического заболевания или заниматься совместным обучением с такими же людьми, как вы.
При такой системе те, кто не работают, не будут подвергаться осуждению. Рынок труда будет поощрять высокооплачиваемые рабочие места и работодателей, платящих высокую зарплату.
Иными словами, универсальный базовый доход – это противоядие от того, что антрополог Дэвид Гребер называет «бесполезной работой». Речь идет о низкооплачиваемых рабочих местах в сфере услуг, которые капитализм сумел создать в последние двадцать пять лет и которые плохо оплачиваются, унижают трудящихся и, возможно, вообще не должны существовать[382]. Но это лишь переходная мера первой стадии посткапиталистического проекта.
Конечная цель состоит в сведении к минимуму часов, необходимых для производства того, что человечеству нужно. Когда это произойдет, налогооблагаемая база в рыночном секторе экономики станет слишком малой для покрытия расходов на базовый доход. Сами зарплаты будут во все большей степени становиться социальными, обретая форму коллективно оказываемых услуг, или вовсе исчезнут.
Поэтому в качестве посткапиталистической меры базовый доход – это первое социальное пособие в истории, которое станет успешным тогда, когда сократится до нуля.
Сети без тормозов
В социалистическом проекте была долгая первая стадия, на которой государство должно было подавить рынок силой. Предполагалось, что в результате рабочие часы, необходимые для поддержания и снабжения человечества, постепенно сократятся. Затем технологический прогресс позволил бы начать производить некоторые вещи с незначительными издержками или вовсе бесплатно, после чего можно было бы перейти ко второй стадии – «коммунизму».
Я уверен, что рабочих поколения моей бабушки больше интересовала первая стадия, чем вторая, и это было логично. В экономике, основанной в первую очередь на физических товарах, дома можно было сделать дешевле, если государство строило их, владело ими и сдавало в аренду по низким ставкам. Ценой было единообразие: запрещалось самому заниматься содержанием дома, или улучшать его, или даже красить дверь в другой цвет. Для моей бабушки, которая до этого жила в зловонной трущобе, запрет на покраску двери не был большой проблемой.
На первой стадии посткапиталистического проекта задача состоит в том, чтобы обеспечивать людей такими же осязаемыми и судьбоносными вещами, какой для моей бабушки был муниципальный дом с садом и прочными стенами. В этом направлении многого можно добиться, изменив отношения между властью и информацией.
Информационный капитализм основан на асимметрии: глобальные корпорации получают свою власть на рынке благодаря тому, что знают больше, чем их клиенты, поставщики и мелкие конкуренты. Посткапитализм должен опираться на тот простой принцип, что стремление к асимметрии информации ошибочно, за исключением тех случаев, когда речь идет о личном пространстве, анонимности и безопасности.
Кроме того, цель должна состоять во внедрении информации и автоматизации в такие виды труда, куда сейчас их не пускают, потому что дешевый труд устраняет необходимость в инновациях.
На современном автомобильном заводе есть конвейер и все еще есть рабочие с гаечными ключами и дрелями в руках. Но конвейер управляет тем, что делают рабочие. Компьютерный монитор показывает им, где нужно поработать гаечным ключом, датчик предупреждает их, если они взяли не тот ключ, и все действия записываются и отправляются на хранение на какой-нибудь сервер.
Кроме эксплуатации, нет других причин, по которым первоклассные приемы автоматизации труда не могут быть применены, например, на заводе, где производятся бутерброды или расфасовывается мясо. Действительно, такая модель ведения бизнеса может существовать лишь благодаря доступности дешевого, неорганизованного труда, поддерживаемого трудовыми пособиями. Во многих отраслях промышленности старые элементы трудовой дисциплины – рабочий график, подчинение, посещаемость, иерархия – сохраняются только потому, что неолиберализм подавляет инновации. С технологической точки зрения они бесполезны.
В компаниях, чья деятельность связана с информацией, прежний менеджмент начинает выглядеть архаично. Менеджмент предполагает организацию предсказуемых ресурсов – людей, идей и вещей – для получения планируемого результата. Однако многие положительные результаты сетевых экономик не запланированы. А лучший метод работы с волатильными результатами – это командная работа; раньше ее называли «кооперацией».
Поясним, что это означает. Кооперативные, самоуправляющиеся, неиерархические команды – это самая передовая с технологической точки зрения форма труда. Тем не менее значительная часть рабочей силы все еще томится в мире штрафов, дисциплины, насилия и иерархии силы – просто потому, что существование культуры дешевого труда дает этому миру возможность выживать.
Ключевая цель переходного процесса должна заключаться в развязывании третьей управленческой революции, т. е. в популяризации среди менеджеров, профсоюзов и проектировщиков промышленной системы тех возможностей, которые открывает переход к сетевой, модульной, нелинейной командной работе.
«Работа не может стать игрой», – писал Маркс[383]. Но атмосфера, царящая в студии, разрабатывающей современные видеоигры, показывает, что игра и работа могут вполне свободно сочетаться и приносить результаты. Конечно, посреди гитар, диванов и бильярдных столов, заваленных открытыми коробками из-под пиццы, все еще есть место эксплуатации. Но модульная, целеустремленная работа, в которой сотрудники обладают высокой степенью самостоятельности, может вызывать меньше отчуждения, быть приятнее и носить более социальный характер – и обеспечивать лучшие результаты.
Только из-за нашей приверженности к дешевому труду и неэффективности мы убеждены в том, что процесс расфасовки мяса не может быть такой же неуправляемой, модульной работой, которая переплетается с игрой и в которой доступ к сетевой информации является правом. Один самых очевидных признаков того, что неолиберализм ведет нас в тупик, – это враждебность, с которой многие менеджеры XXI века и большинство изобретателей относятся к идеалу высокопроизводительного, приносящего удовлетворение труда. До 1914 года управленцы им были просто одержимы.
По мере того как мы будем стремиться к этим целям, вероятно, возникнет общая модель. Переход к посткапитализму будет направляться неожиданными открытиями, которые будут совершать группы людей, работающих в команде, путем кооперативного переосмысления и применения сетевых подходов к старым процессам.
Нужно стремиться осуществить быстрые технологические скачки, которые сделают дешевле производство вещей и принесут пользу всему обществу. В сетевой экономике задача центров принятия решений (от центрального банка до местного жилищного кооператива) будет заключаться в том, чтобы анализировать характер взаимодействий между сетями, иерархиями, организациями и рынками, моделировать их в различных состояниях, предлагать изменения, отслеживать их последствия и соответствующим образом их регулировать.
Однако, несмотря на все наши попытки рационализировать этот процесс, он не будет контролируемым. Самое ценное, что могут сделать сети (и включенные в них индивиды), это разрушить все, о чем шла речь выше. В условиях группового подхода и взаимодействия, будь то на стадии разработки экономического проекта или в ходе его осуществления, сети представляют собой великолепный инструмент, который дает нам возможность не только не соглашаться, но и отказываться от проекта и браться за альтернативные варианты.
Мы должны быть беспардонными утопистами. Самые эффективные предприниматели раннего капитализма такими и были, равно как и пионеры освобождения человечества.
К чему мы придем? Это неверный вопрос. Если обратиться к графику ВВП на душу населения в восьмой главе, то прямая на нем горизонтальна на протяжении всей человеческой истории вплоть до промышленной революции, затем начинает быстро расти, а после 1945 года взмывает вверх по экспоненте в некоторых странах. Посткапитализм – это всего лишь функция того, что происходит, когда эта прямая вертикальна повсюду. Это начальное состояние.
Когда быстрые технологические изменения обрушатся на кремниевые чипы, еду, одежду, транспортную систему и здравоохранение, стоимость воспроизводства рабочей силы резко упадет. В этот момент экономическая проблема, которая предопределяла историю человечества, потеряет свое значение или вовсе исчезнет. Возможно, нас будет больше заботить проблема экологической устойчивости экономики и взаимодействия конкурирующих моделей человеческой жизни за ее пределами.
Поэтому, вместо того чтобы думать о конечном результате, важнее задаться вопросом, как нам управлять ресурсами – или как избежать тупика.
Одна специфическая проблема состоит в том, как зафиксировать опыт провала в длительно хранимых данных, которые позволяют нам возвращаться назад, исправлять ошибки и извлекать уроки из всей экономики. У сетей с памятью плохо. Они разработаны таким образом, что память и деятельность размещаются в разных частях машины. Иерархии хорошо хранили память – поэтому выработка методов запоминания и использования уроков прошлого будет иметь критическое значение. Решение может быть очень простым: все виды деятельности, от кофейни до государства, можно наделить функцией запоминания и хранения данных. Неолиберализм с его любовью к творческому разрушению радостно обходился без функции памяти. От «диванного» принятия решений Тони Блэром до разрушения старых корпоративных структур – бумажный «след» оставлять не хотел никто.
В конце концов, мы пытаемся всего лишь переместить максимальный объем человеческой деятельности на ту стадию, когда труд, необходимый для поддержания очень богатой и комплексной человеческой жизни на планете, сокращается, а количество свободного времени увеличивается. Причем в ходе этого процесса границы между ними все больше размываются.
Это все реально?
Перед масштабом этих предложений легко стушеваться. Спросить себя: может ли статься, что помимо завершения пятидесятилетнего кризиса подходит к концу и пятьсотлетняя эпоха? Могут ли законы, рынки и модели ведения бизнеса действительно резко измениться и уравновесить потенциал информационных технологий? И правда ли то, что мы, ничтожные единицы, действительно можем на что-то влиять?
И тем не менее каждый день значительная часть человечества участвует в гораздо более масштабных изменениях, вызванных технологией иного рода – противозачаточной таблеткой. Мы переживаем однократное и необратимое уничтожение мужской биологической силы. Это провоцирует тяжелую травму: посмотрите, как Facebook и Twitter издеваются над могущественными женщинами, как скандалы вроде «Геймергейт» пытаются проникнуть в мысленное пространство женщин и разрушить их психическое здоровье. Но процесс освобождения идет вперед.
Абсурдно, что мы спокойно наблюдаем за тем, как на наших глазах распадается сорокатысячелетняя система гендерного угнетения, но при этом считаем упразднение двухсотлетней экономической системы нереалистичной утопией.
Мы находимся в моменте возможности – возможности контролируемого отхода от свободного рынка, от углеводородного топлива, от принудительного труда.
Что произойдет с государством? Возможно, постепенно оно утрачивает свое могущество – и, в конце концов, его функции возьмет на себя общество. Я попытался сделать этот проект приемлемым и для тех, кто считает государства полезными, и для тех, кто думает наоборот. Можно смоделировать анархическую и государственническую версии – и опробовать их обе. Вероятно, есть даже консервативная версия посткапитализма – пожелаем ей удачи.
Освободить «один процент»
Что произойдет с «одним процентом»? Он станет беднее и потому счастливее. Потому что быть богатым непросто.
В Австралии, на пляжах от Бонди до Тамарамы, каждое утро можно видеть женщин «одного процента», разодетых в дешевую лайкру, которую сделали дорогой, добавив – что бы вы думали – золотые буквы. Их идеология говорит им, что успешными их сделала уникальность, но при этом они выглядят и ведут себя одинаково.
Земля вращается, и вот первые лучи солнца освещают фитнес-залы в небоскребах Шанхая и Сингапура, где бизнесмены потеют на беговых дорожках в ожидании дня, который пройдет в конкуренции с точно такими же людьми, как и они сами. Новый день начинается и для окруженного телохранителями богача-грабителя из Центральной Азии.
Над всем этим в салонах первого класса дальнемагистральных лайнеров плывет мировая элита, устремив взгляд в мониторы своих ноутбуков из-под дежурно насупленных бровей. Они представляют собой живой образ того, чем мир должен был бы быть: они образованны, толерантны и богаты. И все же они исключены из того великого эксперимента социальной коммуникации, который проводит человечество.
Всего у восьми процентов американских руководителей компаний есть реальный аккаунт в Twitter. Конечно, за них его может вести подчиненный, но из-за правил, требующих предоставлять финансовые отчеты, и из-за кибербезопасности аккаунты сильных мира сего в социальных сетях никогда не могут быть реальными. Что до идей, то у них могут быть любые идеи, лишь бы они укладывались в рамки неолиберальной доктрины: лучшие люди побеждают благодаря таланту; рынок – это выражение рациональности; рабочие развитого мира слишком ленивы; налогообложение богатых бесполезно.
Убежденные в том, что только умные добиваются успеха, они отправляют своих детей учиться в дорогие частные школы для развития их индивидуальности. Но из них получится все то же самое – мини-версии Милтона Фридмана и Кристины Лагард. Они ходят в элитные школы, но необычные имена на вузовских толстовках – Гарварда, Кембриджа, Массачусетского технологического института – ничего не значат. Можно с таким же успехом написать: «Обыкновенный неолиберальный университет». Толстовка Лиги плюща – это просто пропуск в этот мишурный мир.
За всем этим скрываются давние сомнения. Их уверенность в себе говорит им, что капитализм хорош потому, что динамичен – но его динамизм обеспечивается наличием богатых источников дешевого труда и скованной демократии, при этом неравенство растет. Жить в обособленном мире, в котором царит миф уникальности, но который на самом деле столь однообразен и постоянно озабочен тем, что он вот-вот все потеряет, – совсем непросто, и я вовсе не шучу.
И вдобавок ко всему они знают, как близко он подошел к пропасти. Ведь они знают, как много из всего того, чем они все еще владеют, на самом деле было оплачено государством, которое их спасло.
Сегодня буржуазная идеология в западном мире означает социальный либерализм (т. е. приверженность изящным искусствам, демократии и верховенству закона), благотворительность и сокрытие власти, которой вы обладаете, под вуалью подчеркнутого самоограничения.
Опасность состоит в том, что в условиях затяжного кризиса приверженность элиты либерализму испаряется. Успешные жулики и диктаторы развивающегося мира уже приобрели влияние и респектабельность: вы можете почувствовать их власть, входя в двери некоторых юридических фирм, компаний пиар-консалтинга и даже корпораций.
Сколько еще времени пройдет, прежде чем западная элита начнет подражать Путину и Си Цзиньпину? В некоторых кампусах фразы вроде «Китай показывает, что капитализм работает без демократии лучше» становятся обычными темами для разговора. Есть опасность, что уверенность «одного процента» в себе сойдет на нет и на смену ей придет чистая, неприкрытая олигархия.
Но есть и хорошая новость.
99 % спешат на помощь.
Посткапитализм освободит вас.
Выражение благодарности
Я должен поблагодарить моего редактора Томаса Пенна из Penguin и корректоров Шана Вахиди и Белу Кунью. Также я благодарю моего агента Мэтью Гамильтона, а до него Эндрю Кида и команду из Aitken Alexander. Следующие люди и организации дали мне возможность представить им ранние версии этой работы и задали по ней вопросы: Пэт Кейн на NESTA FutureFest, Майк Хэйнс в университете Вулверхэмптона; Роберт Бреннер в Центре социальной теории и сравнительной истории при Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе; Марианна Мекельберг и Брендон Джурдан на конференции «Глобальные бунты!», прошедшей в Амстердаме в 2013 году; и Опера Норт в Лидсе. Особая благодарность Аарону Бастани, Элеоноре Сайтте, Куинн Нортон, Молли Крабаппл, Лори Пенни, Антонису Врадису и Димитрису Далакоглу, Эве Ясцевич, Эмме Доулинг, Стиву Кину, Артуру Боу и Сиду Карсону из Morson Group, которые помогли мне в моих размышлениях над вопросами, рассмотренными в этой книге. Благодарю также Бена де Пеера, моего редактора на Channel 4 News, который предоставил мне месячный неоплачиваемый отпуск, чтобы я мог закончить первый черновой вариант книги; Channel 4 за предоставленное время для ее написания; и Малика Меера, редактора G2, приложения газеты Guardian, который позволил мне опубликовать там некоторые из этих мыслей. Наконец, я благодарю свою жену Джейн Брутон, без чьей поддержки, любви и таланта я не смог бы написать эту книгу.
Примечания
1
(обратно)2
‘Policy challenges for the next 50 years’, OECD, 2014.
(обратно)3
-folds-this-hand-but-long-term-game-of-poker-with-eurozone-continues
(обратно)4
L. Cox and A.G. Nilsen, We Make Our Own History (London, 2014).
(обратно)5
#Thelwall_RightsNature1621_16
(обратно)6
M. Castells, Alternative Economic Cultures, BBC Radio 4, 21 October 2012.
(обратно)7
D. Mackie et al, ‘The Euro-area Adjustment: About Halfway There’, JP Morgan, 28 May 2013.
(обратно)8
C. Kindleberger, Comparative Political Economy: A Retrospective (Cambridge, MA, 2000), p. 319.
(обратно)9
P. Mason, ‘Bank Balance Sheets Become Focus of Scrutiny’, 28 July 2008,
(обратно)10
(обратно)11
P. Mason, Meltdown: The End of the Age of Greed (London, 2009).
(обратно)12
- 2012-Prudential-chief-Tidjane-Thiam-says-minimum-wage-is-a-machine-to-destroy-jobs.html
(обратно)13
/a-lesson-from-japans-falling- real-wages/; -europe.eu/2013/05/real-wages-in-the-eurozone-not-a-double-but-a-continuing-dip/; / cp422.pdf
(обратно)14
D. Fiaschi et al, ‘The Interrupted Power Law and the Size of Shadow Banking’, 4 April 2014,
(обратно)15
-debt-has-grown-by-57-trillion-in-seven-years-following-the-financial-crisis
(обратно)16
%203.pdf, p. 742.
(обратно)17
, p. 12.
(обратно)18
-week/news/2187554/-done-for-boy-barclays-libor-messages
(обратно)19
J.M. Keynes, The General Theory of Employment, Interest and Money (Cambridge, 1936), p. 293; -theory/ch21.htm
(обратно)20
-global-debt-crosses-100-trillion.html
(обратно)21
(обратно)22
-solar-power-capacity-increased-35- 2013-charts
(обратно)23
L. Summers, ‘Reflections on the New Secular Stagnation Hypothesis’ в: Teulings and R. Baldwin (eds.), Secular Stagnation: Facts, Causes, and Cures, VoxEU.org (August 2014).
(обратно)24
R. Gordon, ‘The Turtle’s Progress: Secular Stagnation Meets the Head-winds’ в: Teulings and Baldwin (eds.), Secular Stagnation.
(обратно)25
(обратно)26
(обратно)27
R. Duncan, The New Depression: The Вreakdown of the Paper Money Economy (Singapore, 2012).
(обратно)28
-inside-the-feds-2007-crisis-response/?wprss=rss_ezra-klein
(обратно)29
-and-fed
(обратно)30
(обратно)31
(обратно)32
-monetary-policy
(обратно)33
D. Schlichter, Paper Money Collapse: The Folly of Elastic Money (London, 2012), loc 836.
(обратно)34
Гребер Д. Долг: первые 5000 лет истории. М.: Ад Маргинем Пресс, 2015.
(обратно)35
G.R. Krippner, ‘The Financialization of the American Economy’, Socio-Economic Review, 3, 2 (May 2005), p. 173.
(обратно)36
C. Lapavitsas,‘Financialised Capitalism: Crisis and Financial Expropriation’, RMF Paper 1, 15 February 2009.
(обратно)37
A. Brender and F. Pisani, Global Imbalances and the Collapse of Globalised Finance (Brussels, 2010).
(обратно)38
Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм, XV–XVIII века. Т. 3. Время мира. М.: Весь мир, 2007.
(обратно)39
IMF, ‘World Economic Outlook’, October 2013.
(обратно)40
Brender and Pisani, Global Imbalances, p. 2.
(обратно)41
B. Eichengreen, ‘A Requiem for Global Imbalances’, Project Syndicate, 13 January 2014.
(обратно)42
-exchange-reserves
(обратно)43
(обратно)44
L. Floridi, The Philosophy of Information (Oxford, 2011), p. 4.
(обратно)45
Фуко М. Рождение биополитики. СПб: Наука, 2010.
(обратно)46
-law
(обратно)47
‘Measuring the Internet Economy: A Contribution to the Research Agenda’, OECD, 2013.
(обратно)48
H. Braconier, G. Nicoletti and B. Westmore, ‘Policy Challenges for the Next 50 Years’, OECD, 2014.
(обратно)49
Кондратьев Н. Письмо от 17 ноября 1937 года в: N. Makasheva, W. Samuels and V. Barnett (eds.), The Works of Nikolai D. Kondratiev (London, 1998), vol. IV, p. 313.
(обратно)50
Makasheva, Samuels and Barnett (eds.), Nikolai D. Kondratiev, vol. I, p. 108.
(обратно)51
E. Mansfield,‘Long Waves and Technological Innovation’, The American Economic Review, 73 (2) (1983), p. 141, / stable/1816829?seq=2
(обратно)52
G. Lyons, The Supercycle Report (London, 2010).
(обратно)53
C. Perez, ‘Financial Bubbles, Crises and the Role of Government in Unleashing Golden Ages’, FINNOV, London, January 2012.
(обратно)54
Кондратьев Н.Д. Проблемы экономической динамики. М., 1989. С. 175.
(обратно)55
Кондратьев Н.Д. Проблемы экономической динамики. С. 175.
(обратно)56
Там же. С. 176.
(обратно)57
Там же.
(обратно)58
Там же.
(обратно)59
О кривой капиталистического развития // Л. Троцкий. Сочинения. Т. 12. М.-Л., 1925.
(обратно)60
Kondratieff, ‘The Long Wave Cycle’, p. xx.
(обратно)61
Makasheva, Samuels and Barnett (eds.), Nikolai D. Kondratiev, vol. I, p. 116.
(обратно)62
Ibid., p. 113.
(обратно)63
L. Klein, ‘The Rise of ‘Non-October’ Econometrics: Kondratiev and Slutsky at the Moscow Conjuncture Institute’, History of Political Economy, 31:1 (1999), pp. 137–68.
(обратно)64
Слуцкий Е.Е. Сложение случайных причин как источник циклических процессов. Вопросы конъюнктуры. М., 1927. Т. 3. Вып. I.
(обратно)65
Klein, Rise of ‘Non-October’ Economics, p. 157.
(обратно)66
Слуцкий Е.Е. Сложение случайных причин как источник циклических процессов. Вопросы конъюнктуры. М., 1927. Т. 3. Вып. I.
(обратно)67
Основные тезисы статистической критики Кондратьева см. в: R. Metz, ‘Do Kondratieff Waves Exist? How Time Series Techniques Can Help to Solve the Problem’, Cliometrica, 5 (2011), pp. 205–38.
(обратно)68
A.V. Korotayev and S.V. Tsirel, ‘A Spectral Analysis of World GDP Dynamics: Kondratieff Waves, Kuznets Swings; Juglar and Kitchin Cycles in Global Economic Development and the 2008–09 Economic Crisis’, Structure and Dynamics, 4 (1) (2010).
(обратно)69
C. Marchetti, ‘Fifty Year Pulsation in Human Affairs: An Analysis of Some Physical Indicators’, Futures, 17 (3) (1987), p. 376.
(обратно)70
J. Schumpeter, Business Cycles: A Theoretical, Historical and Statistical Analysis of the Capitalist Process (New York, 1939), p. 82.
(обратно)71
Schumpeter, Business Cycles, p. 213.
(обратно)72
C. Perez, Technological Revolutions and Finance Capital: The Dynamics of Bubbles and Golden Ages (Cheltenham, 2002), p. 5.
(обратно)73
Злорадство (нем.). – Примеч. пер.
(обратно)74
Маркс К. Капитал. Т. 3.
(обратно)75
Маркс К. Капитал. Т. 3. С. 485.
(обратно)76
Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. 2-е изд. Т. 13. М.: Государственное издательство политической литературы, 1959. С. 5–9.
(обратно)77
Каутский К. Эрфуртская программа. М.: Госполитиздат, 1959.
(обратно)78
H. and J.M. Tudor, Marxism and Social Democracy: The Revisionist Debate, 1896–8 (Cambridge, 1988).
(обратно)79
G. Kolko, The Triumph of Conservatism: A Reinterpretation of American History 1900–1916 (New York, 1963).
(обратно)80
great_american_information_emperors/how_theodore_vail_built_the_att_ monopoly.html
(обратно)81
%20Files/07-011.pdf
(обратно)82
L. Peters, ‘Managing Competition in German Coal, 1893–1913’, The Journal of Economic History, 49/2 (1989), pp. 419–33.
(обратно)83
H. Morikawa, Zaibatsu: Rise and Fall of Family Enterprise Groups in Japan (Tokyo, 1992).
(обратно)84
Kolko, The Triumph of Conservatism.
(обратно)85
Это осложняется тем фактом, что после 1911 года американская модель эволюционировала от открытых монополий к системе регулируемой конкуренции между крупными промышленными фирмами, тогда как реальная монопольная власть («монополия на власть») была сосредоточена в руках Уолл-стрит и недавно созданной ФРС. Это провоцировало частые выпады против монополий со стороны американских правых, которые затеняли тот факт, что в течение всего рассматриваемого периода монополии в США были нормой. – Примеч. пер.
(обратно)86
K. O’Rourke, ‘Tariffs and Growth in the Late 19th Century’, The Economic Journal, 110 (2000), pp. 456–83.
(обратно)87
%20Historica%20GDP%20Data.efp
(обратно)88
(обратно)89
P. Michaelides and J. Milios, ‘Did Hilferding Influence Schumpeter?’, History of Economics Review, 41 (Winter 2005), pp. 98–125.
(обратно)90
Ленин В.И. Империализм и раскол социализма // Полное собрание сочинений. Т. 30. С. 165.
(обратно)91
Люксембург Р. Накопление капитала. Том 1 и 2. М.-Л.: Государственное социально-экономическое издательство, 1934. С. 336.
(обратно)92
bentinck.net, Berlin Cinemas, 1975.
(обратно)93
Ленин В.И. Империализм как высшая стадия капитализма // Полное собрание сочинений. Т. 27. С. 425.
(обратно)94
Бухарин Н.И. Мировое хозяйство и империализм: экономический очерк. М.: Московский рабочий, 1927.
(обратно)95
K. Kautsky, ‘Ultra-imperialism’, Die Neue Zeit, September 1914, -imp.htm
(обратно)96
M. Ried, ‘A Decade of Collective Economy in Austria’, Annals of Public and Cooperative Economics, vol. 5 (1929), p. 70.
(обратно)97
Варга Е.С. Проблемы экономической политики при пролетарской диктатуре. М.: Государственное издательство, 1922.
(обратно)98
J.M. Keynes, The Economic Consequences of the Peace (New York, 1920), p. 1,
(обратно)99
Варга Е.С. Между VI и VII съездами Коминтерна: экономика и политика 1928–1934 гг. М.: Либроком, 2014.
(обратно)100
Троцкий Л.Д. Агония капитализма и задачи Четвертого Интернационала // Бюллетень оппозиции (большевиков-ленинцев) № 66–67 Май – июнь 1938 г.,
(обратно)101
Доклад тов. Бухарина о деятельности Исполнительного комитета Коммунистического интернационала // Стенографический отчет VI Конгресса Коминтерна. М.-Л.: Государственное издательство, 1929. С. 26–94,
(обратно)102
(обратно)103
-content/uploads/2014/06/NABE-speech-Lawrence-H.-Summers1.pdf
(обратно)104
C. Perez, Technological Revolutions and Finance Capital: The Dynamics of Bubbles and Golden Ages (Cheltenham, 2002).
(обратно)105
Рассчитано на основе данных Мэддисона за 1950 год:
(обратно)106
A. Horne, Macmillan: The Official Biography, vol. II, (London, 1989).
(обратно)107
N. Craftsand and G. Toniolo,‘Postwar Growth: An Overview’, в: N. Crafts and G. Toniolo, Economic Growth in Europe since 1945 (Cambridge, 1996), p. 4.
(обратно)108
Данные Мэддисона.
(обратно)109
Crafts and Toniolo, Economic Growth in Europe, p. 2.
(обратно)110
S. Pollard, The International Economy since 1945 (London, 1997), loc 232.
(обратно)111
%20and%20Earnings.pdf
(обратно)112
-2.pdf
(обратно)113
G. Federico, Feeding the World: An Economic History of Agriculture 1800–2000 (Princeton, 2005), p. 59; C. Dmitri, A. Effland and N. Conklin, ‘The 20th Century Transformation of US Agriculture and Farm Policy’, USDA Economic Information Bulletin 3, 2005.
(обратно)114
C.T. Evans,‘Debate in the Soviet Union? Evgenii Varga and His Analysis of Postwar Capitalism, 1946–1950’, Essays in History, 32 (1989), pp. 1–17.
(обратно)115
Варга Е.С. Изменения в экономике капитализма в итоге второй мировой войны. М., 1946.
(обратно)116
-I.html
(обратно)117
A. Crosland, The Future of Socialism (London, 1956).
(обратно)118
P. Baran and P. Sweezy, Monopoly Capital: An Essay on the American Social Order (New York, 1966).
(обратно)119
(обратно)120
H. Hazlitt, ‘For World Inflation?’, 24 June 1944, в: H. Hazlitt, From Bretton Woods to Inflation: A Study of Causes and Consequences (Chicago, 1984), p. 39.
(обратно)121
J.A. Feinman, ‘Reserve Requirements: History, Current Practice, and Potential Reform’, Federal Reserve Bulletin, June 1993, p. 587.
(обратно)122
C. Reinhart and B.M. Sbrancia,‘The Liquidation of Government Debt’, NBER Working Paper 16893, March 2011, p. 21, / papers/w16893
(обратно)123
Ibid., p. 38.
(обратно)124
I. Stewart, Organising Scientific Research for War, An Administrative History of the Office of Scientific Research and Development (Boston, 1948), p. 19.
(обратно)125
Ibid., p. 59.
(обратно)126
J. Gleick, The Information: A History, a Theory, a Flood (New York, 2011), loc 2998.
(обратно)127
A. Glyn et al, ‘The Rise and Fall of the Golden Age’, WIDER Working Paper 43, April 1988, p. 2.
(обратно)128
, p. 485.
(обратно)129
(обратно)130
Glyn et al, ‘The Rise and Fall of the Golden Age’, p. 112.
(обратно)131
Glyn et al, ‘The Rise and Fall of the Golden Age’, p. 23.
(обратно)132
См., например: P.M. Garber, ‘The Collapse of the Bretton Woods Fixed Exchange Rate System’, в: M. Bordo and B. Eichengreen, A Retrospective on the Bretton Woods System; Lessons for International Monetary Reform (Chicago, 1993), pp. 461–94.
(обратно)133
M. Ichiyo, ‘Class Struggle and Technological Innovation in Japan since 1945’, Notebooks for Study and Research, 5 (1987), p. 10.
(обратно)134
‘The sick man of the euro’, The Economist, 3 June 1999,
(обратно)135
-economy-is-the-envy-of-europe-so-why-are-record-numbers-of-people-living-in-poverty
(обратно)136
G. Mayer, ‘Union Membership Trends in the United States’, Congressional Research Service, 2004.
(обратно)137
J. Vissier, ‘Union Membership Statistics in 24 Countries’, Monthly Labor Review, January 2006, p. 38,
(обратно)138
E. Stockhammer, ‘Why Have Wage Shares Fallen? A Panel Analysis of the Determinants of Functional Income Distribution’, ILO Research Paper, 2013.
(обратно)139
A.V. Korotaev and S.V. Tsirel, ‘A Spectral Analysis of World GDP Dynamics: Kondratieff Waves, Kuznets Swings; Juglar and Kitchin Cycles in Global Economic Development and the 2008–09 Economic Crisis’, Structure and Dynamics, 4 (1) (2010).
(обратно)140
-states/bank-lending-rate
(обратно)141
John F. Papp et al, ‘Cr, Cu, Mn, Mo, Ni, and Steel Commodity Price Influences, Version 1.1’, US Geological Survey Open-File Report 2007–1257, p. 112.
(обратно)142
Экономисты обычно сравнивают цены с инфляцией; в этом случае цена этого и многих других металлов в период после 1989 года была практически неизменной и даже падала. Тем не менее в анализе длинных циклов мы хотим видеть инфляцию и дефляцию, а не выносить их за скобки.
(обратно)143
(обратно)144
(обратно)145
-crises.com
(обратно)146
S. Khatiwada, ‘Did the Financial Sector Profit at the Expense of the Rest of the Economy? Evidence from the United States’, ILO Research Paper, 2010.
(обратно)147
(обратно)148
(обратно)149
D. McWilliams, ‘The Greatest Ever Economic Change’, Gresham Lecture, 13 September 2012, -and-events/the-greatest-ever-economic-change
(обратно)150
См., например: S. Amin, Unequal Development: An Essay on the Social Formations of Peripheral Capitalism (New York, 1976).
(обратно)151
D. Milanovic, ‘Global Income Inequality by the Numbers: in History and Now’, Policy Research Working Paper 6259, World Bank, November 2012, p. 13.
(обратно)152
R. Freeman,‘The New Global Labor Market’, Focus, vol. 26 (1) (2008), University of Wisconsin – Madison Institute for Research on Poverty,
(обратно)153
S. Kapsos and E. Bourmpoula, ‘Employment and Economic Class in the Developing World’, ILO Research Paper 6, June 2013.
(обратно)154
K. Kelly, ‘New Rules for the New Economy’, Wired, 5 September 1997,
(обратно)155
R. Singh, ‘Civil Aero Gas Turbines; Technology and Strategy’, Speech, Cranfield University, 24 April 2001, p. 5.
(обратно)156
J. Leahy, ‘Navigating the Future’, Global Market Forecast 2012–2031, Airbus, 2011.
(обратно)157
D. Lee et al, ‘Aviation and Global Climate Change in the 21st Century’, Atmospheric Aviation, vol. 43, 2009, pp. 3520–37.
(обратно)158
M. Gell et al, ‘The Development of Single Crystal Superalloy Turbine Blades’, Superalloys, 1980, p. 205.
(обратно)159
Engine_Roadmap_en.pdf
(обратно)160
Данные исследования см. в: Balance Sheet, SAS Institute/CEBR, June 2013.
(обратно)161
P. Drucker, Post-capitalist Society (Oxford, 1993), p. 40.
(обратно)162
Drucker, Post-capitalist Society, p. 175.
(обратно)163
Ibid., p. 193.
(обратно)164
Y. Peng, ‘Internet Use of Migrant Workers in the Pearl River Delta’, в: P.-L. Law (ed.), New Connectivities in China: Virtual, Actual and Local Interactions (Dordrecht, 2012), p. 94.
(обратно)165
P. Romer, ‘Endogenous Technological Change’, Journal of Political Economy, vol. 98, no. 5, pt 2 (1990), pp. S71–S102.
(обратно)166
Ibid., p. S72.
(обратно)167
Ibid., pp. S71–S102.
(обратно)168
-and-mobile/1567869/business-matters-average-itunes-account-generates-just
(обратно)169
D. Warsh, Knowledge and the Wealth of Nations: A Story of Economic Discovery (New York, 2007).
(обратно)170
#cite_note-AnandTech-iPhone5s-A7-2
(обратно)171
: Bill_Gates_Letter_to_Hobbyists.jpg
(обратно)172
R. Stallman, The GNU Manifesto, March 1985,
(обратно)173
óunter.com
(обратно)174
-market-share-2012-11
(обратно)175
K. Kelly, ‘New Rules for the New Economy’, Wired, 5 September 1977,
(обратно)176
Ibid.
(обратно)177
Kelly, ‘New Rules for the New Economy’.
(обратно)178
-of-samsungs-galaxy-phones-and-tablets/
(обратно)179
-reports/idc-the-digital-universe-in-2020.pdf
(обратно)180
-D/Statistics/Pages/stat/default.aspx
(обратно)181
Kelly,
(обратно)182
Ibid.
(обратно)183
R. Konrad, ‘Trouble Ahead, Trouble Behind’, cnet 22 February 2002, -1082-843349.html
(обратно)184
Y. Benkler, The Wealth of Networks: How Social Production Transforms Markets and Freedom (New Haven, 2006).
(обратно)185
Benkler, The Wealth of Networks.
(обратно)186
: Wikipedians
(обратно)187
(обратно)188
, дата обращения: 28 декабря 2013.
(обратно)189
(обратно)190
-how-wikipedia-could-make-2-8-billion-in-annual-revenue
(обратно)191
K. Arrow, ‘Economic Welfare and the Allocation of Resources for Invention’, в: The Rate and Direction of Inventive Activity: Economic and Social Factors, NBER, 1962, pp. 609–26.
(обратно)192
MEW (MarxEngelsWerke), vol. 29 (London, 1987), p. 225.
(обратно)193
M. Nikolaus в: K. Marx, Grundrisse (Harmondsworth, 1973), p. 9.
(обратно)194
K. Marx, Grundrisse.
(обратно)195
Ibid.
(обратно)196
(обратно)197
S. Tillotson, ‘We May All Soon Be “First-class Men”: Gender and Skill in Canada’s Early Twentieth Century Urban Telegraph Industry’, Labor/Le Travail, 27 (Spring 1991), pp. 97–123.
(обратно)198
Marx, Grundrisse.
(обратно)199
Вирно П. Грамматика множества: к анализу форм современной жизни. М.: Ад Маргинем Пресс, 2016.
(обратно)200
Marx, Grundrisse.
(обратно)201
N. Dyer-Witheford, Cyber-Marx: Cycles and Circuits of Struggle in High-technology Capitalism (Illinois, 1999).
(обратно)202
Y. Moulier-Boutang, Cognitive Capitalism (Cambridge, 2011), p. 53.
(обратно)203
(обратно)204
-digital-marketing
(обратно)205
C. Vercellone,‘From Formal Subsumption to General Intellect: Elements for a Marxist Reading of the Thesis of Cognitive Capitalism’, Historical Materialism, 15 (2007), pp. 13–36.
(обратно)206
Dyer-Witheford, Cyber-Marx.
(обратно)207
J. Rifkin, The Zero Marginal Cost Society: The Internet of Things, the Collaborative Commons, and the Eclipse of Capitalism (New York, 2014).
(обратно)208
См.: P. Mason, ‘WTF is Eleni Haifa?’, 20 December 2014, -wtf-is-eleni-haifa-a-new-essay-by-paul-mason
(обратно)209
(обратно)210
#B.I,%2 °Ch.5,%20Of%20the%20Real%20and%20Nominal%20Price%20of%2 °Commodities
(обратно)211
A. Smith, Lectures on Jurisprudence (Oxford, 1978), p. 351.
(обратно)212
Доказательство этого см. в: John F. Henry, ‘Adam Smith and the Theory of Value: Chapter Six Considered’, History of Economics Review, 31 (Winter 2000).
(обратно)213
(обратно)214
Towards the Free Machine,
(обратно)215
D. Ricardo, On the Principles of Political Economy and Taxation (London, 1821), ch. 30,
(обратно)216
(обратно)217
Полное рассмотрение споров о стоимости см. в: I.I. Rubin, A History of Economic Thought (London, 1989).
(обратно)218
-clothes-campaign-disappointed-at-new-bangladesh-minimum-wage-level
(обратно)219
Расчет произведен на основе данных о минимальной заработной плате, составлявшей в 2014 году 5300 така, тогда как розничная цена риса равнялась 34 така за кг.
(обратно)220
В этом разделе я следую общим чертам теории в том виде, в котором они изложены в: A. Kliman, Reclaiming Marx’s ‘Capital’: A Refutation of the Myth of Inconsistency (Plymouth, 2007).
(обратно)221
-we-are/gender-issues/daycare
(обратно)222
K. Allen, ‘The Butterfly Effect: Chinese Dorms and Bangladeshi Factory Fires’, Financial Times, 25 April 2013, -butterfly-effect-chinese-dorms-and-bangladeshi-factory-fires/?
(обратно)223
J. Robinson, Economic Philosophy (Cambridge, 1962).
(обратно)224
Они показывают, что кажущиеся логические противоречия в расчетах Маркса исчезают, когда вы понимаете, что этот процесс занимает определенное время, а не происходит мгновенно, словно в отдельном столбце книги учета.
(обратно)225
A. Einstein, ‘Physics and Reality’, Journal of The Franklin Institute, vol. 221 (1936), pp. 349–82.
(обратно)226
OECD, ‘Education at a Glance 2014: OECD Indicators’ OECD, 2014, p. 14.
(обратно)227
У теории Маркса есть один парадоксальный аспект. Есть ли уверенность в том, что возросшая производительность должна повышать «качество труда»? Новые станки и любая реорганизация рабочего пространства почти всегда наделяют наш труд новыми свойствами. Однако утверждение, что стоимость труда остается неизменной в результате повышения производительности, означает лишь то, что повышение производительности обеспечивается за счет станков, методов управления и знаний, а не благодаря изменениям в качестве самого труда. Они становятся «факторами повышения эффективности» человеческого труда, который сам по себе остается прежним. – Примеч. пер.
(обратно)228
L. Walras, Elements of Pure Economics: Or the Theory of Social Wealth (London, 1900), p. 399.
(обратно)229
%20Smart/An%20Introduction%20to%20the%20Theory%20of%20Value.pdf
(обратно)230
Walras, Elements of Pure Economics, p. 6.
(обратно)231
W.S. Jevons, ‘The Periodicity of Commercial Crises, and its Physical Explanation’, в: R.L. Smyth (ed.), Essays in the Economics of Socialism and Capitalism: Selected Papers Read to Section F of the British Association for the Advancement of Science, 1886–1932 (London, 1964), pp. 125–40.
(обратно)232
Труд, размышлял Джевонс, возможно, представляет собой смесь удовольствия и страдания, однако страх еще большего страдания – голода – заставляет нас работать каждый день. – Примеч. пер.
(обратно)233
Менгер К. Исследование метода социальных наук и политической экономии в частности // Менгер К. Избранные работы. М.: Территория будущего, 2005.
(обратно)234
S. Keen, Debunking Economics: The Naked Emperor Dethroned (London, 2011), loc 474.
(обратно)235
Walras, Elements of Pure Economics.
(обратно)236
-thrones-purple-wedding-becomes-most-shared-illegal-download-ever-1445057
(обратно)237
J. Hagel et al, ‘From Exponential Technologies to Exponential Innovation’, Deloitte, 2013.
(обратно)238
N. Wiener, Cybernetics or Control and Communication in the Animal and the Machine (Cambridge MA, 1948), p. 132.
(обратно)239
/~jdnorton/lectures/Rotman_Summer_School_2013/thermo_computing_docs/Landauer_1961.pdf
(обратно)240
R. Landauer, ‘The Physical Nature of Information’, Physics Letters A, 217 (1996), pp. 188–93.
(обратно)241
-limit-demonstrated
(обратно)242
(обратно)243
Маркс пишет: «Предположим, что капиталист вкладывает 1000 долларов, в том числе 200 долларов в машины, и зарабатывает 50 долларов в год. За четыре года машина окупится, после чего с точки зрения стоимости окажется, будто капитал стоит всего 800 долларов». – Примеч. пер.
(обратно)244
V. Naranje and K. Shailendra, ‘AI Applications to Metal Stamping Die Design; A Review’, World Academy of Science, Engineering and Technology; vol. 4, 2010.
(обратно)245
OECD, ‘Measuring the Internet Economy: A Contribution to the Research Agenda’, OECD Digital Economy Papers, 226, OECD Publishing, 2013.
(обратно)246
-en
(обратно)247
(обратно)248
C.B. Frey and M.A. Osborne, ‘The Future of Employment: How Susceptible Are Jobs to Computerisation?’, Oxford Martin School Working Paper, 2013, p. 38, -employment-how-susceptible-are-jobs-computerisation-oms-working-paper-dr-carl-benedikt-frey-ms
(обратно)249
A. Gorz, Critique of Economic Reason (London, 1989), p. 127.
(обратно)250
R. Freeman, ‘The Great Doubling: Labor in the New Global Economy’, Usery Lecture in Labor Policy, University of Atlanta, GA, 2005.
(обратно)251
Пикетти Т. Капитал в XXI веке. М.: Ад Маргинем Пресс, 2016.
(обратно)252
-jameson-future-city: «Кажется, что сегодня нам проще представить полное истощение земли и природы, чем крах позднего капитализма».
(обратно)253
‑su.php
(обратно)254
См.: P. Mason, ‘WTF is Eleni Haifa?’, 20 December 2014, -wtf‑is‑eleni-haifa‑a‑new-essay‑by‑paul-mason
(обратно)255
D. A. Galbi, ‘Economic Change and Sex Discrimination in the Early English Cotton Factories’, 1994,
(обратно)256
A. Ure, The Cotton Manufacture of Great Britain Systematically Investigated, vol. II (London, 1836), p. 176.
(обратно)257
#.UeVsMBY9TCE
(обратно)258
Маркс К. Капитал. Т. 1. С. 445–446.
(обратно)259
Энгельс Ф. Положение рабочего класса в Англии // К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения. Т. 2. М.: Государственное издательство политической литературы, 1955.
(обратно)260
M. Winstanley, ‘The Factory Workforce’, в: M. Rose (ed.), The Lancashire Cotton Industry: A History since 1700 (Lancashire, 1996), p. 130.
(обратно)261
W. Lazonick, Competitive Advantage on the Shop Floor (Harvard, 1990).
(обратно)262
Энгельс Ф. Положение рабочего класса в Англии.
(обратно)263
B. Palmer, A Culture in Conflict: Skilled Workers and Industrial Capitalism in Hamilton, Ontario, 1860–1914 (Montreal, 1979).
(обратно)264
Исследование Кили, посвященное профсоюзу формовщиков из Торонто, показывает, что он устанавливал расценки для каждого нового фасона и навязывал их всей отрасли. См.: G. Kealey, ‘The Honest Working Man and Workers’ Control: The Experience of Toronto Skilled workers 1860–1892’, Labor/LeTravail, 1 (1976), p. 50.
(обратно)265
Цит. по: Kealey, ‘The Honest Working Man and Workers’ Control’, р. 39.
(обратно)266
Ibid., р. 58.
(обратно)267
F.W. Taylor, The Principles of Scientific Management, 1911, p. 18.
(обратно)268
Ibid.
(обратно)269
Ibid.
(обратно)270
G. Friedman, ‘Revolutionary Unions and French Labor: The Rebels behind the Cause; or, Why Did Revolutionary Syndicalism Fail?’, French Historical Studies, vol. 20, no. 2 (Spring, 1997).
(обратно)271
(обратно)272
Ленин В.И. Что делать? // Собрание сочинений. Т. 6. М.: Государственное издательство политической литературы, 1963. С. 30.
(обратно)273
Ленин В.И. Империализм как высшая стадия капитализма. Предисловие к французскому и немецкому изданиям // Собрание сочинений. Т. 27. М.: Государственное издательство политической литературы, 1969. С. 308.
(обратно)274
Цит. по: A. Santucci, Antonio Gramsci (New York, 2010), p. 156.
(обратно)275
W.B. Yeats, ‘Easter, 1916’,
(обратно)276
(обратно)277
M. Ferro, October 1917: A Social History of the Russian Revolution (London, 1980), p. 151.
(обратно)278
C. Goodrich, The Frontier of Control (New York, 1920), p. 264.
(обратно)279
G. Orwell, ‘Looking Back on the Spanish War’, в: G. Orwell, A Collection of Essays (New York, 1979), p. 201.
(обратно)280
(обратно)281
C. W. Mills, ‘The Sociology of Stratification’, в: I.L. Horowitz (ed.), Power Politics&People: The Collected Essays of C. Wright Mills (Oxford, 1967), p. 309.
(обратно)282
D. Bell, ‘The Capitalism of the Proletariat’, Encounter, February 1958, pp. 17–23.
(обратно)283
-dimensional-man/one-dimensional-man.pdf, p. 33.
(обратно)284
S. Wright, Storming Heaven: Class Composition and Struggle in Italian Autonomist Marxism (London, 2002), p. 54.
(обратно)285
R. Alford, ‘A Suggested Index of the Association of Social Class and Voting’, Public Opinion Quarterly, vol. 26, no. 3 (Autumn, 1962), pp. 417–25.
(обратно)286
E. Hobsbawm, ‘The Forward March of Labour Halted’, Marxism Today, September 1978, p. 279.
(обратно)287
R. Alquati, Sulla Fiat e Altri Scritti (Milan, 1975), p. 83.
(обратно)288
A. Gorz, Critique of Economic Reason (London, 1989), p. 55.
(обратно)289
Gorz, Critique of Econimic Reason, p. 58.
(обратно)290
J. Gorman, To Build Jerusalem: A Photographic Remembrance of British Working Class Life, 1875–1950 (London, 1980).
(обратно)291
R. Hoggart, The Uses of Literacy: Aspects of Working-Class Life (London, 1957).
(обратно)292
G. Akerlof, J. Yellen and M. Katz, ‘An Analysis of Out‑of‑Wedlock Childbearing in the United States’, Quarterly Journal of Economics, vol. 111, no. 2.
(обратно)293
C. Goldin and L. Katz, ‘The Power of the Pill: Oral Contraception and Women’s Career and Marriage Decisions’, NBER Working Paper 7527, February 2000.
(обратно)294
O. Ornati, ‘The Italian Economic Miracle and Organised Labor’, Social Research, vol. 30, no. 4 (Winter, 1953), pp. 519–26.
(обратно)295
Ornati, ‘The Italian Economic Miracle and Organised Labor’.
(обратно)296
P. Ginsborg, A History of Contemporary Italy: Society and Politics 1943–1988 (London, 2003), pp. 298–9.
(обратно)297
‘Class Struggle in Italy: 1960s to 70s’, anonymous, prole.info
(обратно)298
Lotta Continua, #18, November 1970, цит. там же.
(обратно)299
A. Glyn et al, ‘The Rise and Fall of the Golden Age’, WIDER, Working Paper 43, April 1988.
(обратно)300
Ibid.
(обратно)301
P. Myerscough, ‘Short Cuts’, London Review of Books, vol. 35, no. 1, 3 January 2013, p. 25.
(обратно)302
(обратно)303
МОТ.
(обратно)304
C. Lapavitsas, ‘Financialised Capitalism: Crisis and Financial Expropriation’, RMF Paper 1, 15 February 2009.
(обратно)305
Ibid.
(обратно)306
/~wellman/publications/littleboxes/littlebox.PDF
(обратно)307
R. Sennett, The Culture of the New Capitalism (New Haven, 2005).
(обратно)308
R. Sennett, The Corrosion of Character: The Personal Consequences of Work in the New Capitalism (New York, 1998).
(обратно)309
A. Negri and M. Hardt, Declaration, ebook, 2012, -hardt-negri-declaration-2012.pdf
(обратно)310
Y. Peng, ‘Internet Use of Migrant Workers in the Pearl River Delta’, Knowledge, Technology, and Policy, 21, 2008, pp. 47–54.
(обратно)311
Богданов А.А. Красная звезда. М.: Правда, 1989.
(обратно)312
(обратно)313
Цит. по: J.E. Marot, ‘Alexander Bogdanov, Vpered and the Role of the Intellectual in the Workers’ Movement’, Russian Review, vol. 49 (3) (1990), pp. 241–64.
(обратно)314
#workers-opposition
(обратно)315
N. Krementsov, A Martian Stranded on Earth: Alexander Bogdanov, Blood Transfusions and Proletarian Science (Chicago, 2011).
(обратно)316
R. Stites, ‘Fantasy and Revolution’, в: Bogdanov, Red Star, p. 15.
(обратно)317
M. Ellman, ‘The Role of Leadership Perceptions and of Intent in the Soviet Famine of 1931’, Europe-Asia Studies, vol. 57 (6) (2005), pp. 823–41.
(обратно)318
(обратно)319
M. Harrison ‘The Soviet Economy in the 1920s and 1930s’, Capital&Class, 2:2 (1978), pp. 78–94.
(обратно)320
G. Ofer, ‘Soviet Economic Growth 1928–1985’, RAND/UCLA Center for the Study of Soviet International Behavior, JRS‑04 (1998).
(обратно)321
H. Hunter, ‘A Test of Five-Year Plan Feasibility’, в: J. Thornton, Economic Analysis of the Soviet-Type System (Cambridge 1976), p. 296.
(обратно)322
A. Kon, ‘Political Economy Syllabus’, pp. 19–20, цит. по: Y. Preobrazhensky, The New Economics (Oxford, 1964), p. 57.
(обратно)323
V. Pareto, Cours d’Economie Politique, vol. 1 (Lausanne, 1896), p. 59. Цит. по: J. Bockman, Markets in the Name of Socialism: The Left Wing Origins of Neoliberalism (Stanford, 2011).
(обратно)324
E. Barone, ‘The Ministry of Production in the Collectivist State’, в: F. Hayek (ed.), Collectivist Economic Planning: Critical Studies on the Possibilities of Socialism (London, 1935), p. 245.
(обратно)325
L. von Mises, Economic Calculation in the Socialist Commonwealth (New York, 1990), p. 13.
(обратно)326
Ibid., р. 14.
(обратно)327
L. Robbins, The Great Depression (London, 1934), p. 151.
(обратно)328
O. Lange, ‘On the Economic Theory of Socialism’, Review of Economic Studies, vol. 4 (1) (1936), pp. 53–71.
(обратно)329
Bockman, Markets in the Name of Socialism, loc 1040.
(обратно)330
Von Mises, Economic Calculation, p. 22.
(обратно)331
Троцкий Л.Д. Советское хозяйство в опасности! // Бюллетень оппозиции (большевиков-ленинцев), № 31,
(обратно)332
Там же.
(обратно)333
W.P. Cockshott and A. Cottrell, ‘Economic Planning, Computers and Labor Values’, Working Paper, January 1999,
(обратно)334
O. Yun, Improvement of Soviet Economic Planning (Moscow, 1988).
(обратно)335
Cockshott and Cottrell, ‘Economic Planning, Computers and Labor Values’, p. 7.
(обратно)336
P. Cockshott, A. Cottrell and H. Dieterich, Transition to 21st Century Socialism in the European Union, Lulu.com, 2010, pp. 1–20.
(обратно)337
A. Gorz, Capitalism, Socialism, Ecology (London, 1994), p. 1.
(обратно)338
J.M. Keynes, ‘The Economic Possibilities for our Grandchildren’, в: J.M. Keynes, Essays in Persuasion (New York, 1963), pp. 358–73.
(обратно)339
D. Thompson, ‘The Economic History of the Last 2000 Years: Part II’, The Atlantic, 20 June 2012.
(обратно)340
%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.ppat.1001134
(обратно)341
D. Herlihy, The Black Death and the Transformation of the West (Cambridge, 1997), p. 48.
(обратно)342
E.L. Eisenstein, The Printing Revolution in Early Modern Europe (2nd edn, Cambridge, 2005).
(обратно)343
%20Organum%20Bacon.pdf
(обратно)344
P.M. Sweezy and M. Dobb, ‘The Transition from Feudalism to Capitalism’, Science&Society, vol. 14 (2) (1950), pp. 134–67.
(обратно)345
P. Anderson, Passages from Antiquity to Feudalism (London, 1974), loc 3815.
(обратно)346
Preobrazhensky, The New Economics, p. 79.
(обратно)347
(обратно)348
(обратно)349
J. Ashton, ‘The Book and the Bonfire: Climate Change and the Reawakening of a Lost Continent’, Speech, Swiss Museum of Transport, Lucerne, 19 January 2014.
(обратно)350
‘World Energy Outlook 2012’, IEA,
(обратно)351
-Carbon‑2‑Web-Version.pdf
(обратно)352
-warned-climate-change-affects-viability-business-model
(обратно)353
-money-funds-climate-change-denial-effort
(обратно)354
‑11‑02/fossil-fuel-budgets-suggested‑to‑curb-climate-change.html?hootPostID=1bdb3b7bbbbb619db600e477f2c6a152
(обратно)355
-europes-electricity-providers-face-existential-threat-how-lose-half-trillion-euros
(обратно)356
(обратно)357
-change/energyrevolution
(обратно)358
Ibid.
(обратно)359
‘Fifth Annual Report of the Registrar General’, London, 1843.
(обратно)360
‘World Population Prospects: The 2012 Revision, Key Findings and Advance Tables’, United Nations, 2013.
(обратно)361
‑3
(обратно)362
‘Annual Survey of Large Pension Funds and Public Reserve Pension Funds’, OECD, October 2013.
(обратно)363
M. Mrsnik et al, ‘Global Aging 2010: An Irreversible Truth’, Standard&Poors, 7 October 2010.
(обратно)364
N. Howe and R. Jackson, ‘How Ready for Pensioners?’, Finance&Development, IMF, June 2011.
(обратно)365
Нигерия, Танзания, Конго, Эфиопия, Уганда, Нигер плюс Индия и США.
(обратно)366
‘World Population Prospects: The 2012 Revision’.
(обратно)367
%20KEY%20FINDINGS.pdf
(обратно)368
B. Milanovic, ‘Global Income Inequality by the Numbers: in History and Now’, Policy Research Working Paper 6259, World Bank, November 2012.
(обратно)369
G. Magnus, Speech, IFC and Johns Hopkins Medicine International Health Conference 2013, + Mognus’+Keynote+Speech+–190313.pdf?MOD=AJPERES
(обратно)370
D.H. Lawrence, Lady Chatterley’s Lover (London, 1928), p. 1.
(обратно)371
-internet-censorship_n_4981389.html
(обратно)372
-targets‑36‑billion-global-cosmetic-surgery-market-cnbc-ibi-industry-news
(обратно)373
H. Simon, ‘Organisations and Markets’, Journal of Economic Perspectives, vol. 5 (2) (1991), pp. 25–44.
(обратно)374
E. Preobrazhensky, The New Economics (Oxford, 1964), p. 55.
(обратно)375
См., например: P. Mason, ‘WTF is Eleni Haifa?’, 20 December 2014, -wtf‑is‑eleni-haifa‑a‑new-essay‑by‑paul-mason
(обратно)376
V. Kostakis and M. Bauwens, Network Society and Future Scenarios for a Collaborative Economy (London, 2014).
(обратно)377
M. Wark, A Hacker Manifesto (Cambridge MA, 2004).
(обратно)378
См., например: ‘Fair Society, Healthy Lives’ (The Marmot Review), UCL Institute of Health Equity, February 2010, -society-healthy-lives-the-marmot-review
(обратно)379
J.D. Farmer, ‘Economics Needs to Treat the Economy as a Complex System’, Crisis, December 2012.
(обратно)380
J. Benes and M. Kumhof, ‘The Chicago Plan Revisited’, IMF Working Paper 12/202, August 2012,
(обратно)381
См.: и
(обратно)382
D. Graeber, ‘On the Phenomenon of Bullshit Jobs’, Strike! Magazine, 17 August 2013.
(обратно)383
K. Marx, Grundrisse, ed. M. Nicolaus (Harmondsworth, 1973), pp. 207–750,
(обратно)
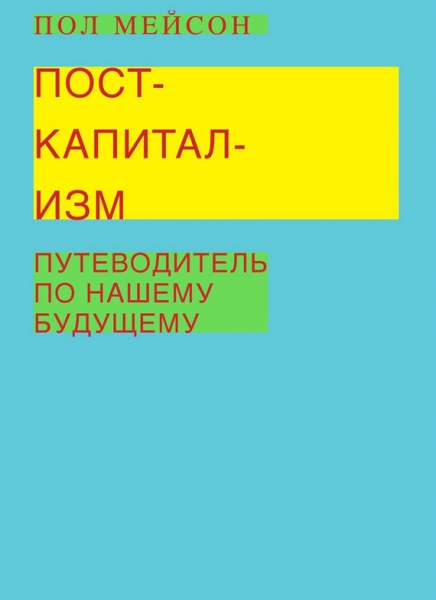

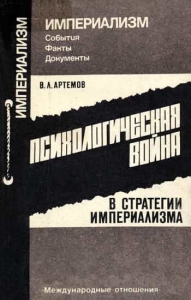

Комментарии к книге «Посткапитализм. Путеводитель по нашему будущему», Пол Мейсон
Всего 0 комментариев