Александр Панарин Север — Юг. Сценарии обозримого будущего
Дихотомия Вебера
С самого начала требуется уточнение: о каком Юге будет идти речь. В первую очередь имеется в виду Юг в контексте известной дихотомии Север — Юг, означающей новую социальную поляризацию человечества. Ожидание реванша Юга в этом контексте соответствует тем установкам нашего исторического сознания, которые сформировались под влиянием христианской традиции: сильные и гордые рано или поздно будут наказаны, униженные — наследуют землю.
Понятие Юга, кроме того, включает некоторые культурологические и геополитические интуиции, оживляемые в той мере, в какой это понятие интегрирует содержание другого, более старого понятия — Восток. "Юг" — это классовая реинтерпретация культурно-исторического понятия Восток, включающего набор известных противопоставлений Западу. Здесь в пользу ожидаемого реванша Юга могут говорить и историческое знание о Востоке как колыбели древнейших цивилизаций, процветающих и могущественных, и современная демографическая статистика, свидетельствующая о растущем демографическом преобладании Юга и его неукротимой экспансии на Север, в места относительного "демографического вакуума", и, наконец, геополитические интуиции относительно Юга как ареала обитания крепких рас, еще не подорванных духом декаданса. Ясно, что при таком понимании собственно Юг геополитически смещается, сближаясь с Востоком.
И может быть, эвристически наиболее обещающей является реинтерпретация Юга в рамках дихотомии М. Вебера, не менее манихейски, чем Маркс, разделившего человечество на две неравноценные половины: протестантский Север (Европы) и католический, а также мусульманский и прочий Юг.
Теория Вебера призывает нас сосредоточить свое внимание на парадоксе, возникшем в истории Запада: почему до религиозной Реформации центр европейского развития находился на Юге — Италия, Испания, Португалия были лидирующими странами, а после Реформации он переместился на Север. Превосходство европейского Юга никакого парадокса не представляло, в его пользу говорили все классические аргументы: преимущества климата, концентрация мировых торговых путей, самое главное — статус наследников блестящей античности. Европейскому Северу положено было оставаться полуразвитой и бедной провинцией Запада по закону ослабления цивилизационного импульса по мере пространственной удаленности от средиземноморского цивилизационного эпицентра. Парадоксом является неожиданная инверсия статусов Севера и Юга Европы. Теория М.Вебера берется объяснить этот парадокс, возведя его в ранг закономерности, и в этом смысле претендует на статус полемически сильной теории, порывающей с предшествующими концепциями, то есть вносящей переворот в картину мира.
Говоря это, я хотел бы подчеркнуть известную симметричность фигур К. Маркса и М. Вебера: первый вносил переворот в общественную науку в качестве идеолога пролетарских низов буржуазного общества, второму суждено было теоретически ознаменовать реванш буржуазного предпринимателя над его революционным оппонентом. Моя догадка состоит в том, что теория М. Вебера представляет тот же самый (что и у Маркса) случай крайней теории, тяготеющей не к примиряющим "центристским" синтезам, а к инверсионным скачкам "от противного". Теория Вебера при внимательном подходе представляет собой не меньший "классовый" вызов цивилизованному интеллектуальному консенсусу, чем теория Маркса.
На чем основывает Маркс свои аргументы в пользу решающего социально-исторического превосходства пролетариата? Отнюдь не на допущениях, признанных классическими и никем до него не оспариваемых. Пролетарий Маркса, кажется, ничего не обещает цивилизации по части своих интеллектуально-просвещенческих качеств — здесь он выступает скорее в роли внутреннего варвара, ничего не взявшего от возможностей буржуазной цивилизованности. Не имеет он и собственно моральных преимуществ; напротив, он воплощает самое откровенное отрицание таких общепризнанных добродетелей, как любовь к труду (Маркс подчеркивает его отвращение к своему труду), любовь к отечеству (у пролетариев нет отечества), привязанность к семье и лояльность в отношении других, интегрирующих и стабилизирующих, социальных институтов. Степень пролетарской отверженности от всего, олицетворяющего законопослушие, цивилизован-ность, лояльность, такова, что мы вправе предположить, что грядущее пролетарское отрицание уведет общество с верхней ступени цивилизованности в какие-то археологические глубины, едва ли не ко временам первобытного стада, не знающего ни общественного разделения труда, ни экзогамии.
Что же позволяет Марксу утверждать пролетария в роли носителя высшей исторической миссии? Чтобы замахнуться на это, Марксу необходимо было предстать новым материалистом, противостоящим всей господствующей идеалистической традиции. Материалистическая реабилитация пролетариата состоит в том, что он воплощает в себе первичную, базовую деятельность, являющуюся предпосылкой всех остальных форм человеческой жизнедеятельности. Достоинство пролетариата не только в том, что он является кормильцем общества — создателем материальных благ, но и в том, что во всех своих практиках он знаменует собой материалистическое отрезвление сознания — освобождение его от превращенных мифологических форм, связанных с образом жизни паразитических классов.
Для того чтобы добывать материальные блага, надо быть материалистом — открывать мир в его материальных связях и зависимостях. Таков примерно ход мысли Маркса, связанный с противопоставлением пролетарской объективности буржуазному субъективизму. Венчает эту конструкцию Маркса представление о пролетариате как субъекте истории, в котором провиденциальным образом сошлись ее концы и начала: в пролетариате достигают своего последнего разложения все искусственные нагромождения ложной цивилизованности, противостоящей естественной картине мира и естественному состоянию человека — каким оно было до грехопадения частной собственности. Пролетариат — этот продукт разложения всех классов — вернет общество к естественному бесклассовому состоянию, то есть совершит историческую операцию "отрицания отрицания" — возврата к исходному состоянию на новом, высшем уровне.
Ясно, что в лице создателя марксизма история рабочего движения получила мыслителя, сообщившего ему новый, крайне полемичный и радикальный тип самосознания. Реальные пролетарии вполне могли бы жить и развиваться не с этим "чисто классовым", а со смешанным, более интеграционистским и "толерантным" типом сознания. Хотя, разумеется, от высших, правящих классов это требовало бы ответной толерантности и готовности к классовым, гражданским компромиссам.
Очевидно, в истории наметились две альтернативные формы социально-исторической эволюции пролетариев. Одна представляла собой стратегию индивидуальной морали успеха, при которой отдельные пролетарии, вместо того чтобы исповедовать принцип коллективной классовой идентичности, на свой страх и риск приспосабливаются к буржуазной цивилизации, ища разного рода прорехи в той мембране, посредством которой эта цивилизация отделяет привилегированное пространство своих от вторжения классово чуждого элемента. Другая форма представляет собой коллективное изгойство пролетариата как класса, отвергающего любые соблазны натурализации в чужой социальной среде. Подобно тому как правоверным евреям самим Яхве было обещано грядущее упование и избранность при условии, что они не променяют свое первородство на чечевичную похлебку, не станут растворяться в среде чуждых им народов и кланяться чужим богам, правоверным пролетариям самой историей обещано конечное торжество при условии воздержания от всех соблазнов обуржуазивания.
Ясно, что первая, реформистская стратегия получает шансы на признание в среде пролетариата, если она подтверждается социальным опытом растущего числа пролетариев, перестающих чувствовать свою фатальную классовую отверженность. Напротив, ортодоксально-марксистское поведение, связанное с устойчивой классовой идентичностью пролетариев и поисками единой коллективной судьбы, революционного исторического реванша, делается тем вероятнее, чем в большей степени классово закрытым, неспособным к социальным компромиссам зарекомендует себя буржуазное общество.
Таким образом, Маркс осуществил "иудаизацию" социализма, привив социалистическому движению мессианский комплекс изгойства-избранничества. Тем самым линейная перспектива социал-реформизма, связанная с постепенной интеграцией рабочего класса в буржуазную цивилизацию, сменилась циклической исторической динамикой вызова-ответа. Разумеется, повинен в этом не только марксизм; решающую роль здесь играла подтверждаемость или неподтверждаемость мрачной классовой апокалиптики в реальном опыте пролетариев, что в первую очередь зависело от стратегии правящих верхов, их мудрости и готовности к своевременным компромиссам.
На наших глазах история совершила полный круг: фаза марксистского исторического вызова, завершившаяся расколом мира на "два лагеря", сменилась фазой либерального ответа, завершившейся однополярным миром во главе с буржуазной Америкой. Нам здесь важно понять роль веберианства (учения М. Вебера), в чем-то поразительно симметричную роли, какую играл марксизм в фазе пролетарского исторического вызова. Тот тип самосознания, который получил современный Запад под влиянием "веберовского ренессанса", в ряде ключевых моментов поразительно соответствует самосознанию, полученному народами, принадлежавшими к социалистическому лагерю, под влиянием идеологии марксизма.
Слишком многие из парадоксов марксистского пролетария наследует современный веберовский буржуа-собственник. В некоторых отношениях он находится не в меньшей оппозиции по отношению к цивилизованной истории человечества, к социальным институтам, достижениям морали и культуры, чем великий изгой марксизма — революционный пролетарий. Подобно тому как революционный пролетариат бракует все виды инициативы, связанные с возможностями инидивидуального приспособления к буржуазной цивилизации с индивидуалистической "моралью успеха", веберовский буржуазный индивидуалист решительно бракует все виды социальной защиты и коллективных прорывов в лучшее будущее.
Не менее многозначительно совпадение К. Маркса и М. Вебера в трактовке отношения излюбленных ими исторических персонажей (пролетария у одного, буржуа-протестанта у другого) ко всему тому, что можно назвать цивилизованной надстройкой — науке, культуре, образованию, политике и т. п. Как мы помним, марксистский пролетарий ничего не занимал у враждебной ему буржуазной цивилизации по этой части. Ему органически чужды буржуазная наука, культура и образованность, он не верит в возможности буржуазной политики, не доверяет буржуазной морали. Словом, в известном смысле он являет собой радикалированную версию тургеневского Базарова — законченного материалистического "нигилиста", ставящего ремесло сапожника выше всех достижений поэтической классики. Почему-то никто с этой точки зрения не всматривался в черты веберовского буржуа-протестанта. А ведь его "культурная революция" в этом отношении сродни пролетарской: она решительно изгнала со своего протестантского Севера всех мастеров слова и художественного образа, весь "культурный авангард", живущий "надстройкой". Буржуа-протестант потому совершил свой эпохальный экономический переворот, положивший начало капиталистической эре, что, во-первых, освободил предпринимательскую активность от всяких чужеродных примесей, всякого культурно-интеллектуального "шума", а во-вторых, снабдил эту активность религиозной энергетикой, ранее находящейся по ту сторону предпринимательского дела.
Сакрализация предпринимательства, истолкованного как главное свидетельство Божьей избранности, с одной стороны, освобождение от всяких культурных и моральных помех, с другой, — вот чем в конечном счете ознаменовалась Реформация, если следовать веберовской логике. Не интеллектуализация, не повышение культурной восприимчивости, а напротив, предельное упрощение "экономического человека", ставшего нетерпимым фанатиком своего дела — вот парадоксальное достижение протестантской эпохи. Подобно тому как для марксистов новый человек пролетарской эры — это персонаж, чуждый всякой буржуазной "эклектике", интеллигентским сомнениям и размягчающим соображениям старой гуманистической морали, для веберианцев новый буржуа протестантской выучки чужд всяким искушениям щадящего гуманизма, социальной сострадательности, терпимого отношения к отлынивающим от "единственно настоящего" дела. Веберовский тип предпринимателя-аскета отличается точь-в-точь такой же классовой нетерпимостью к предпринимательски незадачливым и неспособным дезертирам буржуазного экономизма, какую марксистский идейный пролетарий выказывает к носителям буржуазных пережитков.
Редукционизм веберовской методологии проявляется в том, что она не столько объясняет нам, что же именно, в позитивном смысле, приобрел предприниматель-аскет, сколько то, от чего, от каких помех и нагрузок культуры он освободился. Веберовский буржуа-протестант стал в позицию последовательно враждебного отношения ко всему мешающему "делу спасения", а таким делом и было признано "самоистязательное" предпринимательство. Для Маркса буржуа выступает как паразитирующий гедонист, истязающий заключенного в промышленное гетто рабочего. Для Вебера буржуа-протестант в первую очередь истязает самого себя, не давая расслабиться и отвлечься на зов семьи, дружества, культурной любознательности и других празднеств греховного человеческого духа. Ревизия, которой подвергает цивилизацию буржуа-протестант, безжалостно изгоняя все факультативные, посторонние предпринимательскому "экономикоцентризму" занятия, по своей классовой радикальности и непримиримости ничем не уступает пролетарской ревизии, изгоняющей дух индивидуалистического вольно- и себялюбия из всех общественных сфер. Протестантская апологетика индивидуалистического предпринимательства ничем не уступает пролетарской апологетике физического труда, ставящей этот труд в по сути враждебное отношение к более рафинированным видам человеческой деятельности.
Нам важно заново осмыслить эти особенности и изъяны протестантского сознания, потому что превращенные формы этого сознания сегодня оказались институционально закреплены в виде модели, навязываемой как обязательный мировой эталон. Протестант не верит в кумулятивные общественные процессы, закрепленные в коллективном опыте и институтах. Он полагает, что все, что сделано до него и отражено в зримых формах коллективного опыта, никак не относится к делам нашего личного спасения. Деятельность индивидуального спасения каждому предстоит осуществлять заново, как бы на пустом месте — один на один с Богом. Этот принцип непосредственного — минуя всякий коллективный опыт и закрепленные коллективные достижения — отношения личности к Богу имеет свои достоинства. Но о достоинствах уже достаточно писалось — апологетика протестантизма как одного из "трех источников" нынешнего "великого учения" (два вторых — американизм и иудаизм) сегодня составляет обязательное кредо новой либеральной веры. Нам пора обратить внимание на изъяны протестантского типа личности. От нее сегодня исходит не меньший вызов всем сложившимся социальным установлениям и консенсусам цивилизации, чем некогда исходил от непримиримого классового борца пролетарско-марксистской выучки.
Протестант дважды оспаривает цивилизацию. Во-первых, он оспаривает ее с социальной стороны, отказываясь от общепринятой людской солидарности, в особенности — от сострадательной солидарности с бедными и неприспособленными. В этом смысле он не просто индивидуалист, но индивидуалист с расистским уклоном, отказывающий в человеческом достоинстве всем тем, кто оказался в роли неудачника. Такая установка не только представляет вызов христианской моральной традиции, но вызов социуму вообще, ибо нормальная социальная жизнь в значительной мере основывается на готовности к социальному сплочению и спонтанной солидарности. Протестант же вместо идеала христианского братства фактически исповедует идеал тайного избранничества. Это с его "легкой руки" все нынешние приватизаторы, незаконно воспользовавшиеся унаследованными номенклатурными привилегиями, автоматически зачисляют себя в касту избранных. Во-вторых, протестант оспаривает цивилизацию как систему коллективного интеллектуального накопления. Всем достижениям науки, культуры, образования он противопоставляет свой индивидуальный здравый смысл.
Это противопоставление имеет прямое отношение к судьбам индуст-риального и постиндустриального общества в нынешнюю "рыночную" эпоху. Экономический ареал протестанта-индивидуалиста — сфера частного бизнеса, в центре которой стоит самодостаточный хозяин. Как известно, миф о суверенном частном собственнике, противостоящем "большому государству", "большим корпорациям" и "большой науке", воплощающим коллективно-бюрократический разум, является основанием "американского мифа". Подобно тому как протестант в душеспасительных практиках остается один на один с Богом, минуя посредничество церкви как института, протестант-предприниматель ощущает себя находящимся в ситуации один на один с рынком (то есть с волей потребителя), минуя посредничество хитроумных менеджеров, научных консультантов и других "яйцеголовых профессионалов". Подобно тому как Бог отменяет все видимые церковные иерархии, интересуясь только душой верующего, рынок в протестантской картине мира отменяет все интеллектуальные, научно-технические и организационные достижения цивилизации, оценивая только качество индивидуальной предпринимательской инициативы, самодостаточной в конечном счете. Словом, подобно тому как вульгарный марксизм приписывал находящемуся в самом конце длинной технологической цепочки рабочему исключительную роль производителя материальных благ, игнорируя стоящую за этим производителем мощь науки и Просвещения, "рыночный протестантизм" приписывает предпринимательской инициативе единственную производительную роль.
Проницательные аналитики, такие как Й. Шумпетер, давно уже отмечали конфликт между двумя ипостасями Запада: индустриальным обществом и рыночным обществом. Но только сегодня этот конфликт достиг такой остроты, что "рыночное общество" на наших глазах уничтожает достижения индустриального и постиндустриального общества (деиндустриализация стран, подвергшихся рыночным реформам). Такой конфликт представляет собой не случайный казус нашего времени и не экзотическую особенность капитализма постсоветского типа. Он заложен в самом протестантском архетипе религиозного индивидуалиста, убежденного в том, что коллективных форм спасения, равно как и коллективных достижений на этом пути, не существует. Воспроизводящий эти архетипы предприниматель-рыночник склонен выставлять за скобки коллективные достижения социального и интеллектуального прогресса, полагаясь исключительно на свою индивидуалистическую инициативу. Архетипическая установка мерить дела спасения зримыми успехами земного толка приводит к своеобразному экономическому редукционизму: экономический успех автоматически здесь все оправдывает, экономический неуспех — все дискредитирует.
Христианин — католик или православный — нимало не удивится тому, что великий ученый, писатель, художник умер в бедности: в новозаветной картине мира нет и не может быть никакого прямого соответствия между творческой подлинностью и материальным успехом. Напротив, протестантская архетипическая установка ставит под подозрение любые социальные и интеллектуальные достижения, если им не суждено было конвертироваться в зримую материальную прибыль. Добро бы речь в данном случае шла об особенностях восприятия, не претендующего на всеобщность и обязательность. Но на деле протестантское отрицание всех надындивидуалистических, равно как и надэкономических, форм человеческой деятельности обретает характер императива, навязанного всем. Наш протестант-отрицатель не довольствуется тем, что у него есть своя социальная ниша, в которой он успешно задает тон, и свой геополитический ареал, где ему дано выступать в роли законодателя и учителя жизни. Нет, его специфический темперамент влечет его к роли всемирного революционера, переиначивающего жизнь всего человечества на началах, кажущихся ему единственно правильными. Он с не меньшим пылом спорит с цивилизацией, чем пролетарские сторонники "перманентной революции".
Нужно прямо сказать: сегодня науке, культуре, Просвещению угрожают не какие-то мифические традиционалисты, окопавшиеся на периферии демократического мира, в "странах-изгоях", а бравый протестант, отрицающий значение социальных и интеллектуальных обретений цивилизации, если им не сопутствуют прямые материальные обретения. В свое время красные комиссары преследовали культуру в ее рафинированных формах за ее неспособность служить непосредственно классовому интересу. Точно так же они преследовали "общечеловеческую" мораль за то, что она мешает проводить безжалостную классовую линию и размягчает классовые чувства. Цивилизации, и в первую очередь русской цивилизации, понадобилось несколько десятков лет, для того чтобы как-то окультурить "классового" нигилиста, привив ему широту цивилизованного видения, способность к социальной интеграции и гражданскому консенсусу.
Случилось так, что пролетарская революция, разрушив былые социальные перегородки — создав новое массовое общество, — поставила это общество на единый коллективный эскалатор Просвещения. С одной стороны, этот эскалатор вел представителей низов к новым социальным статусам, с другой — к новым вершинам культуры. Россия на глазах у всего мира становилась развитым индустриальным обществом, имеющим мировой кругозор и мировые амбиции. Может быть, здесь лежит еще один тайный источник современной западной неприязни к Просвещению? Позиция избранничества, занятая западным человеком и усиленная мотивами протестантизма, перечеркивалась демократическим универсализмом Просвещения, способного на глазах у всех превращать худших в лучших, отсталых в передовых. Словом, Просвещение представляло собой систему, работающую по новозаветному канону: в делах социального возвышения-спасения нет ни эллина, ни иудея.
Сегодняшняя трагедия Просвещения, демонтируемого руками новых избранных, вероятно, объясняется сочетанием двух мотивов победившего Запада: мотивом старого протестантского подозрения к системам коллективного спасения и мотивом геополитическим — стремлением сузить число "прометеевых" претендентов на дефицитные ресурсы планеты. Если бы имел место только последний мотив, то общая трагедия Просвещения не случилась бы — возобладали бы двойные стандарты, когда просвещенческие механизмы, демонтируемые в пространстве не-Запада, напротив, укреплялись бы на самом Западе. Но сегодня мы уже видим другое. На Западе вместо нигилиста-пролетария вовсю орудует протестантский нигилист, готовый срыть, искоренить всю культурную избыточность, прямо не подключенную к росту рыночных дивидендов.
Такие походы против того, что уже оказалось в общем ведении и получило статус общепризнанности, требуют гигантских кампаний дискредитации. Для того чтобы демонтировать систему демократического Просвещения, необходимо дискредитировать и ее активных носителей, и ее наиболее заинтересованных социальных пользователей. На этом основании Просвещению противопоставили естественный рыночный отбор, а демократически доступную систему образования, социального страхования и другие способы расширенного воспроизводства "человеческого фактора цивилизации" объявили противоестественными — мешающими здоровому отбору.
Мало кто задумывается над тем, что неукоснительно следует из логики избранничества. Между тем избранничество есть позиция, более последовательно исключающая демократию, чем пресловутые традиционализм, авторитаризм и тоталитаризм, вместе взятые. Демократия есть система, альтернативная избранничеству: она требует универсальной доступности того, что недемократические системы склонны зарезервировать за немногими. Протестантизм как один из основных источников "великого учения" отличается ярко выраженным архетипом избранничества и в этом качестве, несомненно, противостоит демократии с ее универсалистскими презумпциями.
Избранные не любят демократии, ибо она перечеркивает их исключитель-ный статус. Не случайно "новые демократические элиты" в посткоммунисти-ческом пространстве, заполучившие бывшую госсобственность на основании прежних номенклатурных привилегий, так недвусмысленно отвергли все промежуточные позиции "социал-демократизма", прямо ударившись в новые правые крайности. Им выгодно представить дело так, что сама по себе их нынешняя позиция монопольных хозяев и владельцев собственности автоматически свидетельствует об их избранническом достоинстве. Если Просвещение ведет свою логическую цепь от образовательных успехов личности к ее более высокому социальному статусу, то логика избранничества обратная: она оправдывает все узурпации избранных самим фактом того, что им удалось столь многое заполучить. Логика избранничества оказывается комплиментарной в отношении номенклатурных узурпаторов собственности, с подозрительной настойчивостью говорящих о "не том", "не таком" народе, с которым целесообразно было бы поделиться собственностью. Таким образом, идеология избранничества роднит геополитических узурпаторов богатств планеты, представленных "победителями" в холодной войне, с внутренними узурпаторами собственности "реформируемых" стран, не стесняющимися выступать в качестве пятой колонны атлантизма. Те и другие не просто лишают "периферию", национальную и глобальную, материальных ресурсов роста, они демонтируют систему Просвещения, идеологически заподозренную в том, что она служит "демократии равенства" и мешает развитию "демократии свободы".
Католический ЮГ
против протестантского Севера
Диагноз внутреннего состояния западной цивилизации можно поставить исходя из логики конфликта между рынком и Просвещением, о чем подробно говорилось в предыдущей статье. Протестантский Север — это позиция рыночного экстремизма, несовместимого с универсалиями Просвещения. С этой точки зрения католический Юг Европы может заново реабилитировать сам себя, только активизируясь в роли защитника демократического Просвещения. Любая оппозиция протестантскому Северу с других позиций — национальной, региональной самобытности, автономизма, самоопределения и т. п. — не избегнет упреков в традиционализме и не будет удостоена легитимации в глазах мирового общественного мнения. Сегодня, когда атлантический Север ввязался в безумную американскую "антитеррористическую операцию", на самом деле являющуюся узурпаторской попыткой богатых присвоить себе все ресурсы планеты, католическому Югу Европы в самый раз пристало дистанцироваться от нового империалистического расизма "избранных", не теряя одновременно своей приверженности ценностям демократического модерна.
Позиция Просвещения, в противовес позиции рыночного редукционизма, оставляющего за бортом культуру, воспроизводит логику давнего противо-стояния континентального рационализма английскому эмпиризму и прагматизму, трансцендентального субъекта немецкой классической философии, ориентированного на универсалии культуры, эмпирическому, "чувственному субъекту", ориентированному на непосредственные потребительские блага. Словом, старые контроверзы континентального рационализма с англо-американским эмпиризмом и прагматизмом сегодня наполняются непосредственным геополитическим содержанием. Англо-американская "чувственная" (по П. Сорокину) культура — это культура устного жаргона, оторванная от великой письменной традиции и античного классического наследия, олицетворяемого греческим логосом. Нынешняя англо-американская культура коротких мыслей и фраз, инфантильных идеом, выражающих ненасытное потребительское "хочу", воодушевлена мифом короткого, "игрового" пути к успеху, минуя методические усилия Просвещения. Но культуры, которым пора вспомнить свое первородство в качестве носителей великих письменных традиций Средиземноморья, знают, что Просвещение — это их собственный, узаконенный цивилизационной традицией греко-римского мира путь из прошлого в современность, из неудовлетворительного, недемократического состояния в более удовлетворительное и соответствующее массовым демократическим ожиданиям. Пусть протестанты все более откровенно заявляют о своем сходстве с иудаизмом, с традицией ветхозаветного избранничества, знающего только беспощадного Бога-Отца, от которого исходит Закон, но не знающего человеколюбивого Бога-Сына, от которого исходит Благодать.
Европейским католикам, не говоря уж о православных, тем более пристало заявить о своей сознательной ориентации на новозаветную традицию, от которой исходят императивы общечеловечности, связанные с принципом единой общеисторической судьбы всех людей Земли. Чем в большей степени протестантский Север ставит себя в позицию избранного меньшинства, откровенно противостоящего большинству человечества, тем более настоятельно необходимо для католического Юга и православного Востока продемонстрировать позицию христианского универсализма, никого заранее не исключающего из ряда призванных и достойных спасения. У католической Европы появляется новый шанс выйти из "привилегированного гетто", куда хотят поместить весь Запад атлантические наследники "принципа избранничества", и заново подтвердить свою солидарность с людьми других культурных ареалов, сегодня образующих гонимое большинство человечества. Атлантисты скажут, что континентальные "диссиденты" Запада раскалывают его единство; сторонники христианского и просвещенческого универсализма в ответ на это могут заявить, что они защищают Запад, спасая его пошатнувшуюся репутацию в мире.
Атлантическая модель послевоенного европейского строительства привязывала Западную Европу к англо-американскому миру, одновременно отрывая ее от восточно-христианского, арабо-мусульманского и других культурных миров. По всей видимости, Западной Европе предстоит реанимировать более древнюю средиземноморскую модель жизнестроительства, более открытую незападным культурным мирам. Самое многозначительное состоит в том, что это обращение к средиземноморской памяти не только не ослабляет европейские интенции Просвещения, но, напротив, усиливает их, ибо наиболее агрессивными оппонентами Просвещения ныне являются не западные "традиционалисты", а "чикагские мальчики", адепты атлантизма и безграничного "рыночничества".
Средиземноморский "мимезис" (припоминание корней) Европы, направленность ее взгляда на Юг не являются какой-то контркультурной стилизацией, в духе "опыта Сартра", в свое время солидаризировавшегося с культурными погромщиками хунвейбинами. Обращение европейской культурной памяти на средиземноморский Юг — это припоминание Александрии, в которой восточная и западная патристика еще совместно воздвигали свод великой христианской культуры, опираясь на общее греческое наследие. Такое обращение к общим истокам реактивирует память об универсалиях вместо той опасной игры в культурное и геополитическое сектантство, которой ныне предался североатлантический мир. По моему глубокому убеждению, у Европы сегодня нет других путей в действительно "открытое общество", противостоящее установкам расизма и избранничества, кроме этой внутренней переориентации сознания с атлантической на средиземноморскую идентичность. Первая в значительной мере искусственна, она диктуется противостояниями холодной войны и интересами Америки, вторая — естественна, имманентна внутренней логике европейской культуры.
Я продолжаю верить в жизнеспособность Европы, подкрепляемую европейским плюрализмом и открытостью качественно иному будущему. Идея Европы — не статичная, как это постулируется в рамках концепций "плюрализма цивилизаций", "морфологии культур" и геополитики. Открытость Европы будущему определяется ее способностью к глубокой внутренней реконструкции, связанной с глобальными вызовами XXI века. Америка, ставшая националистической сверхдержавой, исповедующей принцип "идейно-политической монолитности", к подобным реконструкциям сегодня неспособна. Реконструироваться ей предстоит уже после национального банкротства, как это случилось в свое время с нацистской Германией. Что касается континентальной Европы, то ее реконструкция, подталкиваемая предсказуемыми последствиями мировой американской авантюры и опасениями тотальной катастрофы, будет осуществляться путем ротации некоторых глубинных идей.
Во-первых, это континентальная идея. Атлантический Запад мог временно игнорировать тот факт, что континентальная европейская его часть представляет западную часть Евразии, со многими вытекающими отсюда последствиями. Атлантический сепаратизм — дистанцирование Запада от остального человечества — станет гораздо менее убедителен для европейцев, как только в их сознании актуализируется идея континента. Во-вторых, это дихотомия "протестантский Север — средиземноморский (шире, чем просто католический) Юг". Север сегодня попал в ловушку опаснейшего идейного тупика, связанную с деструктивным синтезом принципа избранничества и "рыночной" доминанты. В протестантизме, как это отмечалось уже М. Вебером, идея избранничества подменяет новозаветную идею христианского братства и человеколюбия. В этом отношении протестантизм — возвратное движение от Нового к Ветхому завету, к картине мира с центром в лице "избранного народа", претендующего на исключительные права.
Этот же синтез протестантизма с иудаизмом просматривается в рамках другой, "рыночной" доминанты. Вовсе не случайно новейшая "рыночная революция" ознаменовалась необычайной активизацией еврейства. Я вовсе не хочу сказать, что древнее занятие ростовщиков и менял предопределяет еврейскую идентичность изначально и на все века. Напротив, в этом отношении еврейство отличается многозначительной изменчивостью. Первая половина XX века характеризовалась преобладанием тираноборческого импульса — идентификации еврейства как левой оппозиции буржуазному обществу. Затем еврейство постепенно меняет имидж, осваиваясь в роли "нового класса интеллектуалов" — организаторов постиндустриального общества, в центре которого будет стоять уже не промышленное предприятие, а университет. И, наконец, последнее превращение еврейства — "рыночное" — ростовщическое, связанное с новой экспансией финансового капитала и отступлением капитализма "веберовского" типа перед традиционным спекулятивно-ростовщическим капитализмом.
В лице рыночной идеи еврейский нигилистический темперамент — стремление потрясти всю структуру "профанного" иноязычного мира и опустошить его алтари — получил новое поле действия. Если в начале XX века еврейство отрицало цивилизацию во имя пролетарской перспективы, то теперь оно отрицает ее во имя рыночной перспективы. "Рыночный" нигилизм, чреватый отрицанием всех человеческих связей, подрывом семьи, церкви, армии, науки и культуры, сродни былому "пролетарскому" нигилизму, в свое время радикализированному революционным еврейством. Словом, идея отрицания профанного мира, в котором "слишком много не-евреев", сохраняется, тогда как формы отрицания могут неузнаваемо меняться. Этот деструктивный синтез избранничества, возрождающего расистское отношение к "неизбранным", и "рыночности", понятой как нигилистическое "опускание" всей культуры возвышенного, сегодня воплощает Америка как нигилистическая сверхдержава, противостоящая всему миру.
Ясно, что перед лицом этого приглашения в бездну Европа не может продолжать сохранять вид, будто ничего не случилось. Идейно-политическая реконструкция Европы, воодушевленная потребностью размежевания с глобальной американской авантюрой, несомненно, будет связана с новой активизацией по меньшей мере трех идей. В первую очередь речь идет о социальной идее. Социальная идея солидарности и гражданского консенсуса на основе признания законных прав менее влиятельных и обеспеченных групп общества, несомненно, противостоит североатлантической (иудео-протестантской) идее избранничества, взятой на вооружение новым "властелином мира". Социальная идея не только способна консолидировать опасно поляризирующиеся общества Европы изнутри, но и повысить их открытость диалогу с Востоком и Югом. Вторая из идей, входящих в новый альтернативный синтез континентальной Европы — это идея постиндустриального общеста как посткапиталистического и "постэкономического". Речь идет о возрождении модели, активно осваиваемой общественностью развитых стран, начиная с рубежа 50—60-х годов XX века. В рамках этой модели "постэкономическая" мотивация качества жизни доминировала над материально-экономической мотивацией уровня жизни, духовное производство — над материальным, творческий класс интеллектуалов — активистов НТР — над старым классом буржуазных предпринимателей. Указанная модель в 60—70-х годах прошлого века отражала творческую самокритику западной цивилизации и обнадеживала старых и новых левых во всем остальном мире. Сегодня Европе предстоит обновить эту модель, мотивационно усиленную ввиду агрессивных поползновений новых "рыночников", отвергших идею постиндустриального общества интеллектуалов во имя реставрации старого буржуазного общества во главе с индивидуалистическим скопидомом-накопителем.
Правда, еврейские интеллектуалы — перебежчики из левого лагеря в правый — демонстрируют желание похитить у антибуржуазной оппозиции постиндустриальную идею, придав ей целиком финансово-спекулятивное содержание. Мне уже приходилось писать об этом*, поэтому ограничусь лишь одним уточнением. Если прежняя постиндустриальная идея связана была с миграцией наиболее квалифицированных профессиональных групп из сферы материального производства в сферу духовного как источника качественных сдвигов и новаций, то новая постиндустриальная идея "рыночников" означает миграцию из сферы продуктивной экономики в сферу спекулятивно-ростовщических игр финансового капитала и других держателей всякого рода "паразитарных рент". Вряд ли в таком "постиндустриальном" типе валютного спекулянта и "финансового игрока" интеллектуальная среда эпохи НТР смогла бы узнать себя. Мы имеем здесь дело с подменами и подтасовками, призванными увести общественность от сознания опасного провала цивилизации в новое, криминально-спекулятивное, "пиратское" варварство.
Но для возрождения постиндустриальной идеи в ее подлинном качестве сегодня уже мало одного только потенциала Европы. Европа дала "фаустовскую" концепцию науки, связанную с односторонним проектом силового покорения природы. Действительно современная коэволюционная стратегия, связанная с принципом устойчивости, определится на основе интеграции знания о природных геобиоценозах в контекст научно-технического преобразующего знания. И здесь важен диалог со старыми цивилизациями Востока. Большие интеллектуальные традиции незападных цивилизаций включают не только идеи, способствующие формированию новой экологической этики, но и ряд конструктивных принципов неразрушительного действия, которые необходимо эксплицировать на языке европейского логоса. Соответствующие идеи и принципы сохранены в традициях православия ("христианский материализм" которого отмечен, в частности, С. Булгаковым), буддизма, даосизма. Глядя из европейского Средиземноморья, эти перспективы других культурных миров можно при старании увидеть. Глядя из "Северной Атлантики", знающей Восток только в качестве колонизированной и бесправной периферии мира, ничего подобного увидеть нельзя.
Третьей из идей, ложащихся в основу грядущей реконструкции Европы, является идея диалога культур. Причем, как отмечалось ранее, это уже не только культурологическая, но и социально-политическая и даже административно-государственная идея для Европы, большинство обществ которой стремительно становятся мультикультурными. Европейцам, дистанцирую-щимся от американской идеи мировой диктатуры богатых (пиночетовский вариант в глобальном исполнении), предстоит освоить альтернативную идею нового социального и культурного консенсуса, на котором только и смогут выстоять новые смешанные общества континентальной Европы, все сильнее разбавляемые "цветным элементом" мусульманского юга. В первую очередь предстоит осуществить социальную реабилитацию низовых профессий, которых стал чураться обычный европеец. Ныне действует помноженный эффект их социальной дискредитации: тот факт, что они непрестижны, не вписываются в новейшую "революцию притязаний", усугубляется их новой "пятнающей" связью с пришлым, эмигрантским элементом. Реабилитировать предстоит и то и другое: и цветных как цветных, и цветных как носителей социальной поденщины.
Как известно, наиболее успешный проект реабилитации социального низа в свое время предложили коммунисты: они наделили изгойское четвертое сословие мессианскими полномочиями в рамках большой формационной истории. В какой мере традиция еврокоммунизма сохраняет восприимчивость к формационным предчувствиям нового мира, связанного с миссией нового, "смешанного" пролетариата — вопрос, требующий специальных социологических изысканий. Но сегодня на наших глазах рождается новый еврокоммунизм, связанный с массовой политической реакцией на разрушительные "реформы" и "шокотерапию" в странах Восточной Европы.
Постсоциалистической Европе, ушедшей с Востока на Запад, ни в коем случае не суждено быть "центристско-демократической" в новолиберальном смысле. Часть этого ареала, в частности прибалтийские республики, станет осваивать правонационалистическую модель, известную по довоенному опыту. Как тогда, так и теперь связывание своей судьбы с агрессором, несущим "новый порядок", толкает к милитаризму и фашизму. Юго-Восточная Европа, напротив, станет осваивать посткоммунистическую "левую идею", связанную с реабилитацией труда и трудящихся, возрождением социального государства и другими принципами, оппонирующими "новой рыночной идее".
И в этом отношении все будет толкать Юго-Восточную Европу к Средиземноморью, а не к Атлантике. Это вчера, на рубеже 80 — 90-х годов, когда Запад еще не был расколот глобальной американской авантюрой, "вхождение в Европу" выглядело как интеграция в атлантизм. Сегодня положение круто меняется. Коммунисты новой Восточной Европы, вчера еще не имевшие самостоятельного геополитического компаса, сегодня могут себя идентифицировать не только по идейно-политическим, но и по геополитическому признаку: как сторонники не Европы атлантистов, а средиземноморской Европы, более открытой и Евразии, и Ближнему Востоку, и Индии. В противовес атлантическим глобалистам, ввязавшимся в мировую гражданскую войну новых богатых с бедными, коммунисты и другие носители "левой идеи" в Европе могут идентифицировать себя как интернационалисты — представители "интернационала потерпевших". Весьма вероятно, что в противовес атлантическому "Западу" консолидируется "Европа левых сил", благоприятствующая ускоренной ротации правящих коалиций в духе левокоммунистического реванша. Этой давно назревшей ротации недавно мешала ассоциация коммунизма с "русским фактором" и "восточной угрозой". Теперь ничего подобного нет; напротив, данная ротация во внешнеполитическом смысле может восприниматься, по меньшей мере, как позиция спасительного нейтралитета Европы в войне, развязанной Америкой.
Словом, если прежнее размежевание Европы шло по "меридианному" признаку, указывающему на противостояние Запада и Востока, то теперь оно пойдет по "широтному" принципу, связанному с размежеванием "Старой Европы" от "новых" авантюристов атлантизма. Ясно, что такое размежевание легче будет даваться тем, кто ассоциирует себя не с глобальным наступлением новых богатых (у тех геополитический лидер определился вполне), а с самозащитой бедных. Это, впрочем, не исключает того, что националистичес-кие правые смогут сыграть свою роль европейских оппонентов атлантизма; но в целом вектор нового внутризападного размежевания будет определяться обновленной левой и даже коммунистической идеей.
В этом смысле феномен старого западничества в Восточной Европе близится к концу. С одной стороны, на западнических эпигонов, давно мечтающих о "возвращении в Европу", должно повлиять новое размежевание европеизма и атлантизма на самом Западе. С другой — Европа левых, переориентирующаяся на социальную идею и идею солидарности с гонимыми мира сего, будет куда менее склонной поощрять "антиазиатский" снобизм бывших номенклатурных элит, сделавших свой поворот "на Запад" за спиной собственных народов, заново ограбленных и обездоленных.
Повторяю: не будь новой мировой войны, Запад еще долгое время пребывал бы целым, более или менее разделявшим идею атлантической солидарности перед лицом Азии. Но развязанная американцами мировая война ужесточает стоящие перед континентальной Европой дилеммы: идентифицировать себя с глобальным реваншем новых богатых, превращающихся в откровенных социал-дарвинистов и расистов, или определиться перед лицом всего мира в менее одиозной роли. Сектанты атлантизма, зараженные комплексом избранничества и противопоставившие себя остальному миру, ведут Европу в тупик, к самоубийству. Поэтому освоение старого средиземноморского опыта диалога мировых культур и конфессий, наложенного на социальную презумпцию сочувствия и солидарности с "нищими духом", является источником альтернативного глобализма европейцев, осознающих необходимость нахождения общего языка с планетарным большинством.
Перед лицом этой новой стратегии позиция некоторых новых государств — сознательных дезертиров Евразии, променявших ее на "вхождение в Европу", выглядит уже совсем не так, как она выглядела в начале 90-х годов. В Европе будут более цениться носители евроазиатского диалога, чем экстремисты размежевания. Моя гипотеза состоит в том, что размежевание с атлантизмом спонтанно ведет к новому доминированию левых в европейской политике, а оно, в свою очередь, облегчает диалог Европы с новыми бедными европейской и мировой периферии.
Новая гражданская война в США:
реванш внутреннего Юга
Север для США — это Канада, откуда вряд ли могут возникнуть особые сюрпризы для развязавшей мировую войну сверхдержавы. В этом смысле прием "деконструкции" системы статус-кво, необходимый при всяком долгосрочном прогнозе, применительно к США связан с учетом "южного фактора". Здесь можно только отделять Мексику, вошедшую в НАФТА, от большинства стран Латинской Америки, олицетворяющей Юг в смысле противостояния богатому и благополучному Северу. Геополитическая ревность богатого северного "гегемона" к возможной самостоятельности тех, кому отведена роль колониально зависимых, привела к тому, что гигантам Южной Америки — Аргентине и Бразилии — так и не дали подняться. США навязали своим вынужденным партнерам такие "реформы", которые по своей разрушительности могут сравниться разве только с "реформами" в России, осуществляемыми по тому же "чикагскому" рецепту радикального монетаризма. Глубокий парадокс истории, возможно, состоит в том, что если бы США проявили больше геополитического и "классового" великодушия и позволили Латинской Америке подняться в экономическом отношении, они бы в большей степени гарантировали свою внутреннюю стабильность. Но ситуация всюду повторяется: разрушительная экспансия богатого Севера оборачивается, быть может, не менее дестабилизирующей демографической экспансией бедного Юга на Север.
Сегодня в США живет несколько миллионов латиноамериканцев, которые, в отличие от негров, не натурализовались ни в социальном, ни в культурном смыслах. Их инфильтрация на Север совпала с затуханием "плавильного котла", подъемом национализма и реабилитацией идеи культурно-цивилизационного многообразия мира. У них меньше всего оснований надеяться, что новые приобретения Америки, получаемые в ходе недавно развязанной мировой войны, станут и их достоянием. Цветные Соединенных Штатов в значительной своей части — это внутренний "Юг", тем более враждебный правящему "Северу", чем больше последний отказывается от социальной идеи в пользу откровенного социал-дарвинизма и расизма. Социал-дарвинизм и расизм — это идеология глобальной гражданской войны новых богатых с бедными, возглавляемой США. Лишившись такой идеологии, "партия богатых" лишится мобилизующей идеи, без которой нельзя вести войну. Но это чревато эффектом бумеранга: американское общество, ставшее не только мультикультурным, но и социально поляризованным как раз по линии этнокультурного размежевания, рискует гражданской войной.
История, осваиваемая на языке метаистории — глубинной гуманитарной памяти, включает много мистического. Мистицизм истории — это, собственно, ее подсознательное, обычно прячущееся от цензуры господствующего идеологизированного сознания и внезапно прорывающееся на поверхность осколочными фрагментами, лишенными явной логической связи. Тот, кто изучал гражданскую войну в США, в которой янки впервые заявил о себе как рыночный нигилист, экспроприатор и "огораживатель", не может избавиться от впечатления неполной, не до конца состоявшейся легитимности Америки как государства. Социальная трещина между олицетворяющим "рыночную идею" Севером США и сохраняющим "внерыночную" идентичность Югом тщательно законопачивалась и замазывалась, но ее присутствие в качестве "следа" (в постмодернистском смысле) — тайного прибежища будущих хаотических сил — не оставляет сомнения. Замечания о таинственной повторяемости истории дважды, о действующем в ней законе отрицания отрицания отражают не только сверхрациональное восприятие истории, противоположное благополучному эволюционизму. В данном случае, применительно к США (равно как и к России), ожидаемый катастрофизм истории выступает как закономерное "психоаналитическое" воспроизводство травмирующего события. Таким травмирующим событием для нации и является гражданская война.
Вопрос о том, изжита или не изжита гражданская война как источник национального травматизма, является, может быть, судьбоносным вопросом государств, переживших гражданскую войну. Она создает феномен однажды расколотой, разбитой конструкции, которую затем склеили заново и даже забыли состав клеящей массы и место склейки. Но достаточно подвергнуть конструкцию неожиданному давлению, как она раскалывается по уже намеченной линии. Гражданская война в США могла бы считаться полностью изжитой, если бы и северяне-янки, и противостоящие им южане равным образом преобразились в ходе последующего диалога. Но в данном случае менялась, как это обычно и водится, только побежденная сторона. Победители-янки, напротив, только утверждались в своем "последовательно рыночном" нигилизме, игнорирующем права культуры и другие гуманитарные императивы социума, желающего быть гармоничным. Нынешняя глобальная война богатых, по собственному почину возглавляемая США, означает вызывающее утрирование тех нигилистических черт американца-янки, которые, собственно, когда-то и сделали гражданскую войну неизбежной и породили глобальный феномен американизма, шокирующий остальных в социальном, культурном и политическом отношениях.
Новая радикализация нигилистического "экономикоцентризма", игнорирующего моральные, культурные, социальные резоны, вступает в вопиющие противоречия с необходимостью нахождения новых интеграционных идей и консенсусов в обществе, становящемся все более мультикультурным и социально неоднородным. Американская партия войны еще, может быть, не знает, что ей, скорее всего, суждено стать и партией гражданской войны. Тем не менее ее политика и идеология стремительно эволюционируют под влиянием милитаристского "ускорения" в направлении, прямо противоположном тому, что необходимо для интеграции гетерогенного общества самой Америки. Сегодня главной технологией социального сплочения, используемой правящей элитой, являются провокации спецслужб, связанные с нагнетанием атмосферы страха и ксенофобии. Мало кто задумывается об эффектах бумеранга: постоянно напоминать населению, растущую долю которого составляют помнящие свои корни цветные, в том числе и мусульмане, что "цивилизованному миру" во главе с Америкой угрожают мусульманские террористы (откуда эта внеправовая привязка уголовщины к религиозному признаку?) — это означает каждый раз демонстрировать позицию белого расизма.
Еще недавно, в рамках социальной и культурной программы "великого общества в Америке", предусматривающей не только "обратную дискриминацию" и квоты в пользу черных, но и многочисленные меры бытовой профилактики белого расизма, был сделан значительный шаг к интеграции черного меньшинства. Сегодня действие этой программы практически нейтрализовано новой программой глобальной войны "цивилизованной Америки" с "нецивилизованной" цветной периферией мира. Америка WASP (белый-англосакс-протестант), спешно вооружающаяся "несокрушимыми аргументами" против цветных изгоев остального мира, не может сохранять внутренний интеграционный потенциал, когда растущая часть ее населения так или иначе идентифицирует себя с этими изгоями. Шаткое равновесие могло бы еще продлиться в ближайшие 20–30 лет, пока демографическая ситуация окончательно не изменилась в сторону численного преобладания цветных. Но "механизм ускорения", связанный с развязанной войной, и таких сроков не оставляет.
Тот факт, что официальная Америка объявила истребительную расовую войну тем, с кем ее собственное цветное население (в особенности из эмигрантов новейшего поколения) имеет все основания себя идентифицировать, прямо указывает на неизбежность воспроизведения феномена, известного из российской истории начала XX века: превращение империалистической войны в войну гражданскую. Надо сказать, события первой мировой войны и поведение России в ней давали куда меньше оснований для такого превращения. Не Россия тогда была агрессором, не она бросила вызов достоинству национальных и расовых меньшинств. Здесь проявилась та особенность массовой психологии эпохи модерна, когда, в силу иссякания запасов традиционного терпения и жертвенности, неудачи внешней войны автоматически вызывают стихийное дезертирство масс и поразительно быстрое превращение верноподданнических чувств в свою противоположность. В случае с современными США, где верхи общества ввергают процветающую страну в опаснейшую мировую авантюру, этот феномен непременно заявит о себе сразу же после первых значительных жертв и неудач. А неудачи и жертвы непременно последуют: потенциал своего сопротивления мировая периферия отнюдь не исчерпала, и настоящая проба сил еще впереди.
Америка как воплощение "технологического общества" легче всего становится жертвой технического мифа, связанного с преувеличением возможностей технического фактора и недооценкой военно-политического значения других, более традиционных факторов, таких как чувство справедливого национального возмущения, бунт оскорбленной справедливости, чувство достоинства. Те, кто направляет Америку в Ирак за нефтью как важнейшим стратегическим ресурсом, вероятно, не понимают, что вызванная этой интервенцией ненависть сотен миллионов арабов к Америке — не меньший стратегический ресурс противоположной направленности. В данном случае старый технический миф (образца технологических и технократических утопий 60-х годов XX века) переплетается с "новым" расовым мифом социал-дарвинистского образца. Превосходство могущественной технической цивилизации над "дотехническими" обществами здесь выступает в сочетании с превосходством "избранного народа", каким стали считать себя американцы, над неадаптированной и "неполноценной" человеческой массой периферии. На основе этого многосоставного комплекса авантюризм американских суперменов возрос до степени, исключающей учет соображений здравого смысла и опыта. Американский "новый мир", воплощающий наступление новой технической и новой расовой среды на среду традиционалистскую, "не имеющую никакого достоинства", в действительности вступает в конфликтные отношения со всем культурным, моральным и историческим опытом человечества. Даром это пройти никак не может. При первых же сбоях и неудачах американского наступления все более значительная часть населения Америки, в первую очередь цветного, реинтерпретирует свою идентичность, почувствовав себя теми самыми "старыми людьми", с которыми правящие супермены страны решили покончить раз и навсегда.
История Америки, по всей видимости, готовит многозначительный инверсионный поворот. В гражданской войне XIX века американский Север выступал под лозунгом борьбы с рабством и расизмом, тогда как Юг отождествлялся с постыдными практиками рабовладения. В той гражданской войне, которая, скорее всего, ожидает Америку в середине XXI века, напротив, именно "Юг" (в географическом и этнокультурном смысле) будет выступать под знаменем гуманистического универсализма, противостоящего расизму янки. "Южане" сыграют роль братского интернационала гонимых, призвание которого — урезонить "нового человека" расизма, ответственного за мировую военную катастрофу, и вернуть Америку в нормальную семью народов. Парадокс истории в том, что симметрично нынешней либеральной программе "возвращения" России в "цивилизованное сообщество" возникнет программа возвращения Америки к цивилизованному существованию, которая станет осуществляться не либералами, а революционерами.
Сейчас невозможно предвидеть, какие конкретные формы обретет грядущая гражданская война в Америке: станут ли "южане" новыми конфедератами, готовыми отделиться от расистов Севера, или выступят в роли преобразователей всего Североамериканского континента на началах идеологии солидаризма и антидарвинизма. Скорее всего, Америке в ходе внутренней войны предстоит столкнуться с антиномией, с какой столкнулась выходящая из гражданской войны Россия в начале 20-х годов XX века. В России, начиная с середины XIX века, стало пробуждаться национальное самосознание окраин, хотя продолжал работать и "плавильный котел" русификации. В борьбе с "господской" Россией большевики решили использовать энергию национального протеста. В результате они построили государство, которое, с одной стороны, самоопределялось по классовому принципу — как диктатура пролетариата, а с другой — по принципу многонациональности — как союз национальных республик. Большевистская "демократия равенства", заслужившая упреки в социальном обезличивании людей, в национальном отношении не была обезличивающей. Советский Союз стал государством, которое одновременно и интегрировало "третий мир", и давало ему новое самосознание, связанное с ощущением "самого передового строя". Распад СССР означал капитуляцию модерна перед этой антиномией: там, где пробудился национализм, стала отступать современность.
В Америке правящий класс разработал стратегию этнического самоопределения людей не на коллективном, а на индивидуальном уровне, превратив этнизм в культурологическую стилизацию индивида. Это осуществимо до тех пор, пока этническая идентичность людей не влечет за собой прямых социальных последствий, связанных с их профессиональными шансами, с вертикальной мобильностью. До начала нынешней мировой войны ситуация в США была в этом отношении отмечена двусмысленностью. С одной стороны, "цветной" опыт и опыт униженности, опыт отставания продолжали фактически совпадать. С другой — все это компенсировалось пропагандистскими ухищрениями в области "стиля жизни": судопроизводство, педагогика, массовая культура и общественная мораль Америки стали демонстративно снисходительными или демонстративно поощрительными в отношении негров. Однако война — слишком серьезное дело, чтобы сохранять доверчивость к такого рода стилизациям. Когда на глазах цветных Америки их страна с расистской бесцеремонностью расправляется с цветными других стран, уничтожает целые народы с воздуха — как непригодную человеческую массу, неизбежно пробуждается уже не стилизованное, а подлинное национальное самосознание, воспринимаемое не как "культурологическая игра", а как судьба.
Ввиду этих причин гражданская война в Америке с большой вероятностью выльется в идейно-политическое, а затем и административно-государственное размежевание штатов, оставшихся прибежищем WASP, и регионов "внутреннего Юга", причем логика политического развития этой конфедерации штатов белого Севера интуитивно просматривается уже сейчас. Политически они будут вести себя наподобие того, как ведет себя официальная Россия в постсоветском пространстве. Расистскую партию войны, скорее всего, сменят либералы-пацифисты с влиятельной еврейской группировкой "горовского" типа (имеется в виду А. Гор — соперник Дж. Буша-младшего на выборах 2000 г.). Эта группировка примется за активное перевоспитание агрессивной "субкультуры" англосаксов на пацифистский, "консенсусный" и эклектически всеядный лад. Иными словами, нынешний "либеральный" опыт "преодоления тоталитаризма" в России будет воспроизведен в новой Северной (сильно поджатой к Канаде) Америке как опыт борьбы с расово окрашенным тоталитаризмом. Это сегодня еврейское лобби в Америке в большинстве своем образует партию войны. Когда наступит час расплаты за эту войну, соответствующие лоббисты найдут свои убедительные аргументы, направленные против культуры англосаксов как опасно конфронтационной, милитаристской и расистской — подлежащей полной реорганизации. Прецедент уже был: еврейские интеллектуалы — создатели проекта "авторитарная личность" — однажды уже обвинили протестантскую культуру в порождении феномена фашизма и даже объявили Лютера "первым фашистом"*.
Афроазиатский "Юг" в новой картине мира
Выше говорилось о реванше "Юга" внутри системы нынешнего "первого мира", охватывающего Западную Европу и Америку. Теперь предстоит оценить основания и последствия той же инверсии в масштабах необъятной мировой периферии, сегодня вобравшей в себя, наряду с "третьим миром", и большую часть "второго мира". Мы не проясним человеческую ситуацию на планете в нынешний поздний час истории, если не сумеем преодолеть те барьеры общественной мысли, которые отчасти стихийно, отчасти намеренно воздвигнуты в виде концепций нового этноцентризма и культурологизма. Если мы по-прежнему станем подменять социальные доминанты "культурно-антропологическими", этноконфессиональными, то вместо единой картины человечества и единой всемирной истории перед нами предстанет мозаика разнородных и разнокачественных "историй", которая методологически и мировоззренчески перечеркивает достижения великого "осевого времени", открывшего Человека в его универсальной духовной сути. Эта мозаика сегодня выгодна любителям подходить к человечеству с двойными стандартами более или менее "доброжелательного" расизма, пытающегося обосновать и оправдать свои деструктивные комплексы и дискриминационные практики.
Главная задача современного человечества, погруженного в пучину новых расовых войн привилегированных с непривилегированными — вскрыть за плюрализмом этносов, культур и религий единство судьбы, единое право всех жить в современности, пользуясь благами модерна и Просвещения. Коренной изъян новой западной программы, предлагаемой человечеству после крушения социализма, состоит в более или менее откровенных двойных стандартах, когда перспективы развития, вместе с его ресурсной базой, остаются за избранными, прошедшими рыночный социал-дарвинистский отбор, а на долю неизбранных остается вечное прозябание в новых глобальных резервациях. Теория цивилизационного и культурного плюрализма здесь оказалась весьма кстати: она придает дискриминационным практикам "нового Запада" видимость естественно-исторической логики, которую никакие "благонамеренные" старания не в силах отменить.
Всем уже ясно, что осажденной "победителями" в холодной войне мировой периферии требуется новое самосознание, но неясно, каким именно оно должно быть. Сегодня в стане новых отверженных самую заметную роль играют борцы с вестернизацией. Бороться с вестернизацией как выражением культурного гегемонизма Запада, отрицающего культурное достоинство не-Запада, необходимо. Но из этого вовсе не следует, что Западу надо оставить монополию на модерн, на Просвещение и развитие. Если Запад нашел в "естественном" рыночном отборе средство утверждения этой своей монополии, то главной мишенью новейшей гуманистической критики, отстаивающей право всех людей на прогресс и развитие, должен стать именно пресловутый "отбор" и "свободный рынок". Новая экономическая наука радикал-либералов рынка прячет в себе старое расистское содержание: она означает легитимацию бесчеловечных "огораживаний", воспроизводящих известные "огораживания" в Англии, но уже в глобальном масштабе. Новые расисты занялись погромом социального государства, морали и культуры, потому что они мешают им проводить свой естественный рыночный отбор невзирая ни на какие человеческие жертвы. Рыночное "гражданское общество", лишенное всяких сдержек и противовесов со стороны инстанций, олицетворяющих социальную коррекцию рынка, является обществом внутреннего расизма — нового апартеида. Снобистское отношение новых либералов к проявлениям "социального патернализма", мешающего "естественному отбору", есть демонстрация расистского стиля в современной западнической культуре, и об этом пора сказать прямо.
Итак, что же предстоит защищать представителям нового Юга, объеди-няющего экспроприированное большинство человечества: свою культурную специфику или универсальные социальные права, которые должны быть обеспечены специфическими средствами, адекватными реальному положению непривилегированных? Что в этом смысле означал бы чаемый народными массами реванш бедного "Юга", реванш Азии, Африки, Латинской Америки? Если мы здесь собьемся на националистический "культуроцентризм" и скажем, что это означает право на особый путь, на культурно-цивилизацион-ную самобытность, мы тем самым окажем двойную услугу новым расистам. С одной стороны, они получат право упрекать нас в "агрессивном традиционализме", перед лицом которого представители "современной цивилизации" имеют право себя защищать, с другой — оправдание своих двойных подходов и стандартов, как якобы и отдающих законную дань этой фатальной специфике.
Номенклатурные приватизаторы в бывших советских республиках сполна учли возможности двойного стандарта. Фактически они проводят свою политику под девизом: нам — собственность, народу — национальная специфика, которой ему предстоит утешаться. Новый национализм, политически эксплуатируемый не только в постсоветском пространстве, но уже в пространстве всей мировой периферии, фактически существует под тем же девизом. Исподтишка "глобализирующиеся" компрадорские элиты присваивают всю собственность, торгуя ею (чаще всего бездарно) с зарубежными центрами, а народам предлагают утешаться спецификой, обретающей значение символического заменителя утраченных социальных возможностей.
В этом плане мне представляется весьма подозрительным факт двусмыс-ленного — в духе тех же двойных стандартов — отношения либерального истеблишмента к феноменам национализма и этноцентризма. В целом националистическая "архаика" отрицается как проявление "агрессивного национализма", но там, где возможно ее использование для подрыва многонациональных государств — актуальных или потенциальных оппонентов американского гегемонизма, — она прямо поощряется идеологически и политически. Националистический сепаратизм в свое время использовался Западом в борьбе против СССР, сегодня он используется против Российской Федерации, Индии, Китая… А вот что касается такого политического понятия, как народ, то здесь дискредитация осуществляется последовательно и неизменно. Понятие "народ" выведено за пределы современной нормативной лексики в качестве совершенно одиозного. Понятно, почему: в этом понятии прямо выпячено социальное содержание, противоположное классовому интересу тех, кто инициировал новейшую гражданскую войну богатых против бедных. И ровно в той мере, в какой это понятие не приемлется новыми хозяевами мира, поставившими себе на службу компрадорски настроенных "индивидуалистов" Евразии, оно подлежит защите, обоснованию и обогащению в качестве ценностной основы политической культуры массового демократического сопротивления.
Вот она, искомая идентичность осажденной и "огораживаемой" народной массы, расширившегося "третьего мира": народ, с акцентом на социальный (классовый) смысл этого понятия. (Я вынужден акцентировать этот нереспектабельный по либеральным меркам смысл, так как понятием "народ" сегодня беззастенчиво клянутся все номенклатурные приватизаторы в бывших советских республиках: они позиционируют себя националистами, чтобы скрыть классовое своекорыстие своих "реформ".) Цвет кожи, разрез глаз и даже культурно-религиозные различия в этом контексте отступают на второй план по сравнению со сходством социального положения жертв глобальных огораживаний. Понятие "народ" ныне глобализируется, выходя за национальные и "цивилизационные" (в смысле "плюрализма цивилизаций") границы. Отныне все непривилегированные народы Азии, Африки, Латинской Америки (равно как и отгораживающейся от атлантизма Европы) имеют весьма веские основания причислять себя к единому народу — общности, осаждаемой теми, кто организовал глобальный крестовый поход ненасытного меньшинства, стремящегося приватизировать все ресурсы планеты. Речь идет о необходимости своевременного освоения таких понятий, которые политически затребованы для глобального народного сопротивления глобализму номенклатурных узурпаторов. Интернационализация богатых, ныне составляющих партию глобальной гражданской войны, идет полным ходом. Бывшей коммунистической и гэбистской номенклатуре советского пространства ни ее происхождение, ни воспитание не помешало найти общий язык с номенклатурой современного Запада, направляющей ход "рыночных реформ" и "модернизации" в странах рухнувшего "второго мира". Непримиримые борцы с "буржуазными пережитками" внезапно превратились в непримиримых к социалистическим "пережиткам" радикалов либерализма, адептов естественного отбора и невмешательства государства в экономическую и социальную жизнь. Они все откровеннее выступают единым фронтом с атлантистами, осуществляющими свою приватизацию не в национальных, а в глобальных масштабах. Под шумок речей о возрождении России (Украины, Польши, Чехии и т. п.) они помогают атлантистам захватывать стратегические позиции и ресурсы "своих" стран, которые они давно уже не считают своими, ибо отечества не имеют. В то же время им выгодно отвлекать народное внимание от социальных проблем, катастрофически обостряющихся по их вине, и переключать на проблемы национальные, на вопросы культурной специфики, разжигать этнические расколы и настроения ксенофобии.
Перед лицом такой стратегии богатых узурпаторов народам разросшейся периферии (центр сжимается, периферия расширяется, что по-своему выражает действие закона концентрации капитала) настоятельно необходимо осознать себя единым народом, имеющим общие социальные интересы и общего классового противника. Впереди у нас — неудержимая экспансия новой социальной идеи, под напором которой вся морфология постмодернистской "телесности", все национальные, расовые, культурно-антропологические различия людей, успевшие стать объектом политической эксплуатации и стилизации пресыщенных, должны раствориться, уйти в тень, на периферию массового сознания. Разве народ России не осознавал, вопреки стараниям компрадорской партии "внутренних атлантистов", что американские бомбардировки Югославии — это удар по нашим общим интересам и позициям? Разве он сегодня не отдает себе отчет в том, что объявленная американская война Ираку — это "урок", преподанный всем сопротивляющимся, это отвоевание очередного плацдарма в глобальном наступлении новых приватизаторов на планету? Следовательно, демократически солидаристское, интернационалистское, классово ориентированное сознание — вот основание новой коллективной идентичности народов, один за другим подвергающихся давлению глобальных экспроприаторов.
У осажденных народов должны сформироваться общая идеология сопротивления и общие средства социальной самозащиты. В рамках такой солидаристской логики прорисовывается образ единой революционно-демократической партии и единого социального "государства бедных", противостоящего "гражданскому обществу" богатых, организуемому на началах социал-дарвинизма. Ясно, что на сегодня и такая партия, и такое государство выглядят пока еще как невидимый "град Китеж" или невидимая церковь, существующие в тайниках народного сознания, но не в действительности. Но мировая история, по меньшей мере со времен явления Христа, организована так, что устойчиво пребывающее в глубинах народного сознания "тайное", содержащее "правду-справедливость", в конечном счете непременно становится явным, наполняется силой и действенностью.
Здесь напрашивается ряд уточнений. Технологии умышленного "этноцентризма" сегодня в основном используются в бывших советских республиках. Национализм этих республик до сих пор активно поощряется Западом, более или менее справедливо полагающим, что он носит антирусский характер (следует ожидать, что при малейшем изменении его вектора — в сторону, например, антиамериканизма, он немедленно попадет под запрет). В России же приватизаторы экспроприируют население "этой" страны не только по материальному, но и по символическому счету: лишая его национальной гордости и национальной идентичности. Это делается потому, что коллективная идентичность народа как субъекта большой истории может стать опорой эффективного сопротивления.
Сегодня оппозиционные западному империалистическому влиянию государства на Востоке проектируются на основе "идеологии национализма". Такая идеология сегодня представляет ловушку для антиатлантической оппозиции хотя бы потому, что заслуживает справедливых упреков в игнорировании новых закономерностей глобального мира. Но в рамках имманентной критики (не со стороны, а с учетом внутренних задач самого сопротивляющегося национализма) следует выделить другое: национализм мешает солидарности осажденных, формированию их совместного интернационального фронта. Другой, не менее существенный изъян национализма — забвение социальной доминанты, подменяемой архаическим этноцентризмом.
Категория "народ" свободна от этих изъянов. Поистине актуальнейшей задачей современной оппозиционной (господствующему либерал-американизму) теории является содержательная разработка этой категории, выявление ее социальных, политических, культурных потенций. Будущая государственность бедных, противостоящая и "пиночетовским" диктатурам богатых, и их социал-дарвинистски ориентированному гражданскому обществу, несомненно явится административно-политической проекцией категории "народ". Ясно, что актуализация этой категории предполагает резкое смещение акцентов с ценностей "формальной демократии", заворожившей сознание новейшего либерального истеблишмента, на реальные социальные ценности, тестированные в массовом опыте повседневности. Умопомрачение сознания, охватившее интеллигенцию и всякого рода "средний класс", поистине достойно удивления. Люди, всерьез утверждающие, что строят "правовое государство", одновременно допускают невыплату законной заработной платы миллионам бесправных тружеников по многу месяцев подряд — и все это умещается в единой либерально-демократической голове, и голова от этого не болит! Население целых стран вернули к социальной ситуации по меньшей мере 200-летней давности — к эпохе работных домов XVIII века, и на этом фоне либеральное "крикливое меньшинство" продолжает твердить об успехе "демократических реформ" и приглашает массы разделить его восторги. Ясно, что речь идет о прямой утрате чувства реальности со стороны тех групп, которые заполучили монополию на решения (что ж в этих условиях они способны решать?!).
Когда-то Р. Арон, мэтр либерализма эпохи холодной войны, написал о марксизме как "опиуме интеллигенции". Сегодня либерализм стал опаснейшим опиумом интеллигенции, уводящим от реальности и прямо подрывающим способность наркотизированного пропагандой сознания замечать грозные социальные проблемы. Ввиду этого категория "народ" как "гештальт", как рамка восприятия социальной действительности является в полном смысле слова спасительной для заплутавшего сознания. Пора прямо заявить, что нынешняя либеральная критика понятия "народ" скрывает социальную и нравственную недобросовестность тех групп, которые решили обустраивать свое благополучие любой ценой, и в первую очередь ценой разрыва всяких общественных обязательств. Ныне требуется новый поворот в общественной теории, связанный с легитимацией категории "народ". В известном смысле эта категория реставрационная — в смысле восстановления веса критериев нравственности и социальной справедливости, отвергнутых адептами нигилистического постмодерна. Но — не только реставрационная. Данная категория, принадлежащая творческой реинтерпретации, способна поднять общественную мысль на высоту современных задач. С одной стороны, эта категория противостоит асоциальному индивидуализму, фактически разрушившему настоящее гражданское общество с социальной кооперацией, солидарностью и самодеятельностью. С другой — она противостоит национализму и этноцентризму, всем неоязыческим уклонам в "кровнородственную телесность", в огораживание большого социального пространства исключительно для соплеменников.
Не только либеральный индивидуализм сегодня препятствует большим совместным инициативам и развитию коммуникативных способностей современного человека. В этом сомнительном деле с ним неявно сотрудничает и его видимый антипод — национализм. Во многих случаях современный национализм представляет собой превращенную форму нигилистического индивидуализма, отказывающегося от всех социальных обязательств и социального видения как такового. Категория "народ" в ее современном применении возвращает нас в картину мира, открытую модерном и Просвещением. Все помнят литературную повесть о "маленьком человеке" из народа, достойном сострадания и сочувствия. Но демократический модерн, взятый в его социально-политическом измерении, не довольствовался традиционным христианским сочувствием. Он предложил способ категориальной организации "маленьких людей", наделения их коллективной социальной волей и коллективным самосознанием. И как только это произошло, "маленькие люди" из объекта господской политики и господской истории стали превращаться в субъектов, кующих собственную судьбу. Так был открыт способ массового социального производства истории — проектирования желаемого будущего!
Нынешнее старательное разложение категории "народ", производимое постмодернистскими "деконструкторами", отнюдь не всем открывает перспективу свободного индивидуалистического самоутверждения. Для большинства оно открывает перспективу нового превращения в беспомощных "маленьких людей", только на этот раз уже не встречающих никакого сочувствия у общественности, прошедшей социал-дарвинистскую, "рыночную" выучку. Категория "народ" способна возвратить "маленьким людям" утерянный рычаг модерна — готовность коллективно объединяться и сорганизовываться для эффективного отпора узурпаторам. Более того, эта категория сообщает "маленькому человеку" способность видеть и узнавать себя в большой "глобальной" истории нашего времени. "Народ" как специфическая координационно-коммуникационная форма позволяет "маленьким людям" различных стран и континентов узнавать свое родство, общность своей судьбы, сходство встающих перед ними задач. "Народ" есть способ глобализации отверженных — превращения их в самосознающую интернациональную общность, способную преодолевать национальные, идеологические, культурные барьеры и сообща отвечать на вызов глобализирующейся элиты, связанной своей круговой порукой.
Говоря откровенно, главным препятствием на пути осознания общности судеб и задач народов Евразии, к которым принадлежит и наш народ, являются не столько барьеры национальной "ментальности", различия культурного словаря и верований, сколько собственно социальный барьер. Русским случается эгоистически интерпретировать этот барьер в терминах своей индустриально-урбанистической развитости: мы, русские, принадлежим к городскому просвещенному обществу, тогда как некий "Восток" или "Юг" — ближнее зарубежье — к аграрной архаике. Украинцы, в свою очередь, склонны выделять себя по надуманному признаку особой "принадлежности к Европе", тогда как в чертах своего бывшего старшего брата разглядывают компрометирующие признаки угро-тюркской "ублюдочности".
Примеры этого рода можно множить. Все они свидетельствуют о неадекватности восприятия народами своего действительного положения. Массовое обыденное сознание оказалось зараженным снобистскими предрассудками, тогда как никакого повода для снобизма у него давно уже нет. Когда народы Евразии оказались покинутыми своими элитами, решившими сепаратно устроиться за их спиной "вполне по-европейски", пространство народного большинства стало на удивление быстро выравниваться по стандартам "третьемировского" "Юга" — это пространство покидаемого модерна, стремительного погружения в допромышленную и допросвещенческую архаику, и скорость этого погружения и сами его формы все более явно выравниваются в масштабах огромной Евразии. Словом, народ — это некая планетарная общность, стремительно выталкиваемая организаторами планетарных огораживаний с развитого "Севера" в нищий и бесправный "Юг". Эта новая, "третьемировская", или "южная", идентичность ныне проступает поверх всех национально-государственных, географических и этноконфессиональных барьеров. Для этой интернациональной общности все либеральные обретения "демократической эпохи", все ликования по поводу "политического плюрализма", "свободы слова" (то есть права журналистов поливать грязью национальную историю и государственность), свободы сексуальных меньшинств и т. п. буквально являются пустым звуком. При ближайшем рассмотрении все эти "права и свободы" оказываются карт-бланшем для разрушителей государственности, морали, культуры как способов самозащиты континента от атлантических агрессоров, требующих "открытого общества", то есть свертывания всякой законной обороны. Народ здесь не найдет для себя никаких новых шансов — напротив, это шансы для своих и чужих узурпаторов всех его былых социальных и государственных завоеваний.
Пространство "Юга", в той мере, в какой оно достигает адекватного уровня самосознания, отторгает все "либеральные ценности" как заведомо социально пустые, оторванные от реального "жизненного мира" простых людей. Но это означает, что данное пространство взыскует империи — в старом, сакрально-мистическом смысле "государства-церкви", имеющего сотериологические полномочия, относящиеся к идее спасения. Что такое идея народного спасения в ситуации глобальной гражданской войны, развязанной интернациональной "империей" богатых против бедных всего мира?
Во-первых, это идея сплочения — интернациональной солидарности гонимых, все более осознающих себя единым народом, осажденным одними и теми же силами мирового зла. Для адептов "морали успеха" референтной группой являются преуспевшие — невзирая на степень их территориальной, профессиональной и социокультурной отдаленности от тех, кому предстоит примерять к себе их "эталонный" образ жизни и систему ценностей. Для народов, кому господа мира сего уже отказали в праве на успех, референтной группой являются наиболее обездоленные и гонимые. Когда мы встречаем этих гонимых, наша интуиция должна подсказывать нам: они — воплощение уготованной нам участи, нашей судьбы. Эта способность идентифицироваться с наиболее униженными и гонимыми — способность, идущая от великой монотеистической традиции и радикально противоположная предвкушениям и вожделениям "вертикальной мобильности", стала совершенно чуждой современному западному сознанию. Но именно на основе этой способности, противоположной индивидуалистической морали успеха, конституируется народ как воскресшая общность нашей эпохи.
Речь идет о векторе сознания, прямо противоположном тому, на что ориентирует современного человека либеральная идеология успеха. Если последняя учит горделивому (или неврастенически-паническому) дистанцированию от тех, от кого исходят "флюиды отверженности", религиозно воспитанное народное восприятие учит узнаванию у них нашей собственной участи: "узри в нем брата своего". Либеральная "школа успеха" учит идентификации, сориентированной на верхние этажи социальной лестницы даже вопреки свидетельствам здравого смысла и опыта. Монотеистическая школа смирения, напротив, формирует в нас способность к подлинной, нестилизованной идентификации с наиболее униженными. (Важно понять, что речь идет не о смирении перед поработителями и растлителями, а о смирении как категории, облегчающей идентификацию с "нищими духом"). Мораль успеха разъединяет, и в этом смысле она действительно "классово чуждая" в двояком отношении: в смысле того, что реалистическую перспективу имеет только применительно к кругу привилегированных, а также в смысле того, что осуществляет выгодное классовому противнику разобщение в рядах угнетенных и униженных.
Словом, наша общая — и тех, кто недавно причислял себя к модерни-зированным нациям, и тех, кто всегда страдал от отсталости, — причисляе-мость к "третьему миру" не есть процедура самоуничижения, связанная с игрой на понижение. Общая "третьемировская" идентичность народов Евразии относится, напротив, к стратегии сопротивления, для которой требуется, чтобы гонимые выступали не менее сплоченно, не менее "глобально", чем гонители. Это, таким образом, есть движение не назад, а вперед, связанное со способностью выдвинуть эффективную демократическую альтернативу "глобализации по-американски".
Во-вторых, идея спасения есть идея человеческого духовного возвы-шения. В эпоху постмодерна произошло странное перевертывание полюсов культуры. Как свидетельствует литературная классика, равно как и исторический опыт, описанный, в частности, в школе "Анналов" (Франция), чувственно полнокровные, живущие земной жизнью типы образца Санчо Пансы относятся к народной культуре. Господская же культура была, выражаясь языком П. Сорокина, скорее идеоциональной, чем чувственной, что, в частности, было заложено программой вытеснения языческих пережитков письменным христианским текстом. "Платонизм" господской культуры, ее тяготение к более или менее абстрактным универсалиям духа, контрастировал с "земными" тяготениями народной культуры, отражающей чувственный опыт бытовой повседневности. Это "разделение труда" отразилось в специфической семантике малой устной (народной) традиции и большой письменной (суперэтнической) традиции, опирающейся на императивы и презумпции монотеизма.
И вот в наше время полюса перевернулись. Верхние слои общества выступили с необычайной культурной инициативой реабилитации телесных практик и последовательной дискредитацией сфер духовно-возвышенного. Последние поставлены под подозрение новой либеральной идеологией в качестве источников опасной пассионарности, нетерпимости, политического утопизма и экстремизма. Создается впечатление, что только вечно жующий и вожделенно взирающий на торговые витрины потребитель — единственно благонамеренный член либерального гражданского общества, неспособный к бунтам и революциям. Великая же письменная культура сегодня находится на классовом подозрении у новых хозяев жизни как "не справившаяся" с задачей усмирения стихий, деидеологизацией и деполитизацией масс. Последним отведена участь самодовольных животных, живущих гедонистическими инстинктами и не задумывающихся о высших смыслах. Сфера высших смыслов демонизирована либералами как источник конфронтационной культуры, повинной во всех революционных и прочих катаклизмах недавно ушедшего века.
Народ в этой ситуации пребывает в большой растерянности. Он привык, что общие духовные смыслы и универсалии, мировоззренческие ценностные ориентации разрабатываются в рамках большой письменной традиции, которой принадлежит не только официальное монотеистическое богословие, но и национальная художественная литература, профессиональное искусство. Народ занимался своим делом — эмпирическими практиками, которые за него некому было осуществлять, — но он при этом никогда не приписывал этим чувственным практикам целиком самодовлеющее значение. Он давно уже понял, что сфера прекрасного и возвышенного выходит за рамки народного фольклора и требует профессиональных усилий специалистов современного духовного производства. И вот внезапно эти самые специалисты объявили себя адептами инстинктивной телесности, необузданной чувственности, самодовлеющей сферы "желания". Причем сфера "телесных практик", попавшая в ведение постмодернистских технологов, немедленно теряет содержащуюся в ней рациональность. Ведь речь идет не о практиках материального производства или быта, в которых чувственный опыт выступает как нечто достаточно дисциплинированное и подчиненное смыслу. Теперь речь идет о том, чтобы "растормозить" инстинкты, иными словами, выпустить на волю таящиеся в чувственности силы хаоса. Чувственность становится орудием сил нигилизма, порученцем ниспровергателей морали, союзником кругов, намеренно играющих на понижение. Это не чувственность как элемент естественной среды или прибежище здравого смысла, страшащегося зауми; это чувственность технологизируемая, взятая напрокат мастерами разрушения и принижения, которые вводят ее в свои выстраиваемые системы дезориентации, деморализации и "пиара".
В условиях такого "предательства духа" со стороны интеллектуалов народу предстоит пережить и переосмыслить многое. Прежде между его сознанием и сферой транслируемых текстов профессиональной духовной культуры если и имелся барьер, то преимущественно количественный. Вкусы широкой публики необходимо было подтягивать до усвоения высокой культуры и подлинного искусства, что прямо предусматривалось программой Просвещения. Но при этом между народом и сферой профессиональной духовной культуры не стоял барьер принципиального ценностного неприятия. Напротив, народ видел в этой культуре присутствие незримой Церкви, несущей миру высшие ценности и в нашу "пострелигиозную" эпоху. Даже в советское время, когда пространство письменного текста было основательно загрязнено насильственным внедрением вымученной "идейности" и пропагандистской трескотни, тем не менее оставались широкие сферы, в которых народное сознание находило не вымученные, а подлинные, искомые им самим смыслы и образы, беспрепятственно себя с ними идентифицируя. Таковы были лучшие образцы советской лирической песни, музыки, литературы, кинематографа. Народ в них видел сублимацию собственного опыта, достигшего рафинированных форм, благонамеренно обработанного в духе принципа "искусство служит народу".
Сегодня мы имеем нечто прямо противоположное. Сегодня не в одной сфере транслируемого профессионального текста народ не находит подтверждения ни своего опыта, ни своих ценностей, ни своих ожиданий. Там примитивная чувственность, которая присутствует в насыщенных порнографией фильмах, в сценах насилия, в бесконечных телебоевиках, разумеется, легкодоступная пониманию для профанного массового сознания, но тем не менее процесс идентификации с нею остается заблокированным. Народ ощущает, что это — не его чувственность, что ему предлагают духовную ценностную капитуляцию, требуют богохульства. Дело в том, что "телесность" сама по себе никогда не может стать народом-субстанцией, скрепленной традицией и общими, не всегда проговоренными смыслами и ценностями. Телесность "номиналистична" и индивидуалистична, она по-животному разъединяет, а не объединяет, и потому всякие капитуляции перед нею, забвение духовных и ценностных приоритетов приводит к превращению народа в толпу одиночек и в конечном счете — в придорожную пыль. Это вполне устраивает тех, кто ведет глобальную гражданскую войну с народами и перечеркивает великий принцип народного суверенитета в политике, в опыте государственного и культурного строительства. Но это не может устраивать сами народы, равно как и тех профессионалов духовного производства, которые осознают, что без народа их деятельность в конечном счете утрачивает всякий смысл, как церковь утрачивает смысл, не имея прихожан. Уже сегодня мы имеем свидетельства неслыханного кризиса духовного производства, связанного с катастрофическим падением тиража серьезных журналов, книг, театральной и кинематографической аудитории. Постмодернистская "телесность" как новое кредо профессионалов духовного производства не расширила, а сузила ареал Слова (с большой буквы), равно как и привела к многозначительному понижению статуса интеллигенции. Уточним понятия: здесь имеется в виду не материальный статус, который может интересовать интеллигенцию в не столько профессиональном, сколько в обыденном житейском смысле, а то, что относится к духовному первородству, к влиянию интеллигентского сословия как несущего отсвет древних функций священства и пророчества.
Выход, по всей видимости, состоит в том, чтобы заново превратить церковь в центральный институт, вокруг которого сосредоточивалось бы профессиональное производство "текстов культуры". Только церковь, прочно связанная с великой монотеистической традицией, может отбить нынешний "реванш телесности" и разнузданной чувственности и спасти человечество от впадения в скотоподобное состояние. И, конечно, при этом речь идет не о многочисленных новых церквях "нетрадиционных" религий, в большинстве которых постмодернистская телесность еще раз торжествует свою победу над духом, а именно о традиционной церкви великих монотеистических религий. Если народно-демократические движения и революции XIX–XX веков протекали как антицерковные, направляемые атеистической интеллигенцией, то глобальные народные движения нового века, несомненно, ознаменуются возвращением к "фундаментализму".
Великая монотеистическая традиция — вот единственная оставшаяся у человечества гарантия грядущего духовного восстановления и возвышения. Ей предстоит выполнить по меньшей мере три задачи. Первая из них — отбить накат вестернизации, грозящий народам осажденного "Юга" полной деморализацией и декультурацией. Компрадорские элиты, взявшиеся реформировать и модернизировать свои страны по западному образцу, отбивают у населения культурную память о собственном великом прошлом, собственной великой письменной традиции, но при этом они так и не обеспечили сколько-нибудь полноценную причастность к западной великой письменной традиции. В результате народы рискуют оказаться вне великой культурной традиции вообще. Церковь как институт только и может взять на себя задачу преодоления кризиса посредством нового обращения к великой письменной традиции. В восточнославянском регионе это, главным образом, традиция "греческая", православная, связанная с восточной патристикой; в тюркском, иранском, арабском регионах — традиция мусульманская; в Индостане и на Дальнем Востоке — индо- или конфуцианско-буддийская. Эти традиции позволяют, с одной стороны, преодолеть нынешний рецидив этноцентризма, архаичной племенной морали, ибо великие письменные традиции изначально создавались как суперэтнические духовно-ценностные синтезы, а с другой стороны, могут стать основой не имитационных, а подлинных модернизаций, учитывающих собственные возможности и специфику.
Вторая задача — вернуть социальные прерогативы народа, незаконно оспоренные и отвергнутые глобализирующимися элитами, поменявшими народ в качестве суверена на других "суверенов", в первую очередь на американцев. Во всех монотеистических традициях народу отводится особая, незаменимая роль "исполнителя завета" и защитника святой веры от хулителей и осквернителей. Здесь каждый народ выступает как избранник Божий, которому доверена высшая миссия. Либералы лишили народ статуса носителя миссии и в этом отношении сделали больше в деле разрушения самих основ цивилизации, чем все прежние богоборцы, вместе взятые. Логика церкви как социального института ведет к новой реабилитации и народа как конечной субстанции земного бытия, в которой святая вера находит свою земную опору и защиту. Все остальные сугубо светские институты сегодня работают в логике последовательной социальной и духовной экспроприации народа. Только церковь, восстановленная во всех своих амбициях организатора и водителя народной жизни, способна отстоять права народа. Вокруг нее станет сосредоточиваться новое "народничество" тех кругов интеллигенции, которые еще сохранили свою связь с собственной великой традицией и не готовы участвовать в играх компрадорского глобализма.
Третья задача монотеизма — заново утвердить духовные приоритеты, о чем подробнее уже говорилось выше.
В заключение осталось сказать о "большом государстве" бедных, которое эмпирически и мистически связано с "большой церковью" монотеизма. Главное мое предположение состоит в том, что "Юг" в своем противопоставлении "Северу" как глобальной партии богатых в конечном счете образует единое интернациональное государство. Сегодня все твердят об интеграции, напирая в основном на экономические соображения и приоритеты. Но приоритеты победы в гражданской войне, без чего народам "Юга" угрожает участь опускаемого и истребляемого мирового гетто, поважнее экономических. Здесь — ключ к содержанию грядущих интеграционистских программ народов, ведущих свою великую оборонительную войну. Перед лицом глобального наступления богатых, а также с учетом всей логики постмодерна, сулящей передачу не только материальных, но и духовных благ цивилизации пресыщенному истеблишменту, все национально-государственные различия и перегородки между народами теряют серьезное значение. В ходе новой глобальной социальной поляризации на планете все четче выступают на одной стороне контуры единой компрадорской, или "постмодернистской", элиты, которая больше никому не служит, кроме самой себя, и на другой стороне — контуры единого экспроприированного народа. Этому единому народу требуется и единое интернациональное государство-защитник.
Только дальнейший ход начавшейся глобальной гражданской войны покажет, какие конкретные формы примет интеграционный процесс, в ходе которого будет созидаться единая государственность бедных на планете. Скорее всего, процессы будут протекать по модели так называемого "инклузивного" федерализма, или конфедерализма. Иными словами, значительная часть функций, связанных с выполнением сугубо внутренних задач, останется за прежними институтами национального государства, тогда как новые функции, связанные с объединенной обороной, объединенной системой защиты более слабых экономик, комплексными интернациональными программами социального развития и просвещения, станут передаваться инстанциям, воплощающим коллективную интернациональную волю "Юга" как планетарной народной общности.
Как известно, в рамках исконной организации индоевропейцев лежит триада: жрецы — пахари — воины. Воины, представленные временно отделенным от остального общества юношеством, жили на границах племени. Именно эта пограничная общность будет вероятней всего в первую очередь интернационализирована в качестве совместных "стражей" большого "Юга". Экономическая интеграция "пахарей" пойдет следом, создавая единое хозяйственное пространство и единые планируемые на интернациональном уровне народнохозяйственные комплексы. Что касается интеграции "жречества", ведающего сакральными смыслами, то она будет происходить в форме все более интенсивного диалога конфессий, координации межконфессиональных программ воспитания и просвещения юношества, совместного отпора волне духовного нигилизма, идущего от атлантического "Центра".
Нигилизм на наших глазах меняет свой смысл, превращаясь из стихийного процесса, заданного логикой секуляризации, эмансипации и культом чувственности, в сознательно используемое средство духовного разрушения противника. Не случайно те самые круги, которые постоянно указывают на угрозу мусульманского или православного фундаментализма, вполне спокойно принимают протестантский или иудаистский фундаментализм. Против "враждебного" фундаментализма мобилизуется пропагандистский фронт, равно как и всеразрушительная постмодернистская "ирония", тогда как "свой" фундаментализм укрывается под защиту в качестве чего-то не обсуждаемого перед лицом "чужаков".
Но именно поэтому дело отпора нигилизму становится не факультативным, а государственным делом отстаивающего свои права и интересы "Большого Юга". Большое социальное государство интегрированного "Юга" не будет, вопреки идеологическим рекомендациям либерализма, нейтральным ни в социальном, ни в ценностном отношении. В социальном отношении оно будет "предпочитать" тех, кто несет основные материальные тяготы, одновременно нуждаясь в дополнительной социальной защите; в ценностном отношении оно будет предпочитать приверженцев великой монотеистической традиции, которая, как показывает новейший опыт, является, может быть, последним духовным прибежищем человечества, единственной страховой гарантией от возвращения в "инстинктивную" дикость и социал-дарвинистское варварство.
Все здесь написанное может всерьез испугать людей, испытавших на себе крайности государственного социального патернализма или партийно-государственной идеологической опеки. Но люди в реальной истории никогда не выбирают между "во всем устраивающими" или "во всем не устраивающими" вариантами, между совсем плохим и оптимальным. Реальный людской выбор на нашей грешной земле, которой не дано превратиться в рай, пролегает между вовсе не приемлемым или приемлемым хотя бы частично. Деформация современного интеллигентского сознания в его нынешней "правой" фазе, как и деформация его в бывшей "левой" фазе, состоит в том, что сравнивают не реальности либерализма с реальностью социализма, а либеральную утопию с былой социалистической реальностью (как некогда "левые" сравнивали с капитализмом не реальный социализм, а "безупречную" социалистическую утопию). На фоне либеральной утопии мои прогнозы могут показаться слишком жесткими, чреватыми непосильными испытаниями для нынешних демобилизованных "юношей Эдипов" и неврастеников постмодерна. Но на фоне либеральной реальности — той, которую либеральные реформаторы уже уготовили людям, и в особенности той, которую они, судя по их поддакиванию мировому агрессору и его человеконенавистническим "глобальным инициативам", уготовят человечеству завтра, предложенный прогноз обретает совсем другой вид и смысл. Вчерашние глашатаи "плюрализма", "толерантности" и "общечеловеческих ценностей" сегодня заявляют о себе как партия безжалостных социал-дарвинистов, расистов и прямых подстрекателей глобальной гражданской войны с "неприспособленными".
Перед лицом этой реальности безжалостного глобального наступления на жизненные права простых людей во всем мире, на их право сохраниться в истории, а не стать жертвой сознательно организованного "естественного отбора", логика выбора делается, увы, значительно более жесткой, чем можно было предполагать еще недавно. Либо "неадаптированное большинство" человечества заново мобилизуется, выработав эффективное средство самозащиты, либо его ожидает участь гетто в новой системе глобального апартеида. Причем не следует думать, что мобилизация, со всеми ее жесткими организационными технологиями, будет происходить только на блокированной периферии мира, на "большом Юге". Сегодня опережающими темпами она происходит в господском стане, в либеральном "центре мира". Достаточно посмотреть на то, как уже сегодня правители США мобилизуют американское население, лепя из него тупо-доверчивую, "всецело внимающую" и "беззаветно преданную" массу. В ход идут не только обычные средства пропаганды, но и невиданные еще в истории провокации, призванные создать атмосферу тотального страха и тотальной озлобленности. Таким образом, либеральная утопия, с ее ожиданиями безграничной толерантности и плюрализма, ни в каком из нынешних полюсов мира не находит реальных подтверждений. Ее реальное назначение — целиком пропагандистское, направленное на то, чтобы как-то оттянуть момент истины и притупить у людей чувство исторической реальности.
Автор задавался прямо противоположными целями. Он исходил из презумпции быстротекущей истории, которая нуждается в наших своевременных прозрениях, чтобы не стать безнадежно катастрофичной.

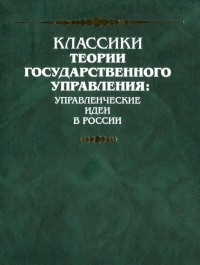
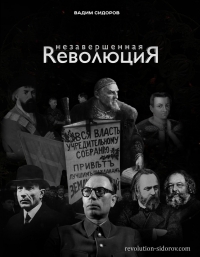


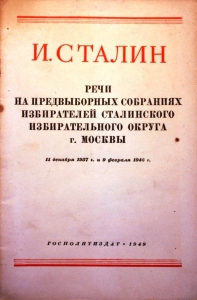
Комментарии к книге «Север — Юг. Сценарии обозримого будущего», Александр Сергеевич Панарин
Всего 0 комментариев