Александр Александрович Терентьев Эпоха Обамы. Наши интересы в Белом доме
ПРЕДИСЛОВИЕ
«Этот парень мог бы подавать нам кофе»[1], – так в начале 2008 года охарактеризовал Барака Обаму бывший президент США Билл Клинтон. В телефонном разговоре с сенатором Тедом Кеннеди он с гневом обрушился на темнокожего политика, который «появился ниоткуда» и лишает его супругу полагающегося ей по праву президентского кресла. В Америке, действительно, никто не ожидал, что молодой сенатор от Иллинойса сможет сделать столь головокружительную карьеру, только в 2004 году получив место в Конгрессе, а уже в 2008-м заняв Овальный кабинет Белого дома. Обама оказался блестящим шоуменом, сумевшим превратить американскую предвыборную кампанию в яркий спектакль, за которым с восторгом следили миллионы людей по всему свету.
Придя к власти в эпоху кризиса, Обама попытался обратиться к опыту своих предшественников, управлявших Соединенными Штатами в непростые времена. Прежде всего, речь идет об Аврааме Линкольне, который был президентом в эпоху Гражданской войны, и Франклине Рузвельте, находившемся у власти во время Великой депрессии. По их примеру он создал команду соперников, включив в администрацию чиновников, придерживающихся диаметрально противоположных взглядов от республиканца Роберта Гейтса, который остался во главе Пентагона, до левого либерала Стивена Чу, назначенного министром энергетики. Однако, в действительности, политика Обамы формировалась узким кругом людей, которые сами именовали себя «рыцарями круглого стола» по аналогии с командой советников Джона Кеннеди.
Под их давлением Обама провел через Конгресс леволиберальные реформы, в первую очередь, конечно, реформу системы здравоохранения, которая навсегда теперь будет ассоциироваться с его именем. В консервативной Америке закон, вводящий обязательную медицинскую страховку для всех граждан, был воспринят как «социалистический», и по стране прокатилась волна выступлений против «большого правительства»». Возникло так называемое «Движение чаепития», участники которого уверяли, что отстаивают американскую свободу словно первые колонисты в эпоху бостонского чаепития и призывали выкинуть из Белого дома «темнокожего Че Гевару».
Конечно, Обама мог повторить судьбу Билла Клинтона, который в 1996 году отказался от леволиберальных лозунгов, сдвинулся в сторону политического центра и легко избрался на второй срок. Однако президент решил идти ва-банк, заявив, что предпочитает пробыть на своем посту один срок, но быть «хорошим президентом», нежели просидеть два, но быть «президентом посредственным». Излюбленной метафорой американских политологов стало сравнение Обамы, отказывающегося отойти от выбранного курса, с героинями фильма «Тельма и Луиза», которые, спасаясь от полиции и не желая провести остаток жизни в тюрьме, на полном ходу слетают в пропасть.
В эпоху экономического кризиса, который многие сравнивали с Великой депрессией 30-х годов, идеей фикс для президента стало «сохранение среднего класса». Ради этой цели Обама готов был даже бросить вызов финансистам с Уоллстрит, которых он вслед за леволиберальными комментаторами окрестил «жирными котами». Он начал добиваться увеличения налогов для состоятельных граждан. И хотя налоговую реформу в Конгрессе прокатили, назвав ее «дорогой к классовой войне», Обама сумел резко поднять свой рейтинг: ведь образ американского Робин Гуда, был востребован в стране как никогда (не случайно в 2011 году в США зародилось еще одно протестное движение, получившее название «Оккупируй Уоллстрит»). Тем не менее многие политологи сравнивали Обаму с Гербертом Гувером, президентом, который делал все возможное, чтобы вывести страну из кризиса, но в итоге был объявлен виновником Великой депрессии.
Бывший гарвардский профессор права во внешней политике, Обама попытался осуществить прагматичную революцию. Он надеялся «достучаться до правящей элиты в тех странах, которые традиционно считались геополитическими соперниками США и выстроить новые альянсы. Как отмечал лондонский политолог Анатоль Ливен, «по примеру Британии, которая в 1890-е годы начала отказываться от своих обязательств, заключая сделки с другими государствами и перекладывая на них ответственность за решение региональных проблем, США сейчас также пересматривают свою внешнеполитическую стратегию»[2]. В этом смысле очень показательным эпизодом стала ливийская кампания, когда Обама решил занять место на скамейке запасных, выдвинув на передний план европейские державы. Объявив перезагрузку в отношениях с Россией, демократическая администрация, фактически, похоронила планы расширения НАТО. Кроме того, несмотря на флирт с радикальными суннитами, которые правили бал на Ближнем Востоке после так называемой «арабской весны» Америка начала сдавать позиции в регионе. Провалился и проект «большой двойки» – эксклюзивного альянса США и Китая. В американском истеблишменте Обаму называли безвольным тюфяком, проводящим политику умиротворения. А в странах, с которыми темнокожий президент пытался наладить диалог, его инициативы не воспринимали всерьез. Как отмечал в 2009 году советник экс-президента Буша-младшего Карл Роув, «Америку сегодня возглавляет суперзвезда, а не государственный муж. Это может принести мимолетное восхищение зарубежных аудиторий, но вряд ли способствует продвижению долгосрочных интересов США»[3]. В общем, лидер, который обещал американцам радикальные перемены, вынужден был, в итоге, просто плыть по течению. Ему катастрофически не везло, и журналисты с иронией называли его «счастливчиком». И какие бы разумные рецепты ни предлагал Обама во внутренней и внешней политике, с каждым годом он все больше напоминал «рыцаря печального образа» Дон Кихота, борющегося с ветряными мельницами.
Часть I ПРЕЗИДЕНТ-РЕФОРМАТОР
В СВЕТЕ ОСЛЕПЛЯЮЩИХ ОГНЕЙ
Он появлялся на сцене под звуки песни U2 «В городе ослепляющих огней». Он собирал гигантские стадионы. За несколько месяцев он стал кумиром миллионов, проведя, наверное, самую яркую предвыборную кампанию в мировой истории. Блестящий оратор, профессор права, один из самых молодых законодателей на Капитолийском холме, Барак Обама уже в 2004 году был назван восходящей звездой Демократической партии. И, несмотря на то, что некоторые обозреватели считали его неопытным политиком, может быть, именно образ человека нового, не замешанного в политических интригах, позволил ему одержать победу в президентской гонке 2008 года. По мнению биографа Обамы Дэвида Менделя, «в 2008 году сенатор от Иллинойса находился на гребне политической волны, и его советники постоянно ссылались на опыт молодого Джона Кеннеди, который не стал дожидаться следующих выборов, понимая, что со временем он может утратить энергию, а вместе с ней и поддержку избирателей»[4].
В период первой предвыборной кампании Обаму часто сравнивали с Кеннеди: оба – выпускники Гарварда, сторонники левых взглядов, готовые провозгласить новую эру в американской политике и реформировать Демократическую партию. Кеннеди – первый католик, избранный президентом США, Обама – первый афроамериканц, претендующий на этот пост. Политтехнологи, работавшие на темнокожего сенатора, пытались убедить американское общество в том, что аналогия с Кеннеди неслучайна. Более того, среди активных сторонников Обамы оказался бывший спичрайтер Кеннеди Теодор Соренсон. «У Кеннеди и Обамы много общего, – заявлял он. – Как и Кеннеди, Обама обладает фантастической улыбкой, улыбкой победителя. Как и Кеннеди, он может завладеть вниманием аудитории, не боится выступать по телевидению, не кричит в микрофон, а спокойно разговаривает с избирателями. Победа Обамы будет означать не только смену игроков в Белом доме, но и серьезные изменения в правилах политической игры. И если Клинтоны заинтересованы в сохранении status quo, Обама откроет для Америки «новые границы»[5].
Для того чтобы за Обамой окончательно закрепилось звание наследника Камелота, ему не хватало лишь признания семьи Кеннеди, по-прежнему обладающей огромным влиянием в Демократической партии. И вот 27 января 2008 года в газете New York Times появилась статья дочери Джона Кеннеди, Кэролайн, в которой она провозгласила Обаму преемником своего отца. А через два дня его кандидатуру поддержал и глава семейства Кеннеди, младший брат легендарного президента, Эдвард. Стоит отметить, что долгое время он отказывался выступать в поддержку того или иного кандидата, и, несмотря на все старания Хиллари Клинтон, с которой его связывали дружеские отношения, не согласился дать ей свое благословение. Однако Обама показался Эдварду Кеннеди достойным кандидатом. «Барак будет президентом, отвергающим стереотипы, – заявил он, – лидером, который смотрит на мир без цинизма и не демонизирует своих соперников»[6].
Действительно, в отличие от других кандидатов от Демократической партии, Обама призывал к сотрудничеству с республиканцами. «Мы должны разделить ответственность за судьбу страны, – заявлял он. – Именно это позволит нам почувствовать себя единым народом»[7]. Таким образом, Обама давал понять, что рассчитывает на роль общенационального лидера. Не случайно его называли Рейганом левых. В 80-м году Рональду Рейгану удалось привлечь на свою сторону избирателей, разочарованных политикой демократа Джимми Картера. Обама же, по мнению экспертов, мог рассчитывать на голоса республиканцев, выступающих против той версии консерватизма, которую предлагала администрация Буша. Они чувствовали себя неуютно в партии, которой управляют южане, проповедующие антииммигрантскую политику, и в пику им готовы были поддержать традиционных соперников. Конечно, за Клинтон никто из них голосовать не собирался: ведь у них еще слишком свежи были воспоминания о политике ее мужа. Обама, напротив, представлялся идеальным кандидатом для разочарованных республиканцев. Ведь он признавал ошибки Демократической партии, которая, по его словам, превратилась в «партию преувеличенных реакций».
«Возражая против войны в Ираке, – писал Обама в своей книге «Смелость надежды», – мы с подозрением относимся к любым военным действиям. Не разделяя мнение о том, что рынок является единственным решением любых экономических проблем, мы начинаем мешать применению рыночных принципов там, где это необходимо. Сопротивляясь усилению церкви, мы приравняли терпимость к полному исключению религии из жизни общества»[8]. И хотя Обама воспринимался как сторонник левых взглядов и наследник Джона Кеннеди, он не разделял концепцию «государства всеобщего благосостояния». Сенатор критиковал тех американцев, которые считают, что получение определенного дохода является их неотъемлемым правом. Напротив, – говорил он, – «чрезмерные социальные льготы и есть нарушение гражданских прав». Такая позиция Обамы повышала его шансы в предвыборной схватке с республиканским кандидатом. Эксперты утверждали, что именно ему отдадут голоса независимые избиратели, а это огромная часть населения США (только в Калифорнии и Нью-Мексико их более 6 млн.). И потому Обаме, в том случае, разумеется, если ему удастся стать кандидатом от Демократической партии, сторонники предсказывали не скромную победу, которой в последние годы довольствовались все претенденты, а общенациональный триумф.
Однако республиканские идеологи отмечали, что темнокожий сенатор может повторить судьбу всех левых кумиров Америки. «Демократы не понимают традиционной американской концепции лидерства, которая предполагает лишь исполнение своих обязанностей на государственном посту, – писал редактор The American Thinker Джон Дадд. – Они пытаются навязать нам образ харизматика-полубога, который отражает дух времени и воплощает надежды нового поколения»[9]. Профессор Майкл Фонтрой отмечал, что «впечатляющая популярность Обамы объясняется тем, что ему удалось собрать вокруг себя коалицию, которая включает молодежь, избирателей старшего возраста, разочаровавшихся в старой гвардии демократов, и, наконец, афроамериканцев»[10].
К 2008 году сенатор от Иллинойса был уже чрезвычайно популярен в светском обществе. Еще задолго до начала предвыборной кампании он начал сниматься для модных журналов, посещать светские мероприятия и стал настоящим кумиром голливудской богемы. Актриса Холли Берри утверждала, что готова «убирать мусор, чтобы дорога, по которой он идет, была чистой»[11]. Спонсором и поклонником Обамы являлся и известный кинопродюсер Дэвид Геффен. «Обама – новый харизматичный лидер, – заявил он. – Америка устала от Клинтонов, ей требуются не компромиссы, а идеалы»[12]. Кроме того, со времен Кеннеди темнокожий выпускник Гарварда стал первым фаворитом президентской гонки, которого поддержала интеллектуальная элита США.
БОРЬБА С КЛАНОМ КЛИНТОНОВ
Вначале Обаме предстояло одержать победу на демократических праймериз, где его главным соперником стала сенатор от штата Нью-Йорк бывшая первая леди Хиллари Клинтон. Их схватку многие воспринимали как столкновение старых и новых демократов. «Готова ли Америка к третьему президентскому сроку Клинтона? – вопрошал бывший лидер республиканцев Роберт Дол. – Многие, наверное, забыли два предыдущих срока и после иракского конфликта смотрят на бывшего президента сквозь розовые очки». В своем отношении к Клинтон Дол был далеко не одинок. В американском обществе она воспринималась неоднозначно. По некоторым данным, каждый третий американец заявлял, что не будет голосовать за Клинтон ни при каких обстоятельствах. Как отмечал сенатор-демократ Джон Эдвардс, который выбыл из президентской гонки в самом ее начале, «Клинтоны представляют интересы коррумпированной верхушки Демократической партии, вашингтонской элиты, которая заинтересована в сохранении status quo».
Конечно, Хиллари пользовалась поддержкой партийных функционеров на местах, получивших свои посты во время правления ее супруга. Однако политические амбиции Клинтонов вызывали раздражение у нового поколения демократов, и у тех представителей старой гвардии, которые изначально не были расположены к «президенту-плейбою». Для многих из них он так и остался выскочкой и дилетантом, легковесным политиком, который выигрывал выборы благодаря популистским лозунгам и природному обаянию. Союз Обамы с политической династией Кеннеди символизировал общее для новых и старых демократов критическое отношение к эпохе Билла Клинтона. И многие из них планировали поддержать умеренного республиканца, если кандидатом от «партии ослов» станет бывшая первая леди.
В так называемый супервторник 5 февраля 2008 года, когда голосовали сразу 24 штата, Обама одержал победу на Среднем Западе, в штатах, находящихся на территории Великой равнины, и в большинстве южных штатов, Клинтон получила большинство голосов на северо-востоке. Несмотря на поддержку голливудских звезд и музыкантов, которые снимались в его предвыборном ролике под названием «Да, мы можем», Обаме не удалось одержать победу в Калифорнии. За него проголосовала большая часть белых жителей этого штата, однако Клинтон выиграла за счет поддержки избирателей латиноамериканского и азиатского происхождения. Хиллари удалось одержать победу и в Массачусетсе, где оба сенатора-демократа, Джон Керри и Эдвард Кеннеди, выступили в поддержку Обамы.
Любопытно, что впервые о президентских амбициях Обама объявил в законодательном собрании Иллинойса, где когда-то Авраам Линкольн произнес свою знаменитую речь, обличающую рабство. И хотя темнокожий сенатор подчеркивал, что выступает против того, чтобы этнические меньшинства имели преимущества перед белыми, уже на демократических праймериз стало очевидно, что афроамериканцы сплотились вокруг «своего» кандидата. В супервторник 82 % из них отдали свои голоса Обаме, и только 17 % поддержали Хиллари.
Вполне естественно, что Клинтоны пытались привлечь на свою сторону латиноамериканских избирателей, надеясь отыграть голоса, полученные Обамой благодаря безоговорочной поддержке чернокожего населения. В супервторник, например, за Хиллари проголосовали 63 % испаноязычного населения, и лишь 34 % отдали свои голоса сенатору от Иллинойса. Традиционно считается, что выходцы из Латинской Америки воспринимают афроамериканцев как главных конкурентов на рынке труда и поэтому враждебно настроены по отношению к чернокожим кандидатам. Однако, как отмечал в 2008 году профессор Вашингтонского университета Матт Баррето, этот миф не подтверждается на практике. «Благодаря поддержке латиноамериканских избирателей, – писал он, – четверо афроамериканцев были избраны мэрами, а сам Обама получил место в Сенате США»[13]. И в этом смысле неудивительно, что на праймериз, которые проходили после супервторника, сенатору от Иллинойса удалось переманить часть латиноамериканцев с помощью своих сторонников из числа конгрессменов, представляющих интересы этой группы.
Результаты праймериз, прошедших в супервторник, продемонстрировали, что за схваткой Обамы и Клинтон стоят концептуальные противоречия между представителями разных поколений демократов. Клинтон поддержали 57 % избирателей старше 60. За Обаму же проголосовали 56 % молодых американцев, не достигших 30 лет. Стоит отметить, что данная возрастная группа составляет довольно большую часть населения США – это поколение получило название «эхо беби-бума».
Четвертого марта, в так называемый второй супервторник, неожиданная победа Хиллари Клинтон на праймериз Демократической партии в Огайо, Техасе и Род-Айленде, казалось, вернула интригу в ее противостояние с Бараком Обамой. Однако уже восьмого марта Обама обыграл бывшую первую леди в Вайоминге, а через два дня добился настоящего триумфа в Миссисипи. В этом штате за него проголосовали 61 % избирателей, тогда как Хиллари набрала лишь 37 % голосов. Вполне естественно, что Обама отказался от предложения штаба Клинтон выйти из игры и довольствоваться постом вице-президента. «Я завоевал в два раза больше штатов, чем Клинтон, я получил больше голосов, – заявил сенатор от Иллинойса. – И я не понимаю, как тот, кто находится на втором месте, может предлагать пост вице-президента тому, кто идет на первом»[14].
Ходили слухи, что демократы намеренно сохраняют интригу на праймериз, чтобы на протяжении всей предвыборной кампании к ним было приковано внимание прессы, а те легкие уколы, которыми обмениваются Обама и Клинтон, не помешают им в дальнейшем работать в одной команде. Как заметил бывший политтехнолог президента Буша Карл Роув, «победа Маккейна на республиканских праймериз привела к тому, что сенатор от Аризоны исчез с первых полос. Пресса утратила к нему интерес, лишив бесплатной рекламы, и полностью сосредоточилась на противостоянии демократов»[15]. Однако ведущий консервативной радиопередачи Раш Лимбо, напротив, отмечал, что чем дольше Клинтон не выходит из президентской гонки, тем лучше для республиканцев. «Я хотел бы, чтобы Хиллари подольше оставалась в этой мыльной опере, – заявил он. – Пускай уж лучше она отыскивает компромат на сенатора Обаму»[16].
Многие политологи отмечали, что в схватке с республиканским кандидатом Джоном Маккейном у Обамы намного больше шансов, чем у Клинтон. Согласно опросам общественного мнения, если бы выборы проводились в марте, за Клинтон проголосовали бы 50 %, а за Маккейна – 47 % избирателей. В противостоянии с Обамой сенатор от Аризоны получил бы лишь 44 % голосов, тогда как темнокожий кандидат мог бы рассчитывать на 52 %.
Было очевидно, что в случае победы Обамы на предварительных выборах он предстанет в образе харизматического лидера, которому удалось преодолеть сопротивление мощной политической машины. К тому же, большинство американцев считали, что за финальной схваткой Маккейна и Обамы наблюдать будет интереснее, а дебаты между этими кандидатами будут напоминать предвыборную борьбу 1972 года, когда маккартисту и ястребу Ричарду Никсону противостоял либерал и противник войны во Вьетнаме Джордж Макговерн.
ВЬЕТНАМСКИЙ ВЕТЕРАН ПРОТИВ ГАРВАРДСКОГО ИНТЕЛЛЕКТУАЛА
Джон Маккейн к тому моменту уже успел выиграть борьбу на республиканских праймериз. И это несмотря на то, что в своей партии он считался белой вороной. Он призывал «объявить передышку в 16-летнем партийном противостоянии» и такие призывы воспринимались в штыки консервативными обозревателями, представляющими так называемое моральное большинство. В последние дни перед супервторником они объявили настоящий крестовый поход против Маккейна, называя его «вероотступником» и «троянским конем демократов». Журналистка Энн Колтер провозгласила даже, что в случае выдвижения Маккейна она готова агитировать за кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон, чьи взгляды представляются ей консервативнее взглядов сенатора от Аризоны. Консерваторы не могли простить Маккейну, что он обвинял их в религиозной нетерпимости и фанатизме. Кроме того, они не готовы были примириться с тем, что Республиканскую партию будет представлять кандидат, предложивший перевести на легальное положение 12 млн. иммигрантов, человек, который в частных беседах заявлял, что на посту президента будет поддерживать увеличение налогов.
Социал-консерваторы и евангелисты, которые дважды обеспечили победу Джорджа Буша на президентских выборах, по-прежнему оставались самой влиятельной силой в Республиканской партии. На праймериз их поддержкой пытались заручиться сразу два кандидата – экс-губернатор Массачусетса Митт Ромни и экс-губернатор Арканзаса Майк Хакаби. За Ромни агитировало большинство консервативных идеологов, однако многие евангелисты отказались голосовать за него, поскольку он является прихожанином мормонской церкви. «Люди должны понять, что мормонский культ не имеет ничего общего с традиционным христианством и, поддерживая Ромни, они отдают свой голос Сатане»[17], – заявил фундаменталист Билл Келлер.
Часть фундаменталистов выступила в поддержку бывшего баптистского проповедника Майка Хакаби, который одержал победу в пяти штатах «библейского» пояса на юге США: Хакаби полюбился им фразой о том, что «аборты – это холокост». Но многие евангелисты отдали предпочтение Маккейну, привлеченные его лидерскими качествами и богатым политическим опытом. К тому же, большинству республиканцев импонировали внешнеполитические взгляды сенатора от Аризоны. Биограф Маккейна Матт Велш утверждал, что его «внешнеполитическая программа самая экспансионистская и милитаристская со времен Тедди Рузвельта»[18]. Именно образ ястреба позволил Маккейну привлечь часть консервативных избирателей, недовольных его центристской позицией по внутриполитическим вопросам. Однако одержать победу Маккейну помогли как раз его центристские взгляды, которые обеспечили ему поддержку подавляющего большинства умеренных и либеральных республиканцев. Победе Маккейна, безусловно, способствовал и образ героя вьетнамской войны: за него голосовало большинство пожилых избирателей и ветеранов.
В июне победу на праймериз одержал и Обама. Незадолго до начала кампании известный американист Анатолий Уткин предсказывал, что президентские выборы 2008 года пройдут по традиционной схеме, когда северо-восточные штаты голосуют за демократов, а «провинциальный Юг и Запад встают навытяжку перед «патриотом и героем»[19]. Однако пара Маккейн – Обама, по мнению экспертов, должна была внести некоторые изменения в политическую карту Америки. Ведь оба кандидата претендовали на роль общенационального лидера и призывали объявить передышку в партийном противостоянии. Каждый из них рассчитывал на голоса независимых избирателей и сторонников другой партии, ведь именно за счет этих голосов им удавалось одолеть своих конкурентов на предварительных выборах. Политологи рассуждали не только о «республиканцах Обамы», но и о «демократах Маккейна». «Великой старой партии, – говорил Митт Ромни, – будет сложно одержать победу, когда между ее кандидатом и кандидатом соперников нет особой разницы»[20]. «Маккейн идет по натянутому под куполом цирка канату, – вторил ему директор Центра политических исследований при Университете штата Виргиния Ларри Сабато. – Он должен заручиться поддержкой консервативных республиканцев и в то же время найти способ поддерживать интерес к себе со стороны независимых избирателей»[21]. К тому же, Обама не вызывал у республиканцев такой аллергии, как Хиллари Клинтон, и бороться с ним оказалось намного сложнее. Даже главный имиджмейкер Маккейна, Марк Маккиннон, заявил, что будет чувствовать себя неудобно, разворачивая в прессе кампанию против темнокожего сенатора.
Однако борьба получилась острой, что стало для большинства политологов большой неожиданностью. За год-полтора до выборов никто не сомневался, что после двух сроков Буша победа демократам достанется почти автоматически. Объяснялось это как политической цикличностью (удержать Белый дом больше восьми лет одной партии удается редко), так и провальными результатами предыдущего правления. Но Джон Маккейн все же смог потрепать нервы своим соперникам, проведя весьма напористую и агрессивную предвыборную кампанию.
Республиканские обозреватели пытались раздуть миф о радикальных левых взглядах Барака Обамы. Они называли его «типичным демократом из Сан-Франциско», готовым возложить на Соединенные Штаты ответственность за все глобальные проблемы. При этом советники Маккейна отмечали, что всякий раз, когда Демократическая партия выдвигала либерального кандидата, он с треском проигрывал национальные выборы. Одержать победу удавалось лишь центристам из южных штатов, таким, как Джимми Картер и Билл Клинтон. По мысли республиканских идеологов, объясняется это тем, что традиционный электорат демократов голосует за «простого парня» и не доверяет политикам-интеллектуалам вроде Джорджа Макговерна, Майкла Дукакиса или Уолтера Мондейла.
Несмотря на неудачи республиканской администрации в Ираке и Афганистане, советникам Маккейна удалось сделать тему национальной безопасности главным коньком своего кандидата. Маккейн иронизировал по поводу того, как «молодой сенатор от Иллинойса будет справляться с обязанностями главнокомандующего американских войск и лидера свободного мира». И если Клинтон опасалась оттолкнуть от себя либеральных избирателей, обвиняя Обаму в чрезмерной мягкости в вопросах национальной безопасности, то вьетнамский ветеран начал активно разыгрывать эту карту. «Чтобы одержать победу над такими поджигателями войны, как сенатор Маккейн, демократы должны отказаться от политики страха»[22], – заявил Обама на дебатах Демократической партии, которые предшествовали праймериз в Южной Каролине. Таким образом он давал понять, что правительство не имеет права обосновывать угрозой терактов любые антилиберальные меры.
Маккейн, который на протяжении двух последних десятилетий занимался вопросами внешней политики, обвинял Обаму в том, что в угоду общественному мнению он готов немедленно вывести войска из Ирака. Сенатор от Аризоны утверждал, что скорее проиграет выборы, чем будет молчаливо наблюдать за тем, как страна проигрывает войну. «Провал в Ираке нельзя будет назвать провалом одной администрации или партии, – писал Маккейн в Foreign Affairs. – Это американская война, и ее результаты коснутся всех граждан США»[23].
Один из ведущих советников Джимми Картера, Гамильтон Джордан, отмечал, что Обама сможет одолеть Маккейна лишь в том случае, если заранее займется формированием правительства, предложив ключевые должности влиятельным демократам, которые обладают богатым политическим опытом. Многие эксперты считали, что это единственная возможность пресечь нападки республиканцев, утверждающих, что Обама не способен проводить адекватную внешнюю политику. К нему в команду прочили бывшего демократического сенатора Сэма Нанна, который долгое время занимался борьбой с распространением ядерного оружия, и республиканского сенатора и ветерана Чака Хагела, прославившегося своей критикой войны в Ираке.
Как нельзя кстати для Маккейна пришлись события на Кавказе в августе 2008 года. Сенатор от Аризоны уверял избирателей, что военные действия в Грузии подтверждают его тезис об экспансионистских устремлениях Кремля. На первых теледебатах, состоявшихся в сентябре, Маккейн старался разыграть грузинскую карту, обвинив своего оппонента в «политической наивности». «Барак не понимает, что Россия развязала серьезную агрессию против Грузии»[24], – заявил тогда республиканский кандидат.
Такой разницы в политическом опыте у кандидатов в президенты не было с тех пор, как на выборах 1940 года Франклину Рузвельту противостоял молодой республиканский кандидат Уэнделл Уилки. С другой стороны, Маккейн годился Обаме в отцы, и это, безусловно, не добавляло очков республиканцу. Указывать на преклонный возраст оппонента считается в Америке неприличным, но в случае Обамы и Маккейна контраст бросался в глаза. Как отмечал либеральный обозреватель Джонатан Альтер, «Обаме 46, а выглядит он на 40; Маккейну 71, а выглядит он ближе к 80»[25]. Такой разницы в возрасте не было у кандидатов в президенты США еще никогда. Советники Обамы утверждали, что одно это даст ему огромное преимущество среди молодежи, большая часть которой и так без ума от его «политики стадионов». Республиканцы отвечали на это, что в Америке миллионы пожилых избирателей, которые ходят на выборы прилежнее, чем молодежь, и обычно предпочитают своих сверстников.
Конечно, первый в американской истории темнокожий кандидат, который имеет реальные шансы стать президентом, для афроамериканцев стал культовым персонажем, и отдать свой голос другому кандидату означало для них отказаться от собственной идентичности. Уже на демократических праймериз наблюдался рекордный процент явки среди темнокожих избирателей. И ожидалось, что в ноябре афроамериканцы не упустят возможности прийти на выборы и поучаствовать в победе «своего кандидата». Такая активность черной Америки вызывала беспокойство у многих граждан, которых сложно было уличить в расистских настроениях. Но поскольку победы Обамы вызывали ликование в черных кварталах, они не могли уже воспринимать его как общеамериканского кандидата. И хотя сам сенатор от Иллинойса отказывался акцентировать внимание на расовом вопросе, избиратели делали это за него.
Понимая, что черная Америка будет голосовать за Обаму, Маккейн, как и Клинтоны пытался привлечь на свою сторону латиноамериканцев. Ведь у него был богатый опыт взаимоотношений с этими избирателями, которые составляли огромную часть электората в его родном штате Аризона. Он рассчитывал даже, что «латинос» и сплоченные ветеранские организации позволят ему одержать победу в Калифорнии, где республиканцы не выигрывали с 1988 года.
Кроме того, сторонники Маккейна проводили кампанию среди американских евангелистов, утверждая, что если они не придут на избирательные участки, в Америке грядет царствие Антихриста. «Обама прав, когда говорит, что мир ждет такого, как он, харизматичного и яркого политика, похожего на мессию, – отмечал консервативный проповедник Хал Линдсей. – Библия называет такого лидера Антихристом. И, похоже, мир готов к его пришествию»[26]. Республиканцы пытались убедить избирателей, что Барак Хусейн Обама не разделяет американские ценности: он учился в мусульманской школе в Индонезии, его духовный наставник пастор Джеремайя Райт проклинал в своих проповедях Соединенные Штаты, а его хороший знакомый Билл Айерс в 1969 году основал радикальную террористическую организацию с левыми взглядами Weather Underground.
Однако какие бы обвинения ни выдвигал Маккейн против Обамы, противопоставить что-то популярности темнокожего сенатора ему было сложно. Республиканский кандидат отставал от своего соперника и в размерах пожертвований на избирательную кампанию. «В своей партии я настоящая белая ворона – республиканец без денег», – шутил Маккейн. Обаме, напротив, удавалось собирать внушительные суммы и размещать свою политическую рекламу на национальных телеканалах США.
Что интересно, оба кандидата говорили о необходимости кардинальных перемен в американской политике, утверждая, что нынешняя политическая система устарела. И получалось, что несмотря на некоторые идеологические расхождения, Обама и Маккейн играют на одном поле. Поэтому огромное значение имели их имидж и стилистика предвыборной кампании. Слоган Обамы «перемены, в которые мы верим» позволял создать образ «темнокожего Кеннеди», стремящегося к «новым рубежам». Слоган Маккейна «готов руководить страной с первого дня» заставлял вспомнить о политическом опыте кандидата. Если говорить об аналогиях, то чаще всего Маккейна сравнивали с республиканским президентом Дуайтом Эйзенхауэром. «У них много общего, – писал обозреватель Wall Street Journal Холман Дженкинс, – оба – герои войны, обещающие очистить Вашингтон от коррумпированных политиков. Оба – изгои в своей политической партии, выступающие в роли «отца нации»[27].
Однопартийцы воспринимали главных претендентов в борьбе за Белый дом как шоуменов, которые зациклены на собственной популярности, не соблюдают партийную дисциплину и недостаточно работоспособны. Многие республиканцы называли Маккейна «мавериком». В американском политическом лексиконе это слово обозначает индивидуалиста, бунтаря, человека, который не признает общепризнанных правил. «Мысль о том, что Маккейн может стать президентом, ужасает меня. Ведь он – настоящий сумасброд, – говорил сенатор от Миссисипи Тэд Кокрэн, который тридцать лет кряду работал с республиканским кандидатом. Такой образ, безусловно, вызывал интерес у журналистов, которые еще задолго до предвыборной кампании 2008 года сделали Маккейна одним из своих главных фаворитов. Скорее всего, это произошло еще тогда, когда молодой офицер, переживший шесть лет во вьетнамском плену, на костылях отправился в Белый дом на встречу с президентом Никсоном. Обама также был кумиром прессы. Начиная с его программной речи на съезде Демократической партии 2004 года, к нему было постоянно приковано внимание. Когда же он выставил свою кандидатуру в президенты, Америку охватила настоящая обамамания.
Вопреки американским политическим традициям два главных претендента на президентское кресло задолго до завершения карьеры выпустили свои автобиографические эссе. Книга Маккейна «Вера моих отцов», опубликованная в 1999 году, накануне республиканских праймериз, на которых сенатор от Аризоны уступил Джорджу Бушу, практически сразу стала бестселлером. То же самое произошло с лирическим сочинением Обамы «Мечты моего отца» и его книгой «Смелость надежды», которая была удостоена «Грэмми». Забавнее всего, что в этих авторских исповедях была заложена одна и та же идея. Она заключается в том, что любой человек может отказаться от своих эгоистических интересов ради служения общественному благу. Маккейн и Обама в подробностях рассказывали о своих духовных исканиях и личных переживаниях, что абсолютно нехарактерно для представителей американской элиты. По словам экспертов, оба кандидата скорее напоминали поп-идолов, чем прагматических политиков прошлого, и их появление на вашингтонском Олимпе знаменовало собой начало постмодернистской эпохи в американской истории
ДВОЕ НА ДВОЕ
Многое, конечно, зависело от того, кто будет назван кандидатом в вице-президенты. В девятнадцатом веке был популярен анекдот о том, как у одного человека было два сына: один стал моряком, другой – вице-президентом, и больше отец ничего о них не слышал. В веке двадцатом под воздействием так называемого «нулевого фактора» (все президенты за исключением Рейгана, избранные в нулевом году, умерли до истечения срока своих полномочий) роль потенциальных преемников главы государства стала куда более значимой. Среди вице-президентов, наследовавших высшую государственную власть, были Гарри Трумэн, Джеральд Форд, Джордж Буш-старший. Если же говорить об администрации Буша, ни для кого не было секретом, что первую скрипку в ней играл вице-президент Дик Чейни. И потому неудивительно, что мировые СМИ с нескрываемым интересом следили за тем, кого выберут себе в напарники два основных кандидата на президентское кресло.
Первым с выбором определился Барак Обама. Многие советовали ему остановиться на кандидатуре Хиллари Клинтон, которая была его главным конкурентом на демократических праймериз. Утверждалось, что она сумеет привлечь своих сторонников, которые пока относились к Обаме прохладно. На праймериз Клинтон заручилась поддержкой 18 млн. человек. Причем, по данным одного из опросов, чуть ли не половина из них не собиралась голосовать за темнокожего кандидата, а каждый пятый был намерен отдать голос республиканцу Маккейну. Однако, несмотря на такую статистику, Обама не согласился на альянс с бывшей первой леди США и остановил свой выбор на председателе сенатского комитета по международным отношениям Джоне Байдене.
Эксперты утверждали, что опытный международник Байден нужен Обаме для того, чтобы прекратить разговоры о его некомпетентности в области внешней политики. Кроме того, убежденный католик и представитель старой гвардии демократов Байден должен был помочь Обаме перетянуть на свою сторону ту часть электората, с которой у него возникли наиболее серьезные проблемы в ходе праймериз – католиков и производственных рабочих, так называемых «синих воротничков». С другой стороны, выбрав в напарники сенатора, который с 1972 года заседает на Капитолийском холме, Обама нарушил свое обещание разорвать с политическим истеблишментом, управляющим страной из Вашингтона и не знающим «реальной Америки». Правда, в истории Демократической партии уже был похожий эпизод, когда на выборах 1976 года критик вашингтонской политической системы Джимми Картер заключил тактический альянс с одним из ее представителей – Вальтером Мондейлом.
Кроме того, демократы вынуждены были объяснять избирателям, почему Байден согласился на предложение Обамы, хотя до этого не раз заявлял, что сенатор от Иллинойса не готов руководить страной. (Избирательный штаб Маккейна тут же начал использовать эти высказывания в своей пропаганде). Вызывал сомнение и тот факт, что демократам удастся раскрутить образ специалиста-международника. Подход Байдена к внешней политике многим казался чересчур оригинальным. Например, выступая с критикой военной кампании в Ираке, он предлагал раздробить эту страну на три части по религиозно-общинному принципу.
Своего кандидата в вице-президенты Обама представил на съезде Демократической партии, проходившем в конце августа. И уже вместе они появились на футбольном стадионе в Денвере, где их встречала 80-тысячная толпа американцев, охваченных «обамаманией». Такого шоу Америка не видела с тех пор, как Джон Кеннеди объявил о согласии баллотироваться в президенты перед 100 тысячами своих сторонников на стадионе Memorial Coliseum в Лос-Анджелесе. Выступление Обамы было приурочено к 45-й годовщине эпохальной речи Мартина Лютера Кинга «У меня есть мечта». И кульминацией шоу стали слова Обамы, перекликающиеся со знаменитой фразой Кинга. «Наши судьбы неразрывно связаны, – заявил он, – и наши мечты могли бы стать одной мечтой»[28].
Декорации, которые были выбраны командой Обамы, вызвали едкие замечания со стороны его оппонентов. Сцену с античными колоннами и портиками, которая должна была вызвать ассоциации с мемориалом Линкольна, республиканцы тут же окрестили «храмом Обамы» и предложили сенатору от Иллинойса облачиться в римскую тогу. «Божественный Обама, – писала консервативная «Нью-Йорк пост», – произнес свою речь, как и положено императору мира, в собственном храме, куда он спустился с небес, чтобы облагодетельствовать простых смертных и изменить американцев настолько, что их не узнали даже отцы-основатели республики»[29].
Поскольку дизайн сцены разрабатывали художники, оформлявшие последний концертный тур Бритни Спирс, а на разогреве у демократического кандидата выступили Стиви Уандер и Шерил Кроу, у республиканцев вновь появились основания говорить о том, что Обама страдает звездной болезнью. По их словам, образ поп-идола, который так нравится демократическому кандидату, не соответствует слогану его кампании «Он – один из нас». Однако советники Обамы утверждали, что довольны эффектом, который произвело его выступление, и не собираются воспринимать всерьез критику республиканцев. «Мы хотели подчеркнуть, что перемены в Америке начинаются снизу, а не сверху, – заявил один из сотрудников предвыборного штаба Обамы Дэвид Плафф. – Было бы неразумно отказываться от этой идеи лишь из опасений, что выступление на стадионе даст повод для критики. Ведь в массовом движении – сила нашей кампании»[30].
Казалось, что после выступления Обамы, которое завершилось красочными фейерверками, республиканцам не удастся перетянуть одеяло на себя. Однако уже на следующий день Маккейн привлек к себе внимание журналистов, избрав в напарники губернатора Аляски Сару Хит Пэйлин. Это решение стало абсолютной неожиданностью для экспертов, однако многие из них восприняли его как гениальный тактический ход. 44-летняя избранница Маккейна, занявшая когда-то второе место на конкурсе красоты «Мисс Аляска», считалась убежденной рыночницей и противницей однополых браков. Она водила самолет, рыбачила, охотилась и состояла в Национальной стрелковой ассоциации, защищающей право на ношение оружия. Пэйлин прославилась своей принципиальной позицией по вопросу об абортах: в апреле 2008 года она родила пятого ребенка, несмотря на то что анализы показывали, что он явится на свет с синдромом Дауна. Старший сын Пэйлин, 19-летний Трэк, через несколько месяцев после окончания президентской кампании должен был отправиться в Ирак. В общем, сложно было представить себе кандидата, который бы в большей степени отражал ожидания традиционалистской Америки.
Политологи полагали, что решение Маккейна обеспечит ему поддержку избирателей, сыгравших ключевую роль в обеих победах Буша, – религиозных фундаменталистов и евангелистов. «Они в полном восторге, – утверждал бывший председатель Христианской коалиции Ральф Рид, – просто невозможно себе представить, насколько это решение важно для консервативного христианского сообщества»[31]. Узнав о выборе Маккейна, доктор Джеймс Добсон, один из виднейших христианских деятелей Америки, который в прошлом относился к республиканскому кандидату скептически, полностью поменял свое мнение. «Похожие чувства я испытывал во время инаугурации Рональда Рейгана, – заявил он. – Это один из самых волнующих моментов в моей жизни»[32].
Однако 1 сентября настроение консервативных избирателей омрачила одна деталь: выяснилось, что 17-летняя дочь Сары Пейлин беременна. Либералы не нашли бы в этом ничего предосудительного. Но для консерваторов-евангелистов подростковая беременность – это скандал, а секс вне брака – недопустимый грех.
Надеясь привлечь консервативную часть электората, Маккейн пошел на серьезный риск. «Теперь он, скорее всего, проиграет Обаме в борьбе за голоса центристов, – утверждал социолог Дуглас Шон. – Отвергнув кандидатуры Джо Либермана и бывшего губернатора Пенсильвании Тома Риджа, которые призывали к преодолению партийных разногласий, Маккейн упустил возможность расширить электоральную базу республиканцев за счет независимых избирателей»[33].
Конечно, теоретически решение Маккейна могло привлечь под его знамена часть сторонниц Хиллари Клинтон, недовольных тем, что Обама не пригласил ее к себе в вице-президенты. Пэйлин сразу попыталась разыграть феминистскую карту, заявив, что «американские женщины все-таки добьются своего и займут один из высших государственных постов». «Это словно глоток свежего воздуха, – провозгласила член консервативной группы «Женщины за Америку» Дженис Кроуз. – Пэйлин выражает ценности большинства американских женщин»[34]. Однако, как отмечала советница Хиллари Клинтон, Катерина Маклин, «женщины не будут выбирать кандидата в президенты по половому признаку, и представительница слабого пола не может рассчитывать на их безоговорочную поддержку»[35].
Некоторые эксперты утверждали, что назначение Пэйлин лишает Маккейна его главного преимущества, которое заключалось в том, что в отличие от своего соперника он обладает колоссальным политическим опытом. «Первое правило при выборе напарника по президентской гонке – не навредить, – утверждал бывший советник вице-президента Ала Гора Майкл Фелдман. – Конечно, Пэйлин может привлечь женскую часть электората, разочарованную результатами демократических праймериз, и не отпугнет традиционных республиканских избирателей, однако выбор Маккейна противоречит центральному лозунгу его предвыборной кампании – «с первого дня готов руководить страной»[36].
Как рассказывал соперник Пэйлин на губернаторских выборах 2006 года Эндрю Халкро, «она не представила никакой политической программы, а сделала ставку на природное обаяние». «Речь тогда шла не о политике и не о проблемах Аляски, – утверждал он. – Все объяснялось обыкновенными человеческими симпатиями. Это очень напоминает феномен Обамы»[37]. Судя по всему, для Маккейна, который понимал, что уступает демократическому кандидату в харизме, было необходимо найти молодого напарника, способного заразить общество своей энергией. Но губернатору Аляски это явно оказалось не по силам. Пейлин запомнилась всем лишь сомнительными остротами вроде той, что «домохозяйку от бультерьера отличает губная помада».
В целом, как отмечал президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский, кандидаты, которые вышли на финишную прямую, представляли собой типичные голливудские типажи: дедушка-ветеран Вьетнамской войны, агрессивная женщина из провинции, благовоспитанный элитарный сенатор с Восточного побережья и, наконец, хорошо одетый молодой популист с правильным цветом кожи, как говорил позже Сильвио Берлускони, a bronze»[38].
«ЕДИНАЯ АМЕРИКА»?
В сентябре 2008 года буквально накануне выборов в Америке грянул финансовый кризис, и по мере его развития, кресло президента США становилось все более сомнительным призом. Как утверждал профессор Йельского университета Пол Кеннеди, «то, что Джон Маккейн и Барак Обама так мечтают попасть в усеянный осколками былого величия Белый дом, говорит либо об их изумительной отваге, либо о пугающем отсутствии у них всякого воображения»[39]. Некоторые эксперты выдвинули даже версию, что вашингтонская элита просто «подставила» неугодных ей лидеров – «маверика» Маккейна и чернокожего Обаму, предоставив одному из них расхлебывать последствия кризиса.
Как бы то ни было, кризис уменьшал шансы правящей партии удержаться у власти. И хотя Маккейн пытался дистанцироваться от политики Буша, на теледебатах американцы неизменно отдавали предпочтение его сопернику. Любопытно, что даже на первых дебатах, которые планировалось посвятить выигрышной для республиканца теме национальной безопасности и внешней политики, в первую очередь обсуждались экономические вопросы. «Если вы хотите узнать экономическую программу республиканского кандидата, посмотрите в зеркало заднего вида»[40], – заявлял Обама, а его политтехнологи проинформировали американцев о связях Маккейна с финансовым магнатом Чарльзом Китингом, который был признан виновным в мошенничестве с ценными бумагами.
Американский историк Джон Батлер объявил, что по накалу страстей схватку Обамы и Маккейна можно сравнить разве что с выборами 1800 года, когда в Соединенных Штатах только формировалась политическая система. Жесткое противостояние 2008 года, по его словам, объяснялось ее распадом. «Ждет ли Америку крах, постоянное политическое напряжение, падет ли она, раздираемая противоречиями? Во многом это будет решаться сейчас»[41], – утверждал Батлер.
Когда 4 ноября Обама одержал победу на выборах, заручившись поддержкой 365 выборщиков и 69 миллионов избирателей (за Маккейна отдали голоса 173 выборщика и 59 миллионов избирателей), у многих в Америке было ощущение, что все было предрешено заранее. Кампания демократического кандидата напоминала театрализованное представление, в котором главная роль досталась талантливому импровизатору. Каждое его выступление вызывало в стране новую волну обамамании. И хотя до начала кампании разделительные линии между синими (демократическими) и красными (республиканскими) штатами казались незыблемыми, Обаме удалось внести серьезные изменения в политическую карту Америки. Он одержал победу в Айове, Колорадо, Нью-Мексико, Вирджинии и Неваде – штатах, которые на выборах 2004 года поддержали Джорджа Буша. Он получил большинство голосов и в штате Индиана, который не голосовал за демократов со времен Линдона Джонсона. Кроме того, Обама перетянул на свою сторону колеблющиеся штаты, такие, как Огайо и Пенсильвания, в которых решающую роль играли голоса независимых избирателей. Как мы уже говорили, Маккейн поначалу также играл на центристском поле, однако после того как он выбрал консервативного губернатора Аляски Сару Пейлин кандидатом в вице-президенты, умеренные демократы и независимые избиратели от него отвернулись.
После победы на выборах Обама вновь заговорил о преодолении партийных противоречий: «Я обращаюсь к тем американцам, которые не поддержали мою кандидатуру на выборах: я буду и вашим президентом, – провозгласил он на митинге в Чикаго. – Как отмечал Авраам Линкольн в своем обращении к нации, которую в тот момент раздирали куда более серьезные противоречия, «мы не враги, а друзья. И хотя сейчас в стране бушуют страсти, они не разорвут связывающие нас нити»[42].
Во многом победа Обамы стала возможна благодаря рекордной явке избирателей, которая составила 64 %. Для Америки это был абсолютно невероятный показатель, ведь до этого довольно долгое время явка не превышала и 50 %, и ключевую роль в выборе президента играло радикальное меньшинство консерваторов-евангелистов. По словам британского политолога Анатоля Ливена, «большинство американцев не ходили на выборы. В стране царила потрясающая политическая апатия. И это давало евангелистам, представляющим 10 % населения, чересчур большую власть в формировании американской повестки дня»[43].
Однако в 2008 году яркая предвыборная кампания демократического кандидата и финансовый кризис, разразившийся за полтора месяца до выборов, привели на избирательные участки тех, кто до этого никогда не голосовал. Обамамания охватила голливудские студии, университетские кампусы, черные кварталы и латинские гетто. «Я думаю, на наших глазах происходит формирование новой коалиции американских избирателей. Латиноамериканцы, афроамериканцы и молодежь выступили на этих выборах единым фронтом»[44], – утверждал гарвардский политолог Дэвид Герген. Обама стал настоящим идолом молодой Америки. «Он нравится молодежи, – утверждал либеральный идеолог Майкл Уолцер, – поскольку является постмодернистским политиком, которому удалось сгладить расовые противоречия и, возможно, удастся преодолеть идеологические разногласия»[45]. За демократического кандидата проголосовали около 70 % молодых избирателей.
После триумфа Обамы многие стали вспоминать излюбленный сценарий американских фантастических фильмов: Соединенные Штаты под властью темнокожего президента стоят на пороге апокалипсиса, будь то природная катастрофа, глобальный кризис или нашествие инопланетян. Эксперты до последнего момента сомневались, что победа темнокожего кандидата возможна в традиционалистской Америке, где на протяжении двух столетий президентами были лишь белые англосаксы протестантского вероисповедания. И хотя католику Джону Кеннеди однажды уже удалось завоевать Белый дом, сложно было поверить, что в этом преуспеет афроамериканец Обама. Мартин Лютер Кинг, о котором вспомнил вновь избранный президент в своей победной речи на митинге в Чикаго, не мог себе представить такого даже в самых смелых мечтах. Политологи утверждали, что, хотя Обама опережает своего соперника в опросах общественного мнения, против него играет так называемый фактор Брэдли. В 1982 году чернокожий мэр Лос-Анджелеса Том Брэдли проиграл губернаторские выборы в Калифорнии, хотя опросы сулили ему победу. С тех пор эксперты в своих расчетах старались учитывать тот факт, что определенная часть избирателей из соображений политкорректности боится признаться, что не будет голосовать за черного кандидата. В случае с Обамой фактор Брэдли не сработал прежде всего благодаря позиции сенатора от Иллинойса, который сознательно избегал темы расовых противоречий и старался предстать в роли общеамериканского кандидата. «Нет ни черной Америки, ни белой Америки, ни латиноамериканской Америки, ни азиатской Америки – есть Соединенные Штаты Америки»[46], – заявлял Обама. И, похоже, ему удалось убедить американцев в искренности своих слов. Согласно данным опроса, проведенного газетой Wall Street Journal и телеканалом NBC, 8 из 10 респондентов заявили, что на посту президента Обама не будет ставить интересы темнокожих выше интересов остальной Америки.
Будучи уверенным в поддержке афроамериканцев, демократический кандидат сосредоточился на борьбе за голоса белых избирателей. В какой-то степени белая Америка уже была подготовлена к тому, что Овальный кабинет может занять темнокожий политик, поскольку двух последних государственных секретарей-афроамериканцев – Колина Пауэлла и Кондолизу Райс – долгое время прочили в президенты. Однако на демократических праймериз Обаму поддержали лишь белые интеллектуалы и представители среднего класса, а квалифицированные рабочие, так называемые синие воротнички, отказались отдать ему свои голоса. Поэтому так важно было заручиться поддержкой старой гвардии демократов, которая традиционно пользуется популярностью в американских профсоюзах. Незадолго до выборов Обама появился на митинге во Флориде в сопровождении кумира белых рабочих, бывшего президента США Билла Клинтона, и это, безусловно, принесло ему дополнительные очки. В итоге за сенатора от Иллинойса проголосовали около 40 % белых избирателей, чьи взгляды очень точно отражала характеристика, которую дал Обаме сенатор Джо Байден еще задолго до того, как стал его напарником по предвыборной борьбе: «Это первый конформистский афроамериканец, который может ясно выражать свои мысли, умный, чистый и приятный на вид парень»[47].
Обаме удалось создать образ реформатора, который, с одной стороны, призывал к радикальным переменам, а с другой – стремился обеспечить историческую преемственность. Неслучайно в своих речах он то и дело возвращался к наследию легендарных американцев. Его обращение к нации на митинге в Чикаго после победы на выборах перекликалось с двумя самыми известными выступлениями в истории Соединенных Штатов – геттигсбергской речью Авраама Линкольна и словами, произнесенными Мартином Лютером Кингом за день до своей гибели. Эти персонажи оказались в центре внимания и во время инаугурационных торжеств. Обама принес присягу на Библии Линкольна, а незадолго до инаугурации по его примеру проехал на поезде по маршруту Филадельфия – Вашингтон. Кингу был посвящен концерт «Мы едины», который состоялся 19 января 2009 года за день до принятия присяги.
Несмотря на экономический кризис, команда Обамы не захотела ударить в грязь лицом и завершила политическое шоу на бравурной ноте. По словам экспертов, на инаугурационные торжества было потрачено около $150 млн. Для сравнения: инаугурация Буша в 2005 году обошлась в $42 млн., а Билл Клинтон в 1993 году уложился всего в $33 млн. На церемонии инаугурации присутствовали 2,5 млн. человек. Как отмечала британская газета The Times, «в США остался единственный быстрорастущий сектор экономики, в который вкачиваются колоссальные суммы денег, – это подготовка к инаугурации нового президента». Цены на номера в вашингтонских отелях достигли астрономических высот, а билеты на церемонию, которые вначале распространялись бесплатно, 19 января продавались на черном рынке за $40 тыс. Не менее прибыльной оказалась продажа сувениров, связанных с инаугурацией: американцы скупали шарфы, футболки и брелки с изображением Обамы. Его атрибутика появилась даже на туалетной бумаге и сексуальных игрушках.
Конечно, американцы связывали с новым президентом большие ожидания. Согласно опросу, проведенному газетой The New York Times, 79 % из них с оптимизмом смотрели в будущее. И это несмотря на экономическую рецессию и две войны, которые развязала предыдущая администрация. Американцам вообще свойственно давать определенный карт-бланш новому хозяину Белого дома. Например, в 2000 году они полностью доверились Бушу-младшему, чья решительность и простота так выгодно отличали его от клинтоновской команды.
Эксперты гадали, как долго продлится медовый месяц в отношениях американцев с Обамой. Во многом это зависело от того, сможет ли он отказаться от роли поп-идола ради повседневной рутинной работы и удастся ли ему сгладить противоречия между республиканцами и демократами. Его знаменитое выступление на съезде Демократической партии 2004 года, в котором он призвал к межпартийному единству, понравилась тогда консервативным комментаторам. «Прекрасная речь, да не та партия», – писали они. «В течение восьми лет у власти находилась администрация, которая только углубляла политический раскол в Америке, – писал британский журнал The Prospect. – В итоге страна устала от схватки между кланами Бушей и Клинтонов и идеологических сражений между евангелистами и секуляристами»[48]. И многие надеялись, что Обама, который чтит традиции и с особым пиететом относится к истории США, сможет достучаться до республиканцев. Однако, как утверждал неоконсерватор Уильям Кристол, склонность нового президента к компромиссу сближает его со Стивеном Дугласом – кандидатом от Демократической партии на выборах 1860 года, который, в отличие от республиканца Линкольна, пытался примирить враждующие фракции накануне Гражданской войны.
У британцев призывы Обамы к межпартийному единству вызывали неприятные ассоциации с идеологией «третьего пути», предложенной Тони Блэром в 1997 году. «Я уже знаю, что ждет тебя в будущем, Америка, – заявлял автор The Spectator Джеймс Делинпол, – благодаря природному обаянию своего лидера левые либералы приберут страну к рукам. И однажды американцы проснутся в состоянии тяжелого похмелья и увидят, что их карманы пусты, их собственность растворилась в виртуальном мире, на улицах бесчинствуют преступники, а традиционные свободы стали игрушкой в руках бюрократии»[49].
Однако если в начале 2008 года Обама, действительно, находился под влиянием левых либералов, которые провозгласили его «темнокожим Кеннеди», придя к власти он начал заигрывать с консерваторами. «Новый президент выступает за межпартийное согласие, – заявил незадолго до инаугурации представитель Республиканской партии в Конгрессе Эрик Кантор. – И это не пустые слова»[50]. За время переходного периода Обама успел встретиться со всеми ведущими республиканцами, а также включить в свою экономическую программу требование о снижении налогов.
Бывшие сторонники из левого крыла Демократической партии только разводили руками. Крайне символичной многим экспертам показалась встреча ныне живущих президентов США, на которой Обама предстал в синем республиканском галстуке. А когда за несколько дней до инаугурации он поужинал в компании ведущих неоконов в доме колумниста The Washington Post Джорджа Уилла, у левых радикалов исчезли последние сомнения. «Либерал Обама делит хлеб со своими недавними врагами – Уильямом Кристолом и Чарльзом Краутхаммером, – отмечала The Los Angeles Times. – He означает ли это обращение в новую веру?»[51] На следующий день после торжественного ужина с консерваторами словно в насмешку над своими левыми сторонниками Обама провел для них дежурную пресс-конференцию в офисе переходной администрации.
Еще одним ударом для левых либералов стало приглашение на инаугурацию преподобного Рика Уоррена, который проводил в Калифорнии кампанию в защиту так называемой восьмой поправки о запрещении однополых браков. Ньюгемпширский епископ-гей Джин Робинсон назвал этот шаг «пощечиной» организациям, которые борются за права сексуальных меньшинств. Однако либеральная газета The Boston Globe поддержала решение Обамы, объяснив его желанием нового президента «включить евангелистов в правительство национального единства». По словам преподобного Джима Уоллиса, «то, что молитву на инаугурации прочел Уоррен, неслучайно. Это очень в духе Обамы – попытаться привлечь на свою сторону консервативных христиан, которые были его основными критиками во время предвыборной кампании. Уоррен – настоятель огромной епископальной церкви, имеющей 22 тыс. прихожан, который к тому же стал кумиром молодых евангелистов после выхода в свет бестселлера «Целеустремленная жизнь»[52]. Правда, стоит отметить, что Обама остался верен своим экуменическим принципам и пригласил на инаугурационные торжества епископа Робинсона, который, по его замыслу, должен был послужить противовесом Уоррену.
БОРЬБА С ВЕТРЯНЫМИ МЕЛЬНИЦАМИ
Известный политолог Фрэнсис Фукуяма, тот самый Фукуяма, который после крушения Советского Союза провозгласил «конец истории», пытался уверить американцев, что на смену эпохе Рейгана в США пришла эпоха Обамы. «Демократическая администрация Клинтона, – утверждал он, – в свое время не смогла осуществить переворот: она сохранила основные идеи рейганизма, лишь немного сдвинув политический курс влево. Обама же будет вынужден полностью поменять американское мировоззрение. И к этому его обязывает не только риторика перемен, но и такие объективные факторы, как финансовый кризис и изменение баланса сил на мировой арене»[53].
Для большинства экспертов было очевидно, что в результате кризиса, который угрожает гегемонии доллара и ставит под сомнение жизнеспособность американской экономической модели, Соединенным Штатам придется поумерить свои амбиции. И в этом смысле заслуживал внимания доклад Национального совета по разведке, приуроченный к приходу в Белый дом новой администрации. В 2004 году в аналогичном документе утверждалось, что США сохранят свое доминирующее положение до 2020 года, в докладе 2008 года уже говорилось о многополярном мире, в котором не менее важную роль будут играть такие страны, как Китай, Россия, Индия, Бразилия и Иран.
Придя к власти в столь непростое для Америки время, Обама попытался обратиться к опыту своих предшественников, управлявших Соединенными Штатами в период кризиса. Прежде всего, речь идет об Аврааме Линкольне, который был президентом в эпоху Гражданской войны, и Франклине Рузвельте, находившемся у власти во время Великой депрессии. Эти лидеры использовали при формировании своей администрации похожий принцип: они создавали «команду соперников», в которую входили не простые исполнители, а яркие политики, отстаивающие разные точки зрения и всегда готовые вступить в противоборство. Президент возвышался над схваткой и принимал решения после ожесточенной дискуссии в кабинете министров. Еще в переходный период в интервью телекомпании CBS Обама заявил, что собирается взять эту модель на вооружение.
Вопрос был только в том, где найти подходящие кадры. Политическая сцена США, к сожалению, не изобиловала яркими фигурами, и выбор у нового президента был невелик. В теории он, конечно, мог рассуждать о «команде соперников», но за исключением умеренного республиканца, шефа Пентагона Роберта Гейтса, ему некого было противопоставить старой клинтоновской гвардии. И несмотря на то, что во время предвыборной кампании Обама позиционировал себя как критик вашингтонской политической элиты, при формировании администрации он, не мудрствуя лукаво, предложил ключевые посты партийным бонзам, связанным с четою Клинтонов. Главой администрации Белого дома он сделал бывшего советника Клинтона Рама Эмануэля, а министром юстиции – Эрика Холдера, который в предыдущей демократической администрации занимал пост заместителя генпрокурора. На важнейшую в период кризиса должность главы Минфина был назначен Тимоти Гейтнер, который при Клинтоне был заместителем министра финансов. Его бывший начальник Лоренс Саммерс в администрации Обамы стал главой Национального экономического совета. Грег Крейг, старинный друг Хиллари Клинтон, который представлял интересы ее супруга во время импичмента, занял пост советника Белого дома по юридическим вопросам. Ну и, наконец, сама Хиллари возглавила Государственный департамент. «К чему все наши усилия последних лет, – вопрошал один из партийных активистов, участвовавших в движении Обамы за перемены, – если сейчас мы наблюдаем реставрацию Клинтонов?»[54]
Конечно, призывая оставить в прошлом партийные противоречия, Обама имел в виду не только противостояние с республиканцами, но и соперничество в рядах Демократической партии, которое особенно ярко проявилось во время праймериз. После поражения на предварительных выборах Хиллари Клинтон стала агитировать избирателей в пользу своего бывшего соперника, и, возможно, это сыграло решающую роль в победе Обамы. Как известно, долг платежом красен, но означало ли это, что курс на перемены должны проводить люди, вызывающие стойкие ассоциации с прошлой эпохой?
Существовала версия, что Обама – это политический проект клинтоновской элиты, разработанный на случай провала бывшей первой леди. Этот проект позволил демократам сохранять интригу на праймериз и приковывать к себе внимание прессы на протяжении всей предвыборной кампании. Когда стало очевидно, что Обама имеет больше шансов, чем Клинтон, в борьбе с республиканским кандидатом, его бросили на амбразуру, однако, по сути, это ничего не меняло. Так или иначе, к власти должны были вернуться представители клинтоновской гвардии, которые в экономике придерживались консервативно-центристских взглядов, а во внешней политике ратовали за проведение гуманитарных интервенций.
Левое крыло Демократической партии воспринимало поведение Обамы как предательство общих интересов. Во время праймериз советник темнокожего кандидата Саманта Пауэр назвала Хиллари Клинтон монстром. Конечно, после этого ей пришлось принести извинения и покинуть команду сенатора от Иллинойса, однако ее слова во многом отражали настроения, царившие в предвыборном штабе Обамы. Поэтому происходящая реставрация Клинтонов вызывала недоумение в лагере сторонников радикальных перемен. Как заявил один из активистов антивоенного движения Том Гайдн, «я не понимаю, что происходит. Это даже не сдвиг в сторону центра, это возврат в прошлое»[55]. «Как назначение министров и советников, выступающих за продолжение войны, может быть оправдано их компетентностью и опытом?»[56] – вопрошал другой пацифист, Гленн Гринвальд. По словам The Nation, издания, которое считается библией левых радикалов, «ни один прогрессивно мыслящий политик не был даже упомянут во время формирования кабинета Обамы»[57].
Финансовый блок был отдан на откуп консервативным центристам. Саммерс и Гейтнер являлись протеже легендарного секретаря казначейства Роберта Рубина и сторонниками системы дерегулированного капитализма, которая, по словам самого Обамы, привела к финансовому коллапсу. В 1999 году именно Саммерс, занимавший тогда пост министра финансов, добился отмены закона Гласса – Стигалла, принятого администрацией Франклина Рузвельта для обеспечения контроля за банковской системой.
Эта мера предоставила неограниченную свободу действий инвестиционным и хедж-фондам, которые начали раздувать финансовые пузыри. Среди главных нововведений своей команды Саммерс и Гейтнер называли практику обмена долговых обязательств на акции и развитие рынка деривативов. Как известно, эти нововведения и спровоцировали катастрофу на Уолл-стрит. В тот момент, когда она разразилась, Гейтнер находился на ключевом посту президента Федерального резервного банка Нью-Йорка, и его антикризисная программа мало чем отличалась от проектов администрации Буша. Многие эксперты отмечали, что, поставив разгребать последствия кризиса его главных архитекторов, Обама загнал себя в тупик. Однако сам избранный президент США оправдывал свое решение тем, что в 1990-е годы политика Саммерса и Гейтнера привела к самому продолжительному экономическому росту в истории Америки, в результате которого было создано более 20 млн. рабочих мест, а доходы граждан достигли рекордной отметки. Но как писал по этому поводу журнал The Economist, «взяв в свою администрацию представителей команды Клинтона, Обама не сможет вернуть эпоху экономического роста и низкого уровня безработицы»[58]. Еще одним аргументом Обамы в защиту бывших клинтоновских финансистов был их опыт в борьбе с финансовыми кризисами конца 1990-х – в Восточной Азии, России и Латинской Америке. Только в чем заключался этот опыт? Сторонники Вашингтонского консенсуса, они сыграли важнейшую роль в разработке пакета реформ шоковой терапии, введенного в разгар азиатского кризиса 1997 года в Южной Корее, Таиланде и Индонезии. «Если таким же способом они собираются бороться с нынешним кризисом, – говорили многие политологи, – можно забыть о «новом курсе» Обамы». Сложно было поверить также, что назначенные президентом чиновники согласятся на изменения в финансовой архитектуре мира. Ведь оба экономиста работали в международных финансовых институтах, Гейтнер – в МВФ, Саммерс – во Всемирном банке, и были заинтересованы в сохранении существующей системы.
Эксперты стали сомневаться и в возможности перемен во внешней политике. Все более иллюзорным представлялось обещание Обамы вывести войска из Ирака в течение 16 месяцев после прихода к власти. Не случайно, 27 ноября 2008 года иракский парламент согласился продлить срок пребывания американского воинского контингента еще на три года.
Назначения в состав «военного» кабинета доказывали, что Обама не хочет прослыть пораженцем. Республиканец Роберт Гейтс, который сохранил за собой пост министра обороны, всегда отвергал идею точного расписания вывода американских войск из Ирака, и, если бы Обама настаивал на выполнении своих предвыборных обещаний, убедить главу Пентагона остаться на своем посту было бы крайне сложно. Не менее показательным стало назначение на должность советника по национальной безопасности сторонника Маккейна генерала Джеймса Джонса, бывшего командующего силами НАТО. Хиллари Клинтон, которая возглавила Госдепартамент, также не обещала быстрого вывода войск с Ближнего Востока и на демократических праймериз не раз осуждала радикальную позицию Обамы.
Некоторые эксперты продолжали настаивать, что назначение Клинтон объяснялось желанием Обамы сформировать «команду соперников» и заручиться поддержкой демократов, голосовавших за нее на предварительных выборах. Хиллари сравнивали с госсекретарем рузвельтовской администрации Корделлом Халлом, который обладал большим влиянием в Демократической партии и поэтому получил свой пост, однако так и не сумел войти в ближний круг президента и постепенно превратился в маргинальную фигуру в кабинете министров. Вспоминали и о негласной традиции в политической жизни США, существующей еще со времен Джона Квинси Адамса и Генри Клея, согласно которой проигравший на предварительных выборах кандидат получал Госдепартамент в качестве утешительного приза.
«Трения между Госдепом и Белым домом являются лейтмотивом американской истории»[59], – утверждал профессор университета Северной Каролины Майкл Хант. Однако, колумнист The New York Times Томас Фриман придерживался противоположной точки зрения. «Успехи во внешней политике зависят от того, сложились ли отношения президента и госсекретаря, – писал он. – Примером для подражания должно быть сотрудничество Ричарда Никсона и Генри Киссинджера, а также Джорджа Буша-старшего и Джеймса Бейкера. Такое понимание не может возникнуть между недавними соперниками, которые принадлежат к разным поколениям и политическим традициям»[60]. Тем не менее, эксперты были убеждены, что в новом кабинете не возникнут философские разногласия наподобие тех, что существовали в первой администрации Буша между «голубями» Колина Пауэлла и «ястребами» Дика Чейни.
В подходах Клинтон и Обамы к внешней политике, безусловно, были точки пересечения: оба они стремились улучшить репутацию Америки в мире и выступали за увеличение численности воинского контингента в Афганистане. Правда, Хиллари прославилась своими жесткими заявлениями по иранскому вопросу и вряд ли смогла бы представлять Америку на переговорах с Тегераном, к проведению которых призывал Обама. К тому же она занимала чересчур произраильскую позицию, что во многом объяснялось влиянием еврейского лобби в ее избирательном округе – штате Нью-Йорк.
Несмотря на то, что во время праймериз Обама заявлял, что внешнеполитический опыт Клинтон ограничивается фуршетами с иностранными послами, это, конечно, было не совсем так. Да, Хиллари всегда хотелось преувеличить свою роль во внешней политике, и в данном случае хрестоматийным примером стал ее рассказ об обстреле, которому она подверглась в Боснии, тут же опровергнутый всеми мировыми СМИ. Однако, будучи первой леди, она сумела выстроить отношения со многими мировыми лидерами. Клинтон принимала в Белом доме находившуюся в изгнании Беназир Бхутто, муж которой Асиф Зардари стал в 2008 году президентом Пакистана. В 1990-е годы Хиллари посетила 80 стран и запомнилась всем дипломатическим тактом и изяществом. Кроме того, она приобрела определенные внешнеполитические навыки в Сенате, где являлась членом комитета по вооруженным силам и занималась проблемами, связанными с военными действиями в Ираке и Афганистане. Ее избирательную кампанию поддерживали ведущие американские дипломаты из обеих партий, в том числе Генри Киссинджер и Ричард Холбрук. И ожидалось, что многие из них войдут в ее мини-кабинет в составе Госдепартамента.
С другой стороны, некоторые эксперты предупреждали, что Хиллари может не справиться со своими новыми обязанностями, поскольку не обладает управленческими талантами: она потерпела поражение на праймериз, хотя считалась абсолютным фаворитом, а в 1990-е годы полностью провалила реформу здравоохранения. Многие говорили о том, что у нее могут возникнуть проблемы с вице-президентом Джо Байденом, который возглавлял сенатский комитет по международным отношениям и являлся признанным специалистом в этой области, да и с президентом ей, скорее всего, не избежать разногласий. «Возможно, Обама еще пожалеет о своем решении назначить главой Госдепа такую независимую фигуру, – отмечал The Washington Post. – Внешняя политика – это та сфера, в которой новый президент мог бы проявить себя, и в высшей степени неразумно делить лавры с Хиллари и ее свитой»[61].
ПЕРВЫЕ ШАГИ: ЭПОХА КОМПРОМИССА
Каждая новая администрация в первую очередь отменяет порядки, заведенные ее предшественниками из другой партии. И когда Барак Обама, считавшийся самым либеральным членом Сената, занял место консерватора Джорджа Буша, ни у кого не возникало сомнений, что в Америке произойдет демонтаж системы, созданной республиканцами. Советники Обамы начали готовиться к этому за несколько месяцев до ноябрьских выборов и даже составили приблизительный список бушевских эдиктов, которые новый президент сможет отменить одним росчерком пера. Тем не менее, как заявил в феврале 2009 года стратег Демократической партии Мэтт Бенент, оказавшись в Белом доме, люди Обамы «не повторяют ошибки Буша, сметавшего все, на чем был отпечаток пальцев президента Клинтона. Они стараются выплеснуть воду, оставив в купели ребенка»[62].
Центральным лозунгом своей предвыборной кампании Обама сделал обещание перемен и поэтому, придя к власти, не мог отказаться от символичных жестов, вызывавших по всему миру новые приступы «обамамании». Таким жестом, безусловно, стал указ о закрытии спецтюрьмы в Гуантанамо, которая оказывала крайне негативное влияние на образ Америки в мире и ассоциировалась с пытками и произволом военных трибуналов. Правозащитники указывали, что в Гуантанамо представители американской армии одновременно выполняют функции тюремщиков, судей и присяжных, и рассуждали о несовместимости таких порядков с ценностями, закрепленными в Конституции США. Обама подхватил эти обвинения и в присущей ему афористичной манере заявил, что Америка должна отвергнуть «ложный выбор между безопасностью граждан и их идеалами»[63].
Конечно, новому президенту хотелось предстать в роли канатоходца Тибула, разгромившего тюрьмы Трех Толстяков, но, в итоге, закрытие Гуантанамо оказалось популистским лозунгом, который невозможно реализовать на практике. «Решение закрыть лагерь для военнопленных на островной базе в Гуантанамо, – писал редактор журнала The American Thinker Рик Моран, – это продолжение политического шоу, которое началось в 2007 году. Обаме пора уже понять, что предвыборная кампания закончилась и на смену популизму должен прийти прагматизм»[64]. Очевидно, что демократическая администрация не знала, что делать с заключенными, которые находились в Гуантанамо, как их судить и можно ли надеяться, что, оказавшись на свободе, они не организуют новый теракт наподобие 11 сентября.
Тем более что, согласно отчетам спецслужб, по меньшей мере 60 из 500 освобожденных узников этой тюрьмы были вновь замешаны в антиамериканских террористических операциях. «Президент ставит чаяния толпы выше здравого смысла и жертвует безопасностью США в угоду весьма сомнительным символам, – отмечал член комитета Палаты представителей по разведке республиканец Петер Хоэкстра. – Это плохой знак для любой администрации, особенно когда верховный главнокомандующий так мало смыслит в вопросах национальной безопасности»[65]. Даже некоторые правозащитники выступали против закрытия Гуантанамо на том основании, что бывших заключенных могут выслать на родину, где их судьба окажется намного плачевней, чем в Соединенных Штатах.
Желая избавиться от наследия предыдущей администрации, Обама объявил также о закрытии тайных тюрем ЦРУ за границей и издал указ о запрещении методов допроса, не зафиксированных в Полевом уставе армии США. Что касается тюрем, то, как и в случае с Гуантанамо, вставал вопрос о судьбе заключенных, а ограничение деятельности спецслужб могло отразиться на их эффективности. Консерваторы предупреждали, что «эдикт нового президента возродит в ЦРУ характерный для клинтоновской эпохи страх перед рискованными действиями, когда разведчики несколько раз видели Бен Ладена в перекрестии прицела, но боялись нажать на курок без санкции юрисконсульта». И как бы ни нравился Обаме образ президента-освободителя, такие настроения в спецслужбах он допустить не мог. Не случайно, подписав указы, которые вызвали ликование среди левых либералов, он тут же огорошил их постановлением о создании специальной комиссии, которая в очередной раз должна была определить, что следует считать недозволенными методами допроса. «Новый президент, – писал консервативный колумнист Чарльз Краутхаммер, – не будет принимать решения на основе предвыборной риторики. В ближайшее время он пересмотрит отношение к наследию предыдущей администрации и найдет достоинства в концепции власти и безопасности, разработанной Диком Чейни»[66].
Для первых дней Обамы вообще были характерны половинчатые меры. Взять хотя бы указ, запрещающий принимать на работу в новую администрацию лоббистов, который был подписан с величайшей помпой сразу после инаугурации нового президента. Этот указ должен был символизировать разрыв с предыдущей эпохой, когда даже на посту вице-президента находился чиновник, продвигающий интересы нефтяной компании Halliburton. Правда, уже на следующий день Обама был вынужден нарушить собственное распоряжение, назначив на должность заместителя министра обороны Уильяма Линна, лоббиста компании Raytheon, и предложив высокий пост в министерстве здравоохранения представителю антитабачного лобби Уильяму Корру.
Подготовленный Обамой пакет экономических мер по выходу из кризиса также производил противоречивое впечатление. «40 % средств предполагается пустить на снижение налогов, и это раздражает демократов, а 60 % – на социальные нужды, и это не нравится республиканцам»[67], – отмечал вице-президент Джо Байден. После голосования в Палате представителей стало очевидно, что сгладить межпартийные противоречия новому президенту не удастся: ни один из республиканцев не поддержал проект Обамы, считая его слишком дорогим и неэффективным. И хотя демократическое большинство его одобрило, эксперты заговорили о первой политической неудаче президента. Ведь из $825 млрд., которые планировалось потратить из бюджета, $275 млрд. он отвел на налоговые льготы и был убежден, что это удовлетворит республиканцев. Однако ничто не могло примирить их с грандиозными расходами на социальные проекты, многие из которых были рассчитаны на долгосрочную перспективу. Консервативные обозреватели утверждали, что разработка альтернативных источников энергии, масштабное строительство дорог и компьютеризация системы здравоохранения – это отнюдь не первоочередные задачи в условиях экономического кризиса. Республиканцы были убеждены, что политика Обамы укладывается в формулу: «расточительство-налоги-долги». Но сторонники президента не воспринимали их критику всерьез. «Да, – говорили они, – новая демократическая администрация расточительна, но именно этого от нее и ждали американские избиратели. Ведь как только на горизонте замаячил кризис, стало очевидно, что страна стоит на пороге очередного периода социальной расточительности. При этом стоит отметить, что пакет мер по стимулированию экономики, предложенный Обамой, обойдется Соединенным Штатам не дороже милитаристских проектов команды Буша».
Либералы видели в проекте Обамы прелюдию к радикальным реформам в области здравоохранения, транспорта и энергетики. «Президент США может реализовать программу «большого правительства» под предлогом неотложных мер по выходу из кризиса»[68], – писал журнал The Economist. Обама обещал запустить проект развития инфраструктуры страны, сравнимый с масштабным строительством автомагистралей при президенте Эйзенхауэре в 1950-х, начать капитальный ремонт школ и общественных зданий, выделить инвестиции на разработку новых технологий. Экономические советники президента утверждали, что в ближайшее время им удастся создать 4 млн. рабочих мест.
«В основе программы Обамы лежит стремление найти более справедливое и эффективное соотношение между государством и рынком, – писал в The International Herald Tribune известный публицист Тимоти Гартон Эш. – Новый президент энергично возрождает либеральные ценности. И когда-нибудь, наверное, уже в годы второго срока он вернет славное имя и самому понятию «либерализм»[69]. В качестве доказательства либеральных устремлений Обамы эксперты приводили указ о снятии запрета на финансовую помощь феминистским негосударственным организациям, которые занимаются абортами за границей, и ряд мер, направленных на защиту окружающей среды. Представители левого крыла Демократической партии, в том числе бывший вице-президент Ал Гор, давно уже призывали к «зеленой революции», и Обама, намеревался ее возглавить.
Чтобы удовлетворить требования «зеленых», новый президент приостановил действие последних распоряжений Буша, позволявших бурение на континентальном шельфе, и пообещал в течение ближайших 10 лет выделить $150 млрд. на разработку альтернативных источников энергии. Обама также призвал Федеральное агентство по защите окружающей среды пересмотреть решение, согласно которому администрациям штатов было запрещено ужесточать нормы выбросов выхлопных газов.
Однако становилось очевидно, что и в экологических вопросах президента может подвести типичная для него склонность к компромиссам. Чего стоил, например, эпизод с серыми волками. Незадолго до окончания срока президентских полномочий Буш принял решение об их изъятии из перечня особей, пользующихся защитой государства. Это решение вызвало бурю протестов со стороны защитников окружающей среды и восторги местных властей на западе страны, где на хищников жалуются скотоводы. Когда к власти пришел Обама он не отменил решение своего предшественника, а лишь отсрочил начало отстрела животных. Эта полумера, естественно, вызвала недовольство «зеленых».
Нерешительность Обамы выглядела немного странно, особенно учитывая тот факт, что ни один из американских лидеров не получал такой карт-бланш. Теоретически первые несколько месяцев темнокожий президент мог проводить в жизнь любые непопулярные меры, не оглядываясь при этом на своих оппонентов. Конечно, – говорили скептики, – либералы в любом случае будут прославлять дней Бараковых прекрасное начало, но вопрос в том, сумеет ли новый лидер вернуть либерализму позиции, утраченные им во время рейгановской революции. «Если Обама будет править успешно, это станет началом новой эры, – писал колумнист The Washington Post Уильям Кристол, – если нет, страна вновь будет открыта для консервативных экспериментов»[70].
В Соединенных Штатах принято оценивать результаты деятельности президента за первые сто дней правления. За этот период Франклин Рузвельт, например, заложил основы «нового курса», Линдон Джонсон разработал амбициозную программу социальных реформ, получившую название «Великое общество», а Рональд Рейган принял решение о резком сокращении налогов, которое положило начало рейганомике. Оценки первых ста дней Обамы были диаметрально противоположными. «Планы, которые обозначила демократическая администрация впервые сто дней у власти, увеличат национальный долг США настолько, насколько его не смогли увеличить все, вместе взятые, президенты за последние 200 лет»[71], – отмечал республиканский конгрессмен Линн Дженкинс. А редактор Newsweek International Фарид Закария, напротив, утверждал, что «за свои первые сто дней Обама успел совершить столько благих дел, что любой другой президент может ему только позавидовать»[72].
По данным Gallup, несмотря на экономический кризис, в первые сто дней рейтинг нового президента снизился не более, чем в свое время у Билла Клинтона, – всего на 3 %. Тем не менее многие продолжали утверждать, что Обама – фигура несамостоятельная и в Америке происходит реставрация Клинтонов. Однако, как утверждал российский политолог проректор МГИМО Алексей Богатуров, «в тандеме Обама-Клинтон явно доминирует Обама. Он куда более харизматичный политик, и Хиллари на его фоне, конечно, проигрывает. К тому же президента поддерживает круг людей, рассчитывающих сделать карьеру внутри либеральной части истеблишмента, оттеснив кланы Демократической партии, которые ассоциируются с Клинтонами. Эти люди понимают, что если Обама не освободится от влияния старой демократической гвардии, то они рискуют стать очередным потерянным поколением. Именно молодые карьеристы составляют опору Обамы внутри правящей партии, и до тех пор, пока он не сделал ни одной крупной ошибки, Клинтонам его не одолеть. Неслучайно экс-президент Билл Клинтон – политик с поразительным чутьем – предостерегает свою супругу от противостояния с Обамой, у которого пока сохраняется колоссальное энергетическое и репутационное преимущество над всеми конкурентами»[73].
Впечатление портила лишь склонность президента к компромиссам, постепенно становившаяся фирменным стилем его правления. В сентябре 2009 года ради достижения призрачного межпартийного единства Обама принес в жертву консерваторам одного из членов своей команды – чернокожего активиста Вэна Джонса. Джонс, занимавший пост его советника по вопросам экологии, в прошлом называл себя марксистом, работал в радикальных организациях и принадлежал к движению «правдолюбцев» – политиков, обвиняющих администрацию Буша в причастности к терактам 11 сентября. Его присутствие в Белом Доме раздражало республиканцев, и Обама отправил его в отставку, дав повод для язвительных комментариев в прессе о том, что президент «не умеет отстаивать ни свои убеждения, ни своих людей».
Не удалось Обаме проявить характер и в вопросе о правах геев, которые рассчитывали, что темнокожий президент станет их естественным союзником. Выступая на благотворительном обеде, устроенном организацией «Кампания за права человека», Обама пообещал, правда, отменить известное правило «не спрашивают – молчи», которое позволяло геям служить в вооруженных силах США лишь в том случае, если они не распространяются о своей сексуальной ориентации. Однако правозащитники тут же начали критиковать его за промедление в этом вопросе и устроили в Вашингтоне многотысячный митинг с требованием отменить запрет на заключение однополых браков. «Политика по отношению к сексуальным меньшинствам – это лишь один из наиболее ярких примеров компромиссной стратегии Обамы, – утверждал профессор Джорджтаунского университета Стивен Уэйн. – Президент избегает рискованных решений, никогда не идет ва-банк и старается занять центристскую умеренную позицию по большинству вопросов»[74]. При этом, как отмечал американский политолог Харлан Уллман, «с того момента, как Барак Обама пришел к власти, в идеологии ведущих партий США произошли значительные изменения. Демократическая партия все больше сдвигается влево, Республиканская – вправо. И центристские убеждения президента не находят понимания у представителей политической элиты»[75].
Бывшие сторонники из левого крыла Демократической партии негодовали, наблюдая за тем, как их кумир идет на поводу у клинтоновской гвардии и умеренных республиканцев. «Есть ли у Обамы хребет? – вопрошал либеральный комментатор Ричард Коэн – Его действия не имеют ничего общего с предвыборными обещаниями. Во всех вопросах, начиная от здравоохранения и заканчивая экологией, он сдает позиции консерваторам»[76]. В комедийном телешоу «Субботний вечер в прямом эфире», отражающем настроения левых либералов, была представлена сценка, в которой Обама демонстрирует огромный список невыполненных обещаний.
Компромиссная политика президента не добавляла ему очков и в республиканском лагере. «Великая старая партия, – писала The New York Times, – готова «прокатить» любую инициативу Обамы. Такое ощущение, что если бы он даже вынес на голосование вопрос о необходимости солнечного света по утрам, ни один республиканец не поддержал бы его»[77]. Конечно, самыми убежденными критиками президента стали правые консерваторы и евангелисты, составлявшие главную опору предыдущей администрации. Они называли Обаму «предателем американских идеалов», «красным дьяволом» и «волком в овечьей шкуре», сравнивали его с Че Геварой и фюрером, обвиняли демократическую администрацию в насаждении культа личности первого чернокожего президента.
Очень показательным в этом смысле стал отказ ряда штатов Среднего Запада транслировать обращение Обамы к школьникам. Вполне невинные слова американского лидера, который призвал учеников посещать занятия и стремится к знаниям, местные республиканские бонзы трактовали как «пропаганду социалистической идеологии». Что уж говорить о том, как был воспринят правыми консерваторами агитационный фильм «Клятва Обаме», в котором звезды Голливуда Эштон Кучер и Деми Мур торжественно клялись «быть слугами президента».
Многие эксперты отмечали, что аргументы двух ведущих партий не выдерживают критики, и образовавшийся идеологический вакуум пытаются заполнить группы сумасшедших маргиналов. Прежде всего, речь шла о так называемом движении за правильное рождение, утверждавшем, что Барак Обама не может быть президентом, поскольку родился он, якобы, за пределами Соединенных Штатов. Возрождалась также идеология «народного ополчения», основанная на различных конспирологических теориях. Ополченцы активно участвовали в антиправительственных демонстрациях, причем приходили на них с огнестрельным оружием. Они все чаще ссылались на слова одного из американских отцов-основателей Томаса Джефферсона, который считал, что «дерево свободы время от времени нужно поливать кровью тиранов». «Во всех этих движениях, – отмечал бывший президент США Джимми Картер, – огромную роль играют расисты, которые все еще убеждены, что афроамериканцы недостаточно квалифицированны для того, чтобы управлять страной»[78].
«ОБАМАФОБИЯ»: «ОРГИЯ РАСХОДОВ И ВАКХАНАЛИЯ ДОЛГОВ»
К осени 2009 года рейтинг Обамы начал стремительно падать, и к октябрю снизился почти на 20 пунктов, достигнув отметки в 51 %. Тем не менее президент по инерции продолжал политическое шоу, которое началось в 2007 году. Он не сходил с телеэкранов, раздавал комментарии, то и дело выступал с новой «исторической» речью. Однако если во время предвыборной кампании такая модель поведения выглядела вполне естественно, в повседневной жизни она вызывала недоумение у большинства американцев. Более скептичным становилось и отношение к риторике «перемен». Обамамания в американском обществе уступала место обамафобии. Критики начали обвинять администрацию США в «бесконтрольных расходах» – на здравоохранение, финансовую поддержку банковской системы и автомобильной индустрии. Как утверждал американский политолог Харлан Уллман, «бесконтрольные расходы вынудили отвернуться от Обамы и многих представителей бизнеса, недовольных государственным вмешательством в экономику»[79].
Любопытно, что во время предвыборной кампании Обама выступал за «ответственную бюджетную политику», обещая «строку за строкой проверять федеральный бюджет, убирая из него затратные программы». Однако, как писал экс-советник Джорджа Буша-младшего Карл Роув, «вместо того чтобы выполнить свое обещание, президент, невзирая на экономический кризис, предложил нам оргию расходов и вакханалию долгов»[80]. В том случае, если демократическая администрация осуществит запланированные ею проекты, – говорили специалисты, – в ближайшие пять лет государственный долг США удвоится, а через 10 лет возрастет в три раза.
Как мы уже отмечали, команда Обамы сразу после прихода к власти пообещала провести «зеленую революцию». В Соединенных Штатах тема глобального потепления раскручивалась лоббистами компаний, занимающихся развитием «зеленых» технологий и альтернативных источников энергии, таких, например, как фирма «Kleiner Perkins», партнером которой являлся бывший вице-президент США Ал Гор. Существовало также множество неправительственных организаций, провозгласивших своей целью борьбу с климатическими изменениями вроде «Sierra Club», «Greenpeace», «Ozone Action» и «Clean Air, Cool Planet». Под их влиянием и формировалась энергетическая политика Обамы. Министром энергетики был назначен лауреат Нобелевской премии по физике Стивен Чу, который считался одним из ведущих специалистов по возобновляемым источникам энергии. «Нынешняя ситуация напоминает 1977 год, – писал американский публицист Джошуа Грин в журнале Atlantic, – экономика в депрессии, кризис на Ближнем Востоке, новый харизматичный демократ в Белом доме, который произносит проповеди о чистой энергии. Однако сможет ли Обама преуспеть там, где это не удалось Джимми Картеру?».
Попытавшись протолкнуть через Конгресс далеко не радикальный законопроект, предполагавший сокращение выбросов на 17 % к 2020 году, демократы столкнулись с серьезной оппозицией, отражавшей интересы угледобывающих и нефтяных компаний. «Акт об американской чистой энергии» со скрипом был принят в Палате представителей и надолго застрял в Сенате, где были очень сильны скептические настроения по поводу «зеленых» реформ. «Потребителей в США пытаются убедить в том, что, сократив выбросы CO2, мы остановим глобальную катастрофу, – отмечал республиканский сенатор Джеймс Инхофф. – Однако эта гипотеза, которую нам выдают за аксиому, на самом деле является фальшивкой, как и все теории, продвигаемые либералами»[81]. Экс-губернатор Аляски Сара Пейлин, которая выражала настроения консервативной Америки, призвала Обаму «дать отпор леворадикальным экологистам».
Однако президент, напротив, добился постановления федерального Агентства по охране окружающей среды, в котором ряд парниковых газов, в том числе и CO2, признавались загрязняющими веществами. В результате правительство получило право регулировать количество выбросов вне зависимости оттого, пройдет ли закон о чистой энергии верхнюю палату Конгресса. Как писала немецкая газета Die Tageszeitung, «команда Обамы сработала превосходно, вначале занизив ожидания, а затем позволив своему шефу почувствовать себя триумфатором». «Решение агентства является настоящим прорывом в борьбе с глобальным потеплением, – писал эксперт Совета по международным отношениям Майкл Леви. – Оно позволяет говорить о подлинном американском лидерстве»[82].
Самым масштабным проектом Обамы, безусловно, была реформа здравоохранения. В 2009 году 46 миллионов американцев не имели медицинской страховки. Демократическая администрация планировала охватить ею 97 % населения США и ввести государственное медицинское страхование, а их оппоненты утверждали, что «Америка семимильными шагами движется к социализму». «Частные страховые компании и их союзники из Республиканской партии всеми силами будут противостоять попыткам национализации системы здравоохранения, – отмечал политолог Пол Валдман. – Они вспоминают, что год назад Обама сам называл такую реформу экстремальной, и призывают его не повторять ошибок клинтоновской администрации, выступившей с аналогичным проектом в 1993 году»[83].
Однако эксперты утверждали, что для Обамы реформа здравоохранения стала вопросом личного престижа, своеобразным политическим Рубиконом, который ему во что бы ни стало необходимо было перейти. Не случайно демократы провозгласили Обаму «верховным здравоохранителем», а республиканцы переименовали систему государственного медицинского страхования из Medicare в Obamacare. Гарвардский профессор Тед Скотспол предсказывал, что президенту удастся провести реформу здравоохранения, правда в сильно урезанном виде. «Ради того чтобы сохранить общественное согласие, – отмечал он, – Обама пожертвует своими идеалами и капитулирует перед самым началом сражения. В поисках компромисса он загонит себя в угол в тот момент, когда его противники деморализованы»[84].
Политические баталии, разразившиеся в США по поводу реформы, выступления консерваторов, обвинявших Обаму в желании национализировать систему здравоохранения и массовые демонстрации против «диктатуры всеобщего благосостояния», убеждали многих обозревателей в том, что президенту не удастся осуществить свои замыслы. Однако Обама проявил завидное упорство, отстаивая свой проект. В день голосования – 7 ноября 2009 года – он даже приехал на Капитолий и провел закрытую встречу с однопартийцами, что происходит лишь в исключительных случаях. «Большинство государственных служащих, – заявил он, – заканчивают свою карьеру, так и не сумев совершить что-то важное для страны. Сегодня у вас есть такая возможность, и было бы печально упустить шанс, который дается один раз за жизнь целого поколения. Когда в Саду роз я подпишу закон, делающий медицинское обслуживание доступным для всех американцев, это станет политическим триумфом нашей партии»[85]. Президент лично встречался с теми членами Палаты представителей, которые сомневались в предложенном проекте реформы, уламывая их поддержать первую серьезную инициативу демократической администрации. Обаме удалось даже перетянуть на свою сторону одного республиканца – представителя Нового Орлеана Джозефа Као, которому в обмен на поддержку законопроекта он пообещал помощь в восстановлении города после урагана Катрина.
За несколько дней до голосования Обама согласился пойти на уступки консервативным демократам, которые внесли поправку к законопроекту, вводящую запрет на использование медицинской страховки для покрытия расходов на аборты. И хотя левые либералы в очередной раз осудили президента за склонность к компромиссам, им пришлось смириться с решением, которое в итоге склонило чашу весов в пользу сторонников реформы. Законопроект был принят с минимальной разницей в пять голосов. За него проголосовали 220 конгрессменов, против – 215. Тем не менее спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси назвала голосование историческим и сравнила его с принятием закона о социальном обеспечении 1935 года, который стал частью рузвельтовского «Нового курса» и акта о здравоохранении, 1965 года, вошедшего в джонсоновскую программу построения «Великого общества»[86]. Как утверждал проректор МГИМО Алексей Богатуров, «в последние годы реформа системы здравоохранения стала одним из самых болезненных вопросов для американского общества. И тот факт, что Обаме удалось убедить конгрессменов принять его версию реформы, говорит сам за себя. В 1993 году попытка Клинтона провести через Конгресс аналогичный проект не увенчалась успехом»[87].
Законопроект предусматривал введение обязательной медицинской страховки для каждого американца, ужесточение контроля над частными страховыми компаниями и создание «биржи страховок», стимулирующей развитие страхового бизнеса. Противники Обамы утверждали, что реформа, на которую из федеральной казны будет выделено около триллиона долларов, обернется для Соединенных Штатов непосильным налоговым бременем, вызовет скачок инфляции и сокращение рабочих мест. «Государственное страхование снизит качество медицинского обслуживания, – отмечал республиканский представитель штата Техас Кевин Брэди. – К тому же, Obamacare отправит в нокаут финансовую систему США. Принятие законопроекта – это пиррова победа президента, который поставил крест на своем политическом будущем, потакая гаргантюанскому аппетиту сторонников «большого правительства»[88].
Критики утверждали, что на фоне растущего дефицита госбюджета предлагаемая Обамой реформа – это настоящий пир во время чумы. Однако сторонники президента парировали обвинения, заявляя, что реформа будет оплачиваться за счет новых поступлений в казну, среди которых 5,4-процентный налог на доходы граждан, зарабатывающих более полумиллиона долларов в год и предлагаемый сенаторами 40-процентный налог на самые роскошные «кадиллаковые» медицинские страховки, предоставляемые работодателями.
После того как 24 декабря 2009 года реформа здравоохранения была утверждена Сенатом, политологи заговорили о том, что администрация Обамы созрела к проведению собственного «нового курса». «До настоящего момента, – писал британский журнал The Prospect, – демократы фактически ничего не сделали во внутренней политике. Программа социальных реформ, которую они презентовали во время предвыборной кампании, оказалась абсолютно не проработанной. После победы на выборах команда Обамы несколько растерялась, и только сейчас начинает выходить из ступора»[89].
Однако экономика США, несмотря на принятый Конгрессом пакет экономических стимулов, по-прежнему находилась в плачевном состоянии. Правда, Обама пытался свалить вину за экономические неурядицы на своих предшественников. «Я ничего не имею против того, чтобы убираться за этими ребятами, – заявил он, выступая перед крупнейшими спонсорами Демократической партии, – но когда я драю пол, не надо говорить мне, что я делаю это слишком медленно или неправильно держу тряпку»[90]. Он обвинял администрацию Буша в связях с лоббистами и подчинении государственной политики интересам нескольких крупных корпораций. Но критики уверяли, что у демократического президента также «рыльце в пушку».
По словам некоммерческой организации «Центр контроля за политикой», в 2008 году в предвыборный фонд Обамы деньги вносили две известные корпорации «Fannie Мае» и «Freddie Mac», с которых, как мы знаем, начался ипотечный кризис в США, а затем и мировой финансовый кризис. Казалось бы: ну, взял деньги Обама от спонсоров, что тут такого? Вроде бы ничего. Только возникал вопрос, почему после того как новый президент завоевал Белый дом, первым делом он занялся спасением «Fannie Мае» и «Freddie Mac», выделив миллиарды долларов под залог акций. Почему в программе борьбы с кризисом, утвержденной Обамой в 2009 году, предусматривалась крупная финансовая помощь именно этим двум корпорациям, а, например, не «Lehman Brothers»? Как отмечал известный американист, заместитель главного редактора газеты «Завтра» Александр Нагорный, «президент оказал решающую поддержку только двум тонущим гигантам – «Fannie Мае» и «Freddie Mac». Они не стали государственными корпорациями, но позаимствовали из бюджета колоссальные средства, которые, кстати, так и не были возвращены. И единственным объяснением этому факту может быть то, что у этих компаний хорошее лобби»[91].
Президент продолжал метать громы и молнии, обещая разобраться с «жирными котами» с Уолл-стрит и лишить их гигантских бонусов. Он уверял, что не позволит финансовым воротилам кататься как в сыр в масле, наживаясь на кризисе и расшатывая финансовую систему государства. Но, увы, все ограничилось лишь громкими заявлениями. «Реформа Уоллстрит провалилась, – утверждал старший научный сотрудник ИНИОН РАН Сергей Костяев. – Обама не решился вернуть старую систему, которая предполагала четкое разделение между коммерческими и инвестиционными банками. Деньги населения по-прежнему перекачивались на фондовый рынок через инвестиционные подразделения банков, и следовательно, кризисные явления в американской экономике только нарастали. А ведь с тех пор как в 30-е годы Франклин Рузвельт разделил банковский сектор, Америка долгое время обходилась без существенных кризисов. Были спады, рецессии, но существенных кризисов не было. Однако в 1998 году министр финансов в администрации Клинтона Роберт Рубин отменил рузвельтовское правило. Объяснялось это тем, что секретарь казначейства находился под влиянием банкиров из «Сити-Груп», которые и взяли его потом на работу»[92].
В 2010 году состоялся завтрак Обамы с топами высокотехнологичных и интернет корпораций. A Los Angeles Times опубликовала суммы пожертвований этих корпораций в избирательный фонд Обамы и суммы, выделенные ими на лоббирование. От «Apple» на завтраке присутствовал Стив Джобс, от «FaceBook» – Марк Цукерберг. Как сообщали некоммерческие организации «Центр контроля за политикой» и «Sunlight Foundation», эти компании внесли в избирательный фонд Обамы более 2 миллионов долларов и в три раза больше потратили на лоббирование нужных им решений в федеральных инстанциях Вашингтона.
Данные цифры выглядели особенно смешно, если вспомнить, что Обама с пеной у рта доказывал, что не позволит лоббистам оплатить его приход к власти и оказывать влияние на работу демократической администрации. «Лоббисты никуда не делись из вашингтонских властных структур, – отмечал Нагорный, – При Обаме они чувствуют себя точно также как при Буше и при Клинтоне. Эти люди, связанные с крупными банковскими корпорациями, продолжают диктовать политику государства»[93].
ПО СТОПАМ ТЕЛЬМЫ И ЛУИЗЫ
К 2010 году в Америке стали признавать, что Обама постепенно избавляется от иллюзий периода предвыборной кампании и начинает понимать, что шоу не может продолжаться вечно. «Куража у него поубавилось, – писала The New York Times, – зато появилась спокойная уверенность. Он меньше играет на публику, становится солидней, респектабельней. Похоже, что за год Обама свыкся с властью, а публика осознала, наконец, что он уже не соискатель, а президент»[94].
Забылся и основной лозунг кампании о разрыве со столичной политической элитой, не понимающей проблем «реальной Америки». И как бы некоторые эксперты ни пытались доказать, что представители истеблишмента «подставили» чернокожего лидера, кинув его на амбразуру в кризисный период, Обама все меньше походил на изгоя, способного бросить вызов «вашингтонской системе».
Отказ от масштабных проектов эпохи Буша, призванных укрепить американскую гегемонию, вызывал раздражение у консерваторов, да и у многих центристов, верящих в Рах Americana. Но политологи отмечали, что президент отходит от центристских взглядов, которые не принесли ему никаких дивидендов, и возвращается на леволиберальные позиции.
Своеобразным тестом для него стали местные выборы, состоявшиеся в начале ноября 2009 года. В двух ключевых штатах – Нью-Джерси и Вирджинии выбирали губернаторов, а в Нью-Йорке – мэра города. Белый дом приложил максимум усилий для того, чтобы победу одержали демократические кандидаты. Обама лично агитировал за них на митингах, сделав себя неформальным участником гонки. Однако, несмотря на его поддержку, демократы с треском провалили выборы.
Конечно, переизбрание на третий срок мэра Нью-Йорка Майкла Блумберга, который одолел демократа Уильяма Томпсона, было вполне закономерно: Блумберг затратил на свою предвыборную кампанию в 10 раз больше средств, чем его оппонент. Не стала неожиданностью и победа республиканца Боба Макдоннела на губернаторских выборах в Вирджинии, которая всегда считалась вотчиной Великой старой партии. (Обама стал первым с 1964 года демократическим кандидатом в президенты, который завоевал этот штат. И все просто вернулось на круги своя). Однако поражение в Нью-Джерси, где ставленнику республиканцев федеральному прокурору Крису Кристи удалось переиграть действующего губернатора-демократа экс-президента Goldman Sachs Джона Корзайна, стало серьезным ударом для Белого дома. В «темно-синем» штате, который считается одним из самых либеральных в стране, Демократическая партия очень рассчитывала на победу, тем более что на протяжении всей гонки кандидаты шли ноздря в ноздрю.
Провал правящей партии многие эксперты объясняли тем, что традиционный электорат Обамы – молодежь, афроамериканцы и латиноамерикацы – проигнорировал промежуточные выборы. К тому же, независимые избиратели, которые в 2008 году поддержали демократического кандидата, разочаровались в нем. Согласно данным экзитполлов, 25 % граждан, пришедших на выборы, использовали предоставленную им возможность, чтобы выразить недоверие действующей власти.
В 2008 году охваченные обамаманией американцы были убеждены, что с приходом их кумира в Белый дом в США начнется «эпоха безграничной свободы». Однако вопреки ожиданиям демократическая администрация практически сразу стала диктовать журналистам, как им следует подавать образ Обамы, а в конце октября 2009 года объявила настоящую войну телеканалу Fox News, исключив его корреспондентов из президентского пула. Конечно, телеканал, владельцем которого является известный медиамагнат Руперт Мердок, тесно связан с республиканской партией и за то время, что демократы находились у власти, успел им изрядно досадить. Чего стоил, например, выпад одного из ведущих канала Гленна Бека, который заявил в прямом эфире, что «Обама втайне ненавидит белых людей». Тем не менее, даже те СМИ, которые симпатизировали президенту, начали обвинять его в нарушении свободы слова.
Противники Обамы с удовлетворением констатировали, что его «магия выдохлась». «Избиратели сыты по горло либеральной повесткой дня. Они устали от пустых трат и чрезмерной опеки, которая исходит сейчас из Вашингтона»[95], – заявил республиканский конгрессмен от штата Вирджиния Эрик Кантор. Республиканцы вспоминали, что в 1993 году губернаторами Вирджинии и Нью-Джерси также были избраны представители их партии, а уже на следующий год ей удалось получить большинство в Палате представителей. «Сейчас мало кто сомневается в том, что демократы потеряют контроль над законодательной властью, – отмечал проректор МГИМО Алексей Богатуров, – однако формула «раздельного правления», когда Конгресс контролирует одна партия, а президентскую администрацию – другая, становится частью американской политической культуры. Обама пришел к власти на волне всеобщего раздражения по поводу республиканцев, сейчас же мы наблюдаем, как барометр постепенно выравнивается, и создаются предпосылки для традиционной уже системы «перекрестного контроля»[96].
Опросы показывали, что к 2010 году процент американцев, которые причисляют себя к консерваторам, вдвое превысил процент граждан, называющих себя либералами. Тем не менее рейтинг республиканской партии оставался на прежнем уровне. Чтобы исправить положение, партийные лидеры предлагали взаимоисключающие рецепты. Одни настаивали на том, что Великая старая партия должна двигаться к центру, чтобы привлечь на свою сторону умеренных и независимых избирателей, другие, напротив, считали, что не следует поступаться принципами «чистого консерватизма».
Иллюстрацией противоречий, раздиравших республиканскую партию стали выборы конгрессмена от 23-го округа Нью-Йорка, которые проходили в ноябре 2009 года. Партийное руководство выдвинуло своим кандидатом Диди Скоззафаву, выступавшую за государственное финансирование абортов, однополые браки и отмену тайного голосования по вопросу о создании профсоюзных организаций. Однако такие республиканские звезды, как бывший губернатор Аляски Сара Пейлин и экс-сенатор Теннеси, голливудский актер Фред Томпсон поддержали кандидата от консервативной партии Нью-Йорка Дага Хоффмана, который, по их словам, «отстаивал свои идеалы, не пытаясь подыгрывать демократам и независимым избирателям». В результате Скоззафава отказалась от участия в гонке, и в округе, который уже более столетия посылает в Палату представителей республиканцев, победу одержал демократический кандидат Билл Оуэнс. «Потеря 23-го округа должна послужить уроком для твердолобых республиканцев, которые отказываются модернизировать партию, – отмечал обозреватель Newsweek Эндрю Романо. – Им давно пора признать, что рассчитывать на победу сейчас могут лишь такие умеренные кандидаты, как Крис Кристи или порвавший с республиканской партией центрист Майкл Блумберг»[97]. Однако при поддержке консервативных активистов правое крыло республиканцев рассчитывало отстоять свои взгляды на развитие партии.
Бесспорным лидером «правых» на тот момент считалась Сара Пейлин, которая, по словам экспертов, расчитывала принять участие в президентской гонке 2012 года. Однако, как отмечал журнал The American Thinker, «демонстрировать настоящего кандидата было бы для республиканцев политическим самоубийством. Они еще очень долго будут пудрить всем мозги, и даже на следующих президентских выборах, скорее всего, выставят непроходную фигуру – мальчика для битья вроде Джона Керри (соперник Джорджа Буша на выборах 2004 года)»[98].
После того как Обама одержал триумфальную победу на президентских выборах, эксперты поспешили провозгласить смерть консерватизма, полагая, что американское общество переживает «тектонический сдвиг влево». Бывший политтехнолог Клинтона луизианец Джеймс Карвилл утверждал, что демократы укрепились у власти на четыре десятилетия, и даже выпустил книгу под названием «Еще 40 лет»[99].
Однако, получив, казалось бы, безграничную власть, воспользоваться ею демократы не сумели. «Партия, контролирующая обе палаты, – писал весной 2010 года журнал The Foreign Policy, – смогла протолкнуть через конгресс лишь спорную реформу здравоохранения. Власть, как это ни парадоксально, принадлежит партии меньшинства, которая постоянно загоняет в угол робкое неповоротливое большинство»[100].
Провал правящей партии в Массачусетсе, который издавна считается политической вотчиной демократов, развеял последние сомнения относительно ее популярности. На протяжении 47 лет Массачусетс в сенате представлял Эдвард Кеннеди. Однако после смерти «либерального льва» на довыборах в верхнюю палату конгресса, состоявшихся в январе 2010 года, его протеже, генпрокурор штата Марта Коукли, неожиданно для всех проиграла безвестному члену законодательного собрания республиканцу Скотту Брауну. И это несмотря на то, что Обама снова решил рискнуть и приехал в Бостон, чтобы поддержать Коукли. «Год назад демократы отправили республиканцев в нокаут, – отмечал американский политолог Джей Кост, – а сегодня они не могут отстоять бывшее место Теда Кеннеди в сенате»[101].
Президента все чаще стали называть популистом и позером, который не способен ни на что, кроме личного пиара. Рекламные трюки вроде акции семьи Обамы, которая в день памяти Мартина Лютера Кинга поработала в столовой для неимущих, к тому моменту всем уже порядком поднадоели. Хотя следует признать, что Барак был неподражаем в роли официанта. Вначале 2010 года рейтинг президента не превышал 50 %. Спустя год после начала правления ниже он был только у Рональда Рейгана. Согласно данным опросов, от Обамы отвернулись независимые избиратели, а как продемонстрировали выборы в Массачусетсе, в нем разочаровалась и самая преданная часть его электората – молодежь: 60 % избирателей младше 30 лет отдали свои голоса республиканскому кандидату. Даже дети, опрошенные журналом Time Magazine for Kids, оценили деятельность Обамы на троечку с минусом[102]. Скептики утверждали, что если бы президентские выборы состоялись в 2010-м, действующего главу государства «легко одолел бы Чарльз Мэнсон».
Потеряв место Кеннеди, демократы утратили конституционное большинство в сенате, и им стало еще сложнее проводить свой курс. Один из самых либеральных законодателей – сенатор от штата Висконсин Расс Файнголд печально заметил, что «реформу здравоохранения, скорее всего, придется начинать с нуля»[103]. Все больше демократов стали склоняться к тому, что на смену грандиозным проектам администрации должны прийти компромиссные решения, которые смогут удовлетворить часть республиканцев и покончить с поляризацией конгресса.
Именно такую политику начал проводить Билл Клинтон после того, как в 1994 году его партия с треском проиграла выборы в конгресс, впервые за десятилетия потеряв большинство в обеих палатах. В начале 2010 года ситуация поразительно напоминала события, которые предшествовали этому разгрому. Как писал американский журналист Кеннет Уолш, который с конца 1980-х входит в пул Белого дома, «это настоящее дежавю. Демократы сомневаются в президентской программе реформ, граждане недовольны увеличивающейся ролью «большого правительства» и обвиняют администрацию в отсутствии опыта – история повторяется»[104]. Вопрос был только в том, согласится ли Обама пойти по стопам своего предшественника и сдвинуться в сторону политического центра. Ведь, отказавшись от лозунгов леволибералов, Клинтон легко избрался на второй срок в 1996 году и уцелел во время импичмента.
«Главные успехи Билла Клинтона – договор о создании североамериканской зоны свободной торговли, реформа системы пособий для неимущих, а также сбалансированный бюджет, который обусловил финансовый бум конца 90-х, – были бы невозможны без поддержки республиканцев»[105], – отмечал The Weekly Standard. Однако эксперты уверяли, что президенту будет не так просто порвать с леволиберальным лагерем, который обеспечил ему победу на выборах. «Обаму окружают романтики, – утверждал американский политолог Джон Харрис, – которые видят его трансформационным лидером, возвышающимся на исторической арене. Клинтон для них в лучшем случае фигура переходная, и его прагматизм, основанный на чтении соцопросов, вызывает презрительное недоумение у рыцарей нового Камелота»[106]. Как рассказывал ушедший вскоре после этого в отставку конгрессмен-демократ Марион Берри, на встрече с ним Обама объяснил, в чем заключается главное отличие настоящего момента от 1994 года. «Теперь у вас есть я»[107], – провозгласил президент.
Он не раз давал понять, что не собирается сворачивать с выбранного курса и предпочитает пробыть на своем посту всего один срок, но быть «хорошим президентом», нежели просидеть два, но быть «президентом посредственным».
Намерение Обамы идти ва-банк доказывал и тот факт, что он вновь нанял консультантом Дэвида Плаффа, который был главой его предвыборного штаба в 2008 году. Плафф тут же напечатал статью в The Washington Post с призывом к демократам не отрекаться от собственных принципов и действовать еще напористее. «Мы должны без промедлений принять реформу здравоохранения, – отмечал он, – создать новые рабочие места, не слушать нотации республиканцев о сокращении расходов (администрация Буша пришла к власти, когда профицит бюджета составлял 236 млрд. долларов, а в наследство Обаме оставила государственный долг в размере 1,3 трлн.). Не надо писаться от страха. Вместо этого давайте сражаться, как черти, вести агрессивную предвыборную кампанию. И если даже повторить результаты 2008 года партии не удастся, ноябрьские выборы не станут для нас кошмаром или падением в пропасть, как это сейчас пытаются представить»[108]. Излюбленной метафорой американских политических комментаторов в этот период стало сравнение Обамы, отказывающегося отойти от выбранного курса, с героинями фильма «Тельма и Луиза», которые, спасаясь от полиции и не желая провести остаток жизни в тюрьме, на полном ходу слетают в пропасть.
Многие эксперты утверждали, что готовность Обамы идти на риск позволяет расчитывать на то, что демократы проведут иммиграционную реформу. Масла в огонь подлил и спорный закон, подписанный в мае 2010 года губернатором штата Аризона Джен Брюэр, согласно которому полицейские получили право задерживать любого человека по подозрению в том, что он находится в стране нелегально.
После того как были возведены заградительные сооружения в Калифорнии, Техасе и Нью-Мексико, основной поток нелегалов устремился именно в Аризону. Только в 2009 году границу штата тайно пересекли 350 тысяч мексиканцев. Сторонники нового закона утверждали, что он позволит установить контроль над нелегальной иммиграцией и обуздать волну национализма в приграничном штате. Однако критики в один голос называли инициативу Брюэр «дискриминационным актом, который неминуемо приведет к преследованию испаноязычного населения». Десятки тысяч человек по всей Америке приняли участие в демонстрациях протеста против политики аризонских властей. В одном только Лос-Анджелесе на улицы вышли около ста тысяч протестующих во главе с известной певицей Глорией Эстефан.
«Драконов закон, который приняла законодательная палата Аризоны, вызывает отвращение, – отметил либеральный комментатор The Washington Post Евгений Робинсон, – это расистский, деспотичный, несправедливый документ, от которого веет нацистскими теориями»[109]. Как выразился Обама, аризонский закон «позволяет полицейским задержать простую семью латиноамериканцев, которые гуляют в парке и едят мороженое, только потому, что у них темный цвет кожи»[110]. Тем не менее, согласно соцопросам, инициатива Брюэр пользовалась поддержкой 52 % американцев, а бывший соперник Обамы по президентской гонке сенатор от штата Аризона Джон Маккейн обвинял федеральные власти в том, что они «так и не сумели предложить разумное решение проблемы нелегальной иммиграции»[111].
В ответ на критику администрация Обамы инициировала в конгрессе первые слушания по проекту иммиграционной реформы, которая должна была предоставить всем иммигрантам, проживающим в США более пяти лет, легальный статус. Последнюю иммиграционную амнистию провел в 1986 году президент Рейган. Тогда легальный статус получили люди, незаконно въехавшие в страну до 1972 года, – таких набралось 6 млн. человек. В 2010 году численность нелегалов в США оценивалась в 12–15 миллионов (некоторые эксперты приводили более внушительную цифру – 30 миллионов). Специалисты утверждали, что в случае их легализации и притока родственников «новых граждан», который неминуемо за ней последует, в Соединенных Штатах произойдут радикальные изменения: уже к 2020 году большинство в расовом составе населения страны будут составлять латиноамериканцы.
Сторонники радикального курса отмечали, что непопулярные в стране реформы могут быть приняты лишь до тех пор, пока демократы сохраняют большинство в обеих палатах конгресса. Причем, согласившись на иммиграционную амнистию, партия Обамы, конечно, утратит расположение независимых избирателей и умеренных республиканцев, отдавших ей свои голоса на выборах 2008 года, но укрепит собственную электоральную базу, обеспечив себе безоговорочную поддержку со стороны испаноязычного сообщества.
Кроме того, эксперты говорили, что дебаты по иммиграционному вопросу могут негативно отразиться на образе республиканской партии, власть в которой окончательно перейдет в руки правых радикалов и консервативных активистов. В этом смысле очень показательным было поведение Джона Маккейна, который в 2006 году был одним из главных сторонников амнистии для нелегалов, но в 2010-м вынужден был изменить свои взгляды, столкнувшись с серьезным конкурентом в борьбе за место сенатора от Аризоны, который придерживался жесткой антииммигрантской линии.
Оптимисты в команде Обамы не теряли надежды привлечь на свою сторону умеренных республиканцев, наряду с иммиграционной амнистией предусмотрев в законопроекте жесткий пограничный режим. Таким образом, предлагаемая реформа, фактически, должна была стать повторением провалившейся в конгрессе бушевской инициативы 2006 года. «Джорджа Буша-младшего, который, до того как прийти в Белый дом, был губернатором Техаса, многие называли «первым мексиканским президентом США», – отмечала The Washington Post, – и в случае успеха иммиграционной реформы Барак Обама вполне может претендовать на звание его преемника»[112].
Однако скептики, такие, как глава аппарата Белого дома Рам Эммануэль, пытались убедить Обаму в том, что проведение иммиграционной реформы окончательно похоронит шансы демократов на успех на промежуточных выборах в конгресс, которые должны были состояться осенью 2010 года.
И хотя в 2008 году Обама не раз обещал провести амнистию нелегалов (и это принесло ему поддержку лидеров испаноязычной общины), через полтора года в обращении к нации он был настроен уже несколько иначе. Призывы укреплять охрану границ и пресекать нарушение законов заставили многих комментаторов заговорить о том, что вместо либерализации иммиграционной политики новая администрация пойдет на ее ужесточение. The Daily News даже опубликовала статью «Иммиграционная реформа скончалась», в которой слова президента были названы «эпитафией» на могиле реформы. Обещание Обамы следить за тем, чтобы иммигранты, играющие по правилам, могли вносить свой вклад в американскую экономику, эксперты не восприняли всерьез, сравнив его с «костью, брошенной голодным псам»[113].
Отсутствие значимых успехов вынуждало демократов строить свою предвыборную кампанию на критике оппонентов. Они постоянно указывали, что вынуждены «платить по векселям, оставленным администрацией Буша», и утверждали, что республиканцы блокируют работу конгресса. Обама, который во время предвыборной кампании 2008 года призывал к межпартийному единству, на этот раз не скрывал своего негативного отношения к Великой старой партии. «Если я сказал бы, что небо голубое, они бы отрицали это, если я сказал бы, что рыба живет в океане, они попытались бы это опровергнуть, – заявил американский президент, выступая на митинге в Милуоки. – Эти парни идут на выборы с лозунгом «Нет, мы не можем» и надеются одержать победу»[114].
«Многие сравнивают нынешнюю ситуацию с 1994 годом, когда республиканцам удалось переиграть администрацию Клинтона, завоевав большинство в обеих палатах конгресса, – писал профессор Висконсинского университета Джон Колеман. – Однако есть и противоположный пример: на промежуточных выборах 1982 года, несмотря на все пессимистические прогнозы, команда Рейгана сумела сохранить преимущество республиканцев в законодательном корпусе»[115].
Отказавшись от компромисса с умеренными республиканцами, Обама рассчитывал на поддержку либерального электората, продолжая проводить «новый курс», который подразумевал масштабные государственные затраты. По примеру Франклина Рузвельта он предлагал решить проблему безработицы, вкладывая средства в строительство железных дорог, автомагистралей и мостов. Кроме того, он планировал выделить около 100 млрд. долларов на научные исследования и развитие высоких технологий.
Под впечатлением от провалов демократических кандидатов в губернаторы, которых активно поддерживал Обама, рядовые конгрессмены-демократы стали шарахаться от президента, опасаясь лишний раз появиться с ним на публике. «В результате, – писала The New York Times – партия отказывается сформулировать общую предвыборную стратегию, рассчитывая, что в каждом избирательном округе будет вестись своя кампания. Стоит оговориться, что такой подход привел к поражению республиканской партии на выборах 2006 года, ведь победить в 435 стычках намного сложнее, чем дать одно генеральное сражение»[116].
Серьезным просчетом политтехнологов Обамы стало его заявление о том, что строительство мусульманского культурного центра в Нижнем Манхэттене, неподалеку от места, где стояли башни-близнецы, не противоречит законам США. «Такая позиция непопулярна в американском обществе, – отмечал редактор вашингтонского бюро журнала Time Майкл Даффи, – и президент льет воду на мельницу евангелистов, обвиняющих его в секуляризме, безбожии и тайных симпатиях к исламу»[117].
Ошибки правящей партии, казалось бы, должны были придать республиканцам уверенности в собственных силах. Однако, как это ни удивительно, Великая старая партия оставалась не в лучшей форме. Представители партийного истеблишмента все чаще сталкивались с правыми радикалами – организаторами чаепитий, отстаивающими принципы «чистого консерватизма».
Пожалуй, именно эти люди стали главными героями кампании. И если в 2008 году американцы с интересом следили за политическим шоу демократов, подаривших публике молодого темнокожего сенатора, призывающего к переменам, то теперь их внимание было приковано к бунтарям-республиканцам, которые отстаивали американскую свободу словно первые колонисты в эпоху бостонского чаепития.
Организаторы чаепитий являлись наиболее яростными критиками администрации. Один из активистов движения Марко Рубио охарактеризовал политику Обамы как «пренебрежение нашими друзьями, умиротворение наших врагов и отказ от наших обязательств». «Чаевникам» удалось переиграть умеренных республиканцев в штатах Аляска, Кентукки и Делавэр, и они надеялись отстоять свои взгляды на будущее партии.
Как мы помним, придя к власти, президент обещал по примеру Линкольна и Рузвельта превратить свою администрацию в «эффективную команду соперников». Однако, по словам колумниста The New York Times Томаса Фримана, «эта схема, похоже, не сработала. Обаме не хватило лидерских качеств, и вместо команды соперников он создал стаю врагов, в которой каждый тянет одеяло на себя и не готов воспринимать президента в роли высшего арбитра»[118].
Еще один исторический пример, который вдохновлял Обаму, это, конечно, администрация Джона Кеннеди. Как утверждал стратег демократической партии Питер Фенн, «35-й президент США обсуждал ключевые проблемы в тесном кругу людей, которых он давно знал и чьим суждениям доверял. Эта группа, которую политологи окрестили «Камелот», по сути, и определяла политику Кеннеди. Еще во время предвыборной кампании 2008 года стало очевидно, что Обаме такой управленческий стиль очень импонирует»[119].
Эксперты отмечали, что на протяжении двух лет, что он находился у власти, принятие важнейших политических решений целиком и полностью зависело от влиятельных советников, входящих в его ближний круг. Однако в 2010 году эта «избранная рада» стала распадаться. Глава администрации Белого дома Рам Эмануль покинул свой пост в связи с намерением побороться за место мэра Чикаго – города, в котором они вместе с Обамой делали первые шаги в политике. Старший советник президента по экономике Ларри Саммерс вернулся на должность ректора Гарвардского университета, заявив, что у него истекает срок академического отпуска. Председатель совета экономических консультантов Кристина Ромер покинула команду Обамы по схожим «академическим» причинам, вернувшись в Калифорнийский университет в Беркли. В отставку ушел и руководитель бюджетного управления Белого дома Питер Орзаг. Таким образом, как отмечала The Washington Post, «от Камелота Обамы скоро останутся лишь воспоминания. Рыцари уйдут, и за круглым столом мы увидим одного понурого президента, растерявшего всех единомышленников»[120].
Существование «избранной рады» всегда вызывало аллергию у чиновников, которым не удалось в нее войти. Пожалуй, наиболее ярко их настроения выразил советник президента по вопросам национальной безопасности генерал Джеймс Джонс, который, по словам известного американского журналиста Боба Вудворда, ежедневно изобретал новые прозвища для людей из ближайшего окружения Обамы, называя их «тараканами», «мафией», «предвыборным штабом» и «политбюро»[121].
Пригласив в администрацию Джонса и сохранив на своем посту республиканского министра обороны Роберта Гейтса, Обама был убежден, что умаслил Пентагон. Однако генералы по-прежнему считали, что «гражданская команда» состоит из «леволиберальных пораженцев» и «слабаков». Когда же президент полностью переложил на них формирование стратегии в восточных войнах, они окончательно уверились в некомпетентности его администрации. В этом смысле многим показалось характерным интервью главнокомандующего в Афганстане Стэнли Маккристала, опубликованное в журнале Rolling Stone под названием «Генерал, сорвавшийся с катушек»[122]. Маккристал, которого поклонники называли «воином-полубогом», позволил себе ряд ернических высказываний в адрес президентской команды, за что и был уволен. Однако пришедший ему на смену генерал Дэвид Петреус относился к советникам Обамы не менее скептично, называя их «стопроцентными пиарщиками». Те, в свою очередь, величали армейских военачальников «цепными псами Буша» и призывали их как можно быстрее вывести войска из Ирака и Афганистана. По словам Вудворда, на одном из совещаний в Белом доме Обама размахивал докладной запиской, в которой утверждалось, что, если армия пробудет за Гиндукушем еще десять лет, это обойдется американской казне в триллион долларов. «Если бы президент и его высший генералитет, – писал Вудворд, – приложили к ведению войны в Афганистане хотя бы половину тех усилий, что они тратят на взаимные распри, победа была бы у нас в кармане»[123].
За время президентства Обамы пропасть, которая существует в США между военными и гражданскими чиновниками, только углублялась. Как и в 1960-е годы, библией американских офицеров стала книга Самуэля Хантингтона «Солдат и государство»[124], в которой провозглашается, что «профессиональная военная каста обладает своим, отличным от остального общества мировоззрением и духовным складом, а идея гражданского контроля себя не оправдывает, поскольку военные намного лучше знают, как себя вести в той или иной ситуации, чем их наставники из администрации и конгресса»[125]. Наиболее радикально настроенные представители генералитета провозгласили даже, что в период затяжных войн на Ближнем и Среднем Востоке Америка должна вернуться к практике, сложившейся во время Второй мировой войны, когда генеральный штаб полностью определял военную политику страны и был абсолютно неподконтролен гражданским властям.
Однако конфликт военных и гражданских чиновников нельзя было назвать главным источником противоречий в администрации. Куда более серьезным вызовом для Обамы была оппозиция старых кланов демократической партии, которые ассоциировались с четою Клинтонов. Многие политологи утверждали, что с тех пор как Хиллари Клинтон потерпела поражение на праймериз 2008 года, она мечтала о реванше. Неслучайно, выступая в начале сентября на заседании Совета по международным отношениям, госсекретарь США объявила, что «растущий государственный долг Америки представляет угрозу для национальной безопасности». «Критикуя обаманомику, – писал The American Thinker, – Клинтон дистанцируется от внутриполитического курса нынешней администрации и дает, таким образом, понять о своем желании участвовать в президентской гонке 2012 года»[126].
Политологи утверждали, что Клинтон надеется обойти своего нынешнего шефа на внутрипартийных выборах за счет голосов умеренных избирателей. «На посту госсекретаря, – утверждал Томас Фриман, – ей намного легче набрать очки перед очередной схваткой с Обамой. Заседая в сенате, она не смогла бы остаться в стороне от ожесточенных дебатов по реформе здравоохранения и сохранить лицо. В Госдепе же она не только приобретает опыт в международной политике, но и выстраивает отношения с умеренными республиканцами вроде главы Пентагона Роберта Гейтса»[127].
Клинтон поддерживали и специальные представители президента в горячих точках, и, в том случае, если она вновь скрестит копья с Обамой, обещали агитировать за нее, восхваляя дипломатические таланты госсекретаря, сумевшего не наломать дров, работая под началом «неопытного молодого дилетанта». Вице-президент США Джо Байден, который руководил когда-то сенатским комитетом по международным отношениям, пытался противостоять натиску со стороны клинтоновских протеже и отстоять линию Обамы во внешней политике. Накал страстей демонстрировала характеристика, которой Байден наградил специального посланника в Афганистане и Пакистане, одного из ярых приверженцев Клинтон Ричарда Холбрука: «Это самый эгоистичный ублюдок, которого я когда-либо видел»[128].
ЧАЙНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ
Противоречия, существовавшие в администрации, не могли не повлиять на результаты промежуточных выборов в Конгресс, которые состоялись 2 ноября 2010 года. Как и предсказывали многие политологи, демократы потерпели на них сокрушительное поражение. «Из темно-синей нижняя палата Конгресса превратилась в багрово-красную, – писала The New York Times. – Такой резкой смены декораций на Капитолийском холме не было с 1948 года. Даже триумф республиканцев в 1994 году не сравнится с нынешней консервативной революцией»[129].
Эксперты отмечали, что среди избирателей-республиканцев была зафиксирована самая высокая явка с 1970 года, а среди демократов – самая низкая за всю историю. Демпартия, которой в 2006 и 2008 годах удавалось переиграть своих оппонентов даже в южных и западных штатах, считавшихся традиционной вотчиной республиканцев, потеряла очки на либеральном Северо-востоке и в районе Великих озер. В 2008 году симпатизирующие демократам комментаторы поспешили провозгласить конец республиканской эры и объявить Великую старую партию «теряющей влияние региональной группировкой южан». Однако, как писала The Washington Post, «республиканцы утерли нос левым либералам, похоронившим их два года назад, и доказали, что могут разгромить партию Обамы даже на ее поле»[130]. Свидетельством тому стала победа консервативных кандидатов в таких штатах, как Нью-Йорк, Пенсильвания и Висконсин, не говоря уже о триумфе республиканца Марка Кирка, который был избран на освобожденное Обамой кресло сенатора от Иллинойса.
Политологи объясняли провал демократов тем, что их оппонентам удалось перехватить инициативу и склонить на свою сторону несколько групп населения, которые в 2008 году поддержали Обаму. Речь шла о женщинах, католиках, гражданах ниже среднего достатка и независимых избирателях. Что же касается традиционного электората Обамы – молодежи, афроамериканцев и латиноамериканцев – большинство из них проигнорировали промежуточные выборы.
В первую очередь, разочарование американцев в правящей партии было связано с удручающим состоянием экономики США. Несмотря на то, что администрация официально объявила об окончании рецессии, экономический рост по всем прогнозам должен был составить не более 1 %, при этом бюджетный дефицит уже превышал 1,5 трлн. долларов, а уровень безработицы, по некоторым данным, достиг в 2010 году 17,5 %, сравнявшись с аналогичным показателем периода Великой депрессии.
Отвернулись от Обамы и спонсоры. Даже Джордж Сорос, который всегда вкладывал деньги в предвыборные кампании Демпарии, на этот раз заявил, что останется в стороне, поскольку не верит в то, что «может остановить лавину». Как писал The Economist, «бизнесмены Силиконовой долины, которые два года назад воспринимали Обаму как выгодное вложение капитала, сейчас решили не инвестировать средства в заведомо проигрышное дело»[131]. И это при том, что в январе 2010 года Верховный суд отменил ограничения на финансирование партийных предвыборных кампаний, и выборы в Конгресс, по оценкам экспертов, стали самыми дорогими в американской истории. Демократам, правда, крупные корпорации выделили совсем немного, львиная доля средств была переведена в фонд Республиканской партии.
Первое время после того, как Обама занял Белый дом, он пытался угодить консервативным демократам, которых в Америке называют «голубыми псами». Однако выборы в Конгресс доказали, что ориентироваться на это крыло Демпартии президенту не стоило: ведь если леволибералы сумели отстоять свои позиции в Конгрессе, «голубые псы» понесли очень серьезные потери. По словам политтехнолога Билла Клинтона Дика Морриса, умеренные демократы сильно просчитались, понадеявшись, что «избиратели простят им голосование за обамовский пакет стимулов и реформу здравоохранения, стоит только попозировать перед камерой с винтовкой в руках»[132]. В избирательной кампании такие вопросы как право на ношение оружия отошли на второй план, ключевую же роль в ней играли проблемы бюджетного дефицита и неуклонного роста правительственных полномочий.
Провал «голубых псов» объяснялся еще и тем, что они слишком настойчиво открещивались от политики Обамы. Правда, связывать себя с президентом, действительно, было не очень выгодно. Его рейтинг стремительно падал: накануне выборов в Конгресс, согласно опросу Gallup его работу одобряли лишь 42 % американцев, а 52 % были недовольны тем, как он справляется со своими обязанностями. «Теряющий популярность президент подложил свинью даже тем демократам, которые вполне могли одержать победу в своем округе, – отмечал бывший советник Буша-младшего Карл Роув. – По сути, выборы превратились в референдум по вопросу о том, одобряют ли американцы политику нынешней администрации»[133].
И хотя еще в конце 2009 года сам Обама, выступая в телешоу Опры Уинфри, оценил свою работу на «твердую четверку», большинство политологов были убеждены, что, будучи гениальным шоуменом, он оказался весьма посредственным президентом. «В 2008 году, – писал консервативный журнал The American Thinker, – президенту удалось загипнотизировать американский народ, однако промежуточные выборы в Конгресс доказали, что люди, наконец, выходят из транса»[134]. За два года в Белом доме Обама успел заработать прозвище «хромой утки» (Буша-младшего стали так называть только к концу второго срока).
Президент оказался глух к требованиям средних американцев и предпочел закрыть глаза на зарождающееся в народе «чайное движение». «Американцы сейчас напуганы, – заявил он только, – а страх, как известно, плохой советчик»[135].
До Обамы ни один американский президент не был так зациклен на проблеме собственного имиджа. В 2008 году он пытался предстать в роли мессии, харизматика-полубога, который может сравниться лишь с великими американцами прошлого. Политехнологи создавали соответствующую «иконографию»: ореол вокруг головы, свет, напоминающий освещение в храме и толпы поклоняющихся последователей. «В роли американского дуче, правителя Нового Рима, – писал The American Thinker, – Обама любит выступать и сейчас, по крайней мере, на публичных мероприятиях. Однако за те два года, что он находится у власти, нам стал знаком и другой его образ: поджатые губы, скрещенные руки, обиженное капризное выражение лица. Американские президенты никогда так не выглядели – это, скорее, напоминает упрямых юнцов и новоиспеченных провинциальных учителей».[136] Оппоненты все чаще стали называть его слабаком, «ботаником» и «безвольным тюфяком». «Американцам нужен пит-буль в Овальном кабинете, – писала The Boston Globe, – и Обама рискует повторить печальный опыт Джимми Картера, который вошел в историю как слабый политик, неспособный к решительным действиям. Было бы даже лучше, если бы первый афроамериканский президент выбрал себе амплуа злого напористого негра, а не изнеженного гарвардского интеллектуала»[137].
Как отмечал политолог Харлан Уллман, «за два года, что Обама находился у власти, стало очевидно, что он недостаточно квалифицирован для работы в Белом доме. До своего избрания президентом он всего два года заседал в сенате и этим ограничивается его законотворческий опыт. Он никогда не работал в исполнительной власти, не занимал руководящих постов. У него не было опыта в финансовой сфере, экономике, международной политике»[138].
Республиканцы добились настоящего триумфа и вынудили Обаму вернуться к риторике 2008 года. В интервью The National Journal он вновь напомнил о желании американцев видеть в Вашингтоне «взрослых людей, которые сотрудничают и пытаются решать проблемы, вместо того чтобы набирать политические очки»[139]. Президент пообещал не накладывать вето на республиканские законопроекты и призвал соратников по партии «проявить надлежащее чувство смирения», поскольку без поддержки оппонентов они не смогут добиться своих целей.
Журналисты заговорили о «тектоническом сдвиге вправо», сравнивая разгром демократов с кометой Галлея, которую можно увидеть лишь раз в жизни. Нобелевский лауреат по экономике Пол Кругман, глашатай левого крыла Демпартии, предупреждал в своей колонке в The New York Times, что последствия выборов 2010 года «будут ужасны». «Историки, – отмечал он, – возможно, будут писать об этом событии как о катастрофе для Америки, обрекшей страну на годы политического хаоса и экономической слабости»[140].
Американцы были убеждены, что конгресс продолжит ставить администрации палки в колеса. И хотя некоторые республиканцы, такие, например, как спикер палаты представителей Джон Бейнер выступали за межпартийное сотрудничество, большинство предпочитали конфронтационную модель. Их настроения как нельзя лучше выразил лидер сенатского меньшинства Митч Макконнелл, заявивший, что главная цель республиканцев в конгрессе не допустить победы Обамы на президентских выборах 2012 года. Правда, многие отмечали, что, установив контроль над палатой представителей, оппозиционная партия будет вынуждена разделить с администрацией ответственность за принятие стратегических решений. А поскольку рецессия в Соединенных Штатах продолжится, часть вины за экономические провалы Обама сможет свалить на республиканцев и это как раз повысит его шансы на переизбрание. Как бы то ни было, было очевидно, что Америку ждут два бесплодных года: парализованный конгресс перестанет принимать законы, а Белый дом – генерировать новые идеи.
На посту спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси, с именем которой ассоциировались все знаковые реформы администрации Обамы, сменил республиканец Джон Бейнер, высмеиваемый оппонентами за «перманентный загар». Как и большинство однопартийцев он обвинял Обаму в «разбазаривании бюджета». Проблема «большого правительства» стала главной темой предвыборной кампании благодаря усилиям активистов Движения чаепития. Во многом именно это движение обеспечило триумф республиканской партии. Пестрая коалиция маргиналов всех мастей от либертарианцев до ультраконсерваторов, по сути дела, стала оборотной стороной того феномена, который вознес на вершину власти темнокожего народного трибуна Обаму. Суть его в глубоком недоверии к вашингтонскому политическому истеблишменту. «Чаевники», пылающие ненавистью к президенту, не слишком жаловали и верхушку Республиканской партии. Образ бунтарей, которые отстаивают американскую свободу, позволил им завоевать симпатии простых американцев.
Немалую роль в этом сыграли полуанекдотичные кандидаты вроде Кристины О'Доннелл, одержавшей победу на республиканских праймериз в Делавере, а затем с треском проигравшей сопернику-демократу. «О'Доннелл, признавшаяся в том, что когда-то была ведьмой и инициировавшая кампанию против мастурбации, создает республиканцам имидж «партии обычных людей, таких, как я или ты». И поскольку представители вашингтонской элиты вызывают все большую аллергию у избирателей, этот имидж становится крайне востребован»[141], – писал колумнист The New York Times Франк Рич в статье «Полезный идиотизм Кристины О'Доннелл».
Акции протеста чаевников, безусловно, представляли для публики куда больший интерес, чем официозные прообамовские митинги «Одна нация», которые как две капли воды походили на политические шоу демократов образца 2008 года. Лидеры Чайной партии критиковали «диктатуру всеобщего благоденствия» и обвиняли демократов в желании «национализировать воздух». «Это созвучно настроениям многих избирателей, – отмечал The Washington Post, – и ультраконсервативное движение чаепития заполняет идеологический вакуум, образовавшийся в связи с отсутствием свежих идей у представителей политического мейнстрима»[142].
Однако как утверждал Харлан Уллман, «активисты Чайной партии очень напоминают персонажей «безумного чаепития» из «Алисы в Стране чудес». У них нет признанного лидера, отсутствует четкая политическая программа»[143]. Многие аналитики отмечали, что чайная партия является «искуственным объединением» и распадется при первом удобном случае. «Среди активистов движения, – говорил политтехнолог Билла Клинтона Дик Моррис, – можно встретить людей, которые раньше никогда не смогли бы найти общий язык. Евангелисты, выступающие против абортов, бок о бок с геями-либертарианцами борются с социалистическими идеями Обамы»[144]. «Социализм» издавна является для американцев ругательным словом. И чаевники предрекали Америке Обамы судьбу Европы, которую они называли «вотчиной госрегулирования, распухающей бюрократии и бесконечного перераспределения».
Эксперты отмечали, всего несколько лет назад тон в консервативной элите США задавали правые радикалы во главе с Джорджем Бушем-младшим, и движение чаепития вполне может быть фениксом, возродившимся из пепла. И хотя демократы успокаивали себя тем, что чаевники лишь расшатают республиканскую партию изнутри и оттолкнут от нее умеренных, эту точку зрения разделяли далеко не все. «Конечно, – писал The Economist, – движение чаепития выставило несколько непроходных кандидатов, однако их поражение на выборах ничто по сравнению с ренессансом, который переживает Республиканская партия благодаря действиям чайных активистов. Всего два года назад республиканцы были абсолютно деморализованы, а теперь они всерьез задумываются о возвращении в Белый дом»[145]. Очень показательным было поведение экс-советника Буша Карла Роува, который поначалу скептически отнесся к чайному движению, однако затем начал его поддерживать и даже перенял характерную для его идеологов манеру выражаться, рассуждая о «взрыве народного гнева» и «грядущем апокалипсисе».
«Что касается внешнеполитических убеждений, чайная партия очень неоднородна, – отмечал экс-советник Буша-младшего по России Томас Грэм, – в ней есть как изоляционисты, так и националисты. Некоторые чаевники выступают за сокращение расходов на оборону, некоторые – ратуют за увеличение военного бюджета. Однако все они с подозрением относятся к прекраснодушным инициативам Барака Обамы, провозгласившего «перезагрузку» в отношениях с Москвой и обхаживающего Китай, который является главным кредитором США»[146].
Стоит отметить, что взаимоотношениям с КНР кандидаты от обеих партий уделяли довольно большое внимание, что крайне нетипично для американских кампаний, традиционно сосредоточенных на внутренних проблемах Америки. Республиканцы, и, в первую очередь, представители Чайной партии критиковали администрацию Обамы за то, что она не может предложить рациональный сценарий взаимодействия с идеологически чуждым государством, экономика которого тесно переплетена с американской. Звучала иногда и российская тема: оппоненты утверждали, что команда Обамы идет на поводу у Кремля, закрывая глаза на внутриполитическую ситуацию в России. Однако, что любопытно, по некоторым данным Пекин и Москва переводили средства на избирательную кампанию республиканцев, которые являются противниками протекционизма и готовы оказывать поддержку компаниям, переносящим свой бизнес за границу.
После победы на промежуточных выборах республиканцы тут же перешли в наступление. Зимой 2010/2011 гг. федеральный судья штата Флорида объявил неконституционным закон о системе здравоохранения. «Обязательное медицинское страхование – это абсурд – заявил он, – с таким же успехом правительство может заставить людей покупать одежду или продукты питания». Смелости судье придало решение Конгресса о приостановке действия закона. «Чайная партия показывает зубы, – отмечала The New York Times, – ее представители утверждают, что Obamacare отправит в нокаут финансовую систему США и их миссия состоит в том, чтобы умерить аппетит сторонников «большого правительства» и приструнить верховного здравоохранителя»[147].
ПРЕЗИДЕНТ МЕНЬШИНСТВ
После того как в ноябре 2010 года демократы проиграли выборы в Конгресс, в комедийном шоу на телеканале NBC появился видеоролик, в котором президент Обама с трудом сдерживает свои эмоции, выступая перед журналистами, а затем, будучи уже не в силах контролировать себя, выбивает дверь ногой. Для человека, который в одночасье стал кумиром миллионов, очень непросто признать поражение. «Нам не удалось реализовать обещанные реформы и справиться с экономическими трудностями, – заявил Обама в октябре 2011 года. – Однако меня не беспокоит, что люди считают меня неудачником. Я давно с этим свыкся»[148]. Однако у многих это вызывало сомнения. «Неужели честолюбивый Обама, – писала The Huffington Post, – так легко откажется от Овального кабинета, без боя уступив его представителю республиканской партии, ни один из которых не обладает и сотой долей его харизмы?»[149] Да, результаты соцопросов для действующего президента были неутешительными. Но политтехнологи, которые привели его к триумфу 2008 года, говорили, что ситуацию еще можно исправить.
Главный политический советник президента Дэвид Аксельрод утверждал, что «демократам предстоит титаническая борьба»[150]. На предыдущих выборах победу Обамы во многом обеспечили промышленные штаты Среднего Запада, однако в 2012 году рассчитывать на них не приходилось, ведь за то время, что Обама находился у власти, основные отрасли промышленности так и не оправились от кризиса. Поэтому ставка делалась на южные штаты, которые традиционно считались вотчиной республиканцев.
Кроме того, эксперты отмечали что Обама изо всех сил старается укрепить собственную электоральную базу, добившись безоговорочной поддержки тех слоев, которые голосовали за него на прошлых выборах. Такую же стратегию в 2004 году избрал политтехнолог Буша Карл Роув, который предложил «наплевать на голоса независимых избирателей и сосредоточиться на работе с правоверными республиканцами: евангелистами и представителями морального большинства»[151]. Обама точно так же сконцентрировался на работе со своими сторонниками: афроамериканцами, латиноамериканцами и молодежью.
Конечно, было очевидно, что рекордный процент явки среди темнокожих избирателей на выборах 2008 года, повторить будет сложно, однако Обама вновь надеялся взбудоражить «черную Америку». «Перестаньте плакать и жаловаться, – заявил он в выступлении на ежегодном съезде Ассоциации афроамериканцев, – смените, наконец, домашние тапочки на армейские ботинки. И вы оторвете себе свой кусок жизни и победите[152]». «Stop complainin. Stop grumblin. Stop cryin!» – восклицал он, подражая сленгу темнокожих, которые в разговоре опускают обычно букву «g». «Даже во время прошлой предвыборной кампании, – писал The American Thinker, – Обама не заигрывал так с афроамериканским электоратом. По содержанию его речь мало чем отличалась от воинственных воззваний черных проповедников, а ее интонация и ритм напоминали рэп-речитатив». Конечно, такие выступления могли отвадить от Обамы часть белых избирателей, которые все меньше воспринимали его как общеамериканского кандидата. Однако президент, похоже, готов был идти ва-банк. И не только в негритянском вопросе. Ради того чтобы вновь привлечь голоса испаноязычных избирателей, Обама призывал иммиграционные власти США прекратить депортацию нелегалов. И хотя ему так и не удалось провести через Конгресс так называемый «закон мечты», который должен был предоставить амнистию миллионам латиноамериканцев, нелегально проживающих на территории США, он надеялся все же вернуть расположение лидеров испаноязычной общины. Как отмечал консервативный радиоведущий Раш Лимбо, «латинос рассчитывают, что Обама оправдает прозвище «мексиканский президент» и, избравшись на второй срок, позволит им осуществить в США демографическую реконкисту».
Продолжали уповать на Обаму и борцы за права геев. В сентябре 2011 года ему удалось протолкнуть через Сенат закон, отменяющий известное правило «не спрашивают – молчи», которое позволяло геям служить в вооруженных силах США лишь в том случае, если они не распространяются о своей сексуальной ориентации. А уже в 2012 году президент призвал снять запрет на заключение однополых браков. Ультраконсерваторы тут же провозгласили его «президентом меньшинств» и начали иронизировать по поводу голубого цвета, который является символом «партии ослов».
Очень многое зависело от того, сумеет ли Обама вновь заручиться поддержкой молодежи. Ведь за время правления демократической администрации она успела разочароваться в риторике перемен, и разыгрывать ту же карту президент уже не мог. «Как объяснить теряющим работу молодым людям, – писала The Washington Post, – что президент денно и нощно заботиться об их благе? Никакие популисткие заявления и эффектные выходы на сцену под музыку U2 положение не исправят. И Обаме придется разработать новую тактику в борьбе за голоса молодых избирателей»[153].
Еще сложнее дело обстояло с квалифицированными рабочими, так называемыми синими воротничками, которые всегда относились к Обаме с подозрением. Даже в 2008 году лишь 37 процентов из них проголосовали за темнокожего кандидата. И несмотря на то, что в эпоху Обамы пренебрежительное отношение к профсоюзам, характерное для предыдущей администрации ушло в прошлое, и федеральным властям было запрещено оказывать давление на профсоюзных лидеров и ограничивать их в правах, крупнейшие трудовые союзы присоединились к акциям протеста, в начале октября 2011 года охватившим американские города.
Политологи утверждали, что изменить позицию профсоюзов могут лишь представители старой демократической гвардии, связанные с кланом Клинтонов, (экс-президент всегда считался кумиром белых рабочих). Однако в Вашингтоне все чаще можно было услышать разговоры о расколе внутри правящей элиты, преодолеть который не удалось даже после четырехчасовой партии игры в гольф между Бараком Обамой и Биллом Клинтоном. Многие демократы надеялись, что Хиллари Клинтон возьмет реванш за поражение от Обамы на праймериз 2008 года, а приближенные к чете Клинтонов политтехнологи Джеймс Карвилль и Марк Пенн призвали президента «поучиться у Линдона Джонсона, который отказался от переизбрания на второй срок в связи с катастрофическим падением рейтинга»[154].
Клинтоны не стеснялись критиковать обаманомику и дистанцировались от внутриполитического курса нынешней администрации. «Работая в команде Обамы, – утверждал политолог Томас Фриман, – Клинтон никогда не забывала о собственных амбициях и так и не смирилась с главенством темнокожего политика, который перебежал ей дорогу в тот момент, когда до заветного президентского кресла оставалось буквально полшага»[155].
Накануне выборов летом 2011 года Обама произвел небольшие перестановки в кабинете министров, отправив на покой главу Пентагона Роберта Гейтса и заменив его на бывшего начальника ЦРУ Леона Паннету. Пост главы Центрального разведывательного управления занял генерал Дэвид Петреус, бывший командующий силами США и НАТО в Афганистане. Петреус прославился еще во время иракской войны, когда в 2007 году сумел переломить ход операции, усилив воинский контингент и разработав эффективную противоповстанческую тактику. Подчиненные называли его царь Давид и отмечали, что во всех начинаниях ему сопутствует успех. Тем не менее, в Вашингтоне критиковали кадровое решение Обамы, указывая на то, что у Петреуса нет опыта работы в спецслужбах. «Самыми лучшими руководителями ЦРУ, – писала The Washington Post, – были люди штатские вроде Аллена Даллеса и Уильяма Кейси. А Петреус, который был блестящим военачальником, скорее всего, окажется посредственным разведчиком»[156].
АМЕРИКАНСКИЙ РОБИН ГУД
Шансы действующего президента во многом зависели от того, что станет главной темой его предвыборной кампании. «Риторика перемен, призывы к национальному примирению, обещание порвать с вашингтонским истеблишментом, пацифистские лозунги – все это уже было и вряд ли сработает во второй раз, – отмечал старший помощник президента Дэвид Плафф, – Нам нужна новая фишка, и мы ее обязательно придумаем»[157]. Эксперты утверждали, что такой фишкой вполне может стать раскулачивание американских «жирных котов». Не случайно Обама объявил в ноябре 2011 года, что сократить дефицит бюджета можно лишь за счет повышения налогов для состоятельных граждан, чьи доходы составляют более миллиона долларов в год. На Капитолийском холме налоговую реформу окрестили «правилом Баффета», по имени миллиардера Уоррена Баффета, который возмущался, что платит в казну всего 17 % от зарплаты, тогда как его менее имущие коллеги вынуждены отдавать от 30 до 40 %. «Когда представители среднего класса, – писал журнал The Nation, – выплачивают государству огромную часть доходов, а жирные коты ограничиваются мелкими подачками – это значит, что мы имеем дело с извращенной налоговой системой, изменить которую может лишь американский Робин Гуд»[158].
Попытки Обамы увеличить налогообложение для состоятельных граждан (даже просто отобрать у них льготы, выделенные Бушем) не увенчались успехом. Если бы он начал именно с налоговой реформы, возможно, ему удалось бы ее протолкнуть, но тогда не прошла бы реформа здравоохранения. Как бы то ни было, большинство политологов отмечали, что идеей фикс для Обамы являлась идея сохранения «среднего» класса. «Если "среднего" класса не будет – то современному западному обществу придет конец», – утверждали американские левые интеллектуалы вроде Пола Кругмана, которые оказывали на президента решающее влияние. «Именно на поддержание «среднего» класса была направлена реформа здравоохранения, – отмечал российский экономист Михаил Хазин. – Ведь в условиях кризиса все меньше людей могли позволить себе медицинскую страховку, а она, как известно, – важнейший элемент самоосознания представителей «среднего» класса. Именно на защиту бедняков, которые надеются попасть в «средний» класс, была рассчитана политика Обамы накануне выборов»[159]. И если в 2009–2010 году деньги тратились, в основном, на поддержку финансового сектора, то в 2011—2012-м львиная доля бюджетных средств шла на социальные расходы.
Республиканцы называли инициативы президента «дорогой к классовой войне». Однако его популистская задача была выполнена: Обама предстал в образе защитника угнетенных и врага богачей – образе, который был так востребован в Соединенных Штатах.
О том насколько был востребован этот образ говорила популярность движения «Оккупируй Уолл-стрит», представители которого с осени 2011 года начали проводить демонстрации у здания Нью-йоркской фондовой биржи. Они призывали избавиться от финансового терроризма, ограничить доходы финансистов и поставить под общественный контроль банки и инвестиционные фонды. «Умерьте жадность корпораций», «Мы объявляем войну корпоративным зомби, которые пожирают деньги», – скандировали они. Что характерно, лозунги манифестантов «Уберите деньги из политики» и «Я не могу позволить себе лоббиста» перекликались с заявлением главного стратега предвыборной кампании Обамы Дэвида Аксельрода о том, что Соединенные Штаты должны избежать повторения так называемого «позолоченного века», когда в 1920-е годы крупные финансовые корпорации «с потрохами покупали политиков». Обращали на себя внимание и высказывания близкого Обаме финансиста Джорджа Сороса, который отметил, что «понимает злобу налогоплательщиков, обязанных отдавать свои деньги проблемным банкам»[160].
Эксперты утверждали, что если отбросить некоторые утопичные идеи протестующих вроде предложения обеспечить бесплатное высшее образование или немедленно списать все государственные долги, большая часть их политической программы совпадала с тезисами избирательной кампании Обамы. Взять хотя бы требования выделить триллион долларов на развитие инфраструктуры и ввести всеобщее государственное медицинское страхование. Многие даже стали отстаивать версию, что участие в протестом движении организации A.F.L.-C.I.O., объединяющей 56 профсоюзов США, позволит умеренным профсоюзным деятелям перехватить инициативу у радикалов и использовать массовые выступления для того чтобы утвердить обамовскую программу борьбы с безработицей.
Один из отцов-основателей Чайной партии Карл Деннингер, который, кстати сказать, принимал активное участие и в движении «Оккупируй Уолл-стрит», призывал его лидеров не повторять ошибок чаевников, которые растворились, в итоге, в республиканском истеблишменте. «Надеюсь, – говорил он, – организаторы нынешних выступлений будут мудрее и не дадут обвести себя вокруг пальца. И вместо того чтобы примкнуть к демократам, став леворадикальным крылом правящей партии, они сохранят независимость от прогнившей двухпартийной системы»[161].
Популярность движения «Оккупируй Уолл-стрит», как и взлет Чайной парии, в первую очередь, объяснялась недоверием к вашингтонскому политическому истеблишменту. И в том и в другом случае протесты охватывали практически всю Америку (после демонстраций в Нью-Йорке массовые выступления начались в Лос-Анджелесе, Чикаго и Сан-Франциско, а небольшие митинги прошли во всех без исключения штатах). И в том и в другом случае формировалась пестрая разрозненная коалиция. В Движении чаепития в 2009–2010 гг. принимали участие маргиналы всех мастей (правда, в основном это были люди правых взглядов). В 2011-м на улицы вышли такие же маргиналы только из левого лагеря: анархисты, борцы за права геев, защитники бездомных животных и даже сторонники Революционной коммунистической партии США. Однако стоит отметить, что наряду с левацкими гуру вроде философов Корнелла Веста и Ноама Хомского, публициста Майкла Мора, сенатора Берни Сандерса и хип-хоп продюсера Рассела Симмонса, среди лидеров движения были и консерваторы, такие, как телеведущий Дилан Ратиган, упомянутый выше Карл Деннингер и лидер либертарианской партии Рон Пол. Как и чаевники, «оккупанты» постоянно обращались к наследию отцов-основателей, которые предупреждали, якобы, что двухпартийная система представляет собой серьезную угрозу для Соединенных Штатов.
Многие участники выступлений призывали к демократической революции, сравнивали нью-йоркскую площадь Свободы с египетской площадью Тахрир и по аналогии с «арабской весной» грозились устроить властям американскую осень. В центральных СМИ, разумеется, к этим заявлениям относились несерьезно. Движение «оккупантов» называли «сборной солянкой», «организацией с неопределенными целями». The New York Times вспоминала эпизод из фильма «Дикарь», когда Марлон Брандо, изображающий лидера радикальной группировки на вопрос молодой женщины о том, против чего он выступает, ответил «А против чего надо, черт возьми?» «У здания нью-йоркской биржи, – писала газета The Wall Street Journal, – собрались обыкновенные хиппи, люди, которым просто необходимо пойти работать». «Но куда идти работать, – парировали участники демонстраций, – если финансисты с Уолл-стрит планомерно уничтожают экономику?»[162]
Эксперты задавались вопросом, сможет ли Обама сыграть роль американского Робин-гуда и использовать набирающее силу протестное движение в своих интересах или речь, действительно, идет о классовой войне наподобие той, что велась в западных странах после мирового кризиса 1929–1933 годов. Судя по тому, как жестко разгоняла американская полиция митинги «оккупантов», скорее, можно было говорить о втором варианте.
РЕСПУБЛИКАНСКИЕ ЛИЛИПУТЫ
Конечно, республиканцы рассчитывали бросить вызов Обаме. Они делали все возможное, чтобы блокировать работу Конгресса и не допустить его победы на президентских выборах. Но, по словам политолога Майкла Барона, «главная проблема состояла в том, что среди республиканских кандидатов не было ни одного политика-тяжеловеса. Этим и объяснялась стремительность, с которой менялись предпочтения избирателей. Сначала фаворитом был Митт Ромни, затем Мишель Бахман, Рик Перри, Ньют Гингрич и вновь Ромни»[163].
Весной 2011 года Ромни называли «Гулливером», который легко одолеет своих соперников-лилипутов. «Лучшего кандидата республиканцам не найти, – отмечала The New York Times, – представительная внешность, медальное лицо: он выглядит именно так, как должен выглядеть президент Соединенных Штатов»[164]. Да и в биографии его не к чему было придраться. Потомственный политик (отец Ромни был директором автомобильной корпорации American Motors, губернатором Мичигана, министром жилищного строительства в Вашингтоне и даже принимал участие в президентской гонке 1968 года), он начинал карьеру в бизнесе. Основанная им компания Bain Capital весьма успешно занималась скупкой разорившихся фирм. В 2002 году Ромни возглавил организационный комитет Зимних олимпийских игр в Солт-Лейк-Сити и приобрел репутацию умелого администратора. На следующий год он одержал победу в борьбе за кресло губернатора штата Массачусетс и на этом посту также не ударил в грязь лицом, стимулируя экономический рост и активно создавая рабочие места.
Однако консервативные республиканцы называли Ромни «социалистом», который пытается превратить свой штат в «Народную Республику Массачусетс». Особенно гневные отзывы вызвала проведенная им реформа здравоохранения, в результате которой было введено обязательное медицинское страхование для всех жителей штата. (Реформа послужила прообразом для федерального закона, принятого в эпоху Обамы и ставшего главным объектом нападок со стороны «Чайной партии»). Многие вспоминали, что на посту губернатора Ромни не раз высказывался за право женщин на аборт и снисходительно относился к гейскому движению. Конечно, перед тем как в первый раз выставить свою кандидатуру на республиканских праймериз он отрекся от «либеральных заблуждений» и начал позиционировать себя как политика, защищающего традиционные консервативные ценности. Избиратели, правда, на это не купились. «И хотя мультимиллионер Ромни вложил в свою кампанию огромные средства, – писала The Washington Post, – его сочли чересчур высокопарным и неестественным»[165]. Что, впрочем, не помешало ему вступить в предвыборную гонку во второй раз.
В прессе его тут же окрестили фаворитом, однако сами республиканцы с такой оценкой согласны не были. «Да, он пользуется поддержкой партийного истеблишмента, – говорил президент консервативной группы Freedom Works Матт Киббе, – он узнаваем, у него есть деньги. Но он так и не завоевал сердца и умы рядовых членов партии». Республиканцы становились все более консервативными, Ромни же и его «прагматизм» у многих вызывал аллергию. «Конечно, не исключено, – писала The Patriot Post, – что на предстоящих выборах повторится ситуация 2008 года, когда под воздействием либеральных СМИ республиканцы предпочли маверика Маккейна экс-губернатору Арканзаса Майку Хаккаби, который отстаивал принципы «чистого консерватизма». А ведь, согласно опросам общественного мнения, Хаккаби вполне мог одолеть Обаму»[166].
Редакционный совет журнала The Wall Street Journal, который пользуется огромным влиянием в консервативных кругах, порекомендовал Ромни идти на выборы в роли напарника Обамы и сообща отстаивать в Вашингтоне идеалы большого правительства[167]. «Для большинства избирателей очевидно, что Ромни – RINO (Republican In Name Only – республиканец только по названию), – утверждал активист Чайной партии Джо Миллер, – и если он одержит победу на праймериз это будет настоящей катастрофой для страны. Ведь тогда, скорее всего, появится влиятельный консервативный кандидат от третьей партии и президент Обама, воспользовавшись расколом в стане врагов, легко переизбирется на второй срок»[168]. «Судьба экс-губернатора Массачуссетса, – писал The Economist, – чем-то напоминает судьбу Хиллари Клинтон. Республиканцы точно так же, как и демократы четыре года назад, не могут согласиться с выбором, который для большинства экспертов, представляется очевидным. «Кто угодно – только не Митт, – говорят они»[169].
Серьезной проблемой для Ромни являлось его вероисповедание. Еще на прошлых выборах многие евангелисты, которые по-прежнему являются самой влиятельной частью республиканского электората, отказались голосовать за него на том основании, что он мормон. Причем, не простой прихожанин, а один из видных деятелей мормонской церкви. Ромни принадлежит к главной мормонской деноминации – Церкви святых последних дней и долгое время возглавлял объединение из 14 приходов в Бостоне.
Конечно, в 60-е годы Америка избрала президента-католика Джона Кеннеди, но мормоны – это совсем другое дело. В массовом сознании они ассоциируются с таинственными ритуалами, происходящими за закрытыми дверями храма, крещением мертвых и многоженством, которое, правда, было запрещено еще в XIX веке, но до сих пор остается символом мормонства. Не случайно остроумцы утверждали, что в случае избрания Ромни президентом в Америке появится три первых леди. Как писал The World Magazine, «вообразить, что прихожанин мормонской церкви занял Белый дом, практически невозможно. С таким же успехом президентское кресло может достаться шаману или поклоннику культа вуду»[170].
Тем не менее, говорили политологи, чтобы победить Обаму необходимо перетянуть на свою сторону часть умеренных республиканцев и независимых избирателей. И сделать это под силу только Ромни. Правда, представительница «Чайной партии» Мишель Бахман, которая также участвовала в республиканских праймериз, с такой точкой зрения была не согласна. «Обама – одноразовый президент, – утверждала она, – он в любом случае проиграет выборы, а значит у республиканцев впервые за долгое время появляется шанс выдвинуть кандидата своей мечты, наплевав на прагматичные соображения»[171]. Стоит отметить, к тому же, что умеренные республиканцы вроде Боба Дола и Джона Маккейна выборы всегда проигрывали, победу же праздновали консерваторы, такие, как Рональд Рейган или Джордж Буш-младший.
Экс-спикер Палаты представителей Ньют Гингрич как раз считался одним из идеологов консервативного крыла Великой старой партии. Многие указывали, что он является опытным политиком, автором партийной платформы «Контракт с Америкой», благодаря которой республиканцы в 94-м году впервые за 40 лет получили большинство в Палате представителей. Не так давно он выпустил книгу «Спасти Америку: остановим секулярно-социалистическую машину Обамы», в которой сокрушался о потере нравственных и религиозных ориентиров. А поскольку более 70 процентов республиканцев были убеждены в том, что кандидат в президенты должен быть «очень верующим человеком», Гингрич быстро завоевывал популярность. Правда, критики отмечали, что сам 67-летний политик далеко не безгрешен. Он дважды бросал своих жен, его не раз уличали в адюльтере и, к тому же он страдает манией величия. «Гингрич, – утверждал Майкл Барон, – это лидер, у которого существует один стандарт для оценки собственного поведения, и другой – для поведения окружающих. Людей, не согласных с его точкой зрения, он называет идиотами, социалистами и маргиналами, которые не разделяют американских ценностей»[172]. В июне 2011 года от него сбежали все политтехнологи, он чуть было не сошел с дистанции, и продолжал при этом разглагольствовать о том, что президентский пост завещал ему Рональд Рейган. О Гингриче шутили, что он автор десяти из пяти лучших инновационных идей.
Долгое время именно Гингрич был основным соперником Ромни на праймериз. Однако, как утверждал бывший кандидат в президенты Боб Дол, который в конце 1990-х был лидером республиканского большинства в сенате: «никто из политиков, работавших с Ньютом в конгрессе, не поддержит его кандидатуру, поскольку это актер-одиночка, который любит приписывать себе несуществующие заслуги». «Как бы ни пытался Ньют переписать историю, – отмечал The Economist, – утверждения о том, что он помогал Рейгану в создании новой государственной идеологии, превращают его в циркового клоуна»[173].
Многих в Америке смущал и тот факт, что крупнейшим спонсором Гингрича выступил владелец казино в Лас-Вегасе Шелдон Адельсон, а в последние годы бывший спикер активно лоббировал интересы крупных корпораций в Вашингтоне. Его называли вашингтонским инсайдером, незнакомым с проблемами реальной Америки. А правые консерваторы не могли забыть, что он отказался поддержать кандидата Чайной партии в 23 округе Нью-Йорка и сравнивали с Бенедиктом Арнольдом, предателем времен войны за независимость. Тем не менее, около 40 процентов республиканцев были убеждены, что из всех кандидатов только Гингрич способен справиться с обязанностями главнокомандующего. Большинство комментаторов отмечали также, что Ньют – прирожденный борец. «Он преисполнен энтузиазма и готов сражаться любым оружием на любой арене. Это настоящий гладиатор»[174], – говорил о нем бывший республиканский партийный функционер Эдди Мэй. «Истеблишмент пытается распять Гингрича, – вторила ему экс-губернатор Аляски Сара Пейлин, – но политический театр для него всегда будет театром военных действий»[175].
Некоторые шансы были еще у губернатора Техаса Рика Перри: образцового консерватора, бывшего капитана ВВС, после службы в армии управлявшего хлопковой фермой. Еще в 1990 году он устроился в администрацию Техаса, где поначалу отвечал за сельское хозяйство, а затем был назначен вице-губернатором. После того как в 2000 году его босса Джорджа Буша-младшего избрали президентом, Перри занял его место. В нулевые годы он три раза подряд выигрывал губернаторские выборы, заслужив звание самого успешного руководителя за всю историю штата (его сторонники отмечали, что с 2009 года 40 % всех новых рабочих мест в США были созданы в Техасе).
«У него патерналистские методы управления, – писал The New Republic, – чего стоит хотя бы инициатива о введении в Техасе дней моления о дожде, но южанам, похоже, это нравится»[176]. Перри прославился резкой критикой федеральных властей. В 2010 году он опубликовал книгу под характерным названием «Хватит! Наша борьба за спасение Америки от Вашингтона»[177] и несколько лет подряд намекал на то, что Техас вполне может отделиться от США, если столичная элита «продолжит совать свой нос куда не следует». «Оппоненты Перри считают, что после его призывов к сецессии ему нечего ловить на президентских выборах, – писал The American Thinker, – однако губернатор, который ежегодно вывешивает флаг Конфедерации, вполне может стать кумиром на Юге США и завоевать голоса «патриотов», которые считают недоразумением избрание чернокожего президента»[178].
Вполне естественно, что Перри нанял менеджеров, которые занимались предвыборной кампанией Буша-младшего – Джо Эльбо и Курта Андерсона. Как и Буш он не мог похвастаться хорошим образованием: Перри с трудом закончил второразрядный Техасский механико-сельскохозяйственный университет. Однако, как предсказывала The New York Times, «стремление спрятаться в религиозном психозе принесет ему голоса американцев, разочарованных бесплодной политикой Обамы»[179]. Поддержать Перри могли и представители еврейского лобби, недовольные демократической администрацией. Ведь губернатор Техаса не раз заявлял о том, что «земля Израиля была дана еврейскому народу Господом Богом».
Многие предсказывали, что на республиканских праймериз победу будут праздновать ультраконсерваторы, бросившие вызов «республиканским бонзам, которые, по их мнению, проповедуют истины, противоречащие здравому смыслу и логике консервативного большинства». Однако этого не произошло.
Долгое время считалось, что кандидатом от Движения чаепития станет экс-губернатор Аляски Сара Пейлин, которая была напарницей Джона Маккейна на выборах 2008 года. Однако к 2011 году она полностью растеряла свой политический капитал. По словам комментатора CNN Шеннона Трэвиса, «Сару погубила звездная болезнь. Ведь если бы она оставалась на посту губернатора Аляски, консерваторы, наверняка, сплотились бы вокруг ее фигуры, но ринувшись в шоу-бизнес и сделавшись лицом телеканала Fox News, она подписала себе приговор. И чаевники связывали надежды с другой харизматичной женщиной – Мишель Бахманн»[180].
Бахманн – одна из тех представителей Движения чаепития, которые сотворили сенсацию на выборах в нижнюю палату Конгресса 2010 года. Она выиграла выборы в штате Миннесота и вошла в комитет по разведке. Ее считали идеальным кандидатом для жителей американской глубинки, которые в большинстве своем придерживаются консервативных взглядов. Бахманн говорила на сложные экономические темы простым языком, не скрывала своих ультраправых убеждений и называла себя новообращенной христианкой и решительным противником абортов и однополых браков. Комментаторы окрестили ее «профессиональной матерью» (у Бахманн пятеро собственных детей и еще 23 ребенка, которых она воспитывает за счет государства).
Республиканский политтехнолог Рон Бонджин отмечал, что «в отличие от Ромни скованного, не уверенного в себе и не способного ни на миллиметр отойти от заранее заданных схем, Бахманн – непредсказуемая, слегка развязная популистка, которая не лезет за словом в карман и не всегда контролирует свои эмоции. И если Ромни может навредить излишняя осторожность, то Бахманн погубят ее досадные промахи»[181]. Только за первые месяцы предвыборной кампании она успела объявить «отцов-основателей», большинство из которых были рабовладельцами, «борцами за права темнокожих», спутать актера Джона Вейна с серийным убийцей Джоном Вейном Гейси и обвинить администрацию Обамы в том, что она распродает «весь стратегический запас нефти США», хотя речь шла лишь о небольшом объеме сырья, которое хранится в соляных пещерах у побережья Мексиканского залива.
Когда осенью 2011 года Бахманн на короткий период стала фаворитом республиканской гонки на левом фланге началось смятение. Ведь вначале демократы не воспринимали ее всерьез, называя «политической психопаткой», «религиозной фанатичкой» и «пустышкой». Но затем даже колумнист либерального журнала New Republic Джонатан Чайт вынужден был признать, что «Бахманн – прекрасный оратор и очень эффективный менеджер. Не случайно она собрала рекордную сумму пожертвований на свою кампанию в Конгресс (на $ 14 миллионов больше, чем остальные кандидаты). И хотя многие в Америке сравнивают ее с Сарой Пейлин, Бахманн, на самом деле, куда более харизматичная фигура»[182].
Самым опасным, с точки зрения партийной элиты, кандидатом являлся Рон Пол – 76-летний конгрессмен от Техаса, который на президентских выборах 1980 года уже выставлял свою кандидатуру от либертарианской партии. «Республиканские бонзы, – писал в интернет-блоге студент Гарварда Том Рикс, – делают сейчас все возможное, чтобы остановить Пола. На кокусе в Айове, где у него были все шансы на успех, неожиданно исчезли бюллетени двух графств, и многие специалисты предполагают, что они были специально выведены из оборота»[183]. Один из победителей кокуса бывший сенатор от Пенсильвании Рик Санторум заявил по этому поводу, что «небольшая фальсификация – это еще не конец света».
Пола называли убежденным изоляционистом. Он был единственным конгрессменом, голосовавшим против нападения на Ирак. Он не поддерживал военных действий в Афганистане, выступал за выход США из НАТО и ликвидацию американских военных баз за рубежом. Более того, Пол посмеивался над паникерскими настроениями республиканцев в иранском вопросе и не видел ничего страшного в том, что Тегеран может обзавестись ядерным оружием.
Оригинальностью отличался и его подход к экономическим проблемам. Пол был категорически против выделения крупных субсидий банкирам во время кризиса 2008 года. Он требовал провести государственный аудит ФРС и критиковал систему управления экономикой с помощью эмиссии и бюджетного дефицита.
Кроме того, как и все либертарианцы, Пол утверждал, что «большое правительство» представляет серьезную опасность для личных свобод граждан. «В США его давно уже считают подвижником, – писала The New York Times. – Хирург-акушер, который продолжал принимать роды после своего избрания в конгресс, отказался от пенсии, причитающейся законодателям, и не раз в одиночку противостоял всему депутатскому корпусу, вызывает симпатии у многих американцев»[184].
В первую очередь речь, конечно, шла об университетской молодежи, которая просто боготворила Рона Пола. В блогосфере он, безусловно, был самым популярным кандидатом, и многие эксперты опасались, что он может вновь пойти на выборы как независимый кандидат и сильно потрепать нервы представителям двух ведущих партий. «Рон Пол надеется возродить традиционные американские ценности, отказавшись от инородных влияний, – писал The American Thinker. – Займи он Белый дом, он стал бы настоящим Юлианом-отступником – императором, который пытается повернуть время вспять»[185].
Весной 2012 года в республиканской гонке вперед вырвался Рик Санторум, про которого говорили, что он способен сколотить влиятельную консервативно-популистскую коалицию. Конечно, прагматики называли Санторума «токсичным кандидатом», который абсолютно неприемлем для либерального крыла Великой старой партии и независимых избирателей. Однако его радикальный консерватизм был по душе евангелистскому большинству республиканцев, которое подарило когда-то победу близкому приятелю Санторума – Джорджу Бушу-младшему. «Когда кандидат в президенты, – отмечала британская газета The Independent, – во всех проблемах США винит Сатану и осыпает проклятиями Барака Обаму с его «жульнической теологией», это может показаться странным для европейских агностиков, но сделает его героем провинциальной Америки, обожающей религиозных фанатиков и проповедников»[186].
Демократы утверждали, что победа Санторума в их интересах, и призывали действовать по сценарию «Мартовских ид» (фильм Джорджа Клуни о президентской кампании вымышленного кандидата-демократа Майка Морриса, проигравшего праймериз по вине республиканцев, голосовавших за его соперника – политика крайне левых взглядов). Как известно, во многих штатах на промежуточных выборах могут голосовать не только независимые избиратели, но и представители соперничающей партии. И «комитеты политических действий», поддерживающие демократов, объявили о начале кампании, призывающей сторонников Обамы отдать свои голоса Санторуму». «Он станет настоящим стихийным бедствием для республиканцев, – говорил представитель демократического комитета штата Иллинойс Билл Сандерленд, – и позволит Обаме одержать оглушительную победу». Вспомним, как в 1964 году ставленник консервативного крыла Барри Голдвотер обошел предпринимателя Нельсона Рокфеллера, который был фаворитом республиканского истеблишмента, а затем с треском проиграл выборы действующему демократическому президенту Линдону Джонсону»[187].
Политологи отмечали, что ни один из республиканских кандидатов не способен спровоцировать массовый психоз, как это удалось Рейгану с его «утром в Америке» и Обаме с его «переменами, в которые мы можем поверить». «Вместо того чтобы выдвинуть абстрактный лозунг, который привлечет под их знамена миллионы, республиканцы вязнут в конкретных деталях, – писал колумнист The Forbes Марк Адоманис, – Ньют Гингрич уже на тридцатой секунде своего выступления начинает описывать технические детали проекта налоговой реформы, Рик Перри назидательно рассказывает о «безнравственности» однополых браков, а Мишель Бахман пытается поведать миру о консервативных экономистах и теологах. Митт Ромни делает все возможное, чтобы оставаться на уровне бессодержательной, но счастливой болтовни, однако удается ему это с трудом»[188]. Очень показательным в этом смысле был успех темнокожего республиканца Германа Кейна, владельца сети пиццерий, который быстро снял свою кандидатуру. У Кейна не было даже минимального политического опыта, однако обращался он напрямую к озлобленным, загнанным в тупик согражданам и на какое-то время стал фаворитом гонки.
Многие говорили о кризисе в республиканской партии. «Великая старая партия, – писала The New York Times, – все больше напоминает расколовшееся зеркало, осколки которого невозможно склеить: неоконы и изоляционисты, менеджеры Уолл-стрит и ненавидящие их чаевники, евангелисты и либералы, сторонники и противники снижения налогов, сторонники и противники поголовного медицинского страхования. Этот список можно продолжать до бесконечности»[189]. Иллюзию единства долгое время обеспечивала фигура Обамы. Чтобы не иметь ничего общего с «президентом-социалистом», республиканцы вынуждены были резко сдвигаться вправо, поскольку на самом деле Обама – типичный центрист. В результате программы большинства кандидатов было очень сложно отличить друг от друга. «Все они любят Израиль, Рональда Рейгана и своих жен, – отмечал немецкий журнал Der Spiegel, – и люто ненавидят темнокожего президента»[190].
Конечно, многие ожидали, что республиканцы выставят против Обамы боевого генерала. Некоторое время потенциальным кандидатом называли Дэвида Петреуса (в ряде консервативных центров его уже величали будущим президентом), однако Обама в начале бросил вероятного соперника в Афганистан, а затем назначил его главой ЦРУ. «Петреус отказался играть роль Эйхенхауэра и послал республиканцев к черту»[191], – писал журнал The Nation.
Пожалуй, наименее комфортно республиканские кандидаты чувствовали себя в вопросах внешней политики. Ведь одно дело критиковать обаманомику, и совершенно другое – действия демократической администрации на международной арене (после успешных контртеррористических операций политику Обамы поддерживало более половины американцев). «Тем не менее, по словам The Foreign Affairs, республиканские кандидаты называли президента безхребетным и безвольным политиком, который не верит в идею американской исключительности». «При этом складывается ощущение, – писал журнал, – что сами они убеждены: стоит Америке захотеть и Пакистан откажется от поддержки террористов, а Иран – от ядерных амбиций. Послушать их – так получается, что пара авианалетов в добавление к жестким экономическим санкциям – и вот вам – voilà – ядерная программа свернута»[192].
Любопытно, что все фавориты республиканских праймериз оказались ястребами. И хотя Митта Ромни считали умеренным реалистом, речь, произнесенная им 7 октября 2011 года в военном колледже Citadel в Чарльстоне развеяла иллюзии. Ромни раскритиковал «беспомощную внешнюю политику последних трех лет», заявив, что никогда больше не будет извиняться за Америку. «Обама пытается уверить нас в том, что у людей во всем мире общие интересы, но это не так, – провозгласил он. – Есть те, кто сеет зло, а есть те, кто с ним борется. Президент говорит о наступлении азиатского века, а я верю в то, что нас ждет еще одно американское столетие. Этому грандиозному замыслу противятся лишь государства-изгои, такие как Россия, Китай, Иран, Сирия, Венесуэла и Куба. Но я убежден в превосходстве американской нации, которая добьется для себя жизненного пространства и одолеет врагов»[193]. Как говорится, без комментариев. Не совсем понятно, правда, как Ромни планировал построить «сильную бескомпромиссную Америку, которая не отчитывается перед миром за свои действия». Но это уже детали. Возможно, ему должны были помочь в этом его советники по внешней политике, курировавшие в эпоху Буша американские спецслужбы – бывший директор ЦРУ Майкл Хайден и бывший министр по национальной безопасности Майкл Чертофф. Может быть, ему придавали уверенности лишние 30 млрд. долларов, которые он собирался выделить на военные расходы. Однако амбиции у Ромни были колоссальные. Он обещал «взять под контроль арабскую весну», «остановить иранскую ядерную программу» и «закрыть американский рынок для значительной части китайского экспорта в том случае, если КНР продолжит систематически нарушать установленные правила торговли»[194].
Не менее агрессивной выглядела и предвыборная программа Ньюта Гингрича, который во время дебатов в Южной Каролине назвал Пакистан номинальным союзником США, призвал к смене режима в Тегеране и заявил, что гражданские свободы могут быть принесены в жертву ради национальной безопасности. Бывший спикер Палаты представителей объявил себя «продолжателем политики Рейгана, Тэтчер и Иоанна Павла II по распространению демократии»[195] и провозгласил радикальный ислам не менее опасной угрозой, чем коммунизм в эпоху холодной войны. Команду его советников возглавлял президент Вашингтонского совета по внешней политике Герман Пирчнер. В нее вошел также известный неокон и бывший глава ЦРУ Джеймс Вулси, которого можно было бы назвать идеологом «арабской весны». Сам Гингрич отмечал, что арабская весна приведет к исламской зиме, если Америка не будет действовать более напористо. Однако это вовсе не означает, что ей придется увеличить военный бюджет, напротив Гингрич планировал его урезать, называя себя «бережливым ястребом», который не будет проматывать деньги на бессмысленные авантюры[196].
Губернатор Техаса Рик Перри ограничивать себя в средствах не собирался. И риторика его, пожалуй, была наиболее воинственной. Он обещал не прогибаться под международные институты, которые давно уже отжили свой век, «выбросить Китай на свалку истории», как это сделал Рональд Рейган с советской империей зла, ввести «бесполетные зоны над Сирией», хотя местные власти ни разу не сбросили бомбу на мирных граждан, послать американские войска на усмирение мексиканских наркобаронов, выстроить «двойную стену», которая позволила бы контролировать приток мигрантов из Латинской Америки[197]. Среди советников Перри по внешней политике было, пожалуй, больше всего неоконов, в том числе бывший посол в ООН Джон Болтон, главный архитектор иракской войны Дуглас Фейт, и один из идеологов войны с террором Эндрю Маккарти.
На фоне других республиканских претендентов кандидат от Чайной партии Мишель Бахман выглядела настоящим голубем. Она призывала существенно урезать расходы на оборону и обвиняла администрацию Обамы в том, что она создала в Ливии «опорный плацдарм для Аль-Каиды». Как отмечал бывший спичрайтер Рейгана и колумнист The Wall Street Journal Пегги Нунан, «республиканцы сейчас могут вернуться к своим первоначальным принципам. Это демократы всегда ратовали за интервенцию и призывали насаждать американские ценности по всему миру. Лидеры Великой старой партии, напротив, были реалистами, и период крестоносца Буша в этой связи можно считать отклонением от нормы»[198]. Однако среди всех республиканских кандидатов лишь изоляционист Рон Пол заявлял, что «администрация не может позволить себе тратить сотни миллиардов на государственное строительство за рубежом, когда Америка переживает один из самых тяжелых кризисов в своей истории»[199].
Правда, политологи не исключали, что если республиканцам удастся завоевать Белый дом они начнут сдвигаться в сторону изоляционизма. Ведь во внешней политике американские президенты крайне редко воплощают в жизнь свои предвыборные лозунги. Вспомним, что Буш во время предвыборной кампании обещал проводить скромную внешнюю политику и выступал против «строительства наций», а Обама планировал сесть за стол переговоров с иранским президентом Махмудом Ахмадинежадом.
Однако во время праймериз большинство республиканских кандидатов заявляли, что Америка не должна замыкаться в себе, критиковали своих коллег за «пораженчество» и проповедовали идеалы джексонианской школы, отстаивающей право США на неограниченную гегемонию. «То что мы наблюдаем, – говорил эксперт Совета по международным отношениям Макс Бут, – это схватка за душу республиканской партии. И настоящие консерваторы не должны внимать сиренам изоляционизма»[200].
Все республиканские кандидаты скептически относились к политике перезагрузки и критиковали современную Россию. В эфире телекомпании CNN Митт Ромни пообещал «ликвидировать Путина и его империю зла». «Перезагрузка должна закончится, – объявил он, – иначе русские восстановят Советский Союз с помощью таких приемов, как «аннексия населения». Было бы ошибкой также пускать Россию в ВТО, поскольку русские – прирожденные обманщики и плуты»[201]. Гингрич, который был одним из главных сторонников предоставления помощи «демократической России» в 90-е годы, осуждал западных политиков за заигрывания с «кремлевскими диктаторами». «После того как страну разграбили олигархи, – говорил он, – она стала легкой добычей для старой номенклатуры»[202]. Перри называл политику перезагрузки пощечиной, которую американцы нанесли своим восточноевропейским союзникам, и обвинял Россию в агрессивной политике по отношению к бывшим советским республикам, лишь недавно получившим независимость. Во многом нападки республиканцев на Россию объяснялись тем, что отношения с ней – это единственная область, в которой Обама отошел от политики своего предшественника – имперского президента Джорджа Буша-младшего.
«НИЩИЙ МИЛЛИАРДЕР» И «БИТВА БАНКНОТ»
Уже в начале 2012 года, после того как Ромни одержал победу в ряде штатов, стало очевидно, что в ноябре американцы будут выбирать между мормоном и темнокожим. Во многом это объяснялось тем, что на экс-губернатора Массачусетса сделал ставку республиканский истеблишмент. «Ромни сказочно богат, – писала The Washington Post, – и представители элиты пытаются убедить избирателей в том, что от добра добра не ищут»[203]. Один из главных республиканских идеологов Карл Роув, при Буше-младшем занимавший пост заместителя главы президентской администрации, опубликовал статью под названием «Великая победа Ромни»[204], в которой попытался доказать, что из всех претендентов только бывший губернатор Массачусетса достоин занять президентское кресло.
Кроме того, большинство республиканцев, даже те, кто недолюбливал Ромни, были убеждены, что у него намного больше шансов на победу, чем у других кандидатов, а американские журналисты все чаще рассуждали о браке по расчету. Ведь, согласно опросам Gallup, если бы выборы состоялись весной 2012 года, только экс-губернатор Массачусетса мог бы одолеть действующего президента: кандидаты шли ноздря в ноздрю, а некоторое время Ромни даже опережал Обаму.
Политтехнологи Обамы называли Ромни самым неудобным соперником. Ведь он легко мог перетянуть на свою сторону независимых избирателей и даже часть демократов. Неслучайно на праймериз Ромни без труда одержал победу в штатах Новой Англии, традиционно ориентирующихся на либералов, – за ним остались Вермонт, Массачусетс и Вирджиния.
«На самом деле Ромни был бы идеальным напарником Обамы, – писал эксперт из Института Брукингса Майкл Кейг, – ведь он добился триумфа в темно-синих штатах, которые вряд ли поддержат республиканцев на ноябрьских выборах, и не победил пока ни в одном красном штате, где Великая старая партия пользуется поддержкой большинства избирателей»[205].
Ромни, конечно, заигрывал с южанами, пытаясь освоить их диалект и изображая из себя супертрадиционалиста. Он не стал даже спорить с консервативным радиоведущим Рашем Лимбо, который заявил весной 2012 года, что американские женщины «сильно распоясались» и «всем этим феминисткам давно пора вправить мозги, чтобы они не лезли, куда не следует, вели хозяйство и воспитывали детей в консервативных традициях»[206]. «Неужели Ромни, – писала The New York Times, – который надеется стать республиканским кандидатом, ничего не мог возразить фанатичному сексисту, мечтающему вернуть Америку в ту эпоху, когда женщины не обладали равными правами с мужчинами?»[207]
Такая позиция, конечно, превращала Ромни в антипода Обамы, которого прозвали «первым феминистким президентом Америки». Его администрация ежегодно выделяла радикальным женским организациям около миллиарда долларов. Она провела через Конгресс закон о справедливой оплате труда, который обязывал работодателя следить за тем, чтобы женщины двигались по карьерной лестнице и получали такое же вознаграждение, как мужчины, в не зависимости от степени профессионализма. В колледжах были введены так называемые гендерные квоты, и многие профессора были вынуждены уступить свои места менее титулованным сотрудникам, только на том основании, что они женщины.
И вот Лимбо, которого иногда называют фактическим лидером республиканской партии, набросился в прямом эфире на представительницу феминисткого движения Сандру Флюк, которая попыталась доказать на слушаниях в Конгрессе, что медицинская страховка должна предусматривать оплату контрацептивов. Он назвал ее шлюхой, а американских чиновников сутенерами, и был подвергнут остракизму в либеральных кругах. «Лимбо бросил вызов политкорректной Америке с ее крикливым лицемерием и бесконечной, доведенной до гротеска борьбой за права человека, – заявила Сара Пейлин, – и орды либералов набросились на него словно свора голодных псов»[208].
Поскольку Ромни никак не прореагировал на скандал, многие комментаторы тут же обвинили его в «потакании ультраконсерваторам». Как заметил главный стратег Обамы Дэвид Аксельрод, «бывший губернатор Массачусетса, который считался всегда умеренным политиком, рискует заиграться и, резко сдвинувшись вправо во время республиканских праймериз, потерять доверие тех электоральных групп, от которых в ноябре будет зависеть исход выборов. Не будет же он через пару месяцев вновь менять свою риторику, пытаясь достучаться до центристов и одолеть действующего президента во фронтовых и колеблющихся штатах!»[209] О том, что команда Ромни действительно играет в опасные игры, свидетельствовал тот факт, что в «супервторник» он не сумел заручиться поддержкой представителей среднего класса и молодежи, а за время республиканской гонки его рейтинг среди независимых избирателей снизился на 20 процентов.
Ромни не удалось завоевать популярность и среди так называемых «синих воротничков». Для его политтехнологов оказалось непосильной задачей убедить их в том, что бывший профессиональный рейдер, который закрывал заводы, выкидывал на улицу рабочих и перепродавал освободившиеся площади, сможет в должной мере отстаивать интересы американцев, сталкивающихся с проблемой массовой безработицы. Попытки Ромни изобразить из себя «своего парня» и «развеять слухи о том, что его жена владеет парой «кадиллаков», выглядели настолько комично, что в Америке его прозвали «нищим миллиардером». «Вместо того чтобы лезть из кожи вон, – писал The Economist, – пытаясь убедить теряющих работу избирателей в том, что он один из них, и привлечь «синих воротничков» откровенно популистскими антикитайскими лозунгами, Ромни следовало бы объяснить, что присущий ему прагматизм и предпринимательские навыки позволят создать новые рабочие места»[210]. Однако экс-губернатор Массачусетса и владелец компании Bain Capital этого не делал. Более того, своим высокомерием он окончательно оттолкнул от себя неквалифицированных рабочих. Чего стоило, например, неосторожное заявление, сделанное им в пылу кампании, о том, что бедные его не волнуют. «Философия Ромни, – отмечал The Nation, – это социал-дарвинизм. Он верит в то, что выживает сильнейший, и проповедует идеалы дикого капитализма. Неслучайно, уже более полугода являясь фаворитом истеблишмента, даже после «супервторника» он не сумел выбить из седла своих конкурентов. Гонка продолжается, несмотря на то что у Ромни в три раза больше голосов, чем у его преследователей»[211].
Соперники называли Ромни «перекати-полем» и крутили старые записи с его либеральными высказываниями об абортах, однополых браках и государственной медицине. Многие признавали, что он – скучный оратор, который рискует проиграть дебаты златоусту Обаме. Поговаривали, что во время триумфальной речи после праймериз в Нью-Гэмпшире даже четверо сыновей Ромни, стоявшие за ним на трибуне, выглядели так, будто они вот-вот заснут.
Ко всему прочему, с каждым днем в Соединенных Штатах набирала обороты антимормонская кампания. И хотя сам Ромни старался не заострять внимания на своем вероисповедании, заявляя, что «в ноябре будет избран верховный главнокомандующий, а не верховный священнослужитель», американцы все чаще задавались вопросом о том, может ли мормон стать президентом США. «Не исключено, – писал The Atlantic, – что молодая религия вдохнет новую жизнь в американскую империю. Ведь для римских интеллектуалов второго-третьего века христианство представлялось таким же странным и абсурдным культом, как для нас сейчас выглядит мормонизм. Однако сектанты, которые переносят события Священной истории на американский континент и ожидают второго пришествия Христа в штате Юта, вполне могут составить конкуренцию традиционным конфессиям. Тем более что мормоны являются одной из крупнейших финансовых организаций в Соединенных Штатах»[212].
Президентская гонка 2012 года вошла в историю как самая дорогостоящая. Как мы уже упоминали, в 2010-м году накануне выборов в конгресс Верховный суд отменил ограничения на финансирование партийных кампаний, позволив корпорациям и частным лицам создавать так называемые комитеты политических действий, которым в отличие от предвыборных штабов разрешалось выкладывать любые суммы на раскрутку своих фаворитов. Таким образом, Америка фактически вернулась в 1920-е годы – эпоху «позолоченного века», когда для крупного бизнеса не существовало никаких ограничений, корпорации «с потрохами покупали политиков» и могли провести «своих людей» на любую должность. И если в 2008 году вся президентская кампания обошлась стране в 160 миллионов долларов, в 2011 уже в первые две недели политтехнологи спустили треть этой суммы.
Формально комитеты не имели права координировать свои действия с предвыборными штабами. Но для всех было очевидно, что требование это не соблюдается, ведь возглавляли их люди из ближайшего окружения кандидатов. «В итоге, – писал The American Thinker, – бизнесмены без труда смогут навязать стране свою волю. И Соединенные Штаты превратятся в олигархию или даже плутократию – государство, в котором крупные корпорации формируют социальную, политическую и правовую культуру. Америке следует помнить об опыте поздней Римской империи, когда сенаторы перестали думать о благе Рима, пытаясь угодить латифундистам и ростовщикам, открывшим им дорогу на Капитолийский холм»[213]. Конечно, представители политической элиты в США никогда не бедствовали, но в эпоху Обамы их доходы достигли астрономических показателей. Среди членов конгресса насчитывалось 250 миллионеров, 15 % из них входили в число богатейших людей страны, а состояние Митта Ромни было в два раза больше, чем у восьми последних президентов США вместе взятых.
25 января 2012 года в обращении к нации президент призвал повысить до 30 % налоговую ставку для состоятельных граждан, чьи доходы составляют более миллиона долларов в год. И хотя очевидно, что это предложение было популистским (недаром ведь его поддержали 70 процентов американцев), Обама рисковал нажить себе врага в лице крупных корпораций, которые полностью контролировали ход предвыборной кампании. «Если от действующего президента отвернутся ведущие бизнесмены, – писал The Economist, – СМИ будут вынуждены поливать его грязью точно так же, как они делали это с республиканцами, которые не угодили чем-то партийному истеблишменту и финансовым кругам»[214].
Эксперты отмечали, что республиканские праймериз 2011–2012 гг. стали самыми грязными и циничными за последние несколько десятилетий. Два главных претендента на номинацию – экс-губернатор Массачусетса Митт Ромни и экс-спикер палаты представителей Ньют Гингрич – отыскали друг на друга горы компромата и наводнили местные телеканалы штатов агрессивными агитационными роликами. Команда Гингрича выложила в Интернет клип под названием «Когда Ромни пришел в город», в котором фаворит праймериз был представлен алчным капиталистом и рейдером. Команда Ромни в ответ нарисовала портрет Гингрича: аморальный тип, изгнанный из палаты представителей за нарушение этических норм, презирающий семейные ценности и страдающий к тому же непомерной манией величия. И напористый стиль кампании объяснялся, прежде всего, тем, что в ней существенно возросла роль бизнесменов, которые привыкли безжалостно топить своих соперников, наплевав на любые джентльменские соглашения.
Пока шли праймериз, предвыборный штаб Обамы готовился к схватке. На коне вновь оказались те политтехнологи, которые привели темнокожего сенатора к триумфу 2008 года. Они выжимали максимум из баталий республиканцев. «Участники республиканской гонки заняты борьбой друг с другом, а в выигрыше действующий президент, – говорил в апреле 2012 года американский политолог Ричард Фролик. – За время праймериз Обама набрал политические очки, и его рейтинг достиг максимума за последние полтора года». Тем не менее, Америка оставалась крайне поляризованной страной: штаты были четко поделены на синие и красные. Как отмечал эксперт фонда Gallup Джеффри Джонс, «за последние 60 лет никогда не было такого колоссального разрыва в партийных предпочтениях: работу президента одобряли 80 процентов демократов и лишь 12 процентов республиканцев»[215].
При таком раскладе Обаме сложно было вновь говорить об объединении политических элит. Тем более что любые попытки представить его как общеамериканского президента в республиканском лагере воспринимались в штыки. Взять хотя бы нашумевший голливудский проект (а «фабрика грез», как известно, всегда поддерживала темнокожего американского лидера), целью которого было напомнить избирателям о том, в какой сложный для Америки период Обама занял Белый дом. Короткометражный фильм «Дорога, по которой мы шли», снятый оскароносным режиссером Дэвисом Гуггенхеймом, авторский текст в котором зачитал Том Хэнкс, показывал команду Обамы в действии: вот лучшие экономисты страны размышляют вместе с президентом о том, как преодолеть финансовый кризис, а вот силовики принимают решение о ликвидации террориста № 1 Усамы бен Ладена. «Дорога в ад», или «шоссе в никуда», – иронизировали республиканцы. «Стоит отметить, что Обама перестал вызывать у своих оппонентов враждебные чувства, – писала The Washington Post. – Консерваторы просто пожимают плечами, понимая, что перед ними неадекватный, теряющий популярность маргинал».
Скепсис вызвала и запущенная чикагским предвыборным штабом Обамы интернет-кампания «Скажи правду», смысл которой был в «разоблачении клеветников, пытающихся опорочить действующего президента». «Отказываясь воспринимать критику, Обама превращается в авторитарного червя, живущего в виртуальном пространстве»[216], – писал республиканский блогер Аризонец. «Команда Обамы не только уязвима, она еще и параноидальна»[217], – вторил ему консервативный писатель Брэд Тор. И они отчасти были правы. Ведь еще в конце 2011 года рейтинг президента практически сравнялся с рейтингом Джимми Картера – другого «благородного идеалиста-демократа», который просидел в президентском кресле один срок и был разгромлен на выборах пламенным консерватором Рональдом Рейганом.
Серьезные опасения у чикагского штаба вызывало и финансовое могущество Митта Ромни, который, не задумываясь, выкидывал астрономические суммы на свою кампанию. И хотя The New York Times написала, что «деньгами можно купить голоса избирателей, но их любовь – никогда»[218], советники действующего президента так не считали. Они изо всех сил старались найти новых спонсоров, отказывали в деньгах демократам, рассчитывающим переизбраться в конгресс, и готовились к «битве банкнот и банковских чеков». Некоторые политологи предполагали, что секретным оружием чикагского штаба являлся республиканский кандидат Рон Пол, который по идеологии намного ближе Обаме, чем своим однопартийцам. Говорили, что изоляционистские лозунги Пола были рассчитаны на то, чтобы посеять рознь в республиканском стане и перетянуть часть избирателей на сторону демократов, которые давно уже призывают к сдержанности во внешней политике.
С другой стороны, эксперты не исключали, что «революция Пола», в которой участвовали абсолютно разные люди – от христианских консерваторов из глубинки до молодых интернет-активистов, – может привести к возникновению третьей политической партии, способной нарушить двухсотлетнюю гегемонию «ослов» и «слонов».
Часть II ПРЕЗИДЕНТ-КОСМОПОЛИТ
Первая четырехлетка Обамы войдет в историю как период, когда Америка начала сдавать свои позиции на мировой арене. Многие политологи стали сравнивать Соединенные Штаты с Британской империей эпохи заката. Некоторым приходила на ум и аналогия с поздней Римской империей. «Обама, – отмечал The American Thinker, – играет в те же игры, что и император Константин, который пошел на уступки варварам и отказался от римской идентичности ради космополитических идеалов. Ему осталось только основать свой Обамаполь где-нибудь на Ближнем Востоке»[219].
Обама, действительно, был первым космополитом в Белом доме. «Это человек, который воспитывался не на гамбургерах и горизонты которого не ограничивались колосящимися полями кукурузы в штате Айдахо, – отмечал председатель Исламского комитета России Гейдар Джемаль, – Он носил в индонезийской школе саронг, у него шиитское имя Барак Хусейн, и он никак не привязан к американской почве»[220]. Философия Обамы изначально заключалась в том, что Соединенные Штаты могут и должны достучаться до национальных элит в тех странах, которые традиционно считались их геополитическими соперниками. Он пообещал «протянуть руку» иранским лидерам, объявил о перезагрузке в отношениях с Россией и предложил Китаю создать «большую двойку», разделив с ним ответственность за судьбы мира. При этом демократическая администрация, не моргнув глазом, отрекалась от старых союзников, фактически, поставив крест на «особых отношениях» с поляками, британцами, колумбийцами и израильтянами.
ВСЕМИРНАЯ «ОБАМАМАНИЯ»
Во время предвыборной кампании 2008 года, несмотря на образ пацифиста, сенатор Обама выдвигал довольно-таки жесткие внешнеполитические лозунги. Не случайно его левые взгляды не отпугнули тогда часть неоконсерваторов. «Риторика Обамы напоминает начало 60-х, когда Кеннеди пришел к власти на волне недовольства внешней политикой Эйзенхауэра, – писал в The Washington Post один из самых влиятельных неоконов, Роберт Каган. – Многие обвиняли бывшего командующего союзными войсками в Европе в недостаточной твердости, в том, что он не способен отстаивать американские интересы на мировой арене. Кеннеди же призывал любой ценой привить ценности свободы другим государствам, даже если они будут противиться этому. Вслед за ним Обама повторяет формулу о том, что США являются лидером свободного мира»[221]. Мыслям неоконсерваторов были созвучны и такие рассуждения Обамы: «Невозможно построить демократию, сместив диктатора и поставив урну для голосования. Мы должны строить государства с устойчивой законодательной системой, независимым судом, верховенством права, развитым гражданским обществом и свободными СМИ. Мы должны предоставить слабым странам средства для борьбы с бедностью, а также для развития образования, медицины и рыночных отношений»[222]. Обама предложил вдвое увеличить бюджет, отведенный на эти цели. По его мнению, к 2012 году он должен был составить $50 млрд. Кроме того, Обама выступил за увеличение численности вооруженных сил США на 100 тыс. человек. И хотя сенатор считался убежденным противником войны в Ираке, он не исключал военного решения иранской проблемы, призывал США заставить Пакистан любой ценой поймать Усаму Бен Ладена и рассматривал даже возможность вторжения на территорию этой ядерной державы. Такие предложения поставили многих демократов в тупик. Обаму тут же окрестили «неоконом в овечьей шкуре». Однако политологи объясняли, что внешнеполитические взгляды темнокожего кандидата сформировались под влиянием левых интеллектуалов. А ведь к этой группе когда-то принадлежали и неоконсерваторы.
Мир с большим азартом наблюдал за американской предвыборной кампанией 2008 года. По Европе прокатилась волна обамамании, которая особенно усилилась после того, как темнокожий сенатор побывал в европейских столицах. Выступая в Берлине, он провозгласил себя гражданином мира, подчеркивая таким образом свое желание отойти от односторонней политики предыдущей администрации и вернуться к космополитичному стилю Клинтона. Однако неоконсерватор Роберт Каган предсказывал, что Обама не оправдает ожидания европейцев. «Он будет президентом США, – отмечал он, – и защищать будет американские взгляды на мир, с которыми Европа часто не согласна. Кеннеди, Рейган, Клинтон проводили классический внешнеполитический курс, основанный на концепции сильной Америки. И новый президент ничего тут менять не будет»[223]. Британская газета The Independent также стремилась разочаровать европейских поклонников Обамы: «Сенатор от Иллинойса придерживается довольно консервативных взглядов в стране, где центристы, по нашим меркам, законченные консерваторы. Он считает войну в Афганистане внешнеполитическим приоритетом и выступает за усиление протекционизма. А это означает, что он потребует от нас увеличить воинский контингент и ухудшит условия торговли»[224].
Однако предостережения обамаскептиков не повлияли на настроения европейцев, которые ликованием встретили известия о результатах президентских выборов в США. Париж и Лондон праздновали победу демократического кандидата с таким же размахом, как Чикаго и Нью-Йорк. Риторика перемен настолько завела жителей Старого Света, что Обама превратился для них в символическую фигуру. Европейцы всегда посмеивались над пресностью американской политики, но предвыборная кампания 2008 года полностью поменяла их представления. Избрав темнокожего интеллектуала на пост президента, американцы сделали для восстановления своего имиджа в Европе не меньше, чем приняв план Маршалла.
В своей программной статье в Foreign Affairs главным приоритетом Обама называл улучшение американского имиджа в мире. «Мы должны, – вторил ему бывший демократический президент, Джимми Картер, – приступить к восстановлению морального авторитета во всемирном правозащитном движении. Нам следует возобновить взаимодействие с агентствами ООН, чтобы сделать эту организацию более эффективным инструментом мировой политики»[225]. «Франция рассчитывала на победу Барака Обамы на выборах президента США, поскольку его позиция предвещала многосторонний подход в решении мировых проблем»[226], – заявил глава французского МИДа Бернар Кушнер. И даже извечный критик Соединенных Штатов президент Венесуэлы Уго Чавес назвал победу Обамы «историческим событием, вселяющим надежду на смену эпох».
Было очевидно, что новому президенту будет крайне тяжело оправдать ожидания, которые связывает с его приходом мировое сообщество. «Кампания ведется в черных и белых тонах. Управление страной – в серых»[227], – писал по этому поводу председатель Совета по международным отношениям Ричард Хаас.
Буквально сразу после инаугурации Обама столкнулся с ближневосточным кризисом, связанным с операцией «Литой свинец», которую израильтяне начали в секторе Газа 27 декабря 2008 года. Обама занял двойственную позицию. С одной стороны, через таких произраильских политиков, как Хиллари Клинтон и Джо Байден он дал понять, что Иерусалим может рассчитывать на его поддержку, с другой – в своей инаугурационной речи он пообещал построить «новые отношения с мусульманским миром». И эксперты сделали вывод, что такой синтетический подход, характерный для эпохи постмодерна, будет и в дальнейшем применяться во внешней политике Обамы.
В первые сто дней Обама преуспел в основном в дипломатии намеков. Однако уже тогда стало очевидно, что человек он импульсивный, способный на нестандартные решения. Чего стоила, например, его попытка заговорить с левыми в Латинской Америке. О возможности такого диалога он не предупреждал заранее, и лишь немногие эксперты обратили внимание на то, что Обама присматривается к латиноамериканским лидерам. И вдруг на саммите Америк, проходившем 20 апреля 2009 года, он протянул им руку, понимая, что Соединенным Штатам необходимо восстановить влияние в Западном полушарии. Ведь в эпоху Буша ситуация на «заднем дворе» США все больше стала напоминать ситуацию на постсоветском пространстве.
Консерваторы воспринимали прекраснодушные заявления Обамы в штыки. «Сто дней покаянной дипломатии, – писал главный советник экс-президента Джорджа Буша-младшего Карл Роув, – Обама извинился перед народами трех континентов за то, что представляется ему грехами Америки и его предшественников. Сегодня нашу страну возглавляет суперзвезда, а не государственный муж. Это может принести мимолетное восхищение зарубежных аудиторий, но вряд ли способствует продвижению долгосрочных интересов Америки»[228].
Однако после той абсолютной ненависти, которую вызывала администрация Буша, «обамамания», охватившая многие страны, была вполне предсказуемым явлением. Поначалу к новому американскому президенту настороженно отнеслись только в Восточной Азии.
«КИТАЙСКО-АМЕРИКАНСКИЕ ГОРКИ»
Сразу после того как демократическая администрация завоевала Белый дом, бывший советник Буша Майкл Грин заявил, что «историки будут оценивать ее деятельность в зависимости от того, как сложатся отношения США со странами Восточной Азии, и, в первую очередь, с Китаем»[229]. И не случайно, занявшая пост госсекретаря Хиллари Клинтон первый свой вояж совершила именно в этот регион.
Ее предшественники расставляли приоритеты иначе. Колин Пауэлл, например, начинал свою деятельность с визита в Египет, Израиль и Палестинскую автономию, а Кондолиза Райс – с путешествия по странам старой Европы. В Восточную Азию глава Госдепа США отправилась впервые со времен администрации Кеннеди, когда на этом посту находился известный евроскептик Дин Раск (его повышенный интерес к региону обернулся для Америки вьетнамской катастрофой).
Охваченные обамаманией европейцы не сомневались, что главным приоритетом для новой администрации станут трансатлантические отношения. Назначение Хиллари Клинтон на пост госсекретаря лишь укрепило их уверенность, ведь бывшая первая леди не раз заявляла о том, что страны ЕС являются самыми надежными союзниками США. В Старом Свете были убеждены, что первый визит она нанесет в одну из европейских столиц. Правда, после военной операции в Газе политологи объявили, что Клинтон отправится на Ближний Восток, а когда главным внешнеполитическим приоритетом США была объявлена война в Афганистане, заговорили о центральноазиатском направлении.
О Восточной Азии почему-то никто не вспомнил, хотя выбор госсекретаря представлялся весьма логичным. Не секрет, что в международной политике центр тяжести перемещается с Атлантики на Тихий океан, и без участия азиатских гигантов невозможно решить ни одну из глобальных проблем. К тому же Восточная Азия – единственный регион, в котором после правления Буша сохранился позитивный имидж Америки. По данным чикагского Совета по международным отношениям, за годы республиканской администрации американское влияние здесь только увеличилось.
С другой стороны, к победе Обамы в Восточной Азии отнеслись настороженно. В Китае, Японии и «странах-драконах» в политике ценят постоянство, а не перемены. Как утверждал основатель Французского института международных отношений Доминик Моизи, «в отличие от Европы, которая является реформаторским континентом, азиаты всегда будут выступать за сохранение статус-кво, и поэтому Обама, призывающий к радикальным переменам, вызывает у них непонимание и неприязнь»[230]. Даже в Пекине неоконсервативная администрация Буша, которая считала Китай главным геополитическим соперником США, воспринималась как более предсказуемый партнер по переговорам. Что уж говорить о Японии, где элиты были кровно заинтересованы в «жесткой власти» Соединенных Штатов, способных уравновесить набирающий силу Китай. Многих азиатских экспертов пугала склонность Обамы к компромиссам. «Они боятся его выдержанности, неторопливого стиля управления, – утверждал бывший посол США в ООН Джон Болтон, – и, что бы они ни говорили о Буше и ковбойской дипломатии, пассивная Америка – это совсем не то, чего они хотят»[231]. Еще одной причиной недоверия к новому американскому президенту в Восточной Азии стали его протекционистские взгляды. Для стран этого региона, во многом живущих за счет экспорта в Соединенные Штаты, отказ от политики свободной торговли мог иметь очень серьезные последствия.
В ходе своего азиатского турне Клинтон попыталась успокоить местные элиты, заверив их, что лозунг «Покупай американское», который стал частью плана стимулирования экономики США, относится лишь к государственным предприятиям и не отразится на торговых отношениях с Америкой. Кроме того, госсекретарь заявила, что первоочередной задачей для новой администрации является «создание союзов в Азиатско-Тихоокеанском регионе», и поездка по странам Восточной Азии должна способствовать ее реализации. В Токио Клинтон была вынуждена исправлять собственные ошибки, допущенные во время предвыборной кампании. Дело в том, что в своей программной статье в Foreign Affairs она слегка переборщила с реверансами в сторону Китая, не уделив при этом должного внимания традиционному союзу с Японией. Во время поездки она попыталась реабилитироваться, провозгласив американо-японский альянс «краеугольным камнем внешней политики США» и пригласив премьер-министра Японии Таро Асо стать первым иностранным лидером, который посетит нового президента в Вашингтоне.
Еще одним союзником США в регионе оставалась Южная Корея, традиционно сохраняющая враждебное отношение к Японии. И хотя у Соединенных Штатов, говорили специалисты, есть оборонные соглашения с обеими странами, их армии практически не контактируют. «Это совсем не похоже на трехсторонний альянс, – писала The Washington Times. – Корейско-японские исторические противоречия – слабое звено американской стратегии безопасности в Азии. Единственное, что объединяет двух американских союзников в регионе, – это жесткий подход к северокорейской проблеме»[232]. Неслучайно, находясь в Сеуле, Клинтон позволила себе ряд резких высказываний в адрес Пхеньяна. Она назвала режим Ким Чен Ира «тиранией» и подняла даже запретную тему о смене власти в коммунистической республике.
Воинственная риторика Клинтон контрастировала с обещанием Обамы возобновить переговоры с лидерами Северной Кореи, однако это был единственный способ завоевать доверие японской и южнокорейской элиты. Стоит отметить, что начиная с 2006 года политика Госдепартамента на восточноазиатском направлении сводилась к попыткам убедить Пхеньян отказаться от ядерной программы. Бывший помощник госсекретаря по Восточной Азии, Кристофер Хилл, который, кстати, сопровождал Клинтон в поездке, готов был ради этого пожертвовать особыми отношениями с Токио и Сеулом. «Но Клинтон отступила от доктрины своих предшественников, – писал эксперт Сеульского экономического института Дон Ен Суен, – не соглашаясь вести переговоры с Пхеньяном до тех пор, пока он не изменит отношения к соседям»[233].
В ходе своего турне Клинтон посетила также Индонезию, самое густонаселенное мусульманское государство. К администрации Обамы в этой стране отношение было позитивным (ведь в детстве новоиспеченный президент США прожил здесь четыре года). Для Соединенных Штатов же Индонезия являлась примером государства, совмещающего исламскую идеологию с принципами модернизации. К тому же Джакарта обладала определенным влиянием в Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, и Клинтон не преминула этим влиянием воспользоваться. Она провела встречу с генеральным секретарем АСЕАН Сурином Питсуваном и пообещала присоединиться к Балийскому договору о дружбе и сотрудничестве в Юго-Восточной Азии, что в свое время отказывалась сделать администрация Буша.
Конечной точкой азиатского турне Клинтон стал, разумеется, Пекин. Еще во время предвыборной кампании Хиллари отмечала, что американо-китайские связи будут играть решающую роль в формировании мирового порядка XXI века. «Демократическая администрация унаследовала прекрасные отношения с Китаем»[234], – утверждал Дэвид Шамбо, директор центра китайских исследований в Университете Джорджа Вашингтона. «Отношения Китая и Соединенных Штатов перешли в зрелую фазу[235], – вторило ему новостное агентство Xinhua, – и Обама вряд ли откажется от достижений предыдущей администрации, которая добилась настоящего прорыва в этих отношениях». Команда Буша в первую очередь уделяла внимание экономическому диалогу, стараясь не раздражать китайских партнеров нравоучениями. Эксперты опасались, что Хиллари Клинтон, которая еще в 2008 году призывала бойкотировать Олимпийские игры в связи с событиями в Тибете, постарается вернуться к правозащитной тематике. В Китае многие вспоминали ее знаменитую речь 1995 года, в которой она заявила, что правящий коммунистический режим систематически нарушает права человека.
Однако в ходе визита Хиллари даже не заикнулась о политических разногласиях, что, разумеется, вызвало критические замечания со стороны правозащитных организаций, таких, как «Международная амнистия» и Human Rights Watch. Прежде всего молчание Клинтон объяснялось желанием новой администрации «переформатировать отношения с Пекином». В этом смысле заслуживало внимания предложение Збигнева Бжезинского о создании так называемой «большой двойки» – неформального союза Соединенных Штатов и Китая. По мысли Бжезинского, который был советником Обамы по вопросам внешней политики во время предвыборной кампании, такая организация отражала бы реальный расклад сил на мировой арене. «Идея о создании «двойки», – писал политолог, – должна найти отклику президента Обамы, внутренне склонного к урегулированию противоречий. Несомненно, ее позитивно воспримет и председатель Ху Цзиньтао – автор концепции «гармоничного мира»[236]. К формированию особых отношений с Китаем Обаму призывали многие эксперты, а профессор Гарварда Нил Фергюссон предлагал даже создать единое экономическое пространство – так называемую Киамерику.
Как утверждал заместитель директора Института Дальнего Востока, профессор МГИМО Сергей Лузянин, «вместо того, чтобы сдерживать Китай, американские стратеги предлагают приблизить его, сделать равным Соединенным Штатам. И визит Клинтон можно назвать первым пробным шаром на пути выстраивания новой политики, которая предполагает привлечение Китая к решению глобальных проблем и более тесное сотрудничество с ним в урегулировании региональных конфликтов на всем евразийском пространстве – от Ближнего Востока до Северной Кореи»[237]. Правда, в самом Китае к американскому проекту изначально отнеслись скептически. «Китайцы, – утверждал Лузянин, – не будут играть в игру, придуманную в Вашингтоне. Им не нужен биполярный мир, и делить с Соединенными Штатами ответственность за кризисные регионы они не собираются. С другой стороны, в Пекине приветствуют идею разрядки в отношениях с Америкой»[238].
В результате визита Клинтон Соединенным Штатам удалось возобновить прямые контакты с китайскими военными, прерванные по их инициативе в октябре 2008 года после продажи партии американского оружия Тайваню. Американцы утверждали, что тайваньская проблема вообще отходит на второй план, поскольку к власти на острове пришла партия «Гоминьдан», выступающая за укрепление отношений с материковым Китаем.
Во многом готовность США идти на компромисс в диалоге с Пекином объяснялась финансово-экономическими факторами. Китаю принадлежали ценные бумаги Министерства финансов США на сумму $500 млрд. и активы американских компаний на такую же сумму. В 2007 году Клинтон обвиняла администрацию Буша в том, что она слишком активно привлекает иностранных игроков на рынок государственных долговых обязательств США. Однако два года спустя сама Хиллари призывала китайцев скупать американские ценные бумаги. Как писал журнал The American Thinker, «изменения в мировоззрении Клинтон объясняются тем простым фактом, что она оказалась у власти. А федеральное правительство – это словно алкоголик, который постоянно обещает бросить пить, а затем вновь заказывает в баре двойную порцию виски в кредит»[239].
Конечно, у США были серьезные разногласия с КНР, но обе стороны были убеждены, что в условиях глобального экономического кризиса они должны отойти на второй план. «Вы очень вовремя вспомнили старое китайское высказывание о том, что людям, которые переправляются через реку в одной лодке, не стоит воевать», – заявил китайский премьер-министр Вэнь Цзябао, обращаясь к американскому госсекретарю (речь идет о цитате из труда «Искусство войны», написанного генералом Сунь Цзы еще до нашей эры).
Клинтон попыталась убедить китайских лидеров в том, что глобальное потепление – не менее серьезная проблема, чем финансовый кризис, и для ее решения также потребуются совместные усилия Пекина и Вашингтона. «Нужно копать колодец до того, как почувствуешь жажду», – процитировала она еще одно древнее китайское изречение. В целом азиатское турне Клинтон, как, кстати, и первый зарубежный визит президента Обамы в Канаду, эксперты назвали примерами «зеленой» дипломатии, которую намеревалась проводить новая американская администрация. В поездке госсекретаря сопровождал специальный представитель по вопросам изменения климата Тодд Стерн, а посетила Клинтон как раз те страны, которые, по мнению экспертов, будут играть ключевую роль в борьбе с глобальным потеплением: Китай и Индонезия наряду с США считаются главными производителями парниковых газов, а Япония, как известно, славится лучшими «зелеными» технологиями.
Еще на слушаниях в Конгрессе перед утверждением в должности госсекретаря Клинтон заявила, что эра «жесткой идеологии» в американской дипломатии останется в прошлом, а на смену ей придет концепция «умной силы»[240], основанная на синтезе идеалов и прагматизма. Администрация Обамы была намерена восстановить моральный авторитет Америки, используя так называемую мягкую власть, которая включает в себя традиционные дипломатические контакты и общение с народом в духе «политики стадионов», зародившейся в период предвыборной кампании Обамы. Клинтон, конечно, не могла похвастаться такой же популярностью, как ее босс, однако в Азии ей удавалось собирать толпы любопытных и разыгрывать перед ними роль поп-дивы, рассуждающей о материнстве, любви и музыке. В Индонезии она приняла участие в молодежном ток-шоу, а в Японии и Корее настолько обаяла студентов, что они признали ее самой знаменитой женщиной на земле. И хотя в результате азиатского турне не было заключено ни одного серьезного соглашения, оно оказалось очень полезным для продвижения имиджа Соединенных Штатов. Что же касается политических результатов, то сама госсекретарь назвала свое путешествие аудиотуром, во время которого она лишь прислушивалась к голосу Восточной Азии.
Через полгода в ноябре 2009-го турне по странам этого региона совершил уже Барак Обама. Он также не добился серьезных дипломатических успехов. Да это, в общем-то, и не входило в его задачи. Поездка американского президента была, скорее, визитом вежливости, который должник обязан нанести своим кредиторам. Неслучайно, Обама так легко отказывался от сформулированных в Госдепе требований, уступая во всем азиатским лидерам, и, по словам экспертов, даже несколько переборщил с реверансами в их адрес.
Выступая в Токио, он провозгласил себя «первым тихоокеанским президентом» США. «Я хочу, чтобы каждый американец знал, что мы делаем ставку на будущее этого региона»[241], – заявил президент. «Фигура Барака Обамы, – отмечала The New York Times, – отражает серьезный сдвиг в американском мировоззрении. Этот президент вырос в тихоокеанском регионе, жил на Гаваях и в Индонезии. И если все его предшественники в первую очередь были атлантистами, то для него главным приоритетом будет Восточная Азия»[242].
Правда, критики утверждали, что вместо того чтобы предложить азиатским гигантам равноправное сотрудничество Обама ставит себя в подчиненное положение, заранее признавая поражение Америки в борьбе за гегемонию с Китаем и другими странами Восточной Азии. Для консервативных комментаторов символом национального унижения стал поясной поклон американского президента, которым он приветствовал императора Японии Акихито.
Неоднозначную реакцию вызвал и тот факт, что на саммите АТЭС в Сингапуре Обама согласился подписать договор о свободной торговле в тихоокеанском регионе. Многие американцы начали обвинять президента в том, что он жертвует национальными интересами ради того чтобы заслужить благосклонность восточноазиатских стран, которые живут за счет экспорта в США и не желают, чтобы Америка возводила протекционистские барьеры. Сингапурский саммит вообще стал для Обамы дипломатическим провалом. Члены АТЭС отказались от первоначальных планов вдвое сократить выбросы углекислого газа к 2050 году, поставив под сомнение успешность «зеленой революции», провозглашенной администрацией США. А китайская делегация настояла на том, чтобы убрать из итогового коммюнике требование о введении рыночного обменного курса для региональных валют, продемонстрировав таким образом, что Пекин не собирается отказываться от заниженного курса юаня.
Спорными были признаны и результаты саммита АСЕАН. В июле Клинтон выполнила свое обещание и присоединилась к Балийскому договору о дружбе и сотрудничестве в Юго-Восточной Азии. В результате американский президент вынужден был сесть за стол переговоров с лидером военной хунты Мьянмы генералом Тейн Сейном. И что неприятно удивило многих западных наблюдателей, в итоговых документах, принятых на совместном заседании США и стран АСЕАН, не было выдвинуто требование об освобождении политических заключенных Мьянмы, которая считается политическим союзником КНР.
Восточноазиатские элиты все больше пугала склонность Обамы к компромиссам. «Соединенные Штаты нужны нам в качестве противовеса китайскому влиянию, поскольку даже, объединив усилия, страны региона не способны оказывать давление на Пекин, – объяснял американцам создатель сингапурского чуда Ли Куан Ю. – Если вы оставите нас на произвол судьбы, вы рискуете утратить роль мирового лидера»[243].
Чтобы успокоить традиционных союзников США, Обама заявил, что, несмотря на разоруженческие инициативы, Америка не собирается отказываться от ядерного зонтика над Сеулом и Токио. Кроме того, он дал понять новому японскому правительству, которое возглавил лидер Демократической партии Юкио Хатояма, что его желание проводить независимую внешнюю политику вполне законно и сокращение воинского контингента на Окинаве не станет ударом для американской стратегической системы в Азии. И это несмотря на то, что министр обороны США Роберт Гейтс требовал от японских властей соблюдения достигнутых три года назад договоренностей, согласно которым Соединенные Штаты обещали лишь перевести военную базу на побережье, не сокращая своего присутствия на острове. Обама надеялся, что стратегия уступок позволит ему навести мосты с Демократической партией Японии и укрепить военно-политический союз Токио и Вашингтона. Однако эксперты полагали, что принимая правила игры, навязанные ему Хатоямой, американский лидер ставит крест на концепции «особых отношений». «Япония, – писала The Washington Post, – постепенно становится для США более серьезной проблемой, чем КНР»[244].
Конечно, ключевым пунктом азиатского турне Обамы был Китай. Выступая перед студентами в Шанхае, Обама отметил, что Вашингтон и Пекин «вовсе не обречены на соперничество»[245]. Более того, Соединенные Штаты, по его словам, заинтересованы в усилении роли Китая на мировой арене. Формирование восточноазиатской политики было поручено дипломатам, прославившимися своими симпатиями к КНР. Азиатский департамент в Национальном совете безопасности возглавил известный китаист Джеффри Бадер, помощником госсекретаря по делам Восточной Азии и Тихого океана стал Курт Кэмпбелл – убежденный сторонник диалога с Пекином. А заместителем госсекретаря был назначен Джеймс Стайнберг, который считался главным архитектором китайской политики Билла Клинтона.
Традиция дружественного подхода к Китаю в США уходит корнями в XIX век, когда путешественник Уильям Рокхил написал книгу «Земля лам»[246], в которой восхвалял Поднебесную и ее многотысячелетнюю культуру. Среди его продолжателей можно назвать американских миссионеров начала XX века, философа Джона Дьюи и журналиста Эдгара Сноу, который романтизировал китайских коммунистов и провозгласил, что «мир не знает более великой мистерии, чем история красного Китая»[247]. Если говорить о недавней истории, очень показательна реакция администрации Буша-старшего на события на площади Тяньаньмэнь. Уже через несколько дней после расстрела демонстрации эмиссар американского президента Брент Скоукрофт провозгласил на банкете в Пекине, что «США не собираются слушать тех, кто стремится помешать американо-китайскому сотрудничеству»[248].
Советники Обамы сформулировали новый подход к отношениям с КНР, получивший название «стратегическое заверение». Смысл его заключался в том, что Соединенные Штаты обязуются не мешать китайскому восхождению к власти, в том случае если Китай согласится на «мирное сосуществование». Критики заявляли, что этот подход напоминает «доктрину умиротворения», тем более что в Пекине все чаще рассуждали о новой внешнеполитической модели – модели «всесильного дракона», обреченного на роль мирового лидера.
Созданию «большой двойки» или Киамерики мешали экономические разногласия, которые существовали между двумя гигантами. Соединенные Штаты были недовольны экономической экспансией Китая, растущим внешнеторговым сальдо (в 2008 году этот показатель достиг $ 270 млрд.) и заниженным курсом юаня. Американцы требовали ревальвации китайской валюты, надеясь таким образом сократить дефицит в торговле с КНР. Китай, в свою очередь, обвинял Америку в политике слабого доллара. За несколько дней до визита Обамы председатель Комиссии по регулированию банковской деятельности КНР Лю Минкан заявил, что падение курса американской валюты и снижение кредитных ставок способствует глобальной спекуляции на фондовых рынках и может привести к новому витку финансового кризиса. Поскольку львиная доля валютных резервов Китая хранится в долларах, неудивительно, что китайские финансисты были обеспокоены тем, что Соединенные Штаты ничего не делают для спасения собственной валюты.
Резкую критику в Поднебесной вызывала и протекционистская политика Обамы. По мнению китайцев, антидемпинговые пошлины на ввоз шин и металлических труб из КНР были введены лишь для того, чтобы удовлетворить «коммерческие интересы ряда американских концернов» и стали серьезным препятствием для «стратегического диалога» Соединенных Штатов и Китая. «Когда в Пекине Обама рассуждает об отмене запретительных мер – писала The Financial Times, – это как раз то конкретное предложение, которое может удовлетворить технократа Ху Цзиньтао»[249].
В надежде урегулировать экономические противоречия, команда Обамы старалась не раздражать Пекин нравоучениями на тему прав человека (Как мы видели это началось еще с пробного визита Клинтон в Пекин). Джеймс Стайнберг запретил даже американским дипломатам встречаться с китайскими диссидентами без позволения Госдепа. А накануне азиатского турне Обамы Белый дом отказал в аудиенции Далай Ламе. «Несмотря на уступки нынешней администрации США, – писал эксперт Центра стратегических и международных исследований Виктор Ча, – Китай отказался идти ей навстречу в таких вопросах, как курс национальной валюты и борьба с изменением климата. Президент же, отменив встречу с духовным лидером Тибета, превратился в глазах всего мира в послушную марионетку Пекина. Осталось только согласиться с официальной точкой зрения КНР, которая гласит, что Мао стоит в одном ряду с Линкольном, поскольку он упразднил рабовладельческую систему в Тибете»[250].
Обаме не удалось даже выполнить традиционную для него задачу по продвижению американского имиджа. Китайские власти отказались транслировать по национальному телевидению очередную «эпохальную» речь президента США перед шанхайскими студентами. И хотя Обама был в ней предельно корректен, избегал критики китайских властей и говорил лишь об абстрактных «универсальных» ценностях, руководству КПК не понравились его призывы обеспечить свободный доступ в интернет. В китайских СМИ речь была подвергнута цензуре, а Ху Цзиньтао пожурил Обаму, заявив, что его встреча с молодежью прошла «чересчур оживленно». И американский президент вынужден был довольствоваться бытовой обамаманией, охватившей Китай: яйцами с собственным портретом, футболками с надписью «Оба Мао» и своей волосяной статуей, созданной парикмахером Хуан Синем.
«МУДРАЯ ОБЕЗЬЯНА» ИЛИ «ВСЕСИЛЬНЫЙ ДРАКОН»?
В эпоху Буша-младшего экономический диалог, начавшийся по инициативе министра финансов США Генри Полсона, привел к настоящему прорыву в американо-китайских отношениях. И команда Обамы не собиралась отказываться от достижений своих предшественников. «Демократы надеялись не только сохранить, но и приумножить наследство Буша в Тихоокеанском регионе, – отмечал директор внешнеполитических программ New America Foundation Стив Клемонс. – Они планировали привлечь КНР к решению глобальных проблем и никто не сомневался, что китайцы мгновенно согласятся, стоит только Америке пригласить их повальсировать вместе»[251].
Правда, скептики отмечали, что повышенное внимание к Китаю лишь увеличит амбиции азиатского гиганта. «Администрация Обамы переборщила с реверансами в адрес Пекина, – утверждал Дэвид Лэмптон, заведующий кафедрой китаистики в университете Джонса Хопкинса. – Америка предстала в роли просителя и дала понять китайцам, что заинтересована в них намного больше, чем они в ней»[252].
Китайские эксперты провозгласили, что глобальный финансовый кризис доказал превосходство их экономической модели, которая может теперь рассматриваться как разумная альтернатива западному либерализму: ведь если Соединенные Штаты переживают упадок, то в Китае продолжается «золотой век». «КНР, действительно, представляет собой альтернативную модель экономики, – отмечал президент Института экономической стратегии известный китаист Клайд Престовиц, – Китайцы не препятствует развитию рыночных отношений, но частные компании фактически работают у них в связке с государством. Я называю это неомеркантилизмом. На данном этапе эта модель выглядит более предпочтительной. Однако не стоит забывать об опыте другой неомеркантилистской страны – Японии. В 80-е годы она очень быстро развивалась и считалась главным вызовом для американской экономики, однако через десять лет погрузилась в затяжную депрессию. То же самое произошло с Кореей. И не факт, что Китаю удастся вечно сохранять высокие темпы роста»[253]. Однако большинство экспертов оптимистически оценивали перспективы КНР, отмечая, что в XXI веке «богатство и власть перемещаются на Восток». И хотя, говорили они, до 2030 года экономика Китая переживет несколько периодов спада, она вырвется на первое место в мире, обойдя американскую. Ведь в КНР проживает в четыре раза больше людей, чем в Соединенных Штатах. С другой стороны, на Западе настаивали, что китайцам не удалось бы добиться экономического успеха, не имей они доступ на американский рынок (в США направляется четверть китайского экспорта). «Китайское чудо» стало возможно лишь благодаря экспорту в Соединенные Штаты, – писала The Wasington Post. – Но в дальнейшем зависимость от экспорта и инвестиций может негативно сказаться на стабильности политической системы КНР»[254].
В период холодной войны, как известно, китайские дипломаты следовали примеру «мудрой обезьяны, которая сидит на холме и наблюдает за схваткой двух тигров в долине», однако новая расстановка сил на мировой арене все чаще вынуждала Пекин отказаться от заветов Дэн Сяопина, призывавшего к сдержанности в международной политике. «В последнее время, – писал бывший советник Пентагона по делам Азии Джеймс Шинн – китайцы стали намного самоувереннее, они почувствовали наконец, что сидят в водительском кресле и могут нажать на педаль газа»[255].
И если пока Пекин не заявлял открыто о своих лидерских амбициях, это вовсе не значит, что они у него отсутствуют, а безразличное отношение к нынешней системе международных институтов объяснялась скорее тем, что заслуга в их создании и развитии принадлежит не Китаю, а западным странам. Политологи все чаще рассуждали о создании альтернативных структур, в которых будет преобладать китайское влияние. Многие вспоминали, как на переговорах о вступлении в ВТО посол КНР провозгласил: «Мы знаем, что сейчас нам приходится играть в вашу игру, но через десять лет правила будем устанавливать мы!»[256]
Китайцы говорили о «мягкой силе», мечтая занять нишу, которую на протяжении последнего века занимали американцы, и устанавливать международные законы и нормы морали. Они присматривались к тем институтам и идеям, которые работают на Запад, и делали выводы. По аналогии с Британским советом и Институтом Гете, в Пекине был создан Институт Конфуция, целью которого является продвижение китайской культуры за границей. Китай предоставлял огромные кредиты по всему миру, причем в отличие от западных инвесторов не обставлял их политическими условиями.
Конечно, некоторые западные эксперты продолжали настаивать, что ничего экстраординарного на мировой арене не происходит: просто Китай возвращает себе позиции, которые он занимал два века тому назад. (Тогда на его долю приходилось 30 % мирового богатства.) Сторонники этой точки зрения обвиняли своих оппонентов в том, что они поспешили провозгласить КНР «страной будущего». «Несмотря на то что во внешнем мире китайские лидеры воспринимаются как бесстрашные исполины, распоряжающиеся судьбой Поднебесной, – писала американский политолог Сьюзан Ширк, автор книги «Китай: хрупкая супердержава», – сами они чувствуют себя словно испуганные дети, которые отчаянно борются за то, чтобы удержаться у власти в стране, переживающей экономический переворот и резкую поляризацию общества»[257].
Американцы надеялись, что сепаратистские движения и выступления рабочих и крестьян, которые так и не воспользовались плодами «китайского чуда», остановят восхождение КНР. Более того, говорили они: китайцы уже не в первый раз открывают иностранцам Поднебесную и до настоящего момента это всегда оборачивалось дестабилизацией государства. Скептики были убеждены, что и на этот раз открытие прибрежных провинций приведет к резкой поляризации Китая, породит противоречия между богатыми и бедными регионами и будет препятствовать успеху Народной Республики.
Стоит отметить, что на Западе всегда находились люди, которые недооценивали возможности Китая. Уинстон Черчилль, например, называл жителей Поднебесной «китаезами» и отказывался предоставить Пекину место в Совете Безопасности ООН. А всего десять лет назад американский политолог Джералд Сигал заявил, что мощь Пекина – иллюзия, существующая лишь в западном воображении. «КНР, – писал Сигал в своей статье «Имеет ли Китай значение», опубликованной в Foreign Affairs, – является второсортной державой, которая освоила искусство дипломатического театра»[258].
Тем не менее для большинства политологов было очевидно, что эта «второсортная держава» при желании может обрушить экономику Соединенных Штатов, избавившись от американской наличности. Как отмечалось в популярной китайской монографии «Неограниченные методы ведения войны», «вложение денег в экономику соперников – это потенциальное оружие в борьбе против них, ведь деньги можно изъять или перенаправить, вызвав дестабилизацию экономической системы[259].
СИНОФОБИЯ ОБАМЫ
Головокружение от успехов привело к тому, что руководители КНР отвергли американский проект «большой двойки»: Соединенные Штаты так и не дождались их помощи в северокорейском и иранском вопросе. Хотя Китай – единственная держава, способная оказать давление на Пхеньян, делать это он не собирался, поскольку был заинтересован в сохранении статус-кво на Корейском полуострове и не видел для себя угрозы в развитии ядерной программы КНДР. Похожая ситуация сложилась и на ближневосточном направлении. Китайцы заключили с Ираном крупные контракты на поставки нефти, вложили миллиарды долларов в нефтегазовый сектор страны и, конечно, не желали идти на поводу у Вашингтона. Хиллари Клинтон объявила, что «проект «большой двойки» похоронен, и в американо-китайских отношениях вновь начался период противостояния».
Особенно ярко это проявилось в декабре 2009 года на климатическом саммите в Копенгагене. Китай отказался поддержать инициативы американского президента по борьбе с глобальным потеплением, причем сделал это в крайне оскорбительной форме. На встречи глав государств китайцы отряжали мелких чиновников, которые по любому вопросу препирались с американской делегацией, в том числе и с самим Обамой. Кроме того, премьер-министр КНР Вэнь Цзябао отказался пригласить представителей США на свою встречу с лидерами Бразилии, Индии и ЮАР, и, когда Обама явился без приглашения, китайская охрана преградила ему дорогу.
«Если Соединенные Штаты отважатся на противостояние с Китаем, – заявлял директор внешнеполитических программ New America Foundation Стив Клемонс, – то в первую очередь они будут разыгрывать уйгурскую и тибетскую карту»[260]. Демонстрация китайского величия каждый раз вызывала в Вашингтоне раздражение. Так было и во время подготовки к Олимпиаде, и накануне празднования 60-летия КНР. Причем оба раза американцы пытались укротить «дракона», поддерживая сепаратистские движения в начале в Тибете, а затем в Синьцзян-Уйгурском автономном округе.
Нарастали разногласия и в области экономики, что вынуждало экспертов признать проект «Киамерики» наивной утопией (хотя его автор Нил Фергюссон продолжал отстаивать «этот не очень счастливый брак главного мирового заемщика и главного кредитора»[261]). Как заявил Обама на питсбургском саммите «двадцатки» 25 сентября 2009 года, «для того чтобы избавить мир от экономического похмелья, необходимо решить проблему глобального финансового дисбаланса»[262]. Заниженный курс юаня, говорили американцы, приводит к тому, что Китай заваливает США своей дешевой продукцией. Экономист Пол Кругман, например, отмечал, что «китайский меркантилизм обходится Америке в 1,5 млн рабочих мест»[263]. В Белом доме Пекин все чаще называли «валютным спекулянтом, спровоцировавшим кризис».
Китайцы в ответ продолжали обвинять Америку в протекционисткой политике. Правда, выступая перед сенаторами-демократами в начале 2010 года, Обама отверг эти обвинения, пообещав «не закрывать двери для китайских товаров, одновременно продвигая американскую продукцию в Китае и превратив его в главный рынок сбыта для США»[264]. Но, как отмечали эксперты, достигнуть столь амбициозной цели он мог лишь в том случае, если Пекин откажется от заниженного курса своей валюты.
Как бы то ни было, по признанию его советников, Обама был убежден, что с того момента, как он был избран президентом, «КНР только и делает, что бьет его по зубам». И неудивительно, что после года молчания в начале 2010 года он решился, наконец, снять табу с темы прав человека в Китае. Многие члены Демократической партии США готовы были терпеть заигрывания с Пекином лишь потому, что надеялись на его помощь в борьбе с климатическими изменениями и преодолении финансового кризиса. Когда же китайцы прокатили американский проект на копенгагенском саммите и отказались пересмотреть валютную политику, у китаефилов в Белом доме исчезли последние аргументы в пользу сотрудничества с Поднебесной. Политики в Вашингтоне стали открыто выражать возмущение холодным приемом, оказанным Обаме в ноябре 2009 года, насильственной репатриацией уйгуров, бежавших в Камбоджу и казнью британского гражданина, страдающего психическим расстройством.
Президент Обама решил исправить собственную ошибку, приняв в Белом доме Далай-ламу, что, естественно, вызвало негативную реакцию в Пекине, где тибетский духовный лидер по-прежнему считался «предводителем сепаратистской клики». Однако китайцы не остались в долгу. Им удалось вывести Обаму из себя, приговорив к 11 годам тюремного заключения Лю Сяобо – автора манифеста в защиту демократии, за которого просил американский президент во время своего визита в КНР. В конце года западные страны подготовили достойный ответ, присудив Лю Сяобо Нобелевскую премию мира.
Правда, как говорил экс-председатель КНР Цзян Цзэминь, «китайцы никогда не уступают давлению со стороны иностранных держав. Это один из основных философских принципов Поднебесной»[265]. И давление по вопросу о правах человека, по мнению экспертов, могло лишь разозлить Пекин и сделать его менее уступчивым в других вопросах. «Это только американцы ведут переговоры по десяти различным темам так, будто они не связаны между собой, китайцы же привыкли составлять общий план игры, – писал профессор Гарварда Нил Фергюссон, – И если партнеры угрожают их ферзю, они постараются защитить его, поставив шах. В США не понимают этого и торопятся завершить партию. Китайцы выдержанны и терпеливы. Они не обращают внимания на то, как тикают часы. Ведь время для них измеряется тысячелетиями». В этой связи можно вспомнить один забавный эпизод из недавнего прошлого, когда на вопрос французского дипломата о влиянии Великой революции 1789 года на развитие Китая Дэн Сяопин ответил: «Пока еще слишком рано делать выводы»[266].
Крупный скандал разгорелся и после того, как китайские хакеры попытались взломать код поисковика Google.cn. и проникнуть в электронные почтовые ящики правозащитников. Представители Google пригрозили покинуть китайский рынок, если Пекин не прекратит попытки цензуры, а Хиллари Клинтон как и в годы президентства своего мужа обрушилась с критикой на КНР, заявив, что мир разделяет «информационный занавес»[267]. Правда, скептики утверждали, что корпорация Google, которая считалась одним из основных финансовых доноров Демократической партии, просто подыграла администрации Обамы, разочарованной в китайских партнерах, которые не желают изменяться по западным рецептам. К тому же «принципиальная» позиция Google предоставляла этой компании преимущества в конкурентной борьбе с китайским поисковиком Baidu.
Список старых обид Китая пополнился намерением Соединенных Штатов продать крупную партию оружия Тайваню. В соответствии с законом 1979 года США обязаны обеспечивать оборонные потребности острова; сделка была подготовлена еще администрацией Буша, и рано или поздно команде Обамы пришлось бы ее заключить. Но тайваньская проблема возникла, как водится, в самый неподходящий момент и многие эксперты расценили действия демократической администрации США как провокацию. Кроме того, поражал объем сделки в 6,4 млрд. долларов. Для сравнения: за всю историю своего существования с 1949 по 2006 год Тайвань приобрел американское оружие на сумму в 18,3 млрд. долларов. Американцы согласились продать Тайваню 114 ракет Patriot, 60 вертолетов Black Hawk, два минно-поисковых корабля, восемь подержанных фрегатов класса Perry, (которые почти в два раза должны были увеличить тайваньские ВМС), противолодочные ракеты «Гарпун» и оборудование связи для истребителей F-16. Правда, несмотря на жгучее желание тайваньских военных, от продажи самих истребителей США воздержались. Было объявлено, что решение об их поставке будет принято после того, как Пентагон составит доклад о соотношении сил между китайской и тайваньской авиацией.
Особенно покоробило китайцев обещание США продать Тайваню вертолеты Black Hawk. «Дело в том, – отмечала The Washington Post, – что в середине 1980-х годов 24 машины этой марки были проданы КНР, но после событий на площади Тяньаньмэнь Соединенные Штаты наложили эмбарго на поставки оружия в Китай, которое коснулось и запчастей к вертолетам. В 2008 году, пытаясь справиться с последствиями сычуаньского землетрясения, Пекин попросил, чтобы ему наконец продали запчасти для Black Hawk, заявив, что вертолеты необходимы для транспортировки пострадавших. Однако Вашингтон ответил отказом, и китайцы этого не забыли»[268].
Еще со времен холодной войны американцы воспринимали Тайвань как ключевой элемент своей оборонительной системы в Восточной Азии, «непотопляемый авианосец, сдерживающий стремительный рост КНР». Однако в Пекине были убеждены, что поставки американского оружия на остров противоречат «политике одного государства», которая начала приносить свои первые плоды после того, как к власти на Тайване пришла партия Гоминьдан. Неслучайно реакция Народной республики на решение администрации США была намного жестче, чем обычно. Китайцы не только прервали военные контакты с Америкой, но и пригрозили ей «последствиями, которые не хотела бы видеть ни одна из сторон». Несмотря на то что Пекин традиционно выступал против использования санкций в международных диспутах, на этот раз он нарушил собственные принципы в надежде наказать американские компании, участвовавшие в сделке с Тайванем. «Санкции со стороны КНР могут стать серьезным ударом даже для таких гигантов, как Boeing и United Technologies, – отмечал профессор Лондонской школы экономики Мартин Жак в газете The Guardian. – Существенно пострадают их бизнес интересы. Boeing, например, рискует проиграть китайский рынок европейскому авиастроительному концерну Airbus»[269].
Помимо прочего, поставки оружия Тайваню дали КНР официальный повод для того, чтобы вкладывать значительные суммы в разработку собственных вооружений. Через несколько дней после того, как администрация Обамы заявила о сделке с Тайбэем, Китай успешно провел первые испытания системы ПРО. Конечно, говорили политологи, на данный момент у китайцев нет вооружений нового поколения, и конкурировать с Западом в военной области они не способны. Тем не менее КНР каждый год увеличивала военные расходы на 18 %, реформировала армию, наращивала стратегические вооружения. В 2008 году Китай запустил свою первую противоспутниковую ракету, вступив, таким образом, в эпоху звездных войн. Китайцы все чаще задумывались о том, чтобы оспорить океанскую гегемонию США. «Если впечатляющий экономический и военный рост Китая продолжится еще несколько десятилетий, – писал американский политолог Джон Миршеймер, – США и КНР не избежать противостояния, которое в итоге может привести к вооруженному конфликту»[270].
В 2010 году американцы начали активно обвинять Пекин в экспансионистских традициях и даже окрестили руководителей КПК «красными императорами». Однако эксперты-китаисты не были согласны с таким подходом. «Понятно, что китайские интересы нередко входят в противоречие с американскими, – говорил президент Института экономической стратегии Клайд Престовиц. – Но я не думаю, что можно говорить о высокомерной, «имперской» политике КНР. Китайцы слишком сосредоточены сейчас на развитии собственной экономики. На протяжении трех тысячелетий Поднебесная не раз проводила политику экспансионизма. Однако затем вновь обращалась к проблемам внутреннего развития, уходила в себя»[271].
В своих нынешних границах Китай существует не так давно. Синьцзян-Уйгурский автономный округ вошел в состав государства в XVIII веке. Тибет был присоединен уже коммунистами в 1950-е годы. Эти земли относятся к внешнему кольцу, окружающему исконные китайские территории. Вопрос в том, будет ли это кольцо расширяться. Оптимисты в США были убеждены, что на данный момент китайские лидеры не заинтересованы в экспансии, и единственная территория, на которую они претендуют, – это Тайвань, причем стоит отметить, что «политика одного Китая» находит понимание среди ведущих мировых держав. Пессимисты отмечали, что быстрый экономический рост вынуждает Пекин искать доступ к иностранным технологиям, ресурсам и инвестициям, а значит, ему необходимо обеспечить военное присутствие в других государствах. И не случайно КНР жестко отстаивает свои интересы в окрестных морях… Правда, справедливости ради, стоит отметить, что даже во время китайско-японского конфликта по поводу островов Сенкаку, который разразился в сентябре 2010 года, Пекин и не помышлял об использовании военной силы Он лишь временно прекратил экспорт важнейших ресурсов, необходимых для японской электронной промышленности. «Конечно, конфликты могут разгореться и с другими державами, – писал The American Thinker. – В Южно-Китайском море у КНР сохраняются территориальные споры с Филиппинами, Вьетнамом и Индонезией, однако соседи стараются не раздражать лишний раз азиатского гиганта, опасаясь его военной мощи и восхищаясь экономическими успехами[272].
Соединенные Штаты тревожило, что у многих в Азии сложилось впечатление, будто Китай вышел из экономического кризиса окрепшим, а Америка – ослабленной. Такой стереотип, говорили американские политологи, будет «способствовать созданию синоцентричной Азии». Правда, растущие амбиции Китая могли сослужить ему и дурную службу. «Нежелание КНР идти на компромиссы, – отмечал эксперт из американского аналитического центра New American Security Эйб Денмарк, – растущая военная мощь китайского флота, новая экспансионистская политика – все это создает для азиатских соседей серьезную угрозу и вынуждает искать покровительства у Америки»[273].
В июле 2010 года на форуме АСЕАН в Ханое Хиллари Клинтон предложила играть роль посредника в урегулировании спорных территориальных проблем в Азиатском регионе. В Китае это предложение было названо «беспардонным вмешательством во внутренние дела континента», однако из страха перед Пекином все больше азиатских стран были готовы поддержать инициативу Клинтон. «Таким образом, – писал The Atlantic, – от топорных действий КНР выиграли американцы, которые смогут теперь восстановить свои позиции в Восточной Азии и предотвратить объединение этого региона вокруг Китая. США не позволят Пекину доминировать на Южно-Китайском море, которое в последнее время называют восточноазиатским Средиземноморьем. Кроме того, они сделают все возможное, чтобы усилить Японию – единственного игрока, способного уравновесить КНР»[274]. В этом смысле заслуживало внимания выступление американского министра обороны Роберта Гейтса, который пообещал, что в случае конфликта с Китаем Америка выполнит свои союзнические обязательства перед Токио. Неслучайно седьмой флот США провел осенью 2010 года самые масштабные в истории совместные военные учения с Японией, на которых отрабатывалась операция по возвращению японских территорий, захваченных «иностранной державой».
«МОМЕНТ СПУТНИКА»
Стоит отметить, что после того как в 2010 году Америка начала оказывать давление на китайцев, они согласились на серьезные уступки. Отказавшись применить право вето в Совбезе ООН, Пекин позволил Вашингтону провести антииранские санкции. И хотя в КНР настояли на том, что санкции не ударят по иранской энергетике и не станут препятствием для экономического сотрудничества Китая с Исламской Республикой, символическое значение «сдачи Тегерана» было сложно переоценить.
В январе 2011 года председатель КНР Ху Цзиньтао прибыл в Америку. Его встречу с Обамой журналисты тут же окрестили «саммитом G-2». «Саммит продолжался до 2 часов ночи, – рассказывал советник президента Клинтона по Китаю Кеннет Либертал. – Слухи о холодной войне оказались сильно преувеличенными. И хотя еще полгода назад Китай угрожал ввести санкции против американских компаний, участвовавших в продаже оружия Тайваню, сейчас он приобрел 200 самолетов Boeing на сумму 19 млрд. долларов. Цзиньтао говорил то, чего хотели услышать американцы. Он признал даже, что Китаю есть еще над чем поработать в области демократии и прав человека»[275]. Более того, китайский лидер открыл кампанию по переизбранию Обамы, посетив город Чикаго, который должен был стать предвыборным штабом действующего президента.
«Казалось бы, у Обамы есть прекрасная возможность отказаться от синофобии и начать новый виток сближения с Пекином, – писал The American Thinker. – Но чем объяснить тогда такие выпады китайцев, как приуроченный к визиту Роберта Гейтса первый демонстрационный полет нового истребителя-невидимки J-20, который был создан благодаря технологиям, украденным у американцев? Все дело в том, что в Пекине сейчас идет острое соперничество между двумя группировками, которые по-разному смотрят на внешнюю политику страны»[276].
Долгое время в Китае господствовала концепция «мирного роста», которая, по словам ее автора – экс-министра пропаганды Чжен Бицзяна, позволяла укрепить позиции страны на мировой арене, не прибегая при этом к насилию. «Стратегия «победитель-победитель», когда обе сотрудничающие стороны оказываются в выигрыше, – писал Бицзян, – с одной стороны, поможет нам преодолеть замкнутость, возникшую в результате реформ Сяопина, а с другой – избежать конфликтов с великими державами. Пекин ни за что не пойдет дорогой Германии и Японии, которые любыми средствами стремились достичь мировой гегемонии»[277]. Несколько лет назад с критикой концепции мирного роста выступили представители националистического направления, которых политологи по аналогии с американскими неоконами окрестили «неокоммами». По их словам, «только военная модернизация и укрепление Китая могут обеспечить стабильность и заставить США проявлять сдержанность». «В Поднебесной, – писал The American Thinker, – оживает менталитет Срединного Царства, другие азиаты воспринимаются здесь как существа низшего порядка, а представители Запада как варвары»[278]. «КНР должна отказаться от «мирного развития», – писал профессор Национального университета обороны Ли Мюнфу, автор памфлета «Китайская мечта», – сделать ставку на военную мощь и готовиться к «дуэли столетия» с Соединенными Штатами»[279].
«Национальная стратегия безопасности не должна быть статична, – вторил ему другой влиятельный «неокомм», эксперт Центра стратегических исследований Пекинского университета Дай Ху. – Нам необходимо отойти от неконфронтационной модели, поскольку мир давно уже вступил в эпоху «теплой войны», которая рискует перерасти в горячую»[280]. Еще более категоричен был профессор китайского Национального университета обороны генерал-майор Чжан Чаочон, который призвал КНР «не пасовать и выступить в защиту Ирана, даже если это будет означать начало третьей мировой войны»[281].
И проблема на самом деле была даже не в союзнических отношениях с ИРИ, а в паническом страхе китайцев в связи с возможностью перекрытия Ормузского пролива, через который проходит более 20 процентов нефти, поступающей в КНР. Многие эксперты указывали, что все, что предпринимала Америка, начиная с вторжения в Ливию и заканчивая конфликтом с Ираном, нацелено на ослабление глобального конкурента. Этой же цели, говорили они, служит и Транстихоокеанское партнерство – экономический союз, который, по мысли вашингтонских стратегов, должен минимизировать китайское влияние в Восточной Азии.
Как бы то ни было, американский истеблишмент начал сомневаться в превосходстве США. В начале 2011 года в обращении к нации президент Обама назвал нынешнюю ситуацию «моментом спутника». «Более полувека назад СССР обошел Америку в космосе, запустив первый искусственный спутник Земли. Американское руководство находилось в растерянности, но в итоге сумело мобилизовать нацию и взять реванш»[282], – заявил он. Сравнение с Советским Союзом нельзя было назвать случайным. Китай все чаще называли второй сверхдержавой, которая может сменить Америку в роли гегемона. Наверное, самым наглядным символом грядущего мирового порядка стала дочь президента Саша Обама с флажком КНР в руках, радостно приветствующая Ху Цзиньтао на китайском языке. «Теперь без Китая в этом мире ничего не происходит, – писала немецкая газета Der Tagesspiegel. – Эпоха однополярного мира подходит к концу, и КНР очень скоро бросит вызов Соединенным Штатам»[283].
В мировой экономике Китай постепенно перехватывал у Америки инициативу, превращаясь в главного международного банкира. «На пространстве от Венесуэлы до Вьетнама, – отмечала The Financial Times, – Китай в последнее время раздает больше кредитов, чем Всемирный банк. Для китайских товаров открываются все новые рынки, и снижается зависимость КНР от Америки. Благодаря долговому кризису китайцы увеличивают влияние даже в Европе, покупая государственные облигации Португалии и Испании, оказывая помощь портам и судоходным компаниям Греции, строя автобаны в Польше»[284].
«За время правления Обамы было уже как минимум два периода сближения и два периода конфронтации с Китаем, – утверждал в 2011 году директор программы китайских исследований в Центре Никсона Дрю Томпсон. – С каждым годом амплитуда колебаний будет увеличиваться, и в конце концов качели могут раскачаться так сильно, что странам не избежать военного конфликта»[285]. В январе после визита Ху Цзиньтао в Вашингтон, казалось, что разногласия преодолены и политическое сближение США с Китаем не за горами, однако уже в мае госсекретарь Хиллари Клинтон вновь заставила экспертов говорить о приближении холодной войны. В интервью журналу The Atlantic она раскритиковала китайских партнеров, которые, по ее словам, жестко подавляют всякое инакомыслие в «бесплодных попытках» остановить ход истории. «В Пекине не зря были так обеспокоены событиями арабской весны, – заявила Клинтон. – Ведь репрессивную систему КПК ждет такая же судьба, как и диктаторские режимы Ближнего Востока»[286]. «Резкое, бескомпромиссное и абсолютно неуместное заявление Клинтон, – писал профессор Гарварда Нил Фергюссон, – может окончательно испортить и без того напряженные отношения США с Пекином. Невозможно даже представить, чтобы нечто похожее позволил себе ее предшественник Генри Киссинджер, занимавший пост госсекретаря в эпоху Ричарда Никсона и подготовивший знаменитую сделку с Мао»[287].
«КОЛЬЦА АНАКОНДЫ» И «НИТЬ ЖЕМЧУЖИН»
В конце 2011 – начале 2012 г. Соединенные Штаты активно начали сколачивать в регионе антикитайскую коалицию. «Американские стратеги открыто дают понять КНР, что готовятся к военному столкновению, – писала The Independent. – Они окружают Китай военными базами и уже заключили тройственный союз с Японией и Индией, к которому в ближайшее время присоединится Австралия»[288]. Альянс четырех, говорили эксперты, может стать азиатским филиалом Лиги демократий, к созданию которой давно уже призывает неутомимый сенатор Маккейн. Хотя было очевидно, что прежде чем такой альянс окончательно оформится, страны-участницы должны будут преодолеть некоторые технические трудности и избавиться от устоявшихся стереотипов. В Вашингтоне и Токио, например, было распространено скептическое отношение к военному потенциалу Нью-Дели, и индийский флот должен был очень постараться, чтобы скоординировать свои действия с японскими и американскими ВМС. Ведь, несмотря на то что решение о совместных учениях и операциях было принято еще в 2009 году, в Индии были сильны позиции дипломатов, отстаивающих традиционный принцип «неприсоединения» к международным военным альянсам.
С другой стороны, индусы прекрасно понимали, что их китайские соседи отказываются от сдержанности во внешней политике. А это значит, что приграничные конфликты в Тибете и Кашмире с каждым годом будут лишь обостряться. И неудивительно, что правительство Манмохана Сингха ставило на Америку. «Только Вашингтон может дать Индии почувствовать себя великой державой[289], – отмечал индийский премьер. Похожие настроения царили и в японской политической элите, постепенно избавлявшейся от комплекса вины перед Китаем, который из жалкого и обиженного младшего брата превращался в ее глазах в непримиримого соперника, мечтающего о реванше. Все больше экспертов признавали: рано или поздно две азиатские державы вступят в схватку – «два тигра не уживутся в одном лесу».
Для того чтобы чувствовать себя уверенно, Америке явно было недостаточно старых баз в Японии, Гуаме и Южной Корее, и она стремилась расширить военное присутствие в регионе. Неслучайно в 2012 году начались переговоры о восстановлении базы Субик-Бей на Филиппинах, которая на протяжении всего прошлого века была главным форпостом Соединенных Штатов в регионе. В 1992 году местный парламент принял решение выдворить американцев с филиппинской земли, однако через 20 лет власти архипелага, похоже, одумались и вновь присягнули Вашингтону, согласившись разместить у себя разведывательные самолеты, военные корабли и крупные воинские контингенты США.
Как и в эпоху холодной войны, когда Америка стремилась окружить Советский Союз цепью военных баз, продвижение США в Восточной Азии сравнивали с кольцами анаконды. «Администрация Обамы пытается выстроить систему военных союзов в АТР, – писала The Washington Post, – и после успешных переговоров с Манилой надеется перетянуть на свою сторону вьетнамских и тайских генералов, раздраженных высокомерной политикой КНР»[290]. В этом смысле, безусловно, заслуживал внимания состоявшийся в августе 2011 года визит американских кораблей во Вьетнам, впервые за сорок лет посетивших порт Кам Ран Бей, в котором в свое время находилась одна из крупнейших глубоководных баз США. «Это очень символично, – писал журнал The Foreign Affairs, – что страна, конфликт с которой послужил причиной бегства США из Юго-Восточной Азии, начинает заигрывать с Вашингтоном в надежде защитить себя от притязаний китайского гиганта»[291].
В конце 2011 года США договорились с Австралией о размещении на севере страны крупнейшего со времен Второй мировой войны американского воинского контингента и получили согласие Сингапура на использование военно-морской базы Чанги. Соединенные Штаты дали понять, что намерены сохранить свою гегемонию не только в Тихом, но и Индийском океане. Они усилили пятый и седьмой флот, базирующиеся в «китайском подбрюшье», и укрепили военно-морскую базу на острове Диего-Гарсия. Что особенно символично, вооружения и оборудование на этот остров поступали из Европы: с закрывающихся американских военных баз, расположенных на территории Германии и Италии.
Разместив войска на Филиппинах, в Австралии и на Сингапуре, американцы получили возможность в любой момент перекрыть важнейшую для КНР транспортную артерию – Малаккский пролив, через который проходит 85 процентов нефти, идущей в Китай из Африки и с Ближнего Востока. В связи с этим многие вспоминали о нефтяной блокаде Японии, которая предшествовала нападению на Перл Харбор в 1941 году. «Ежегодно через Малаккский пролив проходит 50 тысяч кораблей, на которые приходится четверть всего морского товарооборота, – говорил китайский политолог Чен Шаофэн. – И понимая, какую роль он играет для КНР, американцы вместе со своими союзниками легко могут закупорить его»[292]. Неспроста в июне 2011 года США провели в акватории Малаккского пролива масштабные совместные учения с ВМС Филиппин, Сингапура, Малайзии, Таиланда, Индонезии и Брунея. Это ахиллесова пята Китая, и, понимая это, председатель КНР Ху Цзиньтао давно уже провозгласил выход из «малаккского тупика» важнейшей государственной задачей.
Для ее решения в Пекине была разработана стратегия «нить жемчужин», которая предполагает создание вереницы портов и военных баз КНР в дружественных странах на северном побережье Индийского океана (Мьянма, Бангладеш, Мальдивы, Шри-Ланка, Пакистан, Иран). «Благодаря этой волшебной нити, – отмечал Шаофэн, – китайские корабли получат возможность выходить в океан, минуя Малаккский пролив. Она поможет Пекину установить контроль над Южно-Китайским морем и укрепить свои позиции в Бенгальском заливе»[293].
Важное место в цепи «жемчужин» отводилось портам Мьянмы. Правящая в этой стране военная хунта во главе с генералом Тейн Сейном считала Китай своим политическим союзником и была чрезвычайно признательна ему за поддержку в противостоянии с западными демократизаторами, которые в 2007 году грозились ввести санкции против «азиатской тирании». На принадлежащих Мьянме островах Коко китайцы разместили радар, позволяющий им следить за судоходством в Малаккском проливе. Они модернизировали мьянмские аэропорты Мандалая и Пегу и построили военные базы в Ситуэ, Кьокпьу Хангьи, Мергуи и Задеджи. «Порты в Мьянме, – писал журнал The Foreign Policy, – позволяют КНР миновать многочисленные индийские острова, расположенные в Бенгальском заливе, которые могут быть использованы в качестве железной цепи, блокирующей Малаккский пролив»[294].
Кроме того, китайцы начали строить порт Читтагонг в Бангладеш, военно-морскую базу Марао на Мальдивских островах (по словам экспертов, в будущем она позволит КНР контролировать действия индийского флота) и порт Хамбантот на Шри-Ланке. Но самой ценной «жемчужиной» эксперты провозгласили порт Гвадар на западном побережье Пакистана. Это главный наблюдательный пункт китайских ВМС, позволяющий им следить за действиями американского флота в Персидском заливе и индийского – в Аравийском море.
Таким образом, Пекин делал все возможное, чтобы отстоять свои преимущественные права в Восточной и Юго-Восточной Азии. Однако это явно не состыковывалась с западной концепцией сдерживания. И то, что китайцы считали вынужденной оборонительной мерой, на Западе могли трактовать как акт агрессии. И, наоборот, попытки Соединенных Штатов «сдержать» Китай, в Пекине многие воспринимали как желание «варваров» зажать Поднебесную в тиски.
Неслучайно в КНР так болезненно прореагировали на переговоры американцев с филиппинскими военными. Англоязычная китайская газета The Global Times поставила даже Маниле ультиматум: «Шаг вперед в военном сотрудничестве с Америкой означает шаг назад в экономическом сближении с Китаем»[295]. Правительство КНР пригрозило ввести санкции против Филиппин, хотя такие методы давления в Поднебесной никогда не приветствовали. Кроме того, китайцы дали понять, что могут вынудить страны АСЕАН прервать экономические связи с Манилой.
Чтобы осадить «западных империалистов», Китай начал проявлять активность на «заднем дворе Америки». Гонконгский миллиардер Ли Ка Шин взял в аренду панамские порты Бильбао и Кристобаль, и на стол главы Пентагона тут же лег доклад «Китайский плацдарм в Панамском канале». Правда, эксперты уверяли, что такие геополитические игры не стоит воспринимать всерьез. Ведь для того чтобы оспорить океанскую гегемонию США, в первую очередь Китаю потребуется овладеть самой протяженной в мире островной грядой, в центре которой расположен остров Тайвань.
Еще со времен холодной войны американцы воспринимали этот остров как ключевой элемент своей оборонительной системы в Восточной Азии. Но китайские коммунисты уверяли, что рано или поздно им удастся восстановить на острове центральную власть. В пример приводилась маньчжурская династия Цин, которая начала править в Китае в 1644 году, Тайвань же подчинила себе лишь через полвека. И полтора года назад после заключения торговой сделки с Тайбэем у Пекина появились основания для оптимизма. Журналисты рассуждали о «бархатной реинтеграции большого Китая» и публиковали карикатуры, на которых большая панда соблазняет маленькую рожком мороженого. Политологи отмечали, что китайцы рассчитывают применить в случае с Тайванем успешно опробованную в Гонконге концепцию «одна страна – две системы», сделав Тайбэй финансово-экономическим центром «империи» и предоставив ему широкую автономию. Председатель Ху Цзиньтао призывал не жалеть для островитян «экономических пряников», что со временем позволит Китаю поглотить Тайвань и вырваться в Мировой океан. Многие называли это политическим завещанием Цзиньтао пятому поколению лидеров Компартии, которые придут ему на смену в 2012 году.
На посту председателя КНР Ху Цзиньтао сменит Си Цзиньпин, который в Америке считается очень подходящей фигурой. Цзиньпин зарекомендовал себя как сторонник радикальных экономических реформ и получил в Китае прозвище «финансовый бог». Бывший министр финансов США Генри Паулсон, который не раз вел с ним деловые переговоры, называл его «своим парнем». Как отмечал президент Института экономической стратегии Клайд Перестовиц, «новому поколению китайских лидеров предстоит полностью перестроить экономику КНР, перейдя от экстенсивного к интенсивному пути развития, отказавшись от экспортно-ориентированной модели в пользу модели, основанной на внутреннем потреблении. В результате китайцы перестанут покупать ценные бумаги и охотиться за инвесторами, а сосредоточатся на формировании внутреннего рынка. Это потребует нестандартных экономических решений, которые смогут принять лишь квалифицированные бизнес-управленцы, находящиеся на высших государственных постах»[296]. И не исключено, что эти бизнес-управленцы найдут общий язык с Вашингтоном. Однако даже симпатизирующие Обаме политологи признают, что его администрация «проморгала Восточную Азию», которая становится в последнее время осью мировой политики.
АФГАНСКИЙ КАПКАН
Придя к власти, Барак Обама объявил о том, что будет наращивать численность американского контингента в Афганистане. Любители исторических аналогий указывали на то, что два десятилетия назад Советский Союз также возглавил лидер-пацифист, который распорядился послать в Афганистан существенное подкрепление, призванное переломить ситуацию в затяжной военной кампании и добиться решающей победы Красной армии. Однако в итоге крупномасштабная операция на Среднем Востоке привела к падению советской империи, и Соединенные Штаты, которые переживают самый разрушительный финансовый кризис со времен Великой депрессии, вполне могут повторить ее судьбу.
Как отмечал профессор Гарварда Нил Фергюссон, «в Афганистане вы либо контролируете столицу, а все остальные регионы отдаете на откуп военным лордам, либо оказываетесь вовлеченными в крайне жестокую и, возможно, бесполезную войну на всей территории страны. Первая модель была характерна для британцев, вторая – для Советского Союза»[297]. Еще во время предвыборной кампании советник Обамы по внешней политике Збигнев Бжезинский предупреждал его об опасностях, которые таит в себе советская модель. Однако темнокожий сенатор упорно продолжал твердить, что увеличение воинского контингента в Афганистане является одним из его главных приоритетов. Свое мнение он не изменил и после победы на президентских выборах и буквально через несколько дней после инаугурации отправил главу Центрального командования вооруженных сил США Дэвида Петреуса в дипломатическое турне по странам Средней Азии, целью которого стало решение проблемы афганского транзита.
Талибы, с которыми воевали американцы, считали систему материально-технического снабжения войск НАТО ахиллесовой пятой альянса. Три четверти всей необходимой продукции доставлялось из Америки в пакистанский порт Карачи, откуда ее везли на границу с Афганистаном. Там существовало два пропускных пункта – в пакистанском Чамане, на границе с афганской провинцией Кандагар, и на Хайберском перевале. Большинство экспертов утверждали, что демократическое правительство Пакистана не способно контролировать эти районы, и американские конвои все чаще подвергаются атакам со стороны радикальных исламистов и мечтающих поживиться лидеров пуштунских племен. Более того, после терактов в Мумбай осенью 2008 года, которые стали причиной индо-пакистанских трений, Исламабад был вынужден перебросить часть своих войск с афганской границы на восток, поскольку опасался очередного конфликта с Нью-Дели. В результате транзитные маршруты, проходящие по территории Пакистана, стали еще более уязвимыми, и США лихорадочно начали искать им альтернативу.
Несмотря на обещание Обамы начать диалог с Тегераном, довольно сложно было представить себе, что американцы выберут иранский маршрут, который идет от порта Чабахар к афганскому городу Зарандж. Возможно, во времена шахского Ирана это было бы разумно, но поскольку у власти в стране находились аятоллы, уже не первое десятилетие проклинавшие безбожную Америку, такой вариант был, скорее, из области фантастики.
Следовательно, оставались только маршруты, проходящие по территории бывшего СССР. Один из них тянулся к Афганистану от Кавказа через Каспийское море, Туркменистан и Узбекистан. Он уже использовался для транспортировки топлива и мог бы быть расширен до Черного моря, включив в себя территорию Грузии, или до Средиземного, захватив часть турецкой территории. Однако поскольку этот маршрут шел в обход России по территории бывших советских республик, в Москве он мог быть воспринят как очередной вызов со стороны Запада, не желающего признавать постсоветское пространство сферой российских национальных интересов. «Кремль, – говорили западные стратеги, – сделает все, чтобы сорвать поставки по этому пути, оказывая давление на своих союзников, таких, как Армения и Туркменистан». Другой маршрут мог пройти по территории России к северу от каспийского побережья через Казахстан, Узбекистан и Туркменистан. Существовали варианты выхода к Черному морю или транзита в Европу через Украину и Белоруссию.
Однако эксперты отмечали, что пути, проходящие по территории бывшего СССР, во много раз длиннее. «Они требуют огромных вложений, – отмечал американский военный аналитик Харлан Уллман, – и никто не может поручиться за их безопасность. Поэтому преждевременно говорить о том, что альтернативные маршруты полностью заменят пути снабжения, проходящие через Пакистан. Иначе все средства, которые выделяются на афганскую операцию, уходили бы на транспортировку грузов. Тем не менее с помощью альтернативных маршрутов можно было бы немного разгрузить пакистанские линии снабжения. И что намного важнее – привлечь Россию к сотрудничеству в афганском вопросе. Нельзя недооценивать стратегическое значение северных маршрутов. От того, будут они идти через Каспийское море в обход России или пройдут по российской территории, во многом зависит будущее отношений между Москвой и Вашингтоном»[298].
Стоит отметить, что соглашение о транзите продовольствия и невоенных грузов НАТО через территорию России в Афганистан было заключено еще в апреле 2008 года на саммите альянса в Бухаресте. И, что любопытно, Россия не выдвинула тогда никаких предварительных условий. Как заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, «если мы изобразим из себя обиженного и перекроем транзит, это скажется на эффективности борьбы с террористами и наркодельцами в Афганистане»[299]. Конечно, речь шла лишь о доставке продовольствия и невоенных грузов, но, как говорил персонаж Бернарда Шоу, иногда «шоколад важнее боеприпасов».
О боеприпасах, правда, речи не было. И когда американский генерал Петреус в ходе своего среднеазиатского турне заявил, что Соединенные Штаты достигли договоренности с Россией о транзите оружия и боевой техники, российским военным пришлось немного остудить его пыл. Такие вопросы, сказали они, требуют более детальных переговоров и консультаций, а это означало, что за предоставление транзита Россия планирует добиться от Америки серьезных уступок. «Разумеется, Бараку Обаме, – писал американский журнал Stratfor, – не хотелось бы начинать свою деятельность с реверансов в сторону Кремля, однако он не может оставить американские войска в Афганистане без тылового обеспечения. Придется из двух зол выбрать меньшее»[300].
Требования российской стороны были вполне предсказуемы: отказ от расширения НАТО на восток и размещения крупных воинских формирований в прибалтийских республиках, закрытие американских баз в Центральной Азии и свертывание программы США по размещению элементов ПРО в Восточной Европе. «Поскольку, – отмечала The Boston Globe, – к системе ПРО накопилось немало претензий, а ключевые союзники США в Европе настроены против вступления Украины и Грузии в НАТО, у Обамы есть шанс обменять «шестерки», доставшиеся ему в наследство от предыдущей администрации, на джокера, который принесет ему сотрудничество с Россией»[301].
О том, какую партию будет разыгрывать новый американский президент, можно было судить по визиту в Москву вашингтонских эмиссаров – сенатора Ричарда Лугара и бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера, которые в феврале 2009 года провели переговоры с президентом, премьером и думскими депутатами. Америка была готова идти на компромисс, поскольку понимала, что только России по силам вызволить ее из афганского капкана, причем как в прямом (с помощью транзитных маршрутов), так и в переносном смысле слова.
Российская сторона уверяла, что сотрудничество Москвы и Вашингтона не должно ограничиваться вопросами транзита. Россия готова была участвовать в восстановлении северных районов Афганистана, оказывать давление на своих союзников в регионе, делиться опытом ведения боевых действий на афганской территории. Она настаивала на том, чтобы Соединенные Штаты привлекали к решению афганского вопроса Шанхайскую организацию сотрудничества. Все чаще можно было услышать призывы к возобновлению деятельности контактной группы «шесть плюс два», которая с 1997-го по 2001 год добивалась примирения талибов с Северным альянсом. В группу входили Китай, Таджикистан, Узбекистан, Туркмения, Иран и Пакистан, а также США и Россия. «Такой многосторонний подход мог бы стать выходом из афганского тупика, – говорили эксперты. – Ведь западная коалиция не способна одержать победу в Афганистане, и увеличение воинского контингента вряд ли исправит положение».
«Афганистан, – писал редактор международного отдела The Financial Times Квентин Пил, – не поддается контролю. Это чрезвычайно раздробленная страна, в которой бушуют племенные страсти. Умение воевать заложено в афганцах самим развитием их истории, и мы, к своему стыду, в этом умении не можем с ними тягаться»[302]. Не только советское вторжение в Афганистан, но и три британских кампании закончились полным провалом, и когда Обама посылает на Средний Восток дополнительные формирования, отмечали скептики, у него перед глазами должна стоять знаменитая картина викторианской эпохи «Все, что от армии осталось», на которой изображен одинокий всадник – доктор Уильям Брайдон, единственный из 16 тыс. британских солдат, кому удалось выжить после атаки афганских повстанцев.
С другой стороны, было наивно надеяться, что НАТО обойдется небольшими формированиями, которые патрулировали различные районы страны. Даже в Ираке, который уступает Афганистану, как по территории, так и по численности населения, находилось 160 тысяч американских солдат, да и местная армия и силы безопасности значительно превосходили афганские войска, преданные президенту Хамиду Карзаю.
Стратегия Барака Обамы в Афганистане в корне противоречила образу президента-пацифиста, который пыталась раскрутить его команда. Президент, получивший авансом Нобелевскую премию мира, дважды в течение 2009 года объявлял о наращивании воинского контингента за Гиндукушем. Уже через два месяца после инаугурации он послал в Афганистан подкрепление в 20 тысяч солдат. Он распорядился также о смене командующего воинским контингентом, надеясь, что это приведет к пересмотру тактики ведения боевых действий. Вместо специалиста по общевойсковым операциям четырехзвездного генерала Дэвида Маккирнана, на ключевую должность был назначен автор армейского пособия по борьбе с партизанами генерал Стэнли Маккристал, который возглавлял объединенное командование специальных операций в Ираке и руководил розыском и захватом Саддама Хусейна и лидера иракской «Аль-Каиды» Абу Мусаба аль-Заркави.
«Маккристал – крайне колоритная фигура, – писал The Newsweek. – Он напоминает классических полководцев-аскетов: встает в 5 утра, ест один раз в день и постоянно изучает исторические труды. Заняв новый пост, он первым делом потребовал, чтобы американские солдаты соблюдали местные правила дорожного движения и закрыл сети фастфуда на военных базах в Афганистане. В Америке его называли воином-созерцателем. Он любил повторять, что «выстрел в воздух иногда намного важнее выстрела в грудь» и верил в законы «противоповстанческой математики». «Если вы столкнулись с группой из 10 талибов, – говорил он, – и убили двоих, это вовсе не означает, что у вас осталось восемь врагов: напротив, их число увеличилось как минимум до двадцати за счет родственников и друзей убитых»[303].
Однако, несмотря на миролюбивые заявления, буквально сразу после вступления в должность Маккристал начал масштабную военную операцию против талибов под названием «Удар меча». Война шла с переменным успехом, американские потери продолжали расти, и к концу лета 2009 года новый командующий представил Пентагону секретный доклад, в котором говорилось, что если Белый дом не пришлет в Афганистан дополнительные формирования, Соединенные Штаты рискуют потерпеть военное поражение. Речь шла о 40–45 тысячах военнослужащих, которые, по мнению Маккристала, могли переломить ситуацию. Как объяснял американский военный историк Макс Бут, согласно классической теории антипартизанских действий, на 50 жителей мятежной территории требуется один солдат. В Афганистане проживает 30 миллионов граждан, причем мятежные пуштуны составляют лишь 45 % населения, следовательно, для борьбы с ними необходимо около 300 тысяч военных. Подкрепление, которого в ультимативной форме потребовал генерал Маккристал, позволило бы довести численность антиталибских сил до этого уровня.
В ответ на требования генерала Обама заявил, что не собирается принимать скоропалительных решений и несколько месяцев проводил в Белом доме совещания с силовиками. За сомнения в вопросе о том, посылать или не посылать дополнительные войска в Афганистан, консервативный обозреватель Чарльз Краутхаммер назвал президента «юным Гамлетом» и посоветовал ему «не показывать миру, что он растерялся, и понятия не имеет, что делать дальше»[304]. Айк Скелтон, возглавлявший комитет Палаты представителей по вооруженным силам призывал президента последовать совету Маккристала, который утверждал, что в отсутствие свежих подкреплений американцы рискуют оказаться запертыми в «Хаосистане»[305].
Однако согласно результатам общенационального опроса, проведенного институтом социологических исследований Ipsos, в 2009 году 56 % американцев выступали против эскалации конфликта[306]. Их точку зрения отстаивала влиятельная группа политиков во главе с вице-президентом Джо Байденом. Они обвиняли Маккристала в желании скрыть собственную некомпетентность за счет «пушечного мяса», указывали на политическую неразбериху в Афганистане и отсутствие надежного местного партнера. «Нынешние афганские власти нелегитимны, – писал в газете The Boston Globe сенатор-демократ Пол Керк, – фактически, мы повторяем опыт Советского Союза, поддерживая непопулярное коррумпированное правительство, которое сами же привели к власти. Президента Хамида Карзая в стране никто не воспринимает всерьез: говорят, что он является «марионеткой оккупантов» даже в большей степени, чем советский ставленник Наджибулла»[307].
Байден и его сторонники утверждали также, что усиление американской группировки в Афганистане лишь укрепит позиции талибов, которые получают огромную прибыль от логистических контрактов Пентагона. «В афганском театре абсурда, – писала The Huffington Post, – военные подрядчики США вынуждены платить талибам, чтобы защитить американские пути снабжения. Убийственная ирония заключается в том, что эти средства являются дополнением к огромным денежным суммам, которые офицеры тратят, чтобы завоевать сердца и умы населения в мятежных провинциях»[308].
Советники Обамы призывали его отказаться от идеи построения в Афганистане «дееспособного государства», ограничившись преследованием террористов. Конгрессмен Джим Макговерн подготовил даже законопроект о поэтапном выводе американских войск из страны. Многие эксперты предлагали закрепиться в Кабуле и нескольких соседних провинциях, отдав остальную часть страны на откуп талибам. Однако генерал Маккристал выступил с критикой такого подхода, заявив, что «невозможно потушить пожар в одной половине здания, когда вторая продолжает гореть»[309].
Все большим фарсом выглядели попытки США вмешаться во внутреннюю политику Афганистана. В Вашингтоне надеялись, что президентские выборы, которые состоялись в августе 2009 года, позволят обрести легитимность режиму Хамида Карзая. Однако крайне низкая явка и спорные результаты голосования эти надежды похоронили. Вместо того чтобы смириться с неизбежным, американские дипломаты начали зачем-то оказывать давление на независимую избирательную комиссию Афганистана, которая в итоге признала победу Карзая нелегитимной и назначила второй тур выборов. По словам наблюдателей, это решение привело афганского лидера в ярость. Через несколько дней, правда, соперник Карзая экс-министр иностранных дел Абдулла Абдулла отказался от участия в спектакле. По мнению бывшего главы Службы общей разведки Саудовской Аравии принца Турки-аль-Фейсала, который сыграл ключевую роль в формировании западной стратегии в Афганистане в период советского вторжения, «американцам не следовало портить отношения с Карзаем, представляя его в невыгодном свете. Это можно было бы делать лишь в том случае, если бы нашелся кандидат, способный составить ему конкуренцию»[310]. Но у Карзая на выборах была беспроигрышная позиция. Представитель государствообразующего пуштунского этноса он сумел заручиться поддержкой политических тяжеловесов. Кандидатом в вице-президенты он сделал таджика – маршала Фахима, за которым стояла офицерская масса Северного альянса, составлявшая костяк афганской армии. Мохаммад Карим Халили принес ему голоса хазарейцев, а генерал Рашид Дустум – узбеков.
Тем не менее, боевики Талибана презрительно называли президента Карзая «мэром Кабула», подразумевая, что тот контролирует лишь столицу страны. По словам экспертов, поддержка этнических лидеров объяснялась лишь тем, что они рассчитывали на слабость Карзая, который сквозь пальцы будет смотреть на то, как «военные лорды» укрепляют свои позиции в регионах. Некоторые политологи не исключали, что со временем афганский президент проведет реформы, предложенные его соперником Абдуллой, согласившись на выборы провинциальных губернаторов и расширение полномочий местных органов власти. А децентрализация приведет, в итоге, к расколу Афганистана на пуштунский Юг, который будут контролировать талибы, и таджикско-узбекский Север, находящийся под властью Северного альянса. Ведь пуштуны, которые являются самой многочисленной народностью в стране, при Карзае были лишены возможности оказывать влияние на принятие политических решений.
ПРОВАЛ СТРАТЕГИИ «АФПАК»
Главным новшеством в афганской стратегии Обамы эксперты считали стремление связать воедино проблемы Афганистана и соседнего Пакистана. Находясь в экономической зависимости от Вашингтона, Исламабад, тем не менее, пытался проводить независимую внешнюю политику, перекрывая пути снабжения войск НАТО в ответ на американские рейды на свою территорию. При этом страна находилась на грани экономического коллапса. Инфляция в Пакистане достигла 30 % и продолжала расти. Дефицит государственного бюджета составлял десятки миллиардов долларов. Однако главной проблемой, с которой столкнулся избранный в 2008 году президент Асиф Зардари, были волнения на северо-западной границе. И когда пакистанская армия начала крупномасштабную операцию в Южном Вазиристане, в США происходящее назвали торжеством стратегии «Афпак», провозглашенной Обамой в марте 2009 года. Однако оптимистичная картина, которую рисовали вашингтонские стратеги, не имела ничего общего с действительностью. Пакистанцы сражались со своими пакистанскими талибами, афганским же боевикам, ведущим борьбу с силами НАТО, они выплачивали деньги за сохранение нейтралитета. «У Вашингтона и Исламабада абсолютно разный подход к проблеме северо-западной границы, – писала The Washington Post. – Для пакистанцев приоритетом является стабильность страны, для американцев – уничтожение «Аль-Каиды»[311]. США обещали, что в том случае, если пакистанские власти окажут им помощь в борьбе с афганскими боевиками, они поддержат их в противоборстве с местными талибами, лидером которых является Байтулла Махсуд – главный подозреваемый в убийстве супруги президента Зардари Беназир Бхутто.
Однако военные в Исламабаде были убеждены, что американцам нельзя доверять, поскольку союз Соединенных Штатов с Пакистаном всегда объяснялся лишь прагматическими соображениями: сближением СССР и Индии, советским вторжением в Афганистан, интересами войны с терроризмом. Хотя Зардари, конечно, надеялся сохранить особые отношения с Вашингтоном, чего бы ему это ни стоило. Неслучайно проамериканский президент Афганистана был единственным иностранным лидером, присутствующим на его инаугурации.
Соединенные Штаты прекрасно понимали, что если гражданское правительство не удержится у власти, на смену ему вновь придут генералы, причем, в отличие от Мушаррафа, настроенные антиамерикански и опирающиеся на Мусульманскую лигу Пакистана во главе с Навазом Шарифом, радикальных националистов и фундаменталистов. В связи с этим многие называли Пакистан «пороховой бочкой» Ближнего Востока.
Тем не менее демократическая администрация США надеялась добиться успеха в отношениях с этим государством. В ноябре 2009 года Обама подписал законопроект Керри-Лугара о выделении Исламабаду помощи в размере $7,5 миллиарда. Однако условия, выдвинутые американскими конгрессменами, оказались абсолютно неприемлемы для пакистанской военной элиты, которая не собиралась отказываться от участия в политике, сворачивать ядерную программу (в Вашингтоне многие опасались, что деньги пойдут на ее развитие) и обеспечивать Соединенным Штатам доступ к пограничным территориям Пакистана. Жесткую критику вызвало положение законопроекта, согласно которому Вашингтон имеет право осуществлять «контроль над государственными структурами Пакистана, включая армейские, с тем, чтобы их действия соответствовали интересам США».
На встрече командующих крупнейшими подразделениями пакистанской армии законопроект Керри-Лугара был назван «колониальным актом», угрожающим национальной безопасности страны. Военным не пришелся по душе безапелляционный «оскорбительный» тон американских законодателей, которые обвинили их во вмешательстве в дела гражданского правительства Юсуфа Гилани и укрытии преступников, замешанных в терактах в Индии. Главнокомандующий пакистанской армии Ашфак Кияни и главный министр провинции Пенджаб, брат лидера оппозиционной Мусульманской лиги Шабаз Шариф приняли решение провести крупную кампанию в СМИ против «попыток США навязать пакистанцам свои правила игры». Ведущие пакистанские газеты объявили президента и его министров «предателями, которые продались американцам». «Кто кроме нашего сговорчивого правительства, – вопрошала пакистанская газета The Nation, – согласился бы пожертвовать национальными интересами ради $ 7 миллиардов? Подход Соединенных Штатов к Пакистану очень хорошо иллюстрирует фотография Ричарда Холбрука (специального представителя Обамы по Афганистану и Пакистану) на переговорах: он развалился в кресле и беззаботно жевал жвачку. Эти новые колонизаторы получили от Исламабада все, о чем только могли мечтать»[312]. Согласно опросам общественного мнения, осенью 2009 года около 85 % пакистанцев не одобряли сотрудничества с США.
«Пакистанские генералы, – писал The Economist, – считают, что Соединенные Штаты навязывают их государству сотрудничество на невыгодных условиях, что в очередной раз доказывает: внешнюю политику Исламабада нельзя было отдавать на откуп гражданским властям»[313].
Критики были убеждены, что гражданское правительство, которое пришло к власти благодаря поддержке Соединенных Штатов, разочаровавшихся в генерале Мушаррафе, методично отстаивает интересы своих американских покровителей. Президент Асиф Зардари, указывали оппозиционеры, долгое время жил в эмиграции в США, а премьер-министр Гилани принадлежит к семье с богатыми колониальными традициями (еще его прадед входил в элиту британской Индии).
Однако проамериканский курс правительства противоречил националистической идеологии, распространенной в пакистанском истеблишменте и силовых структурах. Контроль над Межведомственной службой разведки Пакистана (ISI) со стороны гражданских властей был минимальным. Этот институт, фактически, полностью подчинялся главнокомандующему Ашфаку Кияни, которого подозревали в связях с отставными генералами-националистами, лишившимися своих постов в силовых ведомствах во время кадровой чистки, проведенной Первезом Мушаррафом в 2001 году. Тогда в отставку были отправлены люди, связанные с джихадистскими организациями, которые вели боевые действия в Афганистане против советских войск, а затем сражались с индийцами в Кашмире. Эксперты полагали, что эти люди продолжают оказывать влияние на идеологию силовиков, не желающих налаживать отношения с американскими союзниками – Индией и Афганистаном и настаивающих на том, что в своей политике Исламабад должен ориентироваться на Китай.
До определенного момента антиамерикански настроенные силовики были убеждены, что операция против пакистанских талибов, обосновавшихся на территории племени мехсуд в Вазиристане, противоречит интересам государства. Считалось, что Межведомственная разведка может контролировать радикальных исламистов, используя их воинственные настроения против «иностранных оккупантов и марионеточного афганского правительства». В эпоху Мушаррафа в так называемой зоне племен федерального управления на границе с Афганистаном проводились лишь ограниченные военные операции, а крупное наступление армии в Вазиристане в феврале 2008 года было неожиданно прервано без объяснения причин. «Дело в том, что представители племени мехсуд занимали тогда высокие посты в армии и разведке, а генерал Мушарраф не хотел наживать себе врага в лице Талибана, – отмечал директор программы азиатских исследований американского Центра международной политики Селиг Харрисон в своей монографии «Внутренняя и внешняя политика Пакистана после 11 сентября», – к тому же, он не был заинтересован в том, чтобы вакуум власти, сложившийся в Афганистане после падения исламистского правительства, заполнили представители Северного альянса, традиционно настроенного против союза с Пакистаном»[314]. Мушарраф был убежден, что с талибами можно договориться и не раз заключал мирные соглашения с лидерами племен, населяющих Вазиристан.
В своей автобиографии «На линии огня» он отмечал, что Талибан был создан пакистанскими спецслужбами, которые «воспитали, одели и обули нищих пуштунов, дали им оружие, и навязали исламистскую идеологию»[315]. С помощью исламистов пакистанская элита рассчитывала установить в соседнем Афганистане дружественный, зависимый от Исламабада режим, и обеспечить, таким образом, надежный тыл в противостоянии с Индией. В 90-е годы афганские исламисты, финансируемые ISI, выступали даже с идеей конфедерации Пакистана и Афганистана. Как утверждал руководитель Межведомственной разведки Хамид Гул «под предлогом объединения двух исламских государств мы получили бы доступ к урановым рудникам в Афганистане и сократили бы зависимость нашей ядерной программы от зарубежных источников. К тому же, политический союз Исламабада и Кабула стал бы серьезным вызовом для Индии»[316].
Однако пакистанским спецслужбам не удалось реализовать свои замыслы. В первую очередь, потому что любое афганское правительство отказывалось идти на сближение с Пакистаном до тех пор, пока не будет урегулирован спор о государственной границе. Линия Дюранда, которая была установлена англичанами в 1893 году, разделила пуштунские племена между Афганистаном и Британской Индией. Это, противоречило афганским интересам, и в Кабуле отказывались признавать навязанную колониальными чиновниками границу. После образования пакистанского государства его отношения с соседним Афганистаном во многом зависели от пуштунского фактора. Афганцы одно время выступали даже за создание независимого Пуштунистана в пакистанской зоне племен федерального управления.
«Разыгрывая пуштунскую карту, – утверждали эксперты, – пакистанские спецслужбы создали на территории племен исламистское движение, направленное против светской власти в Кабуле, однако было очевидно, что со временем исламисты попытаются построить эмират на всей пуштунской территории, которая охватывает огромную часть Пакистана». Когда в 2008 году на смену военным, пользующимся поддержкой исламистов, к власти в Исламабаде пришло гражданское правительство, его светская идеология естественно была воспринята талибанскими боевиками в штыки. Вначале они попытались воспользоваться слабостью новых властей и в феврале 2009 года заключили с ними соглашение о перемирии. Правительство Гилани заявило, что не будет препятствовать введению законов шариата в долине Сват, а талибы, в свою очередь, пообещали прекратить боевые действия и не пытаться распространить свое влияние на другие районы Пакистана. Однако вскоре боевики нарушили соглашение, начали экспансию в зоне племен и вторглись на территории, расположенные всего в ста километрах от столицы. Летом правительственные войска выбили их из долины Сват, а в сентябре приняли решение о широкомасштабном наступлении в Южном Вазиристане.
Талибы надеялись запугать гражданское правительство и вынудить его отказаться от этого решения, организовав серию взрывов в пакистанских городах, однако власти были непреклонны и в конце октября 2009 года начали крупнейшую за последние шесть лет операцию против Талибана под названием «Путь освобождения». 30-тысячная армия при поддержке авиации, танков и артиллерии вторглась на территорию Южного Вазиристана. Предварительно правительство заключило пакт о ненападении с афганскими талибами, обосновавшимися в Северном Вазиристане, и лидерами племени вазиров, традиционно враждующего с племенем мехсуд. Кроме того, властям удалось разрушить стереотип, существовавший в общественном мнении Пакистана, о том, что война с талибами является «американской войной», и, участвуя в ней, правительственные войска поддерживают армию оккупантов в их борьбе с «праведными воинами ислама». Главнокомандующий Ашфак Кияни дал понять, что военная операция направлена только против экстремистов, выступив с воззванием к «храброму народу племени мехсуд».
Вазиристан, еще до того как стать символом талибанского сопротивления, прославился непокорным нравом и воинственностью населявших его племен. С 1893 года эта территория была независима как от английских колониальных владений, так и от афганского правительства; восстание вазиров в 1919–1921 годах привело к поражению Великобритании в 3-й афганской войне. Многие эксперты полагали, что пакистанская армия, несмотря на успехи в начале кампании, также обречена увязнуть в Вазиристане. Тем более что покорение пуштунских племен по-прежнему не являлось для Исламабада приоритетной задачей в обеспечении национальной безопасности. Как отмечал журнал The Time, «несмотря на то, что пакистанцы решились на крупную военную операцию в зоне племен федерального управления, большая часть армии, в том числе ее элитные части, находились на восточной границе с Индией. Пакистанский истеблишмент так и не сумел избавиться от параноидального отношения к Нью-Дели»[317]. Именно по этой причине, военные отказывались воспринимать афганское правительство Карзая как естественного союзника в борьбе с талибами. Ведь президент Афганистана пустил в страну индийских инвесторов и разрешил открыть на границе с Пакистаном 26 индийских консульств, которые, по словам ISI, несли ответственность за дестабилизацию обстановки в западной провинции Белуджистан.
В тот момент, когда Обама пришел к власти отношения Индии и Пакистана были накалены до предела. Дело в том, что 26 ноября 2008 года вскоре после его победы на президентских выборах в финансовой столице Индии Мумбай группа экстремистов захватила здания роскошных отелей «Тадж-Махал» и «Оберой-Трайдент», которые считались символом города. В результате действий боевиков погибли более 170 человек, около 300 получили ранения. Причем в отличие от предыдущих терактов, которые происходили на рынках и в поездах, жертвами мумбайского нападения стали состоятельные индийцы. Индийское правительство сразу обвинило в событиях 26/11 соседний Пакистан, и свернуло переговорный процесс, который два извечных соперника начали под давлением Соединенных Штатов в 2004 году.
Возобновить мирные переговоры Индия обещала лишь в том случае, если пакистанские власти начнут судебное разбирательство по вопросу об организации мумбайских атак. Через год суд в Исламабаде предъявил обвинения семерым подозреваемым в подготовке терактов, в том числе главе радикальной организации «Лашкар-э-Таиба» Заки-ур-Рехману Лахви. («Лашкар-э-Таиба» – одна из группировок, оказывающих вооруженное сопротивление Нью-Дели на границе провинции Кашмир. Единственный оставшийся в живых боевик, участвовавший в захвате «Тадж-Махала», состоял именно в этой организации). Выполнив основное требование индийской стороны, гражданское правительство Пакистана надеялось «положить конец «холодной войне» между двумя ядерными державами Южной Азии».
Правда, эксперты уверяли, что сделать это будет не так просто. Ведь даже если предположить, что Нью-Дели и Исламабаду удастся когда-нибудь урегулировать кашмирский вопрос, они не смогут преодолеть экзистенциальные противоречия, возникшие полвека назад при разделе Британской Индии.
Попытки возродить индо-пакистанский диалог предпринимались и ранее. В июле 2009 года на конференции в Шарм-эль-Шейхе премьер-министр Пакистана Юсуф Гилани и его индийский визави Манмохан Сингх заявили, что «несмотря на расхождения между их странами в вопросах борьбы с терроризмом мирный процесс должен быть возобновлен». Однако индийская оппозиция тут же обвинила главу правительства в «дипломатическом поражении» и «сдаче позиций тем пакистанским политикам, которые несут ответственность за мумбайскую трагедию». В итоге Сингху пришлось пойти на попятный: непременным условием для возобновления переговоров вновь стало согласие Пакистана начать судебные разбирательства.
Выполнив это условие, Исламабад позволил индийским властям, не теряя лицо, вернуться к мирному процессу и заслужить таким образом расположение американцев. «Премьер-министр Манмохан Сингх действительно верит в век США, в то, что судьба Индии неразрывно связана с этой страной, – писал Д. Малхотра, редактор дипломатического отдела индийской газеты The Telegraph. – Отказ от идеи неприсоединения отражает неспособность и нежелание жонглировать несколькими шарами одновременно»[318].
В этом смысле очень символично, что годовщину терактов в Мумбай Сингх встречал в Вашингтоне, где ему устроили торжественный прием, которого, по словам экспертов, удостаивались лишь немногие иностранные гости за всю послевоенную историю США. Президент Обама сделал все от него зависящее, чтобы сохранить достижения своего предшественника на индийском направлении. Он дал понять Мангмохану Сингху, что Соединенные Штаты готовы пойти на уступки в ядерной сфере, расширить военное сотрудничество между странами и добиться реформы Совета Безопасности ООН, которая закрепила бы за Нью-Дели статус постоянного члена этой организации. Обама прекрасно понимал, что Индия может стать ключевым союзником Америки при реализации его новой стратегии в Афганистане. С другой стороны, индийцы осознавали, что от Вашингтона во многом зависит их статус на мировой арене. Немаловажным являлся и тот факт, что крупный индийский бизнес, связанный с информационными технологиями и военной промышленностью, ориентировался на Соединенные Штаты.
Политологи отмечали, что в Южной Азии сложилась уникальная ситуация: одновременно в Нью-Дели и Исламабаде к власти пришли проамериканские правительства, и впервые со времен Британской Индии «жемчужина оказалась в короне одной империи». Однако если Индийский национальный конгресс после уверенной победы на парламентских выборах обладал реальной властью в стране, положение гражданского правительства Пакистана становилось все более шатким. Выступая в Международном центре Вудро Вильсона, Сингх отметил, что «реальная власть в Исламабаде принадлежит военным и разведчикам»[319], находящимся под влиянием исламистских организаций, которые они сами же когда-то создавали. И если даже пакистанские силовики не имели отношения к мумбайским терактам, борьба с Индией являлась для них частью национальной идентичности.
«ЛАУРЕАТ НОБЕЛЕВСКОЙ ПРЕМИИ ВОЙНЫ»
К концу 2009 года стало очевидно, что рассчитывать на них в Афганистане не приходится. И у Обамы, фактически, не оставалось другого выбора кроме как удовлетворить требования своих генералов, пообещав предоставить им 30-тысячное подкрепление и рекрутировать еще 7 тысяч солдат у союзников по НАТО. 1 декабря незадолго до 30-летней годовщины советского вторжения в Афганистан американский президент выступил в престижной академии Уэст-Пойнт, обнародовав новую военную стратегию, которая во многом перекликалась с иракской доктриной трехлетней давности. Любопытно, что речь Обамы даже называлась так же, как и речь Джорджа Буша, произнесенная им в январе 2007 года: «Новый путь вперед».
Как отмечал Der Spiegel, «создавалось впечатление, что президент взял одну из своих старых предвыборных речей и смешал ее с текстом из собрания сочинений Джорджа Буша. Выступление в Уэст-Пойнте вызвало смятение и у романтиков, и у реалистов. Это была речь лауреата нобелевской премии войны»[320].
И хотя британский историк Саймон Шама заявил, что по богатству риторических приемов выступление Обамы не уступало лучшим цицероновским речам, содержавшиеся в нем противоречия бросались в глаза даже неискушенным в политике курсантам Уэст-Пойнта. Американцы отправляются на фронт, – провозгласил Обама, – и практически сразу начнут марш к миру. (К 2011 году планировалось завершить вывод войск). Экстремисты убивают во имя ислама, заявил президент, а затем добавил, что ислам это «одна из величайших религий на Земле». Он пообещал, что ответственность за безопасность Афганистана скоро будет возложена на правительство Хамида Карзая – то самое правительство, которое он назвал «коррумпированным». «Талибан опасен и все время усиливается», – заявил Обама, и тут же отметил, что «Америка готова завершить войну»[321].
Новая афганская стратегия Обамы была воспринята в штыки, как левыми, так и правыми политиками в Вашингтоне. Бывший сотрудник Пентагона консервативный комментатор Джед Бэббин заявил, что «президент желает вести крохоборческую политически корректную войну в соответствии с либеральными теориями, что неминуемо закончится поражением»[322]. Большинство критиков отмечало, что дополнительные войска вряд ли сотворят чудо за год с небольшим, и обозначение срока вывода войск лишь приободрит талибов.
Стратегию Обамы осудили и его однопартийцы, правда, совершенно по другим соображениям. Как заявила спикер палаты представителей Нэнси Пелоси, Америка не может позволить себе широкомасштабную военную кампанию. А известный леволиберальный комментатор Майкл Мур посоветовал президенту США «позвонить Горбачеву, который мог бы рассказать ему, как Афганистан становится кладбищем империй»[323].
С тех пор как в декабре 2001 года завершилась операция «Несокрушимая свобода», в результате которой было свергнуто талибанское правительство, силы НАТО не проводили в Афганистане масштабных наступательных операций. И вот в феврале 2010 года началась операция в Гильменде, в ходе которой генерал Маккристал попытался воплотить в жизнь свою афганскую стратегию. Согласно плану, разработанному генштабом ISAF (Международные силы содействия безопасности Афганистана), целью главного удара коалиционных войск стал город Марджа, который талибы удерживали с 2001 года.
Этот небольшой городок с населением 80 тысяч человек являлся не только «логовом талибов», но и центром наркоторговли. В его окрестностях находились плантации опиумного мака и лаборатории по производству героина. Для талибов, как известно, наркотики являются главной статьей доходов, – и после того как губернатором богатой опиумным маком провинции Нангархар стал жесткий администратор и сподвижник Хамида Карзая Гуль Ага Шерзай, им ничего не оставалось, как сделать ставку на другую опиумную житницу – провинцию Гильменд».
Марджу эксперты называли «неприступным бастионом талибов». Все подходы к городу были заминированы, однако командование ISAF организовало массированную переброску войск с помощью вертолетов. Эта тактическая новинка впервые была опробована морпехами США в том же Гильменде в июле 2009 года. В ночь на 13 февраля в Марджу были переброшены 4 тыс. американских и 4 тыс. британских солдат (всего в операции было задействовано 15 тыс. военнослужащих), которые начали штурм. Командующий американскими морпехами генерал Лари Николсон уверял, что «это может занять довольно много времени, особенно учитывая тот факт, что город напоминает пороховую бочку: мятежники заминировали улицы, мосты и большинство зданий»[324]. Не случайно ветераны иракской кампании сравнивали операцию в Мардже с многонедельной зачисткой Фаллуджи в 2004 году.
Главной целью операции американские стратеги провозгласили не уничтожение боевиков, а «завоевание сердец и умов местного населения». Поэтому накануне наступления командование ISAF проинформировало жителей Марджи о своих намерениях, провело консультации с городскими старейшинами и постаралось объяснить свою позицию жителям окрестных деревень на специально организованных шурах (советах). Когда же на второй день операции ракета НАТО отклонилась от цели и попала в жилой дом, в результате чего погибли 12 мирных жителей, войскам коалиции было запрещено вести ракетный обстрел Марджи.
Генри Киссинджер отмечал, что «своей первоочередной задачей Маккристал считает защиту населения, а не охоту за боевиками, и эта стратегия должна принести успех США»[325]. Новый военачальник был убежден, что если коалиционные силы завоюют поддержку местных жителей в одном районе, их власть быстро распространится на соседние территории, «словно чернильное пятно, которое растекается по листу бумаги». Как отмечал американский военный аналитик Харлан Уллман, «тактика чернильных пятен возникла еще во Вьетнаме. Она с успехом применялась во время иракской кампании, например, в городе Рамади – столице беспокойной провинции Аль-Анбар. В Афганистане американцы надеялись установить контроль над основными центрами гравитации и образовать вокруг них «чернильные анклавы», власть в которых будет принадлежать кабульскому правительству»[326].
Соединенные Штаты планировали оказать давление на кабинет Карзая, вынудив его проводить более эффективную и социально ориентированную политику, и ускорить процесс создания национальной афганской армии. Операция в Гильменде проводилась при активном участии афганских солдат, а ее название «Моштарак» в переводе с дари означает «вместе». До этого момента командование ISAF не доверяло афганским частям, многие из которых были укомплектованы бывшими талибами. Однако в операции «Моштарак» они воевали бок о бок с солдатами коалиции. Более того, афганские офицеры принимали участие в разработке плана действий. «Таким образом, – заявляли эксперты, – американцы давали понять, что воспринимают афганскую армию как равноправного партнера». Некоторые скептики, правда, отмечали, что у генералов ISAF несколько извращенные представления о равноправии, поскольку коалиционные войска были переправлены в Марджу на вертолетах, тогда как пять афганских батальонов были брошены на минные поля с тем, чтобы закрепиться на подступах к городу.
Как отмечал заведующий сектором Афганистана Института востоковедения РАН Виктор Коргун, «в ходе операции «Моштарак» происходила обкатка афганских вооруженных сил. Американцы хотели увидеть, как они взаимодействуют с коалиционными войсками, и можно ли им будет со временем поручать самостоятельные операции»[327]. Тем не менее, по словам эксперта, это вовсе не означало, что Соединенные Штаты доверяют афганской армии. «Они наращивают ее численность до 300 тысяч, – писал британский журнал The Prospect, – но не спешат с техническим переоснащением: у афганцев до сих пор нет тяжелой артиллерии, авиации и бронетехники. И все потому, что западные союзники сомневаются в их лояльности. У правительственных солдат отсутствует материальный стимул, ведь талибы платят своим боевикам на порядок больше, чем может позволить себе правительство Карзая»[328].
Эксперты отмечали, что успешная операция в Гильменде не склонит чашу весов в пользу США и их союзников, поскольку талибы к тому моменту контролировали большую часть Афганистана. Даже в северных провинциях, которые никогда не считались зоной влияния пуштунского этноса, они укрепились настолько, что угрожали перекрыть пути снабжения американских войск, проходящие через территорию России и Центральной Азии. На состоявшейся в конце января 2010 года лондонской конференции по Афганистану западные страны приняли решение о создании специального фонда, средства из которого должны были пойти на подкуп талибских полевых командиров. Однако скептики были убеждены, что такая тактика не сработает потому, что, получив деньги, полевые командиры ненадолго переметнутся на сторону правительства, а затем снова начнут против него боевые действия. Как говорят афганцы, их нельзя купить, а можно лишь временно нанять на службу.
Западные стратеги надеялись, что операция «Моштарак» позволит перехватить у талибов военную инициативу и вынудит их к переговорам. Очевидно, говорили они, что пока мятежники находятся на пике своего могущества, на сделку с «оккупантами и марионеточным афганским правительством» они не пойдут. Но если американцы будут разговаривать с позиции силы, такой шанс, безусловно, появится. «Когда талибы почувствуют подавляющее превосходство США, – отмечал Петр Гончаров, – они согласятся урегулировать противоречия с центральным правительством»[329].
Конечно, со стороны американцев было большой оплошностью объявить о сроках вывода войск из Афганистана. Талибы, безусловно, восприняли это как косвенное признание бесперспективности американской миссии. «У Запада есть часы, – говорили они, – а у нас столетия, и нам некуда спешить».
«Успеху новой стратегии в Афганистане может помешать желание уложиться в срок, – отмечал Харлан Уллман. – Американцы и их союзники вынуждены прислушиваться к тому, как тикают часы. Уже в мае в Великобритании состоятся парламентские выборы, и командующий операцией «Моштарак» британский генерал Ник Картер спешит преподнести сюрприз тонущим лейбористам. В ноябре пройдут выборы в американский конгресс, которые станут серьезным испытанием для Барака Обамы, а уже в следующем году он должен будет выполнить свое обещание и переложить ответственность за обеспечение безопасности в Афганистане на местную армию. Постоянная спешка будет вынуждать западную коалицию совершать ошибки, а ее противники не преминут этим воспользоваться»[330].
Это понимал даже президент Карзай, который, по словам чиновников Белого дома, к тому времени «окончательно отбился от рук». 3 апреля 2010 года, выступая перед афганскими депутатами, он обвинил американцев в том, что они стремятся лишить его власти и создать в Афганистане марионеточное правительство. «В результате эскалации боевых действий, – отмечал он, – талибы могут превратиться в силы легитимного национального сопротивления, и в том случае, если Запад не пересмотрит свою стратегию, я сам готов перейти на сторону боевиков»[331].
Поводом для резких заявлений Карзая послужил отказ нижней палаты афганского парламента удалить представителей ООН из комиссии по проверке выборов президента, состоявшихся в августе 2009 года. Именно спорные результаты выборов стали причиной разлада между афганским лидером и его западными покровителями. Раздражение Карзая вызывал также тот факт, что американцы все чаще общались с губернаторами провинций через его голову. «Афганский лидер дал волю эмоциям, – отметил бывший посол ООН в Афганистане Питер Гэлбрайт, – это импульсивный человек, который к тому же питает слабость к определенным товарам афганского экспорта»[332].
Весной 2010 года после того как войска НАТО установили контроль над главным оплотом талибов в провинции Гильменд, они начали операцию в Кандагаре. Правда, позиции «Талибана» в этой провинции были куда прочнее. Ведь родиной движения считается расположенный здесь город Спинбулдак. Именно в Кандагаре находилась штаб-квартира талибов в те годы, когда они управляли Афганистаном, и даже после вторжения американцев им удалось сохранить здесь свое влияние.
Новые афганские власти так и не смогли подобрать подходящую кандидатуру на пост губернатора Кандагара. Вначале ставленником Карзая стал бывший моджахед Гуль Ага Шерзай, однако он заслужил среди местного населения славу казнокрада. Затем после долгой чехарды ключевую должность занял канадец афганского происхождения Твурьялай Виса, и хотя его назначение, наверное, было приятно канадским военным, которым отводилась ключевая роль в командовании ISAF на юге Афганистана, влияние талибов в провинции не уменьшилось. Напротив, они даже создали параллельное «теневое» правительство региона. Накануне президентских выборов 2009 года в провинции состоялась целая серия терактов, в результате которых население было так запугано, что на избирательные участки пришло всего 2 % местных жителей. Взрывы прогремели и накануне натовской операции, целью которой американцы провозгласили «уничтожение Талибана».
Пуштунские племена называют Кандагар духовной столицей (здесь расположен мавзолей основателя афганского государства Ахмад-шаха), и вынудить талибов покинуть ее было практически нереально. Боевики сражались за эти земли с удвоенной силой. К тому же провинция представляла собой сплошную зеленую зону, в которой они чувствовали себя как рыба в воде. Как рассказывали военные специалисты, тактика талибов заключалась в том, что вначале они изображают отступление, а затем начинают отстреливать преследующих их солдат противника из заранее подготовленных «гнезд» в «зеленке».
Стоит отметить, что американский генерал Стэнли Маккристал бросил на покорение Кандагара свежие силы: тех самых морпехов, которые прибыли в Афганистан в результате решения Барака Обамы об увеличении воинского контингента США. Как и в операции «Моштарак» в Гильменде, в кандагарской операции американцы активно сотрудничали с национальной армией Афганистана. Ключевая роль в «военно-политической операции» отводилась провинциальным афганским властям, которых талибы прозвали карманными правительствами Маккристала.
Как и в Гильменде, в Кандагаре американцы вели войну с местными наркокартелями, надеясь лишить талибов главной статьи доходов. Однако, как отмечал эксперт по афганскому наркотрафику Гретчен Питерс, «борьба с наркоторговцами, как и антиповстанческие операции, напоминает попытки прибить муху. Как только ты сбиваешь ее в одном месте, она тут же появляется в другом»[333]. Не стоило забывать, что и лояльные афганскому правительству чиновники тесно связаны с наркобизнесом. О какой борьбе с наркотиками можно было говорить, если в получении доходов от производства опиумного мака подозревался глава провинциального совета Кандагара, брат президента Афганистана Ахмад Вали Карзай.
В Вашингтоне надеялись, что усиление воинского контингента позволит переломить ситуацию и обеспечит Америке более выгодные позиции на переговорах с Талибаном. Но желание уложиться в срок сыграло с западными странами злую шутку. Теперь уже не вызывало сомнений, что талибы будут диктовать им свои условия.
К тому же, летом 2010 года американцы вновь были вынуждены сменить главнокомандующего афганскими легионами. Причиной послужило интервью Маккристала и его помощников, опубликованное в журнале Rolling Stone, о котором мы уже говорили ранее. Военные позволили себе ряд некорректных высказываний в адрес представителей администрации Обамы. Когда речь зашла об их главном критике вице-президенте Джо Байдене, Маккристал спросил: «А кто это?», а один из его офицеров добавил со смехом: «Вы сказали: укуси меня? (bite me)». В ходе интервью генерал заявил, что, выступая против увеличения воинского контингента, посол США в Кабуле Карл Эйкенберри «хотел прикрыть фланги для учебников истории», президент Обама производит впечатление человека, не знающего, что происходит за Гиндукушем, а его советник по национальной безопасности Джеймс Джонс является «клоуном, который застрял в 1985 году». Специального посланника США в Пакистане и Афганистане Ричарда Холбрука Маккристал назвал «раненым зверем, который постоянно находится на грани увольнения», и, получив во время беседы с журналистом очередное электронное послание от этого чиновника, воскликнул, что даже не будет его открывать[334].
Судьба генерала была решена на совещании в Белом доме, в котором принимали участие практически все адресаты его ернических высказываний. До последнего момента Маккристал был уверен, что команда Обамы не решится менять коней на переправе, в разгар военных действий назначая нового командующего. Однако демократы совершили хитрый маневр, заменив зарвавшегося генерала на его непосредственного начальника – главу центрального командования США Дэвида Петреуса. По словам комментатора The National Review Ричарда Лоури, «президент принял блестящее решение, сделав командующим в Афганистане тяжеловеса и эксперта в противоповстанческих операциях, который сможет гладко заступить на новый пост»[335].
Барак Обама был не первым президентом США, которому пришлось отправить в отставку зарвавшегося, но популярного командующего. В 1951 году президент Гарри Трумэн уволил Дугласа Макартура, звездного генерала с политическими амбициями, пытавшегося подтолкнуть администрацию к полномасштабной войне с Китаем. В свойственной ему грубой манере Трумэн пояснил, что избавился от Макартура «не потому, что он был тупым сукиным сыном – для генерала это в порядке вещей, – а потому, что он не признавал авторитет президента». Еще один пример сложных отношений между главой государства и военачальником – это Авраам Линкольн и генерал Джон Маккелан. Командующий армией северян называл президента «идиотом» и «форменной гориллой» и заставил его однажды прождать несколько часов у себя в приемной, пока слуга не сообщил, что «генерал уже почивает». Однако, несмотря на дерзкие выходки и нарушение субординации, Маккелан одерживал победы над конфедератами, и Линкольн не решался отправить его в отставку. Если вернуться в современную эпоху, совсем недавно из-за неуважения к главнокомандующему своего поста лишился бывший начальник Маккристала глава Центрального командования США адмирал Уильям Фаллон, который дал неосторожное интервью Esquire Magazine, заявив, что он является единственной преградой, которая не позволяет администрации Буша развязать войну в Иране.
В президентской кампании 2008 года симпатии военных, безусловно, были на стороне героя Вьетнама Джона Маккейна и победу темнокожего кандидата, который шел на выборы с пацифистской программой, в армии восприняли в штыки. Его сразу провозгласили «слабым главнокомандующим», не имеющим никакого представления о службе в вооруженных силах. Когда же Обама начал формировать команду из представителей старой клинтоновской гвардии, вызывающих аллергию в офицерской среде, его отношения с военным истеблишментом окончательно расстроились. Рассуждая об армейских генералах, администрация Обамы использовала формулу «мы и они». В надежде умаслить военных президент сохранил на своем посту министра обороны Роберта Гейтса и назначил своим советником по национальной безопасности бывшего командующего силами НАТО генерала Джеймса Джонса. Однако это не прибавило уважения к гражданской команде Обамы, которая, по мнению генералов, состоит из «леволиберальных пораженцев» и «слабаков». Точно так же в свое время они относились к окружению Клинтона. «Пренебрежение к президенту-плейбою в первую очередь было связано с тем, что он не сумел настоять на своем, когда речь зашла о легализации геев, служащих в вооруженных силах, – отмечал американский политолог Спенсер Акерман, – главнокомандующий должен отдавать приказы, а не предаваться рефлексии. И хотя предложенный Клинтоном законопроект устроил бы в армии настоящий сыр-бор, офицеры по крайней мере уважали бы президента за непреклонный нрав»[336].
Обама, конечно, должен был учесть печальный опыт предыдущего демократического президента, заставить генералов признать авторитет главнокомандующего и не отдавать им на откуп ведение боевых действий в Ираке и Афганистане, расписываясь в полной некомпетентности своей администрации. Переложив на военных формирование стратегии в восточных войнах, президент лишь усилил в них представление о собственной избранности и безнаказанности. Не считаясь с критикой влиятельных чиновников из Белого дома, они создали настоящий культ противоповстанческих операций, впервые проведенных в Ираке генералом Петреусом. Как отмечал автор Joint Forces Quarterly Жан Жентиле, «в последние годы армейское командование отказывается принимать любую другую тактику и, похоже, разучилось уже проводить обыкновенные боевые операции»[337].
И СНОВА МУЛЛА ОМАР
Весной 2011 года Барак Обама пошел все-таки наперекор военным и объявил о резком сокращении американского контингента в Афганистане. Президент пообещал, что к концу 2011 года Афганистан покинут 10 тыс. американских солдат, а к середине 2012 года – 33 тыс. Многие ястребы в Британии и США восприняли заявление Обамы как «результат непродуманной популистской политики его администрации, которая в первую очередь думает о предстоящих президентских выборах, а не о долгосрочных интересах США». Как отметил глава Объединенного комитета начальников штабов адмирал Майкл Маллен, «президент принял куда более радикальное решение, чем можно было себе представить»[338]. «Самый быстрый способ закончить войну – это проиграть ее»[339], – резюмировала британская газета The Times.
Одновременно с разговорами о выводе войск западные страны признали, что пытаются навести мосты со своим главным противником – талибами. О том, что они ведут «предварительные переговоры» с лидерами движения Талибан, впервые сообщили британцы, а затем эту информацию подтвердил уходящий со своего поста глава Пентагона Роберт Гейтс. Неоконов и идеалистов, рассуждающих о построении демократии в Афганистане, такие признания повергли в шок. «Неужели нынешняя администрация, – вопрошал обозреватель The Washington Post Чарльз Краутхаммер, – готова заключить сделку с дьяволом? Может ли Обама так далеко зайти в своем цинизме?»[340]
Конечно, благородное негодование Краутхаммера выглядело несколько наигранно. Слухи о переговорах с талибами появились уже в начале 2010 года. А после уничтожения в мае 2011 года бен Ладена только ленивый не рассуждал о необходимости «перевести борьбу с Талибаном в легальное политическое поле». «Западным странам, – писал в середине мая The Economist, – следует понять наконец, что чуда не произойдет и послевоенный Афганистан не превратится в азиатскую Швейцарию. А значит, пора уже вести диалог с теми силами, которые будут обладать реальной властью после ухода коалиционных войск. В движении Талибан есть, конечно, кровожадные бандиты и религиозные фанатики, но есть и мирные племенные старейшины, которые отстаивают консервативные социальные нормы пуштунского этноса. И американцы, уже десять лет использующие их родовые владения как площадку для барбекю, должны научиться уважать местные обычаи и привлечь пуштунских лидеров к обустройству государства, которое в противном случае погрузится в бесконечную гражданскую войну»[341].
«Талибы, по сути дела, мало чем отличаются от других афганских полевых командиров, – отмечали многие специалисты по Афганистану, – и администрация Обамы научилась наконец видеть разницу между вождями повстанцев, отражающими интересы афганских племен, и боевиками «Аль-Каиды», нацеленными на глобальный джихад». Не случайно еще в конце 2010 года чиновники и дипломаты США поддержали требование президента Афганистана Хамида Карзая о смягчении санкций для лидеров Талибана. В итоге Вашингтону удалось протолкнуть в Совбезе ООН резолюцию, согласно которой санкции в отношении боевиков «Аль-Каиды» и Талибана были разделены, а имена многих талибов вычеркнуты из черного списка террористов. Конечно в первую очередь это коснулось тех лидеров движения, которые не исключают возможности «национального примирения» и готовы играть роль посредников на переговорах с американцами. Однако наблюдателей поразило, что в число талибов, получивших индульгенцию, попали такие одиозные деятели, как Мохаммед Каламуддин, который в талибском правительстве муллы Омара занимал пост главы религиозной полиции и прославился карательными рейдами против афганцев, не соблюдающих нормы шариата.
Как бы то ни было, американцы были убеждены, что снятие санкций позволит вождям «Талибана» беспрепятственно выезжать за границу и принимать участие в переговорах. Потенциальных посредников было хоть отбавляй: свои услуги предлагали Турция, Туркмения, Катар, Саудовская Аравия и Германия. И становилось очевидно, что если талибы перестанут скрываться, западные страны смогут избежать таких досадных недоразумений, как прошедшая в 2010 году встреча британских и афганских представителей с мнимым муллой Ахтаром Мохаммедом Мансуром, который оказался обыкновенным торговцем из Кветты. Что касается условий, которые выдвигали Соединенные Штаты, в исследовании аналитического центра Stratfor говорилось, что «Америка, на самом деле, не собирается уходить из Афганистана и заявления Обамы не более чем блеф»[342]. Политологи отмечали, что США планируют договориться с талибами о примирении и разместить крупные военные базы на севере страны неподалеку от китайских границ».
Вопрос был только в том, нужны ли переговоры лидерам «Талибана». Ведь как уже говорилось, движение контролировало большую часть Афганистана и практически во всех провинциях страны, прежде всего, на юге имело свои теневые правительства. Нуристан, например, после вывода коалиционных войск, фактически превратился в талибскую республику.
В провинции правил «теневой губернатор» Талибана Джамиль Рахман, были введены законы шариата, местные власти бежали, а над столицей Паруна взвился белый флаг Исламского эмирата. Главный «смотрящий» талибов в Кунаре Кари Зиаур Рахман предсказывал западным союзникам «позорное поражение», отмечая, что все крупные выступления в стране зарождались именно в Кунарском ущелье. «Происходящее в приграничных с Пакистаном провинциях, – отмечал журнал The National Interest, – это генеральная репетиция того, что ожидает Афганистан после ухода НАТО»[343].
В этом смысле было очень показательно, что никакие переговоры не помешали талибам летом 2011 года начать свое традиционное наступление. Даже в провинции Герат, которая считалась относительно благополучной, в конце мая прогремели взрывы.
Конечно, лидеры движения Талибан вряд ли могли рассчитывать на то, что им удастся захватить всю территорию страны, как это случилось в 1996 году. Хотя такой сценарий, как бы крамольно это ни звучало, позволил бы обеспечить в Афганистане стабильность и сохранить его территориальную целостность. Но куда более вероятным представлялся вариант раскола Афганистана. Между военными лордами Севера и Юга, предсказывали эксперты, начнется холодная война, в которой ни одна из сторон не будет заинтересована в том, чтобы первой нажать на курок. Что же касается центрального правительства, то армии и силам безопасности удастся сохранить для него лишь земли вокруг Кабула. Многие западные политологи не исключали, что холодная война перерастет в горячую. Афганские таджики, узбеки и хазарейцы опасались пуштунского национализма. К тому же они были убеждены, что талибы еще очень нескоро смогут искупить свою вину перед племенами Северного Афганистана. Но как отмечал еще в начале XX века российский востоковед Андрей Снесарев, «взаимные распри афганцев – это их внутреннее дело, и иностранным державам не следует в них вмешиваться»[344].
И уже в четвертый раз наступив на те же грабли (имеется в виду опыт трех англо-афганских войн), англосаксы, похоже, вынуждены были с этим согласиться. Еще в начале 2011 года американские военные ничего не хотели слышать о переговорах с талибами (хотя де-факто переговоры уже велись). Напротив, командующий войсками США в Афганистане генерал Дэвид Петреус, выступая в конгрессе, заявлял, что каждые три месяца спецподразделения западных стран уничтожают или берут в плен более 300 лидеров Талибана. И хотя это было явным преувеличением (у талибов просто не могло быть такого количества вождей), эксперты не сомневались, что Соединенные Штаты избрали израильскую тактику точечных ударов по «наиболее опасным террористам». Но, как отмечал бывший посол Британии в Кабуле, сэр Шерард Коупер-Коулс в своей книге «Телеграммы из Кабула: О западной кампании в Афганистане изнутри», «такая тактика давала военным повод для бахвальства, лишая их при этом возможности вести переговоры с опытными людьми. Уничтожая командиров крупных формирований, которые сделали карьеру еще во времена советско-афганской войны и имели репутацию расчетливых прагматиков, они расчищали почву для озлобленной молодежи, считающей джихад смыслом своей жизни»[345].
После того как в марте 2011 года США ввязались в ливийскую авантюру, они были вынуждены пересмотреть свою политику в Афганистане. Многие политологи стали говорить, что Петреус должен действовать по той же схеме, которая принесла ему успех в Ираке, и включить талибов в коалиционное правительство. Однако скептики отвечали, что аналогии здесь неуместны, этнические и племенные распри в Афганистане куда серьезнее религиозных разногласий иракцев, и противостояние шиитов и суннитов не имеет ничего общего с борьбой Северного альянса и Талибана. В отличие от Ирака, где стоило только пригласить мятежных суннитов в коалиционное правительство, как ситуация заметно улучшилась, было очевидно, что в Афганистане этот номер не пройдет». И главное: если бы даже американцы согласились ввести в афганское правительство представителей талибов, было не совсем понятно, о ком именно идет речь. Ведь Талибан – движение аморфное, в котором нет ярко выраженных лидеров, состоящее из разнообразных этнических групп, проживающих на территории Пакистана и Афганистана.
Оставалось только гадать, кто из талибских лидеров мог бы вступить в диалог с Вашингтоном. В статье Генри Киссинджера, опубликованной в начале 2011 года, на вопрос «Как уйти из Афганистана?» был дан лаконичный ответ: «Следует договориться с людьми муллы Омара»[346]. Не с абстрактными талибами, заметьте, а с весьма конкретными полевыми командирами из окружения того самого одноглазого муллы, который до 2001 года был главой Исламского эмирата Афганистан и прятал у себя бен Ладена. «Этого легендарного лидера талибов, – писал The Prospect, – окружает романтический ореол. Предводитель повстанцев с обезображенным лицом и густой смоляной бородой, в извечном черном тюрбане, который все четыре года своего правления практически не покидал Кандагар – духовную столицу талибов, вновь может оказаться на вершине власти»[347]. Нельзя не отметить, что это традиционный сценарий англо-афганских войн: желая сохранить лицо, англосаксы возводят на трон тех лидеров, ради свержения которых начинали боевые действия.
И хотя в 2001 году мулла Омар был объявлен одним из самых страшных врагов США, через 10 лет американцы пытались найти в нем положительные черты. «Да, талибский правитель Афганистана отказывался выдать Соединенным Штатам бен Ладена, но он никогда не разделял идей глобального джихада, – говорили они. – Омар не международный террорист, а типичный представитель националистического пуштунского движения». В Вашингтоне вспоминали, что афганцы всегда выступали против арабского присутствия в стране. И свидетельством тому был, по словам экспертов, конфликт, возникший в конце 90-х между муллой Омаром и Усамой бен Ладеном. Лидер «Аль-Каиды» попытался тогда выступить с фетвой, однако Омар осадил его, заявив, что он не имеет на это права. Но суть конфликта, конечно, была в другом. Руководители Талибана не желали мириться с идеями бен Ладена, мечтавшего превратить их движение в глобального игрока, действующего далеко за пределами Афганистана.
Обеляя Омара, Соединенные Штаты пытались доказать также, что талибы в отличие от представителей экстремистских организаций, которые скрываются в зоне племен возле афгано-пакистанской границы, не представляют для Запада угрозы. В первую очередь, говорили они, Талибан отстаивает интересы пуштунских племен, мечтающих расширить свое представительство во властных структурах Афганистана. Ведь сейчас самая многочисленная народность в стране фактически лишена возможности оказывать влияние на принятие политических решений.
Многие западные стратеги делали ставку на лидера «Хизбе-Ислами» (Исламской партии Афганистана) Гульбуддина Хекматияра. Этот бывший марксист в 80-е годы примкнул к движению моджахедов, сражавшихся с СССР. Став одним из самых успешных полевых командиров, после падения просоветского режима Наджибуллы он превратил Кабул в развалины, дважды успел побывать афганским премьером, в 1996 году бежал от талибов в Иран, а в 2002-м вернулся в страну и, вступив в тактический альянс с недавними противниками, возглавил антиправительственное восстание в восточных и центральных провинциях Афганистана.
В Соединенных Штатах его считали прагматиком и хамелеоном, который «меняет убеждения как перчатки». Как отмечал представитель военного штаба США в Афганистане Грэм Ламб, «Хекматияр подтверждает тезис о том, что при всех разговорах об исламистской идеологии Афганистан – это страна соглашений»[348]. К тому же, не стоило забывать, что легальное крыло Исламской партии, созданной Хекматияром еще в 70-е годы, активно участвует в деятельности афганского парламента, а один из его лидеров является министром экономики в кабинете президента Карзая. «Вполне естественно, – писал The Wall Street Journal, – соратники давно готовят почву для возвращения Хекматияра в кабульские коридоры власти и даже лоббируют его кандидатуру на пост премьер-министра»[349].
Еще одним потенциальным партнером американцев по переговорам мог стать Сираджуддин Хаккани, чья группировка считалась наиболее радикальной. Действовала она на юго-востоке страны, в так называемом поясе Хаккани, который тянется вдоль афгано-пакистанской границы. Основателем группировки считался отец Сираджуддина Джалалуддин Хаккани, легендарный полевой командир времен войны с СССР, который в середине 90-х вступил в Талибан. В 2011–2012 гг. под командованием отца и сына Хаккани находятся сотни, если не тысячи бойцов, которым молва приписывала наиболее дерзкие теракты в Кабуле и на востоке Афганистана.
Однако у Хаккани были очень влиятельные покровители. «Эта группировка пользуется поддержкой межведомственной разведки Пакистана (ISI), – писал The National Interest. – Исламабад настаивает на том, чтобы афганское правительство и Соединенные Штаты вели переговоры именно с людьми Хаккани. Пакистанцы надеются убрать с политической сцены муллу Омара и продвигают своего ставленника, который, как они надеются, будет отстаивать их интересы в Кабуле»[350]. В 2010 году Хамид Карзай якобы лично встретился с Сираджуддином Хаккани в присутствии представителей ISI. А в начале 2011-го пакистанские силовики захватили в зоне племен муллу Абдул-Гани Барадара, который считался главным посредником на переговорах муллы Омара с кабульским правительством, дав таким образом понять, что соглашение с повстанцами может быть заключено лишь при их участии.
То, что межведомственная разведка восстанавливает в Афганистане позиции, утраченные ею десять лет назад, стало очевидно еще в июне 2010 года, когда Карзай провел кадровую чистку своего кабинета министров, отправив в отставку наиболее влиятельных противников сближения с Пакистаном: министра внутренних дел Мохаммеда Атмара и главу Национального управления безопасности Амруллу Салеха.
Хаккани всегда имели репутацию хороших стратегов, и они прекрасно понимали, что с уходом американцев Пакистан будет играть ключевую роль в урегулировании внутриафганских противоречий. Не стоит забывать, что именно пакистанская Межведомственная разведка создала в свое время движение Талибан. И ситуация повторялась. С помощью группировки Хаккани Исламабад рассчитывал установить в Афганистане дружественный режим, который прохладно относился бы к Соединенным Штатам.
Ведь после того как в мае 2011 года американские спецназовцы провели на территории Пакистана операцию, в результате которой был ликвидирован Бен Ладен, а в ноябре вертолеты базирующихся в Афганистане сил НАТО атаковали блокпост пакистанской армии в местечке Салала, отношения между двумя бывшими союзниками по «антитеррористической операции» дошли до точки кипения. Буря возмущения, поднявшаяся в Исламабаде, не поддавалась никаким описаниям. Ведь только в 2010 году во время налетов американской беспилотной авиации полегло полторы тысячи пакистанцев (причем, большинство из них – гражданские лица). А в 2011 году количество жертв бомбардировок как минимум удвоилось.
Падение авторитета гражданского правительства вызвало рост влияния военных. На роль «сильной руки» претендовал командующий сухопутными войсками, генерал Ашфак Первез Кияни. Однако армия не спешила возглавить государство, действуя из-за ширмы демократического правительства. Объяснялось это тем, что перед Пакистаном стояли трудноразрешимые проблемы, с которыми в ближайшие годы не мог справиться ни один лидер. Военные это прекрасно понимали, и потому не торопились брать бразды правления в свои руки.
Правда, именно военные руководители выразили протест в связи с действиями американской авиации и пригрозили разорвать отношения с США. Заявление военных поддержал премьер-министр Юсуф Гилани, провозгласивший, что правительство планирует пересмотреть все программы военного сотрудничества с США, НАТО и ISAF. Власти потребовали, чтобы американцы в течение 15 дней освободили авиабазу Шамси в провинции Белуджистан (на этой авиабазе базировались беспилотники, которые использовались США для борьбы с Талибаном и Аль-Каидой). Кроме того, было объявлено о закрытии для НАТО сухопутной границы с Афганистаном и о приостановлении (с угрозой полного прекращения) транзита американских военных грузов в эту страну. Данная мера была особенно чувствительна для оккупационных сил НАТО, поскольку они все получали из-за рубежа: от бензина и запчастей до мороженого, мясных консервов и зубочисток. По независимым оценкам, через пакистанскую территорию проходило 70 % продовольствия, вооружений и техники, а также 40 % горюче-смазочных материалов, необходимых для войск западной коалиции.
Тем не менее пакистанской элите было не просто определиться со своим отношением к Америке. Многие представители правящего класса, особенно те, что получили образование на Западе, считали, что Исламабад должен при любых обстоятельствах сохранить свои связи с Вашингтоном. Среди пакистанских военных царило разочарование, однако и они не были готовы к тому, чтобы окончательно разорвать с США. В этой связи индийский аналитик М. Бхадракумар отмечал, что «изрядная доля правительственного гнева была предназначена для внутреннего потребления»[351].
В то же время невозможно было отрицать, что пакистано-американские отношения переживают самый тяжелый кризис за всю историю, и это открывает интересные геополитические перспективы. Вновь встал вопрос об использовании северных маршрутов снабжения войск НАТО, что повышало роль Москвы. К тому же разлад между США и Пакистаном, по словам экспертов, непременно должен был привести к укреплению китайских позиций в Южной Азии. Закрытие авиабазы в Шамси автоматически усиливало активность КНР в белуджистанском порту Гвадар, в который китайские компании и так вкладывали огромные инвестиции. И хотя мотивировали они это строительством терминала для китайских танкеров, везущих ближневосточную нефть, при желании Пекин мог развернуть в Гвадаре военно-морскую базу и стать главным стратегическим партнером Пакистана, окончательно заменив в этой роли США.
Понимая, что это вполне реальный сценарий, американцы старались закрепиться за Гиндукушем. И несмотря на то, что на чикагском саммите НАТО в мае 2012 года было принято решение о выводе войск к 2014 году, Обама во время неожиданного визита в Кабул подписал соглашение о стратегическом партнерстве с Афганистаном, признав его «главным союзником США среди стран, не входящих в состав НАТО» и пообещав ежегодно выделять четыре миллиарда долларов на содержание афганской армии. Афганский парламент ратифицировал договор абсолютным большинством голосов (против выступил лишь один парламентарий). Соглашение позволяло Вашингтону сохранить значительный воинский контингент в стране и после 2014 года. По некоторым данным, Соединенные Штаты создавали в Афганистане гигантские подземные военные базы с развитой инфраструктурой. Например, к югу от Кандагара якобы строилась подземная база на четыре тысячи военнослужащих с двумя взлетно-посадочными полосами. Похожие базы возводились в Гильменде, Герате и Мазари-Шарифе. И не исключено, что правы были те эксперты, которые называли заявления о выводе войск блефом, и подозревали, что Америка ни за что не откажется от крупных военных форпостов неподалеку от границ своих главных геополитических соперников – Китая, России и Ирана. О том, что американцы не собираются уходить из Афганистана, говорила и истерическая реакция Соединенных Штатов на отказ Киргизии продлить с ними контракт на использование военной базы Манас, которая играла важнейшую роль в обеспечении сил ISAF. Посол США в России Майкл Макфол обвинил Москву в том, что четыре года назад она «подкупила киргизские власти» и вынудила их «вышвырнуть» американских военных»[352].
Это было особенно неприятно для Америки, учитывая тот факт, что попытка Обамы навести мосты с талибами провалилась. Вначале 2012 года администрация США позволила открыть движению Талибан штаб-квартиру в столице катарского эмирата Дохе и, по слухам даже, начала предлагать заклятым врагам министерские посты в правительстве Карзая. Однако уже в марте талибы заявили, что требования, предъявленные Соединенными Штатами, неприемлимы для Исламского эмирата, а американцы ведут себя на афганской земле как заправские «крестоносцы». Дело в том, что в конце февраля на военной базе США в Баграме солдаты сожгли ряд религиозных книг, среди которых были экземпляры Корана. Вспыхнувшие после этого антизападные демонстрации были жестко подавлены, а 11 марта американец, служащий в Международных силах содействия безопасности в Афганистане расстрелял 16 мирных жителей, в том числе 9 детей, в провинции Кандагар. Талибы решили, что продолжать переговоры с оккупантами – значит потерять доверие народа. И начали традиционное весеннее наступление. Они провели серию дерзких атак в Кабуле, Джелалабаде и Парте, дав понять США, что ни о каких переговорах больше речи не идет.
Однако американцы не теряли надежды на диалог с представителями радикального движения. Тем более, что, по словам экспертов, талибы вполне могли бы заключить с Вашингтоном соглашение, используя традиционные механизмы примирения, прописанные в пуштунском кодексе чести. Что же касается США: в американском политическом истеблишменте все более популярной становилась идея сотрудничества с исламистами. «Аль-Каида», – писал The American Thinker, – постепенно превращается в единственную деструктивную силу в исламистском движении, а со смертью ее лидера и вовсе может уйти с мировой сцены, не мешая американцам флиртовать с радикальными исламистами»[353].
ЕВРОПЕЙСКАЯ «КОМЕДИЯ ОШИБОК»
Страны Старой Европы возлагали огромные надежды на смену власти в Вашингтоне: неудивительно, что во время предвыборной кампании в США их захлестнула волна «обамамании». И первое время после выборов эти надежды еще сохранялись. Например, французский министр иностранных дел Бернар Кушнер похвалил госсекретаря Хиллари Клинтон за «открытое мышление», столь нехарактерное для заносчивых американских дипломатов эпохи Буша». Осенью 2008 года Франция, которая занимала тогда пост председателя ЕС, направила будущему хозяину Белого дома письмо с просьбой «восстановить равновесие в трансатлантических отношениях, в которых зачастую преобладает модель «господин – вассал». Французы и немцы рассчитывали, что как только Белый дом займет темнокожий либерал, США начнут прислушиваться к мнению «европейского ядра», опираться на крупные континентальные державы ЕС. У Берлина вновь появлялся шанс стать американским «партнером по лидерству», как предлагал ему когда-то Джордж Буш-старший.
Как известно, администрация Буша, в первую очередь опиралась на восточноевропейских членов ЕС, которые безропотно принимали любые ее инициативы. И неудивительно, что с приходом Обамы страны Восточной Европы испытали серьезное разочарование в своем заокеанском покровителе и начали сравнивать инициативы новой администрации с пактом Молотова – Риббентропа. Литва даже пригрозила Хиллари Клинтон заблокировать возобновление диалога Россия – НАТО. Что уж говорить о том, насколько обманулись в своих надеждах Польша и Чехия, которые рассчитывали занять роль региональных лидеров, разместив на своей территории элементы американской ПРО. Когда Барак Обама пообещал свернуть программу, вызывающую раздражение Москвы, местные элиты, которые в свое время с трудом преодолели сопротивление оппозиции, чтобы добиться «особых отношений» с Америкой, оказались у разбитого корыта. Как отмечал польский военный эксперт Артур Бильский, «с приходом администрации Обамы концепция национальной безопасности обоих государств успешно провалилась. И единственное, что могут сделать одураченные политики в Варшаве и Праге, – это затаить обиду на темнокожего президента, как в свое время Кастро затаил обиду на Хрущева»[354].
Весной 2009 года Обама совершил свое первое европейское турне, в ходе которого он посетил Великобританию, Францию, Германию, Чехию и Турцию. И где бы он ни был, американский президент везде пытался предстать в образе миротворца, способного уладить любые конфликты, вдохновенного трибуна и харизматичного лидера.
Чтобы поддержать свой имидж реформатора, в выступлении перед саммитом ЕС – США в Праге американский президент предложил людям мечту о безъядерном мире (символично, что в тот же день Северная Корея запустила новую ракету, игнорируя протесты со стороны Японии и США). На протяжении всей своей поездки Обама, словно мантру, повторял одну и ту же фразу: «Вместо того чтобы отдавать приказы, Соединенные Штаты начнут прислушиваться к мнению союзников, на смену идеологическому подходу придет прагматизм». «США меняются, – провозгласил он 3 апреля в страсбургской речи, – но и Европа должна отказаться от антиамериканизма последних лет»[355]. Весьма характерный эпизод произошел возле центрального собора в Страсбурге – пятилетняя девочка прошептала вслед выходящему из кадиллака Обаме: «Вот идет президент всего мира». Американские журналисты тут же провозгласили, что устами младенца глаголет истина, а министр иностранных дел Великобритании Дэвид Милибэнд заговорил об «эффекте Обамы», который одним своим присутствием способен оживить обстановку и разрешить возникшие противоречия.
И действительно, на состоявшемся в начале апреля лондонском саммите «Большой двадцатки» исключительно благодаря челночной дипломатии американского президента французский лидер Николя Саркози и председатель КНР Ху Цзиньтао пришли к компромиссу по вопросу о «налоговых гаванях». Через два дня на саммите НАТО Обаме удалось уломать турецкого премьера Тайипа Реджепа Эрдогана принять кандидатуру нового генерального секретаря альянса Андерса Фога Расмуссена. До переговоров с Обамой турецкая делегация категорически отказывалась поддержать Расмуссена, возглавлявшего датское правительство в период карикатурного скандала. Однако президент США пообещал Анкаре, что пост одного из заместителей генсека достанется турецкому представителю.
Все эти маленькие победы американского президента должны были создать впечатление успешного турне. Как утверждал ведущий эксперт Совета по международным отношениям Чарльз Капчан, «больше всего Обама боялся вернуться домой с пустыми руками. Он не хотел рисковать и готов был довольствоваться скромными результатами, лишь бы продемонстрировать трансатлантическое единство»[356]. Поэтому в ключевых вопросах Обаме пришлось пойти на уступки европейцам. Страны ЕС отказались поддержать его план по стимулированию мировой экономики и вынудили американцев согласиться с увеличением международного финансового контроля. Как ни старался президент США убедить своих союзников в том, что «Аль-Каида» представляет для них не меньшую угрозу, чем для Америки, в ответ они заявили, что «вопросы европейской безопасности не будут решаться за Гиндукушем», и отказались выделить дополнительный воинский контингент для участия в афганской операции. «Теперь становится ясно, – писала The Wall Street Journal, – что Соединенные Штаты не могли наладить эффективное сотрудничество с Европой вовсе не потому, что в Белом доме находился Джордж Буш, а заключенные Гуантанамо подвергались пыткам»[357]. Эксперт Центра Карнеги Роберт Каган отмечал, что медовый месяц в отношениях Обамы со Старым Светом плавно подходит к концу. «Европейцы, – писал он в The Washington Post, – считают планы по стимулированию экономики чересчур радикальными, а новую стратегию президента США в Афганистане и Пакистане называют агрессивной и милитаристской. Как заявил мне один французский журналист, «мы были неприятно поражены тем, что Обама оказался американцем до мозга костей»[358].
В Соединенных Штатах скептически отнеслись к ратификации Лиссабонского договора, которая подавалась в Брюсселе как триумф евроинтеграции. И, как это ни прискорбно для европейцев, в итоге прав оказался автор The American Spectator, который предсказывал, что «введение поста президента окончательно запутает сложную систему брюссельской еврократии, которая «мутировала и разрослась, как крапивница»[359]. В этом смысле очень показательным стало решение Обамы отказаться в 2010 году от участия в саммите ЕС – США. В Белом доме это решение объяснили «неразберихой в европейских институтах власти», однако, стоит отметить, что такие демарши не позволял себе даже Джордж Буш, прославившийся своим пренебрежительным отношением к европейцам. «Не ясно, кто же все-таки является лицом Европы, – заявили в американской администрации, – президент Евросовета ван Ромпей, председатель Совета ЕС Сапатеро или глава Еврокомиссии Баррозу?»[360] И сложно было представить себе более суровый приговор лиссабонской реформе, призванной повысить управляемость внутри Союза.
Бушу, которого терпеть не могли в Брюсселе и в странах «европейского ядра», удалось сколотить своеобразную европейскую коалицию, в которую помимо Восточной Европы входила Британия Блэра и Италия Берлускони. Однако Обама сделал все возможное, чтобы разрушить систему союзов, созданную предшественником. И это вписывалось во внешнеполитическую философию Обамы. В надежде завоевать симпатии международного сообщества демократическая администрация, не моргнув глазом, отрекалась не только от дружбы с поляками и британцами, но и от «особых отношений» с колумбийцами и израильтянами. «Команда Обамы отчаянно пытается завоевать новых друзей и при этом совершенно не дорожит старыми, – отмечал бывший посол США в ООН Джон Болтон. – Президент убежден, что такое поведение, каким бы странным оно ни казалось американцам, демонстрирует миру беспристрастность его администрации и в конечном итоге усиливает дипломатическое влияние США. Однако, на мой взгляд, если публично критиковать союзников и славословить оппонентов, результат будет прямо противоположным. Друзья отвернутся от Америки, а ее противники поднимут голову»[361].
Действительно, хотя европейцы были довольны политикой новой администрации, которая отказалась от антигерманской и антифранцузской риторики и вновь заговорила о трансатлантическом единстве, возвращаться под крыло Вашингтона они не торопились. За те шесть лет, что прошли с начала американской операции в Ираке, они приобрели опыт жизни в условиях натянутых отношений с Соединенными Штатами, поняли, что для них это не смертельно, и уже не впадали в панику при виде нахмуренных бровей американских союзников. Европейцы осознали, что до определенного предела они могут фрондировать, не опасаясь серьезной ссоры с Вашингтоном. И им не хотелось лишать себя такой возможности.
В сентябре 2009 года состоялся дебют Обамы на заседании Генассамблеи ООН. Советники изо всех сил старались сделать его не менее эффектным, чем первое европейское турне, состоявшееся в начале апреля. Американский лидер вновь рассуждал о безъядерном мире, грозил нарушителям Киотского протокола «судом потомков» и обещал отказаться от высокомерной политики предыдущей администрации, не воспринимавшей всерьез такие международные институты как ООН.
«Одна держава не может доминировать в мире, – заявил Обама, – и те, кто раньше критиковал США за односторонний подход, должны преодолеть рефлекторный антиамериканизм, который слишком часто служил оправданием для коллективного бездействия»[362].
И европейцы восприняли его слова на ура и в конце ноября авансом наградили его Нобелевской премией мира. «Моментом единения» трансатлантических союзников стал и копенгагенский климатический саммит, состоявшийся в декабре. Журналисты окрестили его «величайшим шоу на земле». Более ста мировых лидеров, собравшихся в Дании, двадцать тысяч рядовых участников, бурные дебаты, закулисные интриги и информационные войны превратили конференцию ООН по вопросам изменения климата в захватывающий спектакль. «Зеленые» проявляли настоящее «религиозное» рвение, призывая «спасти человечество, которое находится в 2 градусах от катастрофы».
В аэропорту датской столицы гостей встречали портреты состарившихся Обамы и Саркози, надпись под которыми гласила: «Извините нас за то, что мы не остановили глобальное потепление, пока еще оставалось время». Правда, пыл экологистов немного остудил так называемый «климатгейт». Буквально накануне саммита неизвестные хакеры взломали почтовый сервер Университета Восточной Англии – одного из ведущих центров по изучению климата, и обнародовали переписку ученых, участвовавших в подготовке справочных материалов для копенгагенской конференции, из которой становится ясно, что данные о температурных колебаниях намеренно искажались и подгонялись под теорию о глобальном потеплении.
Гипотеза о надвигающейся климатической катастрофе на тот момент была уже вопросом веры, а не научного знания. Неудивительно, что главным ее апологетом считался не профессиональный климатолог, а бывший вице-президент США Альберт Гор, которого, скорее, можно было бы назвать проповедником «экологической» религии. К тому же, сокращение выбросов парниковых газов являлось одним из основных пунктов программы «зеленых», за последние двадцать лет переманивших под свои знамена часть социалистического электората и превратившихся в значимую силу на европейском политическом поле.
Конечно, было очень нелегко сгладить противоречия между бедными и богатыми странами. Доказательством тому служил скандал, разразившийся на копенгагенском саммите после того как гласности был предан секретный проект соглашения, подготовленный группой экспертов из Дании, США и Великобритании, известной также как «круг посвященных».
В так называемом «датском тексте», опубликованном в The Guardian, оговаривалось, что на 2050 год развитые страны будут иметь право выбрасывать в атмосферу в два раза больше парниковых газов, чем развивающиеся, а контроль над распределением средств, выделенных на борьбу с глобальным потеплением, будет поручен не институтам ООН, а управляемому западной элитой Всемирному Банку, выдающему деньги лишь тем государствам, которые выполняют требования «зеленых». «Датский текст полностью перечеркивает киотские принципы, согласно которым государства золотого миллиарда должны были взять на себя твердые ограничительные обязательства – заявлял председатель группы 132 развивающихся стран Лумумба Ди-Апинг, – тогда как прочие страны могли присоединиться к ним лишь на добровольных началах».
Весьма характерно, что во время первого заседания Генассамблеи ООН и на питтсбургском саммите «двадцатки» в графике Обамы не нашлось места для двусторонних встреч с традиционными партнерами Буша – лидерами Великобритании, Польши и Украины. К тому же, накануне открытия Генассамблеи президент США объявил о том, что он отказывается от противоракетного щита в Восточной Европе. На него тут же обрушился шквал критики. Обаму обвиняли в «предательстве» американских клиентов в Варшаве и Праге и односторонних уступках России, которая – эксперты были в этом абсолютно убеждены – «никогда не решится на ответный шаг».
Чтобы успокоить восточноевропейские элиты в ноябре 2009 года накануне двадцатилетней годовщины падения берлинской стены по странам региона проехался вице-президент Джо Байден, который попытался сгладить неприятный эффект от «перезагрузочных» инициатив Барака Обамы. Выбор на него пал не случайно. В бытность свою председателем сенатского комитета по внешней политике, Байден не раз бывал в Восточной Европе и сумел установить доверительные отношения с местными элитами. Как отмечал бывший помощник госсекретаря по европейским делам Дэниэл Гамильтон, «вице-президент пользуется в странах, которые входили когда-то в сферу советского влияния, непререкаемым авторитетом»[363].
Перед его визитом настроения в регионе были упаднические: отказ от договоренностей, достигнутых с администрацией Буша, воспринимался как лишнее доказательство того, что страны, совершившие 20 лет назад проамериканские «бархатные революции», утратили свой привилегированный статус ближайших союзников Вашингтона. «Вице-президенту пришлось заделывать трещину в отношениях с восточноевропейскими государствами, – писал старший научный сотрудник Совета по международным отношениям Лес Гелб, – исправляя ошибки своего шефа, который должен был провести предварительную работу, подготовив их к новому повороту в противоракетной эпопее»[364].
В ходе своего турне Байден посетил Польшу, Чехию и Румынию. Он сразу дал понять лидерам этих стран, что проект Обамы предполагает не отказ от линии ПРО в Европе, а ее усиление, создание более совершенной и эффективной системы. Более того, он дал гарантии восточноевропейским партнерам, что на их территории к 2018 году будут размещены мобильные ракеты-перехватчики.
Когда недоразумения, возникшие по вопросу о ПРО, были улажены, Байден постарался убедить политические элиты в Варшаве, Праге и Бухаресте, что Восточная Европа по-прежнему остается для США одним из приоритетных регионов. Он заявил, что «в Вашингтоне ценят надежных союзников, которые воюют бок о бок с американцами» (все три государства, которые посетил вице-президент, имели свои воинские контингенты в Афганистане и Ираке). Естественно вспомнил Байден и о событиях 1989 года. «Важно, – отметил он, – не то, что мы разрушили, а то, что построили»[365]. Такая постановка вопроса дала повод для язвительных комментариев в прессе о том, что вице-президент имеет в виду новую стену, отделившую современную Россию от Европейского континента.
Пожалуй, особенно красноречив Байден был в Польше. «Стратегические гарантии Варшаве – абсолютны, – заявил он, – Это торжественное обещание относится не только к нынешнему периоду. Мы сохраним наш союз на все времена». Вице-президент США напомнил, что в свое время выступал за принятие Польши в НАТО и всегда отстаивал интересы поляков в Конгрессе. «Я – должник американцев польского происхождения, – объяснил он, – когда в 1972 году в возрасте 29 лет я впервые баллотировался на выборах в Сенат США в моем родном штате Делавэр, они помогли мне одержать победу»[366]. Байден хотел доказать партнерам США, что «перезагрузка» в отношениях с Москвой не изменит подход Вашингтона к Восточной Европе. Как образно выразился бывший посол США в Киеве Стивен Пайфер, американцы вполне «могут идти и одновременно жевать жвачку»[367]. Однако восточноевропейские элиты понимали, что все это – разговоры в пользу бедных и добиться такого же положения, как при Буше, у них не получится.
Такое же ощущение возникло и у британского премьера Гордона Брауна, только с пятого раза добившегося аудиенции у президента Соединенных Штатов во время сессии Генассамблеи ООН. В Лондоне многие заговорили о «крахе концепции особых отношений». Но, на самом деле, это было только начало. Куда более серьезные трения между союзниками начались уже при консервативном премьере Дэвиде Камероне после того как в апреле 2010 года на месторождении ВР в Мексиканском заливе произошла серьезная авария. Американцы не уставали подчеркивать британское происхождение ВР. Рассуждая о виновниках катастрофы, президент Обама не раз многозначительно повторял: «Бритиш петролеум». Хотя последние десять лет эту транснациональную компанию так никто не называл. Политики в Вашингтоне соревновались в остроумии, изобретая все новые варианты расшифровки аббревиатуры ВР. Представителей нефтяного гиганта окрестили «британскими загрязнителями», «британскими предателями», «британскими придурками» и «британскими хищниками». На Youtube чуть ли не каждый день появлялись видеоролики, в которых актеры, изображающие менеджеров ВР, обещали «все почистить» и рассуждали о том, насколько «незначительно происшествие в заливе по сравнению с тем прекрасным, что принесли англичане миру».
В Вашингтоне все более популярной становилась точка зрения, что англо-американский альянс противоречит историческим традициям США. Антибританская истерия в СМИ доходила до гротеска: англичанам вспоминали все их старые прегрешения, начиная с войны за независимость. Как отмечал колумнист The Daily Telegraph, «американские джингоисты развязали англофобскую кампанию в лучших традициях XIX века. Они воспевали гений Эндрю Джексона, разбившего британцев под Новым Орлеаном в 1812 году, рассуждали о сложных отношениях Черчилля и Рузвельта и называли союз англоязычных народов «отклонением от нормы»[368]. Кульминационным моментом антибританской кампании стала встреча сборных Англии и США по футболу на чемпионате мира в ЮАР. На следующий день после матча на первой полосе The New York Post был изображен поверженный британский солдат в красном камзоле. Надпись под рисунком гласила: «США победили 1:1»[369]. «В последние недели, – писала the Guardian, – в Америке все большую роль начинают играть стереотипы, сформировавшиеся в эпоху колониальной борьбы, и извечные комплексы, связанные с английским акцентом и английским футболом»[370].
«Когда вы слышите, что кто-то выступает от имени ВР с английским акцентом, знайте, что этот человек лжет»[371], – заявил нью-йоркский демократ Энтони Уинер, который всегда отличался умеренными взглядами. Из-за нефтяного фонтана на дне Мексиканского залива рейтинг Обамы резко пополз вниз, и администрация президента, естественно, стала жестко критиковать руководство нефтяной компании ВР. Глава департамента внутренних дел США Кен Салазар обещал «не убирать сапог с горла» «Бритиш Петролиум» до тех пор, пока компания не заткнет злополучную скважину и не ликвидирует все последствия аварии. Асам Обама заявлял, что, будь его воля, он уволил бы директора ВР Тони Хейворда, и совещается с экспертами о том, кому именно он должен «дать пинка под зад». Из уст американского президента, который прославился изящными дипломатичными формулировками, такая риторика звучала особенно угрожающе.
Белый дом требовал, чтобы ВР в числе прочего платила зарплату тысячам нефтяников, которые остались не у дел в результате моратория, наложенного Обамой на глубоководное бурение, и критиковал компанию за намерение выплатить инвесторам ежеквартальные дивиденды, хотя на них рассчитывают несколько пенсионных фондов в Британии и США. Постоянно растущий список финансовых претензий к ВР, которой вчинили около 6 тысяч исков, привел к тому, что за семь недель ее акции потеряли почти половину своей совокупной стоимости, что составило около 82 млрд. долларов.
Крах ВР имел бы катастрофические последствия для британской экономики. В свое время существовала присказка: «Все, что хорошо для General motors, хорошо и для Америки». То же самое можно сказать о роли ВР в Британии. Это крупнейшая корпорация в стране, которая обеспечивает работой около ста тысяч человек и ежегодно переводит в казну 7 млрд. фунтов. Неудивительно, что в Соединенном Королевстве выпады американцев против компании воспринимались в штыки. Новый британский казначей Джордж Осборн прислал в редакцию The Wall Street Journal заявление, в котором подчеркивалось, что ВР «приносит значительную экономическую пользу англосаксонским народам», мэр Лондона Борис Джонсон потребовал, чтобы американские политики прекратили «антибританскую риторику», а бывший лидер консерваторов лорд Теббит охарактеризовал поведение Обамы как «недостойное»[372].
«В 2008 году британцы совершили серьезную ошибку, поставив на Барака Обаму, – писал эксперт Гуверского института Виктор Дэвис Хэнсон. – Как и все представители левого «прогрессивного» лагеря, он считает Соединенное Королевство воплощением мирового зла и не может простить англичанам их «империалистическое» прошлое»[373]. В книге «Мечты моего отца» будущий американский президент с гордостью рассказывал о том, как его кенийский дедушка участвовал в антиколониальной борьбе с британцами, а такие его друзья, как Билл Айерс и пастор Джеремия Райт не раз проклинали «лицемерную империю».
Сразу после инаугурации Обама ясно дал понять, что не дорожит «особыми отношениями» с Великобританией, вернув англичанам бюст Уинстона Черчилля, украшавший Овальный кабинет Белого дома при прежней администрации. После этого демократы допустили ряд досадных оплошностей, выказав полное пренебрежение к трансатлантическим партнерам. На первой встрече с британским премьером Гордоном Брауном Обама преподнес ему набор лазерных дисков, которые не работали в Соединенном Королевстве. К тому же, по словам критиков, они были настолько заурядны, что могли быть куплены в любом сувенирном киоске. Вскоре отличилась и госсекретарь Хиллари Клинтон, поздравившая английскую королеву с днем рождения на неделю раньше срока. «Дьявол, как говорится, в деталях, – писала The Daily Mail, – и вслед за незначительными промахами, которые в первую очередь были связаны с нарушением дипломатического этикета, последовали куда более серьезные шаги новой администрации, вынудившие британцев отказаться от иллюзий об особых отношениях»[374]. Американские чиновники начали подвергать сомнению весомость вклада главного европейского союзника США в операцию в Афганистане, что очень уязвило британских военных. Но самым болезненным ударом для Лондона стало решение Обамы занять нейтральную позицию в споре между Англией и Аргентиной по поводу судьбы Фолклендских островов.
Ради того, чтобы исправить ошибки неоконсерваторов на заднем дворе Америки и восстановить влияние в Западном полушарии, демократы, фактически, сдали традиционного союзника США. Многие эксперты, правда, утверждали, что англо-американский альянс в любом случае ждала незавидная судьба. «Политический роман между Рейганом и Тэтчер был лишь последней вспышкой угасающего пламени, – говорил профессор Гарварда Нил Фергюссон. – Атлантизм Блэра стал лебединой песней «особых отношений». Для стратегического партнерства требуется нечто большее, чем близость лидеров и взаимный интерес элит»[375]. Как бы то ни было, в эпоху Буша-младшего Британии удалось закрепить за собой роль ключевого союзника США. Лондон продемонстрировал способность оказывать Вашингтону твердую политическую поддержку и практическую военную помощь. «Страна должна быть готова заплатить кровью за то, чтобы укрепить свои особые отношения с США»[376], – заявлял Тони Блэр. Он призывал поддерживать американцев во всех их начинаниях и избегать критики. И хотя эта тактика принесла ему обидное прозвище бушевский пудель, Блэр стал единственным иностранным лидером, к мнению которого прислушивался президент Соединенных Штатов.
Но стоило Бушу покинуть Белый дом, как в Вашингтоне забыли о единстве англосаксов. Как отмечал историк Пол Кеннеди, «американская элита вообще никогда не разделяла чувства близости, свойственного британцам. В США политиков в первую очередь интересует мнение электората, и разговоры о том, что Англия могла бы играть для Америки ту же роль, что эллинистическая Греция для Рима, не более чем миф»[377]. «Британия довольно маленькая и слабая страна, – вторил ему профессор Лондонской школы экономики Доминик Ливен, – а политические процессы в США весьма жесткие. И здесь никто не будет прислушиваться к мнению английских лидеров, мечтающих о роли кулуарных советников»[378].
Разлад с Великобританией администрация Обамы пыталась компенсировать, укрепляя отношения со странами европейского ядра, в первую очередь, с Францией. Тем более, что президент Саркози, во время предвыборной кампании 2007 года заработавший прозвище «американец», выступал за сближение с Америкой. Еще в своей книге «Показания», опубликованной накануне президентских выборов, Саркози критиковал национальную элиту, которая пытается противопоставить Францию американской супердержаве. «Вечная фронда, – писал он, – превращает французских политиков в карикатурных персонажей»[379]. Саркози был убежденным американофилом. Он отдыхал в США, находился в дружеских отношениях с представителями американской политической и бизнес-элиты. В свое время он был просто очарован Бушем, и когда началась война в Ираке, вместе с другим «ястребом» из СНД (голлистская партия «Союз за народное единство»), Пьером Лелушем, выступил в поддержку Соединенных Штатов. Политические оппоненты называли Саркози «неоконом с французским паспортом», и хотя ему удавалось создать впечатление, что он привержен идеалам «великой Франции», играющей особую роль на мировой арене, эксперт в области международных отношений Ален Греш отмечал, что президент выстраивает систему союзов, которая в корне отличается от той, что создавалась Жаком Шираком. «Сейчас, – писал он, – Франция ориентируется на Соединенные Штаты, Израиль и НАТО, что полностью противоречит установкам де Голля»[380]. «Отказ от наследия де Голля, – отмечал влиятельный голлист Рене Андре, – в итоге приведет к тому, что Франция растворится в атлантической идентичности. Это аксиома французской внешней политики. А рассуждения Саркози о том, что, укрепив свои позиции в НАТО, Париж сможет, наконец, воплотить в жизнь идею независимых вооруженных сил ЕС, – сказка, рассчитанная на обывателей, которые вряд ли поддержали бы проамериканский переворот»[381].
В марте 2009 года Саркози вернул Францию в военные структуры НАТО, что многие в стране восприняли в штыки. Однако его советникам удалось перетянуть на свою сторону общественное мнение, а на оппозиционные настроения элиты они решили закрыть глаза. Председатель комиссии Национальной ассамблеи по внешней политике Аксель Понятовский назвал баталии по вопросу о статусе Франции в НАТО «бурей в стакане воды». А министр обороны Эрве Морен попытался убедить политиков старой закалки, что после возвращения в военные структуры альянса Париж не будет вынужден согласовывать все свои действия с США. «На дворе уже не 1966 год, – заявил Морен в интервью Associated Press. – Германия, которая была полностью интегрирована в структуры НАТО, тем не менее выступала против войны в Ираке, и никто не вынуждал ее поддерживать американцев. От возвращения в командные структуры НАТО Франция только выиграет, превратившись из обычного актера в одного из авторов сценария»[382].
Выступая перед студентами высшего военного училища в Париже, Саркози напомнил, что курс на постепенное сближение с НАТО «негласно» проводился его предшественниками – Франсуа Миттераном и Жаком Шираком. Действительно, с 1995 года Франция участвовала практически во всех военных миссиях альянса, включая косовскую и афганскую и занимала четвертое место по объему вложений в военный бюджет альянса.
Тем не менее, примирение Франции с НАТО, в первую очередь, было символическим событием. Как писал эксперт по европейской безопасности Марцел ван Харпен, «реинтеграция одного из основателей блока – это не унизительный путь в Каноссу, а торжественное возвращение домой»[383].
Сторонники Саркози утверждали, что выйдя из военной организации НАТО, де Голль лишил Францию возможности участвовать в принятии ключевых политических решений альянса и страна стала играть роль «харки» – туземных солдат, которые во время войны в Алжире сражались на стороне французов, не получая при этом денежного вознаграждения. «Гиперактивный стиль дипломатии, свойственный нынешнему президенту, – писал основатель французского Института международных отношений Доминик Моизи, – прежде всего отражает изменения во французском самосознании. На смену европоцентризму приходит понимание своей принадлежности к единому западному миру. И хотя сам президент не любит теоретизировать на эту тему, с его приходом к власти в истории Пятой республики начался абсолютно новый период. Вся дипломатия Саркози нацелена на укрепление трансатлантических связей. Его советники убеждены, что в мире, где Америка уступает позиции азиатским гигантам, а Европа находится в институциональном кризисе, Западу как никогда необходимо единство»[384]. Администрация Обамы, в свою очередь, прекрасно понимала, что Франция могла бы стать для Америки идеальным оружием, с помощью которого США могут вернуть себе симпатии Старой Европы.
Наладились отношения США и с Германией. Меркель инициировала сближение с Вашингтоном, предложив создать «единый трансатлантический рынок» и «принять американскую версию глобализации». Находясь в оппозиции, она выступала с резкой критикой правительства Шредера, отказавшегося поддержать операцию США в Ираке. «В данном случае Шредер говорит только от своего лица, но не от лица немецкого народа, – писала она в The Washington Post. – У Германии – общие ценности с Соединенными Штатами и мы не должны об этом забывать»[385]. Британский журнал The Economist предостерегал Меркель от тесного сближения с Америкой: «Даже такой политический акробат как немецкий канцлер может потерять равновесие, если заокеанские друзья слишком сильно сожмут ее в объятьях»[386].
В начале сентября 2009 года в Германии разразился скандал после того как немецкие военные отдали приказ атаковать с воздуха два бензовоза, угнанных с одной из баз Бундесвера в афганской провинции Кундуз. В результате бомбежки погибло более ста мирных жителей, и в немецком общественном мнении резко усилились антивоенные настроения. Однако ведущие политические партии не собирались сворачивать миссию в Афганистане. За вывод войск выступали лишь представители Левой партии.
Администрация Обамы поддерживала проамериканские настроения Меркель, понимая, что канцлер Германии становится все более значительной фигурой, претендующей на роль лидера единой Европы. К тому же, как писал немецкий политолог Констанц Штелценмюллер в статье «Российская политика Германии: Ostpolitik для Европы», опубликованной в Foreign Affairs: «Германия является мостом между Россией и Западом, и в США понимают, что Берлин будет задавать тон в отношениях с Москвой»[387]. После российской операции на Кавказе в августе 2008 года именно Германия убеждала западные страны сохранять хладнокровие и не ссориться с «энергетической сверхдержавой». Благодаря жесткой позиции Берлина в ЕС возобладала точка зрения противников дальнейшего расширения НАТО на восток. Немцы всегда настаивали на том, что развитие нормальных отношений с Россией – в интересах западного мира, и вкладывали огромные средства в российскую экономику.
НАТО: ВЕРСИЯ 3.0
Ключевым моментом в отношениях с Европой стал для Обамы лиссабонский саммит НАТО, который состоялся в конце ноября 2010 года. В эпоху холодной войны цели Североатлантического блока были предельно ясны. Как выразился первый генсек НАТО лорд Гастингс Исмэй, заключались они в том, чтобы «держать русских вне Европы, американцев – в Европе, а немцев – под контролем Европы». После распада СССР и объединения Германии альянс столкнулся с кризисом идентичности, преодолеть который натовские стратеги пытались с помощью расширения на Восток. Правда, вступление в НАТО бывших членов Варшавского Договора, которые продолжали видеть в этой организации «бастион против России», не позволяло ей сформулировать новые цели и обрекало на маргинальную роль. Проблемы, которые возникли при обсуждении заявок Киева и Тбилиси на присоединение к альянсу, вынудили большинство экспертов признать концепцию расширения тупиковой. «Расширение североатлантического блока, – отмечал американский политолог Дэниэл Лариссон после войны на Кавказе в августе 2008 года, – таит в себе большую угрозу для мира в Европе, чем его распад»[388].
Отказавшись, по крайней мере на время, от геополитических игр на постсоветском пространстве, лидеры НАТО вынуждены были выбрать модель, которая позволит оправдать дальнейшее существование «самого успешного военно-политического блока в истории» (именно так именуется Североатлантический альянс в официальных документах). Либо они должны были согласиться с традиционной концепцией «оборонительного союза демократий», основной целью которого является обеспечение безопасности в Европе, либо принять англосаксонский вариант глобальной НАТО – организации, которая будет расширять зону ответственности и привлекать в свои ряды новых неевропейских членов, таких как Япония и Австралия.
Лариссон утверждал, что «Соединенные Штаты надеются превратить НАТО в глобального жандарма, который санкционировал бы имперские завоевательные походы Вашингтона. Однако европейские политики скептически относятся к мировой миссии альянса»[389]. Многие из них были убеждены, что операция в Афганистане, первая полноценная военная акция НАТО за пределами привычной зоны ответственности, доказала неэффективность стратегии глобалистов. Как отмечал глава исследовательского подразделения Оборонного колледжа НАТО Карл-Хайнц Камп, «эпоха, когда альянс виделся субподрядчиком ООН по наведению порядка, подходит к концу, и в Брюсселе все чаще можно услышать разговоры о необходимости вернуться к истокам»[390].
Еще во время иракского кризиса 2003 года, когда в столицах Старого Света критиковали одностороннюю политику Буша-младшего, американский политолог Роберт Каган заявил, что разногласия трансатлантических союзников носят экзистенциальный характер: американцы родом с Марса, а европейцы – с Венеры[391]. Большинство аналитиков, утверждали, что это и является главной причиной кризиса НАТО. Соединенные Штаты постоянно упрекали своих европейских союзников в нежелании разделить с ними ответственность за судьбу неспокойных регионов, растущем пацифизме и пораженчестве. Провальная кампания в Афганистане лишь усиливала антивоенные настроения в Европе и углубляла раскол между союзниками по НАТО. «В Вашингтоне убеждены, – писал журнал The Nation, – что страны ЕС находятся в летаргическом сне и неспособны отстаивать ценности западной цивилизации»[392]. Раздражение у американцев вызывал тот факт, что в 2010 году крупнейшие европейские государства резко сокращали расходы на оборону.
В Британии, например, коалиционное правительство консерваторов и либдемов планировало урезать военный бюджет на 20–25 %. Меры экономии затронули даже те воинские подразделения, которые всегда считались предметом национальной гордости, – Королевский флот и авиацию. И хотя сформированный премьер-министром Дэвидом Камероном Совет по национальной безопасности принял решение сохранить ядерный потенциал страны, содержание четырех подводных лодок, оснащенных баллистическими ракетами, многим в Лондоне казалось уже чересчур накладным.
Поскольку Британия – единственный союзник США, который готов не только выполнять тыловые функции, но и участвовать в реальных боевых действиях НАТО, Пентагон раскритиковал «мелочность» нового кабинета. Британский министр обороны Лайам Фокс был вызван на ковер в Вашингтон и попытался заверить своего американского коллегу Роберта Гейтса в том, что планируемые сокращения не повредят обязательствам Соединенного Королевства. Однако Фоксу, которого называли главным ястребом в коалиционном кабинете, для этого следовало вступить в сражение с изоляционистами. Партия британского казначея Джорджа Осборна, пользующаяся негласной поддержкой премьера Дэвида Камерона, настаивала на том, чтобы Британия «не преувеличивала свой вес на мировой арене»[393] и довольствовалась положением, которое занимают скандинавские страны и Канада.
Не менее радикально было настроено накануне лиссабонского саммита немецкое правительство, планировавшее в ближайшие три года сократить военные расходы на 9,3 млрд. евро. И это при том, что, по мнению союзников, Берлин и так тратил на оборону значительно меньше, чем мог бы (не более 2 % ВВП). Министр обороны – молодой аристократ Карл-Теодор цу Гуттенберг планировал также резко сократить численность бундесвера и отменить призыв на воинскую службу, что позволило бы ему сэкономить внушительные суммы. Однако, как утверждал экс-министр обороны Рудольф Шарпинг, «обеспечение безопасности – основополагающая функция любого государства, и недопустимо подходить к этому вопросу исключительно с фискальных позиций»[394]. Критики опасались, что начавшееся в 1999 году возрождение бундесвера будет приостановлено, и Германия так и не сумеет потеснить Великобританию в роли главного военного союзника США в Старом Свете.
Что касается Франции, эта страна, как мы уже говорили, лишь в 2009 году вернулась в военные структуры НАТО. Приняв решение отказаться от голлистских принципов, Николя Саркози настроил против себя французскую элиту. Выпады в его адрес можно было услышать от политиков всех мастей, начиная от левого колумниста журнала Marianne Ролана Юро, который заявил, что «президент кастрирует Францию», и заканчивая националистом Филиппом де Вильером, утверждавшим, что Пятая республика превращается в «клон Великобритании».
Армия, правда, инициативу Саркози поддержала. И правительству Саркози удалось добиться для Парижа права назначать руководителей командования в Норфолке, ответственного за формирование долгосрочной стратегии альянса, и регионального командования в Лиссабоне, в подчинении которого находятся силы быстрого реагирования НАТО. Однако первоначальные успехи быстро забылись, французские военные принялись обвинять натовское руководство в излишнем бюрократизме, чиновники отказывались перечислять в военный бюджет альянса требуемые суммы, а экс-премьер Доминик де Вильпен отметил, что НАТО становится «главной головной болью Европы».
«Сокращая военные расходы, – писал The American Thinker, – три европейских мушкетера – Франция, Великобритания и Германия – в первую очередь прекращают финансирование натовских проектов. И хотя формально они не нарушают пятый параграф Вашингтонского договора о коллективной безопасности, по сути, девиз «один за всех и все за одного» давно уже ими забыт»[395].
Датский генерал Андерс Фог Расмуссен, занимавший пост генерального секретаря НАТО, пытался отстоять честь европейцев. В статье «Не обесценивайте обязательства Европы по Афганистану», опубликованной в The Washington Post, он призывал Соединенные Штаты «отказаться от стереотипного представления о том, что страны ЕС не воюют за Гиндукушем, которое оскорбляет европейцев и угрожает единству атлантического мира». Он убеждал европейские правительства вкладывать деньги в научные исследования, чтобы преодолеть технологический разрыв с США и предупреждал, что сокращение военных бюджетов «не только позволит избавиться от «жира» излишних расходов, но и приведет к потере «мышц, а затем и костей» Североатлантического альянса»[396].
Расмуссен отмечал, что сокращать расходы на оборону вынуждены не только европейские страны, но и США, которые не могут справиться с растущим государственным долгом. Показательно, что даже глава Объединенного комитета начальников штабов Майкл Маллен главной угрозой безопасности Америки называл не «Аль-Каиду» и не Китай, а дефицит бюджета.
Чтобы справиться с последствиями финансового кризиса, генсек НАТО предлагал принять новую стратегическую концепцию, формирование которой он поручил «группе мудрецов» во главе с бывшим госсекретарем США Мадлен Олбрайт. «Мы разработали версию НАТО 3.0, – заявлял Расмуссен, – Версия 1.0 существовала в эпоху холодной войны, версия 2.0 – с 1991 по 2011 год. Нынешняя версия подразумевает превращение альянса в мозговой центр международной безопасности»[397]. Другими словами, идеологи НАТО признали, что ресурсы блока ограниченны и для решения глобальных проблем ему необходимо создать сеть организаций-партнеров. О том, насколько ослаблен Североатлантический альянс, можно было судить по обращению 35 отставных европейских политиков-тяжеловесов, которые призвали «сделать разоружение центральным элементом подхода НАТО к обеспечению безопасности» (обращение было подписано бывшим канцлером Германии Гельмутом Шмидтом, бывшим председателем Еврокомиссии Жаком Делором, экс-главой британского МИД Маргарет Беккетт и др.).
В Вашингтоне все чаще можно было услышать разговоры о том, что НАТО является «рудиментом холодной войны» и не имеет никакого смысла вкладывать деньги в организацию, которая используется лишь как площадка для переброски американских войск. «Нам следует выйти из НАТО, – писал профессор Бостонского университета Эндрю Басевич в журнале Foreign Policy. – Не стоит рассчитывать на европейских союзников, которые уже никогда не обретут вкус к сражениям»[398]. Конечно, было очевидно, что Соединенные Штаты не бросят Старый Свет на произвол судьбы, однако разочарование, которое царило в американской военной и политической элите, вынуждало натовских стратегов лихорадочно искать варианты обновления альянса.
Расмуссен, занимавший пост датского премьера во время карикатурного скандала, предлагал Североатлантическому блоку наладить диалог с мусульманами, выступив «защитником их ценностей». Он призывал также укреплять отношения с Китаем и Индией и не исключал возможности присоединения к НАТО России и создания системы ПРО, простирающейся от «Ванкувера до Владивостока».
В стратегической концепции, которая готовилась в течение года, так и не удалось сгладить противоречия между европоцентристами и сторонниками глобальной роли альянса. Чтобы объединить все представления о роли НАТО, говорили эксперты, в одной организации необходимо выделить ей бюджет, в десятки раз превышающий те смехотворные суммы, которые готовы вкладывать в атлантическую безопасность страны – участницы альянса.
Новая стратегия предполагала резкое сокращение числа штатных сотрудников НАТО (примерно на четверть), однако нарастить при этом мышцы альянс уже не мог. «Ни США, ни европейские правительства, – писал Der Spiegel, – не хотят предоставлять натовским чиновникам деньги даже на карманные расходы. И НАТО в итоге превращается в стареющий союз, бессмысленное бюрократическое образование, неспособное дать ответ ни на один серьезный вызов. Наглядным примером неуверенности альянса в собственных силах является его желание свернуть первую глобальную миссию за Гиндукушем»[399]. Европоцентристы утверждали, что, прежде чем участвовать в заморских походах, жители Старого Света должны разобраться с проблемами, существующими у них дома. Ведь ни НАТО, ни ЕС не смогли предотвратить войны в Косово и Грузии, а замороженные конфликты в Нагорном Карабахе, Приднестровье и на Кипре каждый день готовы были вспыхнуть с новой силой. С 2008 года Россия не раз призывала пересмотреть систему европейской безопасности де-юре (де-факто Москва изменила эту систему, начав войну с Грузией). Но вместо того чтобы обсуждать реальные проблемы, страны НАТО предпочитали шумные пиар-акции вроде борьбы с пиратством или кибертерроризмом. Кризис Североатлантического альянса во многом был связан с тем, что роль Европы в мире снижалась. «Европа перестала быть главной отправной точкой для Соединенных Штатов, – констатировал немецкий дипломат, участвовавший в разработке стратегической концепции НАТО. – И очень показательно, что мировые СМИ полностью обошли вниманием саммит ЕС – США, проходивший через день после натовской встречи».
«Историческим» прорывом лидеры альянса назвали договоренность о создании европейской ПРО. Однако стоит отметить, что этот проект вызывал большие подозрения у такого влиятельного члена НАТО, как Турция. Анкара требовала описать потенциальные ракетные угрозы, заранее предупреждая, что не считает таковыми своих соседей в Дамаске и Тегеране. «Мы не хотели бы вновь, как в годы «холодной войны» превратиться во фланговую страну, – отмечал обозреватель Hurriyet Туфан Тюренч. – И если союзники надеются все-таки разместить у нас ключевые элементы «ракетного щита» они, по крайней мере, должны пообещать, что и центральное командование будущей ЕвроПРО будет находиться в Турции»[400].
СИЗИФОВ ТРУД
Рассуждая о трансатлантических отношениях в эпоху Обамы, следует понимать, что с конца 2009 года, когда в Южной Европе разразился долговой кризис, американцы постоянно поучали своих союзников, пытаясь навязать им свои экономические рецепты. Более того, многие в Европе обвиняли Соединенные Штаты в том, что они активно участвуют в игре на мировых финансовых биржах, нацеленной на понижение курса евро. Вспоминали, что Goldman Sachs в свое время помогал афинскому правительству скрыть государственный долг, чтобы страна смогла беспрепятственно присоединиться к валютному союзу. Теперь же, говорили европейцы, игроки, заинтересованные в падении евро, использует принцип «слабого звена», начиная атаку на греческие фондовые рынки. Существовали опасения, что Греция окажется в зависимости от МВФ, а, следовательно, и от крупнейшего спонсора этой организации Соединенных Штатов, которые получат возможность влиять на финансовую политику Европейского центрального банка.
Конечно, не оправдались и надежды европейских правозащитников. Как известно, Джордж Буш-младший отказался от участия США в работе Международного трибунала и фактически вывел американцев из-под его юрисдикции. В 2002 году он подписал Закон о защите американских служащих, который должен был, в буквальном смысле слова, запугать страны, подписавшие Римский статут. В нем предусматривалась даже возможность использования военной силы для освобождения американских граждан, привлеченных к Международному суду. Кроме того, Соединенные Штаты заключили целый ряд двусторонних соглашений, в которых было оговорено, что американцы не могут быть выданы МУС без согласия Вашингтона.
Когда к власти в США пришла администрация Обамы, сторонники Международного суда в ЕС воспряли духом. «Обама, скорее всего, исправит ошибки своего предшественника, – писал The Economist, – поставит подпись под Римским договором и убедит конгрессменов привести американское законодательство в соответствие с требованиями МУС, что позволит этому институту стать эффективным орудием в борьбе с Баширами и Милошевичами всего мира»[401]. И, действительно, Америка стала оказывать помощь Гаагскому трибуналу в охоте за африканскими политическими и военными лидерами и в случае с Каддафи принялась даже говорить от имени МУС, что многие правозащитники сочли очень хорошим знаком. «Мы вступаем в новую эпоху – эпоху глобальной ответственности, – отмечал в The Guardian либеральный проповедник Тимоти Гартон Эш. – Люстрация, комиссии правды, открытие архивов, громкие независимые расследования и суды – все говорит о том, что политические преступления не будут больше оставаться безнаказанными. И даже такие отпетые негодяи, как бен Ладен, в идеале должны находиться не на дне моря, а в тюремной камере по соседству с Младичем и Каддафи»[402].
Однако Обама, даже в тот период, когда у него было большинство в конгрессе, не отважился подписать Римский статут. В первую очередь его остановил тот факт, что помимо обвинений в геноциде и преступлениях против человечности суд может предъявить любому государству обвинения в агрессии. А что именно считается агрессией, в Гааге пока еще не решили.
К тому же, Обама не смог ничего противопоставить скептикам, которые еще с конца 90-х критикуют МУС. «Америка, – писала The Washington Post, – всегда была главной цитаделью, которая противостоит наивным идеалистам в Гааге, призывающим отказаться от принципов государственного суверенитета, закрепленным в Вестфальском договоре»[403]. «Всегда необходимо учитывать множество факторов, – говорил бывший представитель США в ООН Джон Болтон. – Как повлияет вмешательство трибунала на внутриполитическую ситуацию, не приведет ли оно к усилению соперничества между враждующими группировками, не вынудит ли другие авторитарные режимы еще больше закручивать гайки. Суд, рассматривающий военные преступления, всегда будет политизирован и пристрастен. А амнистия позволит быстрее стабилизировать ситуацию. Таким образом, праведное желание наказать преступников может сослужить вам дурную службу»[404].
В мае 2011 года, когда в Америке уже полным ходом шла предвыборная кампания, Обама совершил тур по странам Европы, рассчитывая заручиться поддержкой трансатлантических союзников. Местные политики и журналисты по-прежнему обвиняли его в агрессивной, милитаристской политике. И хотя сами европейские страны на тот момент уже не отличались миролюбием, пренебрежение, которое выказывал им Обама на протяжении всего своего правления оставило, у них неприятный осадок.
Однако, как писала The Washington Post, «во время своего турне президент США попытался нажать на кнопку перезагрузки в отношениях со странами Старого Света, которые чувствовали себя забытыми и брошенными на произвол судьбы»[405]. Не случайно, политологи окрестили его поездку по европейским столицам «покаянным турне». Европейцы понимали, конечно, что за три года у власти Обама из дилетанта, абсолютно не искушенного в международных отношениях, превратился в политика-тяжеловеса, у которого появились свои, пускай и весьма расплывчатые представления о том, как функционирует мировая система. «Это уже не зеленый юнец, – говорил вице-президент Центра стратегических и международных исследований Стивен Фланаган, – и лидеры стран Старого Света научились видеть в нем стратега, который может предложить нестандартные решения проблем и формирует повестку дня для западного мира»[406]. Сам Обама чувствовал себя уверенней, и если в 2008 и 2009 годах он вел себя в Европе очень скованно, на этот раз он позволял себе такие вольности, что наблюдатели только разводили руками. «Бывший гарвардский профессор, который считался «своим» среди европейских интеллектуалов, – писала The Guardian, – стал поразительно напоминать своего предшественника из Техаса. Он похлопывал европейских лидеров по плечу, плоско шутил и жевал жвачку на заседании «восьмерки»[407].
Тем не менее, подборка фотографий, которую мог представить Обама по итогам своего европейского турне, впечатляла. О таком улове мечтал бы, наверное, любой политтехнолог: вот президент за кружкой «Гиннеса» в ирландском пабе, вот он играет в настольный теннис с британским премьером Дэвидом Камероном, вот жарит бургеры и сосиски для афганских ветеранов в саду на Даунинг-стрит, а вот уже блистает на торжественном приеме в Букингемском дворце. И, что интересно, во всех амплуа выглядит весьма органично.
Стопроцентным пиаром многим показалась история о европейском происхождении Обамы. Чиновники Белого дома порылись в архивах и выяснили, что дальний предок президента по материнской линии был, оказывается, ирландским сапожником, эмигрировавшим в Америку в 1850 году. И Обама мастерски разыграл эту карту, отправившись на его родину в небольшую деревеньку Манигалл. Многие эксперты вспомнили тут же, как Рональд Рейган, перед тем как переизбраться на второй срок, побывал в ирландском графстве Типперери, заглянув в церковь, где крестили его прапрадеда, и выпив кружечку пива в местном пабе. В Дублине Обама выступил перед многотысячной толпой, которая встретила его речь овациями. Президент назвал себя на ирландский манер Барри О'Бамой, пообещал американскую помощь в преодолении кризиса и даже произнес на гэльском языке знаменитый лозунг своей первой предвыборной кампании: «Да, мы можем». Он отметил также, что сделал себе политическую карьеру в Чикаго – самом ирландском городе Америки. «Заигрывания с небольшой европейской страной, – писала The Washington Post, – которая погрязла в долгах и утратила доверие соседей, объясняется лишь электоральными интересами Обамы. Ведь в Соединенных Штатах проживает несколько десятков миллионов граждан ирландского происхождения»[408].
Избирательная кампания в США вынудила Обаму быть более лояльным и в отношениях с Британией. Ведь в противном случае он мог окончательно утратить расположение белых англосаксов. Входе визита в Лондон Обама попытался наладить связи с британской элитой, которые, казалось, были безнадежно испорчены после аварии на нефтяной платформе ВР. Президент США вновь заговорил об «общих ценностях», единстве англосаксонских народов, Великой хартии вольностей и «весомом вкладе Британии в операцию в Афганистане». Обама остановился в Букингемском дворце и произнес речь перед обеими палатами парламента. «Иностранные лидеры, – писала The New York Times, – почти никогда не выступают в обеих палатах, ведь это одна из привилегий британских монархов. До Обамы такой чести удостоились лишь Шарль де Голль, Нельсон Мандела и папа Бенедикт XVI»[409].
Как отметила член парламента Тесса Джоуэлл, «историческая речь Обамы вызвала волну политической битломании»[410].
Но если эта волна и поднялась, она быстро схлынула. Европейские остроумцы назвали поездку Обамы «комедией ошибок». И наиболее символичным в этом смысле стал прокол президента на приеме в Букингемском дворце, когда, перекрикивая звуки британского гимна, он попытался произнести тост в честь Елизаветы II, недоуменно пожимавшей плечами.
Критики в Вашингтоне заявляли, что «европейский предвыборный тур» не принесет Америке никаких дивидендов и является бессмысленным разбазариванием государственных средств. Как отметил в своем блоге бывший губернатор Миннесоты Тим Павленти: «Простите, что прерываю ваш славный поход по пабам, но откуда у вас деньги на развлечения, если все ушло на реформу здравоохранения»[411].
По словам республиканцев, единственным реальным, а не имиджевым достижением Обамы могли стать результаты саммита во французском Довилле. Однако, как отмечал The American Thinker, «встреча «восьмерки» превратилась в обыкновенный светский раут, на котором присутствовали лишь «хромые утки». И хотя американский президент уломал своих союзников выделить 20 млрд. долларов на поддержку «арабской весны» в Тунисе и Египте, роль лидера свободного мира оказалась ему не по плечу. Особенно наглядно это проявилось в тот момент, когда он отклонил просьбу Николя Саркози предоставить в распоряжение коалиции, ведущей военные действия в Ливии, современные самолеты «А-10» и «АС-130»[412].
Не удалось американскому президенту и восстановить позиции Вашингтона в Восточной Европе. «Польша, которая в эпоху Буша была чуть ли не главным стратегическим союзником США в ЕС, – писала Berliner Zeitung, – так и осталась для администрации Обамы нелюбимой родней. И обещания разместить в этой стране американские подразделения ВВС в Варшаве никто всерьез не воспринимает. Ведь Белый дом уже отказался однажды от своих планов ради сближения с Россией»[413].
В начале 2012 года самым важным шагом администрации Обамы на европейском направлении стала, пожалуй, атака на премьер-министра Италии Сильвио Берлускони. Госдепартамент США включил его в список преступников, связанных с торговлей людьми. Как утверждалось в специальном докладе Госдепа, «итальянский премьер подозревается в том, что пользовался сексуальными услугами несовершеннолетней марокканки, которая была жертвой современных работорговцев»[414]. Многих экспертов удивило, что амерканцы не постеснялись вынести такой вердикт лидеру страны, которая входит в большую восьмерку и является одним из ключевых союзников США в НАТО. Случай, действительно, беспрецедентный. Ведь одно дело, опубликованные на Wikileaks неофициальные донесения американских дипломатов, в которых Берлускони был назван «тщеславным животным, неспособным уже ни на что кроме бешеных вечеринок». И совершенно другое – официальный доклад Госдепа – ведомства, которое отвечает за формирование внешней политики США. «Американцы, – писала итальянская газета La Stampa, – окончательно сорвались с катушек. Так беспардонно они не вели себя даже в эпоху Буша, который, конечно, ни во что не ставил европейских союзников, но старался все-таки соблюдать правила дипломатического этикета. Теперь же ни у одного американского союзника нет иммунитета: за те или иные пригрешения, каждый из них может оказаться в черном списке»[415].
Демократическая администрация с самого начала невзлюбила Берлускони. Его шутовские выходки раздражали серьезных молодых менеджеров, наводнивших Белый дом с приходом нового президента. И когда итальянский премьер похвалил «прекрасный бронзовый загар» Обамы, в Вашингтоне его окрестили расистом и сделали персоной нон грата. И хотя госсекретарь Хиллари Клинтон процедила как-то сквозь зубы, что «Берлускони является самым лучшим другом Соединенных Штатов»[416], характеризуя итальянского лидера, американские аналитики не скупились на эпитеты: «карикатурный персонаж», «язва на теле ЕС», «сеньор Бунго-Бунго» (именно таким экзотическим термином обозначались оргии на вилле Берлускони в Аркоре)… «Серьезная страна, эксцентричный лидер»[417] – так охарактеризовал отношение американцев к Италии известный политолог Джим Хогланд.
У многих в Вашингтоне вызвала бешенство сцена, произошедшая в конце мая 2011 года на саммите восьмерки в Довилле. «Перед началом вечернего заседания, – рассказывала The New York Times, – итальянский лидер неожиданно подлетел к Обаме, начал похлопывать его по плечу и жаловаться на диктатуру левых судей в Италии. Американский президент лишь развел руками»[418]. Но дело, конечно, не в развязных манерах итальянца. «Соединенные Штаты терпели бы шокирующее поведение Берлускони, – отмечала газета Corriere Della Sera – если бы при этом он не перечил им в глобальных вопросах. Однако дружба кавалера с израильским премьером Нетаньяху, жесткая антиисламская риторика, заигрывания с Россией, критика нового американского проекта ПРО и поддержка строительства газопровода «Южный поток» – все это превращало его в изгоя»[419].
Дело Руби-Сердцеедки стало прекрасным поводом для того, чтобы отобрать у Берлускони ярлык на княжение. Включив его в черный список, Соединенные Штаты дали понять, что хотели бы видеть на посту итальянского премьера другого человека. «Для Италии неприлично иметь такую визитную карточку на мировой арене, – говорил лидер оппозиции Пьер Луиджи Берсани, и американцы лишь подтверждают это». «Фактически, администрация Обамы избавилась от неудобного и чересчур амбициозного европейского лидера, – писала La Stampa после отставки Берлускони. – и добились того, чтобы никто не выделялся из серой массы безликих европейских правителей»[420].
С французским президентом Николя Саркози администрация Обамы до последнего сохраняла тесные отношения. В первую очередь, конечно, это проявилось во время кампании в Ливии. Многие даже предполагали, что американцы приложили руку к скандалу вокруг главы МВФ Доминика Стросс-Кана, который считался самым опасным соперником Саркози в схватке за Елисейский дворец. Скандал разразился 14 мая 2011 года когда Стросс-Кан был арестован в нью-йоркском аэропорту Джона Кеннеди по обвинению в сексуальном нападении на горничную гостиницы Софитель на Таймс-сквер. Произошло это за месяц до того, как Стросс-Кан должен был объявить о своем решении побороться за пост президента Франции. (Как отмечала Liberation, «социалисты очень рассчитывали на Стросс-Кана, который, по сути дела, был единственным политиком, способным положить конец взбалмошному правлению Николя Саркози»[421]).
Глава МВФ призывал отказаться от доллара как от мировой резервной валюты, и это не нравилось Вашингтону, мечтавшему поставить во главе Фонда более лояльного человека. Но, главное, Соединенные Штаты не были заинтересованы в смене хозяина Елисейского дворца. Ведь Саркози проводил ярко выраженный атлантистский курс, не считаясь с традициями национальной дипломатии, Стросс-Кан же, скорее всего, не был бы таким покладистым. Некоторые эксперты были убеждены, что США сыграли значительную роль в падении главы МВФ, хотя бы потому, что секс-скандал всегда был излюбленным оружием американского истеблишмента, желающего избавиться от неугодной фигуры. Именно в Вашингтоне раскрутили дело Моники Ливински, чуть было не стоившее Биллу Клинтону президентского кресла, и погубили десятки сенаторов и конгрессменов, рассказав избирателям об их сексуальных похождениях. Однако сохранить Саркози у власти администрации США не удалось. И новый французский президент-социалист Франсуа Олланд объявил о том, что будет проводить более независимый внешнеполитический курс и даже под давлением Вашингтона не пожелал отказываться от своего предвыборного обещания вывести войска из Афганистана.
К окончанию президентского срока испортились отношения Обамы и с немецким канцлером Ангелой Меркель. Соединенные Штаты оказывали давление на правительство ФРГ, вынуждая его оплачивать долги «проблемных» южноевропейских стран. Ведь в эпоху экономического кризиса Вашингтону меньше всего нужна была сильная и процветающая Германия. Америка, говорили эксперты, изо всех сил пыталась вынудить европейцев запустить «печатный станок» и провоцирует финансовые потрясения в ЕС – ведь только таким образом она может отсрочить крах долларовой финансовой системы.
В мае 2012 года известный финансист Джордж Сорос, публично озвучивающий идеи американского истеблишмента, заявил, что на спасение ЕС остается всего три месяца, и особую роль в «бригаде спасателей» отвел ФРГ. И чтобы сломить сопротивление упрямой «экономки» Меркель, США заполучили в свое распоряжение такие рычаги, как антигерманская коалиция в Европе, разлад в немецко-французском дуэте, угроза выхода Греции из еврозоны, недовольство левеющих европейцев и форменная истерика в германских СМИ, призывающих Берлин пожертвовать «немецким национализмом» ради «европейского альтруизма».
Впрочем, Германия, несмотря на растущую изоляцию, продолжала сопротивляться натиску Америки и ее союзников в ЕС. Она пыталась совместить две несовместимые вещи – сохранить деньги на нужды своего населения и спасти «европейский лайнер» от неминуемого крушения. Однако уже полвека Германия, несмотря на очевидную экономическую мощь, оставалась страной с усеченным суверенитетом. Германская экономика прочно была вписана в долларовую финансовую систему, немецкие СМИ находились под контролем англосаксов, а на территории ФРГ размещались американские военные базы, не выведенные даже после падения Берлинской стены. Если же немецкие элиты пытались затеять свою игру, то в ход шла «моральная дубинка» под названием «Холокост» («Вы забыли о преступлениях нацистов?») – и желание импровизировать мгновенно отпадало.
Однако, когда глобальная «долларовая пирамида» дала трещину, а еврозону начало лихорадить, Германия стала готовиться к возвращению своего суверенитета. Известный скандалист Тило Саррацин выпустил книгу «Европе не нужно евро», в которой черным по белому было написано: Германию шантажируют воспоминаниями о Холокосте и вынуждают в ущерб своим национальным интересам спасать европейских должников[422].
В общем, политологи отмечали, что европейская стратегия Обамы провалилась и сравнивали его с Сизифом, который четыре года подряд катил в гору тяжелый камень «трансатлантических отношений», а в результате вынужден был наблюдать за тем, как он падает в пропасть.
БЛИЖНЕВОСТОЧНОЕ ДОМИНО
Хотел того Обама или нет, в эпоху его правления главным внешнеполитическим приоритетом оставался Ближний Восток. Да и могло ли быть иначе, если за четыре года этот регион пережил пять революций, две гражданские войны и стоял на пороге глобального конфликта, который мог полностью перекроить границы ближневосточных государств и лишить Соединенные Штаты влияния в исламском мире. Чтобы понять политику Обамы в этом регионе, нам необходимо будет подробно описать те геополитические игры, которые велись в нем в последние годы и в которых Америка зачастую принимала не такое уж активное участие.
4 июня 2009 года Обама произнес свою знаменитую каирскую речь о примирении с исламским миром. Он заявил о том, что человеческая цивилизация должна быть благодарна исламу, который «проложил путь к Возрождению и Просвещению в Европе»[423] и пообещал отказаться от «агрессивного подхода» своего предшественника, который, фактически, приравнял «мусульман» к экстремистам. Исламские идеологи восприняли выступление нового президента США в Каирском университете как окончание западного «крестового похода» и предсказывали, что Обама станет «новым Горбачевым» – президентом, который разрушит американскую империю изнутри. На Западе также восприняли инициативу Обамы скептически. «То, что сказал президент США в Египте, – отмечал британский эксперт по вопросам безопасности Энтони Глисс, – для исламистов звучало словно волшебная музыка. С политической точки зрения, однако, было очень рискованно так заискивать перед исламистами, обещая начать отношения с ними с чистого листа»[424].
Многие политологи отмечали, что, выступив с каирской речью, Обама, в первую очередь, надеялся «достучаться до иранской элиты». И, действительно, в первый год своего правления главным приоритетом на Ближнем Востоке американский президент считал «диалог с аятоллами». Еще в ходе предвыборной кампании Обама заявлял, что готов к переговорам с Тегераном без предварительных условий. Через две недели после инаугурации в интервью телеканалу «Аль-Арабия» он пообещал «протянуть руку иранским лидерам, если они разожмут кулаки». Два месяца спустя в обращении к иранскому народу по случаю персидского новогоднего праздника Навруз он признал легитимность режима аятолл. Еще через два месяца согласился с тем, что Иран имеет право на обогащение урана, а в каирской речи впервые открыто заявил об участии ЦРУ в свержении иранского правительства Мохаммеда Моссадыка в 1953 году.
Президент Ирана Махмуд Ахмадинежад откликнулся на предложение Обамы, выступая перед огромной толпой, собравшейся на площади Свободы в центре Тегерана во время празднования 30-летия исламской революции. Признав необходимость диалога, Ахмадинежад не отказался и от традиционных антиамериканских выпадов. Смягчение риторики омрачило бы торжество по поводу запуска первого космического спутника – события, символизирующего для многих иранцев превращение их страны в сверхдержаву, способную вступить в геополитическое состязание с Америкой.
Однако многие политологи были убеждены, что как бы ни клеймили США правящие в Иране консерваторы, у них просто не хватит духа отклонить предложение Обамы. На мюнхенской конференции по вопросам безопасности в феврале 2009 года спикер иранского парламента Али Лариджани изложил ряд требований – в том числе о компенсации за непоставленное ядерное топливо, – которые на Западе расценивались как условия для начала переговоров. Он также порекомендовал Соединенным Штатам «прекратить заниматься боксом и поучиться игре в шахматы»[425]. А весной президент Ирана лично добился освобождения ирано-американской журналистки Роксаны Сабери, которая была осуждена за шпионаж на 8 лет.
В последнее десятилетие Иран несколько раз призывал к разрядке. В 1997 году к власти в стране пришел президент-реформатор Мохаммад Хатами, который задался целью наладить отношения с Вашингтоном. Он цитировал Токвиля, объясняя сходство между представлениями американцев и иранцев о свободе, выступал за «диалог культур». Однако серьезного прорыва в отношениях тогда достичь не удалось. Все ограничилось визитами американских спортсменов-борцов в Иран, либерализацией визового режима и отменой американского эмбарго на ввоз иранских ковров и фисташек.
После 11 сентября Иран поддержал администрацию Буша в Афганистане и даже сотрудничал с ней при формировании правительства Хамида Карзая, однако уже в 2002 году был причислен неоконами к государствам оси зла. После падения Багдада в мае 2003 года Джордж Буш отверг предложенную Ираном «большую сделку», которая подразумевала урегулирование наиболее острых вопросов, связанных с ядерным досье и поддержкой, которую Тегеран оказывал радикальным организациям – ХАМАС и «Хезболле».
Когда американцы увязли в Ираке, стало очевидно, что это было опрометчивым решением. Иран мог бы им очень пригодиться для диалога с шиитским большинством, сформировавшим правительство в Багдаде. И в конце 2006 года конгрессмены из межпартийной комиссии Бейкера – Гамильтона настоятельно рекомендовали начать диалог с Тегераном или по крайней мере «открыть в иранской столице отдел, представляющий американские интересы».
Проблема заключалась в том, что у власти в Вашингтоне находились неоконсерваторы, разработавшие проект «Большого Ближнего Востока», в котором не было места иранской теократии. Они утверждали, что Тегеран является главным соперником США в регионе, выступали за ужесточение экономических санкций и выделяли миллионы долларов на тайные операции против режима аятолл. По их мнению, в отношениях с Ираном нужно было использовать модель, опробованную во времена холодной войны, когда Соединенные Штаты противостояли СССР на всех фронтах – от Афганистана до Никарагуа.
Однако, как утверждал автор книги «Шиитский ренессанс» Вали Наср, «если противодействие коммунизму приводило к торжеству капитализма и демократии, сдерживание Ирана будет означать распространение суннитского экстремизма»[426]. Действительно, когда в 1980-х Соединенные Штаты пытались сплотить арабский мир перед лицом иранской угрозы, дело кончилось радикализацией суннитской политической культуры и появлением «Аль-Каиды».
Во время правления Буша-младшего американские идеологи пошли еще дальше, разрабатывая проект антииранского союза двух старинных противников – Израиля и суннитских арабов. В этот период Саудовская Аравия и государства Персидского залива получили вооружения на сумму $20 млрд. По словам заместителя госсекретаря в администрации Буша Николаса Бернса, одна из основных целей этих поставок была в том, чтобы «дать арабским странам возможность укрепить обороноспособность и тем самым обеспечить сдерживание иранской экспансии»[427]. По данным центра «Военная аналитика», на арабском берегу Персидского залива было сосредоточено огромное количество военной техники и плавучих средств, которые планировалось использовать в случае противостояния с Тегераном[428].
Рассматривался также вариант американского военного удара по Ирану. Многие эксперты называли даже конкретные сроки начала операции. Однако главе Пентагона Роберту Гейтсу и председателю комитета начальников штабов Майклу Маллену удалось убедить Буша в том, что открытие третьего фронта станет для Америки непосильным бременем. При этом утверждалось, что военная операция лишь затормозит на несколько лет развитие иранской ядерной программы, но не остановит ее, а разговоры о военном решении только подогреют желание иранцев иметь собственный ядерный арсенал. «Политика запугивания, – отмечал американский политолог Збигнев Бжезинский, – не помешала Индии и Пакистану стать обладателями ядерного оружия. И Соединенным Штатам ничего не оставалось, кроме как наладить с ними отношения. Какой урок должны вынести из этого иранские лидеры?»[429] Бжезинский, который во время предвыборной кампании был главным советником Обамы по внешней политике, настаивал на том, что «миф об Иране как о самоубийце, который использует свой первый ядерный заряд против Израиля, является результатом паранойи и демагогии, а не серьезного стратегического расчета»[430].
«Иран – это не мессианское государство, – писал старший научный сотрудник Совета по международным отношениям Рей Такей, автор монографии «Загадочный Иран: парадоксы и власть в Исламской Республике». – В действительности эта страна не настроена на радикальное изменение порядка в регионе под знаменем воинствующего ислама. Иран прежде всего нацелен на извлечение выгоды и стремится утвердить свое первенство среди ближайших соседей»[431].
Сторонники диалога с Тегераном были убеждены, что Соединенные Штаты могли бы восстановить на Ближнем Востоке систему союзов, которая существовала во времена шахского Ирана. Ведь, как показал опыт войны с терроризмом, стратегические интересы двух стран во многом совпадают. Военные операции США в Афганистане и Ираке оказались на руку иранцам, поскольку в результате были уничтожены их главные соперники в регионе: Саддам Хусейн и Талибан. Благодаря американским солдатам впервые с момента образования иракского государства шиитское большинство, которое тяготеет к бывшей метрополии, оказалось у власти в Багдаде. Некоторые эксперты заговорили тогда, что Соединенные Штаты втайне планируют заменить своих суннитских союзников – правителей Египта, Иордании и Саудовской Аравии – шиитскими партнерами и, формируя проиранские правительства в Ираке и Афганистане, подготавливают почву для возрождения альянса с Тегераном. Как отмечал старший научный сотрудник Института востоковедения Александр Лукоянов, «в странах НАТО многие желают видеть Иран экономически мощным государством. Объясняется это тем, что в перспективе они надеются сделать его своим основным союзником в регионе»[432]. Американские стратеги не исключали, что, наладив отношения с Вашингтоном, Тегеран вернется «к традиционной и вполне естественной с геополитической точки зрения стратегии конструктивного взаимодействия с Израилем, проводившейся до 1979 года». Как отмечал бывший агент ЦРУ на Ближнем Востоке Роберт Бэр, «Соединенные Штаты не должны мешать Ирану в его стремлении к господству в исламе. Два государства созрели для заключения альянса по образцу того, что создали в свое время Никсон и Мао»[433].
Тем не менее в США сохраняла позиции и антииранская группировка, которая выступала против переговоров с Тегераном. По мнению критиков инициативы новой администрации, личная встреча с американским президентом только придаст Ахмадинежаду уверенности и укрепит его авторитет как в Иране, так и за его пределами. К тому же, как отмечали американские «ястребы», на Ближнем Востоке призыв Обамы к переговорам без предварительных условий был воспринят как проявление слабости США.
Многие эксперты были убеждены, что длительные переговоры, которые, скорее всего, превратятся в парадную фотосессию, будут использованы иранскими лидерами для того, чтобы выиграть время, столь необходимое для создания ядерной бомбы. Как отмечал бывший представитель США в ООН Джон Болтон, «по итогам пяти лет переговоров с европейцами Иран на пять лет продвинулся на пути к ядерному статусу»[434]. «Шансы на успех переговоров с нынешними властями Ирана равны нулю, – вторила ему французский специалист по контролю над ядерными вооружениями Терез Дельпеш. – В ближайшее время необходимо будет принять новые, более жесткие санкции против этого государства и вернуться к обсуждению военного варианта решения иранской проблемы»[435].
Лозунг переговоров без предварительных условий вызвал нарекания и в стане американских правозащитников, а также среди представителей влиятельного израильского лобби. «При проведении американо-иранских переговоров, – писал раввин Авраам Купер в The Washington Times, – следовало бы использовать сценарий, разработанный госсекретарем рейгановской администрации Джорджем Шульцем во времена холодной войны. Тогда Госдепартамент при заключении любых сделок с Советами ставил во главу угла права человека. Даже если речь шла о жизненно важных вопросах, связанных с ядерной сферой»[436].
Некоторые оппоненты Обамы считали, что он просто поспешил со своей инициативой. В июне 2009 года в Иране должны были состояться президентские выборы, на которых неплохие шансы имели «реформистские» кандидаты, которые считались сторонниками диалога с Соединенными Штатами. Однако даже в случае их победы ожидать быстрого поворота на 180 градусов было бы наивно. Конечно, в Иране были влиятельные силы, заинтересованные в восстановлении дипломатических отношений с Америкой. «Прежде всего, – рассказывал Александр Лукоянов, – речь шла о великом аятолле Хоссейне Али Монтазери, который долгое время считался преемником Хомейни, а затем стал единственным в своем роде официальным иранским оппозиционером. Кроме того, за развитие отношений с США выступали ряд влиятельных политиков, таких, например, как Элахе Кулаи. Во время саммита прикаспийских государств 2007 года она опубликовала программную статью, в которой предлагала задуматься о замене Москвы в качестве ключевого союзника Ирана на Вашингтон. Как это ни удивительно, были сторонники диалога с Америкой и в Корпусе стражей исламской революции, который Соединенные Штаты обвиняли в распространении оружия массового уничтожения»[437].
К антиамериканскому лагерю в Иране в первую очередь причисляли соратников духовного наставника Ахмадинежада – аятоллы Месбаха Язди, возглавлявшего крупный богословский центр в Куме, исламские фонды, консервативную часть Корпуса стражей исламской революции и подчиненные ему силы сопротивления «Басидж». Как утверждал президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский, «политика в Иране – однопартийная, но «многоподъездная», как в ЦК КПСС». И добиться единодушия аятолл в том или ином вопросе практически невозможно. Многое зависит от позиции рахбара Али Хаменеи – верховного революционного лидера, который де-факто управляет страной, точно так же, как СССР в свое время руководил генсек ЦК, а вовсе не формальный лидер государства»[438].
Как отмечали эксперты, еще в конце 90-х Хаменеи и люди из его окружения заговорили о том, что со временем ИРИ сможет претендовать на статус сверхдержавы, а в конце нулевых они пришли к выводу, что для достижения этой цели необходимо заключить тактический альянс с Западом, который гарантирует им годы мирной жизни. Конечно, Ахмадинежад не подходил на роль переговорщика, призванного наладить диалог с Соединенными Штатами. «Своей антиамериканской риторикой он завоевал сердца людей в иранской провинции и в странах развивающегося мира, которые воспринимают его как настоящего поп-идола»[439], – писал Рей Такей – однако на Западе его изображали как исчадие ада».
«В 2005 году, – рассказывали политологи, – выбор иранского руководства пал на Ахмадинежада не случайно. Его миссия заключалась в том, чтобы вдохнуть новую жизнь в социальные программы, многие из которых были свернуты в период правления Хатами, и продемонстрировать Западу решимость и способность к проведению нового курса. Однако в 2009 году в связи с падением цен на нефть и высоким уровнем инфляции Ирану вновь пришлось сокращать расходы на социальную сферу. К тому же на первый план выступили вопросы внешней политики, и многие эксперты предсказывали, что Ахмадинежада, скорее всего, сменят, чтобы не раздражать Запад.
Однако на выборах в июне 2009 года победу все же одержал Ахмадинежад и в стране начались массовые демонстрации протеста. Конечно, оспаривать результаты выборов в данном случае было довольно странно. Ахмадинежад набрал в два раза больше голосов, чем его основной конкурент реформист Мир Хосейн Мусави (63 % – 34 %), которого не спасла даже высокая явка избирателей (85 %).
После того как верховный лидер Али Хаменеи обрушился с критикой на реформистов, обвинив их в связи «с врагами иранского народа» и «забвении революционных идеалов» стало очевидно, что США не стоит рассчитывать на победу «прагматичных» кандидатов. Впрочем, все было решено еще в тот момент, когда от участия в предвыборной гонке отказался аятолла Горбачев Хатами (именно на его возвращение к власти рассчитывал Барак Обама). Ожидания американского президента не оправдались: либеральный аятолла с неохотой участвовал в предвыборной кампании, и после того как в день Революции на него напала вооруженная толпа, скандирующая «смерть Хатами, не хотим американского правительства», снял свою кандидатуру в пользу другого реформиста – Мир Хосейна Мусави.
Мусави – один из старожилов тегеранской элиты. С 1981 по 1989 год на посту премьера ему удалось выстроить централизованную экономику, которая позволила Ирану избежать экономического кризиса в годы войны с Ираком. Мусави примыкал к сторонникам Ассамблеи борющегося духовенства, которая считалась главной базой реформаторского движения. Его называли центристским кандидатом, способным примирить прагматичных политиков из консервативного и либерального лагеря, однако в итоге он выбрал иную нишу, провозгласив себя верным последователем основателя Исламской республики имама Хомейни и набрав в команду радикалов всех мастей: от фундаменталистов до реформистов. Конечно, на выборах его поддержали те слои населения, которые были настроены против Ахмадинежада: жители крупных городов, интеллигенция, студенчество и бизнесмены, однако если в начале предвыборной кампании среди его сторонников преобладали прагматики, то к моменту голосования инициативу перехватили радикалы, организовавшие массовые демонстрации «несогласных».
Благодаря поддержке верховного лидера, Ахмадинежаду удалось сохранить единство в рядах консерваторов, многие их которых не хотели голосовать за действующего президента и пытались выдвинуть альтернативного кандидата (на эту роль прочили таких влиятельных политиков как спикер иранского парламента Али Лариджани и советник верховного лидера по вопросам внешней политики Али Акбар Велаяти). Ахмадинежад принадлежал к новому поколению иранских политиков – руководителей корпуса стражей исламской революции и их союзников из ополчения «Басидж», которые постепенно приватизировали все хлебные места в Тегеране, оттесняя старую элиту, детей и внуков аятолл и политиков консервативного лагеря. Таким образом, власть в Иране постепенно переходила из рук клерикального истеблишмента в руки истеблишмента светского, но ультраконсервативного.
Тем не менее, политической философией Ахмадинежада являлся махдизм – религиозное учение о скором пришествии Мессии. Президент не только строил на этом учении свою политику, но и заявлял, что сам непосредственно связан с Богом. А как отмечал духовный наставник Ахмадинежада аятолла Язди «на международной арене главная обязанность тех, кто ждет прихода Мессии, бороться с ересью и глобальным высокомерием»[440].
Иран переживал экономический кризис тяжелее многих других стран: падение цен на нефть, рост безработицы, значительный дефицит государственного бюджета, галопирующая инфляция – все это не прибавляло оптимизма тегеранским лидерам. Однако экономические неурядицы не мешали популярности Ахмадинежада, ведь в период его правления стране удалось начать освоение космоса, запустить первую ракету и спутник. Для большинства населения эти успехи символизировали превращение Ирана в сверхдержаву, способную вступить в геополитическое состязание с Америкой. И неслучайно, Ахмадинежаду удалось добиться подавляющего превосходства над соперниками в иранской провинции.
Как бы ни старались американские идеологи разделить иранскую элиту на ортодоксов и реформистов, на президентских выборах не было ни одного кандидата, который призывал бы свернуть ядерную программу и вступить в диалог с Соединенными Штатами без предварительных условий. Ведь хотя Америка впервые за 30 лет протягивала Ирану оливковую ветвь, тегеранская элита, по-прежнему не доверяла Вашингтону и не спешила отвечать на инициативы темнокожего президента. Объяснялось это убежденностью аятолл в том, что американские стратеги просто решили использовать новую «маску» в отношениях с Тегераном, но сохранили прежние цели, которые заключаются в свержении их режима. Как отметил верховный лидер Али Хаменеи, Обама протянул Ирану руку в «бархатной перчатке», но «под мягким бархатом скрывается железная десница». Не стоило забывать и о том, что вражда с Америкой оставалась одним из основных догматов идеологии Хомейни. «Если глобальное противостояние с США прекратится, – писал редактор международного отдела The Times Ричард Бистон, – что будет дальше? Страну вновь захлестнет американская культура, как это было во времена шахского режима? А миллионы проживающих в США иранцев толпами ринутся назад и превратят Тегеран в ближневосточный Лос-Анджелес?»[441]
Такой сценарий аятоллам, конечно, не подходил. Однако и отвергать предложение Обамы они не спешили. Неслучайно, в Иране наиболее популярной метафорой диалога с Америкой являлась шахматная партия. Тегеранские лидеры взяли себе тайм-аут и задумались над следующим ходом, а американский президент, словно подчиняясь законам этой размеренной игры, пообещал подождать их решения до конца года. И многие надеялись, что иранцы согласятся на предлагаемый США обмен фигур. Тегеран должен был прекратить военную поддержку Хамаса и Хезболлы; принять «малайзийский» подход к Израилю (непризнание и невмешательство); согласится на сотрудничество с Америкой на иракском и афганском направлениях. В ответ Америка обещала признать важную региональную роль Ирана, поддержать вступление Исламской республики в ВТО, возвратить арестованные иранские активы, которые насчитывали более $ 20 млрд., снять все санкции и оказать помощь при модернизации нефтегазовой индустрии страны.
ДУЭЛЬ С АХМАДИНЕЖАДОМ
Однако в начале 2010 года, стало очевидно, что Ахмадинежад не воспринимает всерьез предложение Обамы. И когда в апреле была обнародована новая военная стратегия США, никто не был удивлен, что в ней предполагалась возможность превентивного ядерного удара по странам – нарушителям режима нераспространения, к которым в Вашингтоне отнесли Северную Корею и Иран.
Махмуд Ахмадинежад пригрозил Америке «зубодробительным ответом» и сравнил главу Белого дома с «ковбоем, который, не думая, выхватывает оружие из кобуры». «Постарайся не ограничиваться чтением каждой бумажки, которую кладут перед тобой, или повторением заявлений, которые тебе подсказывают, – обратился он к Обаме. – Американские лидеры, более великие, чем ты, и более наглые, чем ты, ни черта не смогли сделать с Ираном. Ты думаешь, что тебе удастся запугать нас?»[442]
Именно иранский вопрос определял повестку дня на саммите по ядерному разоружению, который проходил в Вашингтоне 12–13 апреля 2010 года. В этом мероприятии приняли участие 47 глав государств. «Ядерный саммит, – отмечал The Economist, – стал, пожалуй, наиболее ярким театрализованным представлением, с тех пор как властелины двух сверхдержав встречались в Рейкьявике. Это был звездный час Обамы, который заручился поддержкой ключевых игроков в иранском вопросе»[443]. Россия и Китай дали понять американскому президенту, что согласятся участвовать в «умных» санкциях против Тегерана, если они не будут носить «парализующего» характера.
В пику американцам Иран созвал собственную конференцию по ядерному разоружению, которая прошла в Тегеране через три дня после вашингтонского саммита, с 17 по 18 апреля. К удивлению США, форум получился весьма представительный: в страну, которую администрация Обамы считала нарушителем режима нераспространения, приехали делегации из 56 государств, причем половину из них возглавляли министры или заместители министров иностранных дел. Выступая на саммите, духовный лидер Ирана аятолла Али Хаминеи заявил, что Соединенные Штаты являются «единственным в мире атомным преступником, который только и знает, что кормит всех лживыми обещаниями и обвиняет мусульманские страны в ядерных амбициях, хотя использование смертоносного оружия противоречит основам ислама». В том же духе рассуждали и другие участники альтернативной конференции, которая запомнилась победными рапортами об успехах в освоении мирного атома, ожесточенными нападками на Израиль и требованием вывести США из МАГАТЭ.
Организацией саммита дипломатическая активность ИРИ не ограничилась: Тегеран обратился в ООН с официальной жалобой в связи с изменениями в ядерной политике США, заявил о своей готовности вести переговоры со всеми членами Совбеза, за исключением Америки, и вновь обсудить предложение об обмене низкообогащенного урана на ядерное топливо, произведенное Россией и Францией.
Однако главным сюрпризом для американских дипломатов стало появление Ахмадинежада в Нью-Йорке. Как отмечали эксперты, Соединенные Штаты рассчитывали превратить обзорную конференцию ООН, проходившую в начале мая 2010 года, в «публичную порку Ирана», убедив остальные страны в том, что Исламская Республика по примеру Северной Кореи планирует выйти из договора, как только начнет производить собственные бомбы. Комиссия по ядерному нераспространению предложила в связи с этим ужесточить правила выхода из ДНЯО, дав понять нарушителям, что «их действия будут расценены как угроза международному миру и безопасности со всеми вытекающими отсюда последствиями».
Внезапное решение иранского президента приехать на конференцию спутало западным лидерам все карты. По замечанию The Washington Post, Ахмадинежад сумел привлечь симпатии многих дипломатов из развивающихся стран, создав образ жертвы «двойного ядерного стандарта»[444]. Выступая на конференции, он заявил о заложенном в ДНЯО неравенстве между ядерными и неядерными державами, призвал Америку убрать свои ракеты из Европы и обрушился на западные страны с филиппикой, вынудив делегации США, Британии и Франции покинуть зал заседаний.
Главной задачей Ахмадинежада было переключить внимание участников конференции с иранского вопроса на израильский, и справился он с ней весьма успешно. «Не стоит даже заикаться об амбициях Тегерана, до тех пор пока не решен вопрос с ядерным потенциалом Израиля»[445], – заявил через несколько часов после выступления иранского президента представитель Египта в ООН Магед Абдельазиз.
При поддержке Турции и Египта Ахмадинежад выступил с предложением о создании на Ближнем Востоке зоны, свободной от атомного оружия. На прошлой конференции по нераспространению администрация Буша отказалась поддержать эту идею, однако, как это ни печально для Израиля, на этот раз позиции Ирана и США во многом совпадали. Команда Обамы призвала своего ближневосточного союзника «не скрывать бомбу в подвале» и присоединиться к ДНЯО. Это предложение озвучивал, как сам президент, так и глава подготовительного комитета к Обзорной конференции Роуз Гетемюллер. Демократическая администрация была убеждена, что отказ Тель-Авива от ядерных амбиций – единственная возможность избежать гонки вооружений в регионе. И хотя Израиль называл атомную бомбу «крайним средством», другие ближневосточные государства вполне могли использовать ее как предлог для создания собственных сил сдерживания, считали американцы. Израильтяне, правда, не были готовы принять такую аргументацию. В ответ на выпады США израильский премьер Биньямин Нетаньяху отменил свою поездку на вашингтонский саммит по ядерному разоружению, а замминистра иностранных дел Дани Аялон попросил заокеанских партнеров не навязывать Тель-Авиву свою точку зрения. «Может быть, когда-нибудь», – процедил он сквозь зубы, отвечая на вопрос о перспективах присоединения Израиля к ДНЯО.
Израильские амбиции являлись для администрации Обамы серьезным препятствием в переговорах по иранской ядерной проблеме. «Если мы намерены убедить мировое сообщество в необходимости наказать Тегеран, – отмечал Брюс Ридель, бывший директор по делам Ближнего Востока и Южной Азии в Совете национальной безопасности, – Израилю придется выйти из подполья. Политика двойных стандартов рано или поздно провалится»[446].
Однако через месяц после обзорной конференции 9 июня 2010 года Совбез ООН все-таки принял антииранские санкции. Как констатировала The Financial Times, «Россия, долгое время защищавшая Иран, неожиданно сдалась и согласилась с точкой зрения западных стран»[447]. Впрочем, удивляться не приходилось.
Помощь в иранском вопросе президент Медведев, находившийся под впечатлением от перезагрузочных инициатив США, пообещал предоставить еще во время своего визита в Нью-Йорк в ноябре 2009 года. И хотя многие дипломаты настаивали на том, что для России разрыв с Тегераном – куда более серьезная жертва, чем для Америки отказ от размещения ПРО в Восточной Европе, восторжествовал атлантистский подход.
Конечно, чтобы заручиться поддержкой Москвы, Госдепу пришлось отказаться от варианта «калечащих» санкций, которые должны были парализовать экономику Ирана и предполагали запрет на поставки в страну нефтепродуктов и замораживание счетов Исламской республики в ведущих мировых банках. Предложенные «умные» санкции были куда менее жесткими. Они вводили эмбарго на продажу Тегерану тяжелых вооружений, усиливали контроль за финансовыми сделками, в которых участвуют иранские банки и устанавливали новый режим проверки кораблей, плавающих под флагом ИРИ.
В ответ на согласие Москвы поддержать их проект резолюции, Соединенные Штаты отменили санкции, введенные ранее против предприятий российского ВПК, и пообещали не вводить запрет на поставку в Тегеран зенитных батарей С-300 Консервативные комментаторы в Вашингтоне тут же обвинили Обаму «в преждевременных и неоправданных уступках». «Не получив от Москвы твердых обязательств в вопросе о поставках С-300, – отмечал экс-советник Буша-младшего по России Дэвид Крамер, – демократы совершили серьезную ошибку. Ведь чтобы Кремль поддержал смягченный вариант резолюции, никто не требовал от Америки таких жертв. Не стоит забывать, что Россия уже трижды голосовала за антииранские санкции, и США не предлагали ей взамен никаких пряников»[448]. Бывший представитель США в ООН Джон Болтон также критиковал демократическую администрацию, которая, по его мнению, «находилась в столь отчаянном положении, что позволила главе российского МИД Сергею Лаврову сорвать банк»[449]. Однако российский президент Медведев, который надеялся угодить американским партнерам, в сентябре 2010 года сам «заморозил» контракт с ИРИ и вернул аванс, выплаченный иранской госкомпанией Aerospace Industries Organization.
Если с позицией России все было понятно уже давно, решение КНР поддержать санкции стало для Тегерана холодным душем. Ведь еще в ноябре 2009 года во время визита Барака Обамы в Пекин Ху Цзиньтао дал понять, что китайцы до последнего будут отстаивать дипломатический путь решения иранской проблемы. Ахмадинежад был настолько уверен в их поддержке, что не обращал никакого внимания на ультиматумы Вашингтона. Однако в начале апреля в преддверии саммита по ядерному разоружению председатель КНР неожиданно для всех заявил, что не возражает против предлагаемых Западом карательных мер. Что повлияло на позицию Пекина? «Прежде всего, – отмечал эксперт китайской Академии общественных наук Тао Вэньдзао, – в своей политической философии Поднебесная отходит от традиционной формулы о неприемлемости санкций»[450]. Очевидно также, что конформистский Китай не хотел ссориться с остальными членами Совбеза ООН, применяя право вето. Однако решающую роль, как это ни парадоксально, сыграли для КНР экономические соображения. В течение года американцы рассуждали об ответственности за судьбу Ближнего Востока, но прагматичный Китай пропускал их слова мимо ушей. И только израильской делегации, посетившей Пекин в феврале, удалось найти аргументы, которые подействовали на китайских руководителей. Израильтяне оперировали цифрами, продемонстрировав, какие убытки может понести КНР в результате бомбардировки иранских ядерных объектов. И как заявил один из советников Нетаньяху, «для китайцев стало очевидно, что поддержка антииранских санкций – меньшее из двух зол».
Правда, свой голос в Совбезе ООН они попытались продать как можно дороже. Им удалось настоять на том, что санкции не ударят по иранской энергетике и не станут препятствием для экономического сотрудничества Китая с Исламской Республикой. Более того, западные страны гарантировали, что любые карательные меры, которые будут приняты в одностороннем порядке, не затронут китайские компании, ведущие бизнес в Иране. А в качестве бонуса китайцы получили обещание от администрации Обамы не публиковать доклад, осуждающий валютную политику КНР, который мог бы негативно сказаться на инвестиционной привлекательности азиатского гиганта.
За день до обсуждения американской резолюции в Совбезе ООН Иран преподнес сюрприз мировому сообществу, заключив урановую сделку с Турцией и Бразилией. Согласно подписанному в Тегеране договору, Иран должен был передать Турции 1200 кг своего низкообогащенного урана, а взамен получить 120 кг урана с более высоким уровнем обогащения. Лишившись поддержки традиционных союзников, иранские лидеры не растерялись и очень рационально подошли к выбору новых партнеров. Анкара и Бразилиа – респектабельные столицы, которых никак нельзя было назвать «пособниками изгоев». При этом и премьер-министр Турции Реджеп Тайип Эрдоган, и президент Бразилии Лула да Сильва считались лидерами популярными и самостоятельными, не скрывающими своих региональных амбиций. Их страны входили в этот момент в Совет Безопасности, и хотя правом вето они не обладали, их слово имело вес, поскольку для принятия резолюции требовалось большинство голосов. Вступившись за Иран, они, безусловно, заработали себе политический капитал. По словам научного сотрудника Фонда Карнеги Хенри Барки, «в третьем мире урановое соглашение было воспринято на ура, а Лула и Эрдоган стали кумирами миллионов, чуть было не оставив Америку с носом»[451].
В США антииранские санкции были восприняты крайне негативно. Представители леволиберального лагеря утверждали, что президент отказался от тактики переговоров в тот самый момент, когда она начала приносить первые успехи. Ахмадинежад, словно желая подыграть им, утверждал, что «договоренность об обмене радиоактивными материалами с Турцией и Бразилией – это шанс, который второй раз может не представиться», и угрожал пересмотреть отношения с МАГАТЭ.
«Критики Ирана для нас словно назойливые мухи, – заявил иранский президент после заседания Совбеза, – а резолюция ООН не более чем использованная салфетка, которую можно выбросить при первом удобном случае»[452]. И хотя администрация США утверждала, что, добившись принятия санкций, она «изолировала иранский режим», многие в Америке, скорее, были согласны с Ахмадинежадом. «Родив мышь после 16 месяцев тяжких потуг, – писал колумнист The Washington Post Чарльз Краутхаммер, – команда Обамы набрала в Совете Безопасности лишь 12 голосов в поддержку своих жалких санкций, которые были полностью выхолощены Россией и Китаем»[453].
Эксперты отмечали, что разговоры об изоляции Ирана явно преждевременны. Доказательством тому служил состоявшийся за день до принятия санкций стамбульский саммит по региональной безопасности, на котором лидеры России и Турции выразили поддержку Ахмадинежаду. Сам иранский президент чувствовал себя весьма уверенно и даже отчитал Москву за атлантистский курс, отметив, что она рискует «оказаться в компании врагов иранского народа».
То, что Обаме не удалось навести мосты с Тегераном, естественно, сказалось на положении США в Ираке, который все чаще называли «иранским сателлитом». До тех пор пока в августе 2005 года Исламская республика не объявила о возобновлении ядерной программы, в Ираке действовали джентльменские американо-иранские договоренности, выработанные еще Полом Бремером – гражданским управляющим при оккупационном режиме. Сразу после завершения операции «Шок и трепет» стороны определили участников политического процесса в Ираке, в число которых смогли попасть только убежденные противники режима партии Баас. «Соперники Хусейна, – отмечала The New York Times, – в годы его правления находились в эмиграции в Тегеране и, сделавшись лидерами нового Ирака, сохранили связи с иранской политической элитой»[454]. С Исламской республикой сближала их и общая вера: большинство из них исповедовали шиизм.
Когда отношения Соединенных Штатов с Ираном зашли в тупик, американцы с ужасом обнаружили, что свержение Саддама Хусейна устранило режим, служивший главным региональным противовесом Тегерану, и начали делать все возможное, чтобы создать в Ираке мощное антииранское движение. Именно с подачи Соединенных Штатов накануне парламентских выборов 2010 года в стране возник оппозиционный блок «Аль-Иракия» во главе с бывшим «переходным» премьер-министром страны Аядом Аллауи. Политическое объединение, в которое вошли представители как шиитских, так и суннитских партий (сам Аллауи – шиит), сделало ставку на преодоление конфессиональных разногласий, пообещав возродить в Ираке светское государство.
«Этнические различия для Аллауи важнее конфессиональных, – отмечал сирийский политолог Мухаммед Сейид Рассас, – и поэтому во внешней политике он планирует ориентироваться не на Иран, а на страны арабского мира. Неслучайно накануне выборов глава «Аль-Иракии» совершил турне по арабским столицам (Эр-Рияд, Амман и Дамаск)»[455]. Приверженность светскому государству и арабский национализм сближал Аллауи со свергнутым США режимом Хусейна. «Потенциальный премьер Ирака и главный фаворит Соединенных Штатов, – отмечал Рассас, – как это ни парадоксально, является политическим наследником Саддама, в партии которого, между прочим, он состоял в 1970-е годы»[456].
В ответ на игру, затеянную Вашингтоном, иранцы стремились закрепить преобладание своих сторонников-шиитов во властных структурах Ирака и помешать триумфу Аллауи. В январе по требованию Комитета по дебаасификации (глава которого Али Фейсал аль Лами – радикальный шиит, не скрывающий своих симпатий к Ирану) от участия в выборах были отстранены более 500 кандидатов. Большинство из них представляли влиятельную суннитскую партию Фронт за национальный диалог, входящую в блок «Аль-Иракия» и наиболее активно пропагандирующую сближение с арабскими странами.
Соединенные Штаты попытались оказать давление на правительство Нури Малики. В Багдад срочно вылетел вице-президент Джо Байден, которому удалось сократить количество недопущенных к выборам кандидатов до 145 человек. Однако судя по всему, американцев это не удовлетворило. Выступая в Институте изучения войны, главнокомандующий силами США в Ираке Раймонд Одиерно обвинил руководителей Комитета по дебаасификации в связях с «иранской Революционной гвардией и бригадами Аль-Кудс, которые с их помощью пытаются оказать влияние на результаты выборов в Ираке».
На самом деле, Соединенные Штаты стремились к реабилитации баасистов. И хотя аль-Малики пошел им навстречу, восстановив в армии более 20 тысяч офицеров, входивших когда-то в партию Хусейна, возвращение представителей Баас во властные структуры вызвало бы непонимание среди его избирателей-шиитов. Поэтому роль «покровителя» бывших баасистов американцы отвели лидеру светской «Аль-Иракии», который даже после выпадов Комитета по дебаасификации сумел убедить большинство суннитских партий отказаться от тактики бойкота, которая в 2005 году привела к абсолютному доминированию шиитов во власти.
В результате 7 марта 2010 года «Аль-Иракии» удалось одержать на выборах победу, получив 91 место в парламенте и опередив на два мандата блок Нури Малики «Государство закона». «Законники» обеспечили себе большинство голосов в Багдаде, Басре и еще в пяти шиитских провинциях юга и центра страны, однако в суннитских регионах не вошли даже в тройку лидеров. «Аль-Иракия» же не только заручилась поддержкой большинства суннитов, но и закрепилась в тройке лидеров в шести шиитских провинциях.
Конечно, ключевую роль в победе блока Аллауи сыграли голоса суннитов, которые, не желая повторять свои ошибки пятилетней давности, приняли активное участие в голосовании. (В суннитской провинции Анбар, например, в 2005 году явка на выборах составила 2 %, а в 2010-м – 61 %). Кроме того, лозунг «светского государства» пришелся по душе избирателям, уставшим от бесконечных религиозных войн и привлек симпатии образованной части иракского общества.
В Вашингтоне надеялись, что Аллауи удастся возглавить коалицию с блоком Малики и противостоять влиянию Тегерана. Однако «законники» начали сближение с радикальными шиитами, которые желали избавиться от американского присутствия и призывали к сотрудничеству с Ираном. По словам посла Ирака в США Самира Сумайдайе, «не успели еще высохнуть чернила на листах с официальными результатами голосования, как шиитские политические блоки, занявшие второе и третье место, отправили свои делегации на поклон к тегеранским аятоллам»[457]. К тому же Малики открыто продемонстрировал свои внешнеполитические предпочтения, обвинив Соединенные Штаты и Саудовскую Аравию во вмешательстве в избирательный процесс в Ираке. И несмотря на трения, которые существовали между Малики и его бывшими союзниками по Объединенному шиитскому альянсу, было очевидно, что не за горами возрождение правительства шиитского большинства, ориентирующегося на Иран.
В 2006 году бывший руководитель «армии Махди» имам Муктада ас-Садр вошел в Объединенный иракский альянс и помог прийти к власти Нури аль-Малики, поддержав его кандидатуру на пост премьер-министра. Однако через два года Малики отплатил ему черной неблагодарностью: он разоружил полувоенные формирования садристов и начал судебное преследование имама, который находился в тот момент в Иране. В ответ сподвижники ас-Садра покинули правительство и бросили все свои силы на создание мощной политической организации из бывших сторонников «армии Махди». По словам The Washington Post, «после разгрома их формирований на юге Ирака садристы пришли к выводу, что, включившись в политические игры, они намного быстрее реализуют свои цели, чем продолжая вооруженные вылазки против американцев. И это был абсолютно верный расчет: разочаровавшись в коллаборационистах, сотрудничающих с Вашингтоном с 2003 года, многие иракские избиратели решили поддержать движение, которое призывает к изгнанию оккупантов»[458].
Курды, которые считались главным союзником США в Ираке, на выборах 2010 года не сумели повторить свой результат пятилетней давности и уступили роль «создателей королей» антиамериканской группировке ас-Садра. Во многом это объяснялось расколом внутри курдского политического истеблишмента. Традиционным курдским партиям, объединенным в «Альянс Курдистана», бросили вызов реформаторы-радикалы, создавшие движение «Горан» («За перемены»). Конечно, в курдских провинциях за них проголосовали лишь 15 % избирателей, но для тандема президента Ирака Джаляля Талабани и лидера Иракского Курдистана Масуда Барзани это стало серьезным ударом. Те восемь мест, которых они недосчитались в парламенте, были принципиально важны для сохранения роли курдов в политической системе Ирака. Не удалось им одержать победу и в нефтеносном Киркуке (исторической столице Курдистана), где проживает смешанное арабско-курдское население. Киркук и Мосул – спорные территории на севере страны, которые курды давно мечтали включить в свой автономный регион. Однако после того как суннитские партии, входящие в блок «Аль-Иракия», завоевали здесь большинство голосов, курдские претензии выглядели куда менее убедительными.
Превращение Ирака в «тегеранского сателлита» становилось для Соединенных Штатов вполне осязаемой угрозой. Не случайно многие западные политологи, которые воспринимали раскол страны как самый нежелательный сценарий развития событий, заговорили о том, что у Вашингтона сейчас просто нет другого выбора. Они отмечали, что шиитское государство, которое может возникнуть в южных провинциях Ирака, обеспечит собственное благополучие за счет разработки нефтяных полей в районе Басры и перестанет нуждаться в помощи со стороны Тегерана. Более того, оно может стать центром притяжения для иранских арабов. Независимое же курдское государство позволит Соединенным Штатам сохранить военное присутствие на Ближнем Востоке и усилит сепаратистские настроения среди иранских курдов.
Однако никакого раскола не произошло, под нажимом Тегерана Малики все же удалось сформировать коалицию с ас-Садром, который отказывался иметь с ним дело дело на протяжении полугода. Некоторые политологи стали рассуждать о возрождении Персидской империи, а Ахмадинежад во время турне по странам Ближнего Востока в октябре 2010 года призвал местные элиты поддержать Малики. Как писала британская The Guardian, «такое поведение президента ИРИ объяснялось тем, что он рассчитывал воспользоваться ситуацией, которая может сложиться после вывода американских войск, и создать в Багдаде проиранское антизападное правительство»[459].
К этому времени в соответствии с обещаниями Обамы число американских военных в Ираке было сокращено. Боевые части выведены. Тюрьмы переданы в ведение местных властей. Большая часть баз и опорных пунктов ликвидирована: оставалось 94 объекта из 608. Армейское имущество вывезено или реализовано. 50 тыс. военнослужащих – это все, что осталось от экспедиционного корпуса США. Белый дом проигнорировал предупреждение начальника иракского генштаба о том, что силовые ведомства страны не смогут контролировать ситуацию вплоть до 2020 года. Высокопоставленные американские военные открыто говорили о том, что решение о выводе войск политическое и не связано с реальным положением дел в сфере безопасности. Происходящее было отнюдь не победой, несмотря на более 4,4 тыс. погибших и почти 32 тыс. раненых американцев. Вывод армии США из Ирака для всего исламского мира означал поражение Америки в войне.
ПОЛИТИКА «ТРОЙНЫХ СТАНДАРТОВ»
Однако Обама продолжал заигрывать с исламистами и готов был даже отказаться от «особых отношений» с еврейским государством. Как писал The Economist, «конфликт США с Израилем напоминает ссору двух супругов, которых давно уже не связывают чувства. Накопившееся в них раздражение постоянно выплескивается наружу. И хотя после обмена взаимными обвинениями следует формальное примирение, оно уже не сопровождается поцелуями и нежными словами»[460].
В марте 2010 года «семейная ссора» началась с визита вице-президента США Джо Байдена в Иерусалим. Байден, всегда отличавшийся симпатиями к Израилю, рассматривался как идеальный кандидат на роль эмиссара, который сумеет надавить на правительство Нетаньяху, не желающее идти на уступки палестинцам. Однако выполнить миссию американскому вице-президенту не удалось. Более того, израильтяне поставили Байдена в комичное положение, в день его визита объявив о намерении построить новые дома в районе Рамат-Шломо Восточного Иерусалима, который с точки зрения международного права считается оккупированной территорией. Израильский премьер пытался сгладить ситуацию, сделал строгий выговор своему министру внутренних дел Эли Ишаю и даже послал Байдену извинительную эсэмэску.
Но успокоить американцев было уже невозможно. Поведение Израиля в Вашингтоне назвали оскорбительным, госсекретарь США Хиллари Клинтон в течение 45 минут отчитывала Нетаньяху по телефону, а старший советник Обамы Дэвид Аксельрод призвал «заклеймить Израиль позором»[461]: этот фразеологический оборот, прямо скажем, не из тех, что приняты в отношениях с союзниками. Британцы, внимательно следящие за изменениями в политике США, пошли еще дальше, назвав еврейское государство изгоем и выслав из страны израильского дипломата в знак протеста против «использования подложных британских паспортов убийцами одного из лидеров ХАМАС в Дубае». Как отметила внешнеполитический комментатор журнала Forbs Клодия Россет, «западные союзники раскритиковали Израиль в гораздо более резких выражениях, чем те, которыми они обычно пользуются, реагируя на провокации со стороны Венесуэлы, Северной Кореи или Ирана»[462].
И хотя Клинтон процедила сквозь зубы, что американо-израильские отношения «останутся незыблемыми», посол Израиля в США Майкл Орен, которого никогда нельзя было упрекнуть в категоричности суждений, вернулся из Белого дома в расстроенных чувствах и заявил в неформальной беседе с израильскими консулами, что «союзники переживают самый серьезный кризис с 1975 года», когда государственный секретарь США Генри Киссинджер потребовал частичного вывода израильских войск с Синайского полуострова.
Не исправил положения и состоявшийся 22 марта визит Нетаньяху в Вашингтон, который в Израиле называли лечебной поездкой, призванной восстановить доверие между партнерами. Конечно, на конференции Американо-израильского комитета общественных связей (AIPAC), который считается самым влиятельным еврейским лобби в США, взволнованная речь премьер-министра о Иерусалиме была воспринята восторженно. Как в свое время другой израильский лидер, Менахем Бегин, Нетаньяху говорил не от имени государства Израиль, а от имени еврейского народа. «Еврейский народ строил Иерусалим три тысячи лет назад, еврейский народ продолжает строить Иерусалим сегодня, – заявил он. – Иерусалим – это не еврейское поселение, а столица еврейского государства»[463]. Клинтон, выступавшая на конференции за несколько часов до Нетаньяху, обвинила его в том, что, закрывая глаза на рост еврейских поселений на палестинских территориях, он мешает процессу ближневосточного урегулирования. В ответ премьер-министр провозгласил, что «в мире действуют три стандарта: один применим к диктатурам, другой – к демократиям, а третий, самый строгий – к Израилю»[464].
Нетаньяху рассчитывал, что влияние AIPAC в Вашингтоне позволит ему смягчить позицию Белого дома. И действительно, до тех пор, пока в конгрессе не состоялось голосование по ключевой для Обамы реформе здравоохранения, его команда не позволяла себе резких выпадов в адрес израильского премьера, опасаясь окончательно испортить отношения с еврейским лобби. Но как только реформа была одобрена сенаторами, демократы решили наверстать упущенное. «Американцы, – писала израильская газета «Гаарец», – заставили Нетаньяху забыть о своих амбициях, отчитали его, словно нерадивого ученика или неряшливого новобранца, который не привел себя в надлежащий вид во время утреннего построения»[465]. Команда Обамы сделала все, чтобы подчеркнуть свое недовольство израильским лидером. Он не удостоился приема, который в Вашингтоне обычно оказывают близким союзникам; после встречи Нетаньяху с американским президентом не было ни пресс-конференции, ни пышного банкета, ни даже фотосессии. Стоит отметить, правда, что политический кризис никак не отразился на связях между военно-промышленными комплексами двух стран: во время визита Нетаньяху Израиль заключил с США крупную сделку на поставку трех транспортных самолетов «Геркулес C-130J», стоимость которой оценивалась в четверть миллиарда долларов.
По некоторым данным, прохладный прием напугал израильского премьера, который принялся заверять США, что не только готов к возобновлению переговорного процесса с палестинцами, но и может пойти на уступки в «иерусалимском вопросе». Однако в тот же день муниципальные власти одобрили строительство еще нескольких домов в восточной части святого города, продемонстрировав, что Израиль не собирается пересматривать свою политику в угоду американцам. «Можно представить себе, что евреи покинут поселения на Западном берегу Иордана, – говорили эксперты, – но они ни за что не согласятся подарить палестинцам Восточный Иерусалим». Еще в 1980 году израильский кнессет принял закон, провозгласивший Иерусалим «вечной и неделимой столицей» страны. После соглашения в Осло, подписанного в 1993 году, израильтяне ускорили иудеизацию арабской части города. На сегодняшний день в тех районах, которые палестинцы считают своими, проживает четверть миллиона израильтян. «За последние 40 лет ни одно правительство не ограничивало строительство в Иерусалиме»[466], – заявил Нетаньяху, выступая перед членами партии Ликуд. К тому же, как утверждал глава израильского МИД Авигдор Либерман, «если израильтяне пойдут на поводу у США и вернутся к границам 1967 года, мир все равно не установится: конфликт просто перейдет в пределы «зеленой черты»[467].
Тем не менее Соединенные Штаты рассматривали возможность воздержаться в случае, если Совету Безопасности ООН будет предложена резолюция, осуждающая строительство израильских поселений. И это при том, что до этого момента Вашингтон всегда накладывал вето на любые резолюции, подвергающие Израиль критике. Американцы были убеждены, что, продолжая развивать поселения на Западном берегу Иордана и в Восточном Иерусалиме, израильские лидеры мечтают повторить сценарий 1997 года, когда строительство домов на отнятом у палестинцев холме в районе Хар-Хома сорвало мирный процесс и привело к «интифаде Аль-Акса». Евреи, напротив, утверждали, что волну насилия спровоцировала тогда лукавая политика Вашингтона. «Демократическая неоклинтоновская администрация, – отмечал президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский, – это те самые люди, чья активность на Ближнем Востоке привела к интифаде Аль-Акса в Израиле. Сейчас они полны решимости возобновить свои странные игры. Причем возглавляющая эту команду Хиллари Клинтон стала старше, раздраженнее и агрессивнее, чем в те годы, когда она была первой леди США»[468].
После возвращения Нетаньяху из Вашингтона, один из его ближайших советников заявил, что Обама является «стратегической катастрофой для Израиля». Эксперты предсказывали, что Соединенные Штаты без зазрения совести сдадут своего ближневосточного союзника. В администрации США Израиль все чаще называли преградой для продвижения американских интересов в регионе. Это мнение разделял и высший генералитет. Впервые один из самых влиятельных американских генералов, герой войны в Ираке Дэвид Петреус связал провал ближневосточного урегулирования с военными неудачами в Ираке и Афганистане. «Палестино-израильский конфликт, – заявил он, выступая в сенате 16 марта 2010 года, – разжигает антиамериканские настроения в регионе, поскольку в арабском мире принято считать Израиль фаворитом США»[469]. Евреев, разумеется, настораживала такая позиция американского военного истеблишмента. «Это очень сомнительная аргументация, – прокомментировал выступление Петреуса председатель произраильской антидиффамационной лиги Эйб Фоксман, – она напоминает об известной традиции винить евреев во всех смертных грехах»[470].
Конечно, было бы наивно воспринимать стратегический союз США и Израиля как данность. «Особые отношения» сложились лишь в 1960-е годы при администрации Джона Кеннеди, который находился под влиянием еврейского лобби Нью-Йорка. Президент Гарри Трумэн воспринимал Израиль как советскую колонию на Ближнем Востоке, отказался поддержать его в борьбе за независимость и даже ввел эмбарго на поставки оружия. Президент Дуайт Эйзенхауэр осудил еврейское государство за агрессию против Египта и потребовал вывода израильских войск с Синайского полуострова.
Когда администрация Обамы только пришла к власти, политологи говорили, что Америка вновь может отвернуться от Израиля. Как отмечала The Guardian в статье с характерным названием «Неудобный союз», «Соединенные Штаты подошли к черте, за которой они начнут причислять Израиль к стратегическим пассивам»[471].
«С самого начала мы догадывались, что наша жизнь с президентом Обамой не будет медом, – писал корреспондент израильской газеты «Haarez». – Буквально с первых дней его правления из Вашингтона начали поступать неприятные для нас сигналы. К тому же в Израиле всегда с подозрением относятся к лидерам, главные советники которых – евреи»[472]. Ультралевые политики еврейского происхождения, которые заняли ключевые посты в администрации Обамы, начали убеждать президента в том, что у него есть шанс разрубить гордиев узел ближневосточной политики, заставив Израиль пойти на уступки в стратегических вопросах. Неудивительно, что между командой Обамы и правительством Нетаньяху, в которое вошли политики праворадикальных взглядов, отношения не заладились. Фигура израильского премьера вызывала неприязнь еще у чиновников клинтоновской администрации, и новое правительство эту неприязнь унаследовало. «Когда в мае 2009 года, – писал The Economist, – состоялась первая встреча Обамы и Нетаньяху, стало очевидно, что в диалоге с Израилем США избрали язык ультиматумов и угроз»[473]. Очень показательным также стало решение Белого дома сделать первым пунктом ближневосточного турне президента не Иерусалим, а Каир. Именно в Каире Обама произнес свою эпохальную речь о примирении с исламом, в которой недвусмысленно дал понять, что США не признают легитимность израильских поселений и настаивают на возобновлении переговоров с палестинцами.
И хотя вся политическая карьера Нетаньяху строилась на противодействии планам по созданию палестинского государства, в своей речи в университете Бар-Илан, произнесенной через несколько дней после каирского выступления Обамы, он согласился с формулой «два государства для двух народов». Однако порыв израильского премьера в Вашингтоне не оценили. Создавалось ощущение, что демократическая администрация прислушивается только к словам палестинцев, которые изобретали все новые поводы для отказа от прямых переговоров с Израилем. Когда же осенью 2009 года Нетаньяху проигнорировал требования США о полном замораживании строительства в поселениях на Западном берегу, отношения союзников накалились до предела.
Определенную роль в американо-израильской размолвке сыграли причины личного характера. Рассказывают, что Нетаньяху назвал двух ключевых советников Обамы – Дэвида Аксельрода и Рама Эммануэля – «евреями, ненавидящими свой народ», что, разумеется, их очень уязвило. Не самые лестные отзывы можно было услышать в Израиле и о самом президенте США. Журнал ультрарелигиозной партии ШАС, входящей в правительственную коалицию, назвал его «мусульманином и дилетантом», а шурин Нетаньяху, израильский философ Хагай Бен-Арци – антисемитом. «В течение 20 лет Обама близко дружил со священником Джеремией Райтом, который прославился своими антисемитскими проповедями, – отмечал Бен-Арци в интервью радиостанции «Гаалей ЦАХАЛ», – и не вызывает сомнений, что будущий президент разделял его взгляды, поскольку все это время оставался членом Объединенной церкви Христа. В период предвыборной кампании он вынужден был скрывать свои убеждения, но сейчас они становятся очевидны для всех. Приходится констатировать, что новый хозяин Белого дома – антисемит»[474].
«Такие заявления, – отмечал Аарон Дэвид Миллер из международного научного центра Вудро Вильсона, – приводят в бешенство внешне спокойного и улыбчивого Обаму. И вместо того чтобы руководствоваться в отношениях с Израилем прагматичными интересами, он идет на поводу у эмоций»[475].
Значительное влияние на ближневосточную политику Обамы оказывало и мнение его электората. Согласно данным соцопросов, среди избирателей Демократической партии США противников Израиля на 25 % больше, чем его сторонников[476]. И отношение демократов к еврейскому государству не может не отличаться от отношения республиканцев, которые ориентируются на избирателей-евангелистов, верящих в «незримую связь между новым и старым Ханааном».
В своем конфликте с правительством Нетаньяху демократическая администрация США опиралась на еврейское лобби J-Street, которое было создано в апреле 2008 года в противовес AIPAC, традиционно выступавшему на стороне партии Ликуд. Новая организация по своим взглядам была близка израильской партии «Кадима» и полностью разделяла ее подход к проблеме поселений. И если AIPAC и другие традиционные группы влияния вроде Конференции президентов крупных американских еврейских организаций и антидиффамационной лиги отстаивали право Израиля на строительство новых поселений, то J-Street призывала израильтян уйти с палестинских территорий. Лидеры этого лобби обещали Обаме обеспечить широкую поддержку молодых американских евреев, разочаровавшихся в политике Израиля, и у них были на то основания. Опрос Gallup, проведенный в 2009 году, показал, что лишь 54 % проживающих в США евреев в возрасте до 35 лет «полностью поддерживают идею государства Израиль». Для сравнения: среди пожилого еврейского населения этот показатель превышал 80 %[477]. «Для того чтобы убедиться в мировоззренческом сдвиге, – отмечал обозреватель Newsweek Джейкоб Уайсберг, – почитайте любого комментатора-еврея, пишущего для ведущих американских изданий. Чего стоит, например, заявление Ричарда Коэна о том, что создание Израиля преследовало благие намерения, но, по большому счету, было ошибкой». «Раскол по еврейскому вопросу в Соединенных Штатах будет только углубляться», – предсказывал Уайсберг[478].
В этом смысле заслуживали внимания разговоры о том, что администрация Обамы планирует осуществить «смену режима» в еврейском государстве (чтобы избежать нежелательных ассоциаций, политологи предпочитали говорить о «модификации режима»), поставив на место Нетаньяху более гибкого и уступчивого лидера, например, главу «Кадимы» Ципи Ливни.
«Чтобы сменить режим в Израиле, – писал политолог Аарон Дэвид Миллер, – Обама и Клинтон попытаются создать впечатление, что политика Нетаньяху привела к разрыву с Вашингтоном. По их расчетам, это закончится правительственным кризисом и вынудит израильтян выбрать нового премьера, кандидатура которого устроит американцев. Такой же сценарий был разыгран Бушем-старшим и его госсекретарем Джеймсом Бейкером, которые сделали все возможное, чтобы на посту премьер-министра Израиля Ицхака Шамира сменил Ицхак Рабин»[479].
Еще один вариант «модификации», о котором говорили аналитики, это раскол правящей в Израиле коалиции и включение в правительство центристской «Кадимы». «Стоит Нетаньяху согласиться с требованиями американцев и заморозить строительство поселений в Восточном Иерусалиме, – писал Стив Клемонс из аналитического центра New America Foundation, – как религиозные и праворадикальные партии порвут с ним отношения, и премьер вынужден будет создать коалицию с Ципи Ливни, которая давно уже к этому стремится. Такая рокировка, безусловно, вернет ему расположение Соединенных Штатов»[480].
НАСЛЕДНИКИ БЛИСТАТЕЛЬНОЙ ПОРТЫ
Не совсем удачно складывались в эпоху Обамы и отношения с другим ближневосточным союзником США – Турцией. Несмотря на исламистскую идеологию, турецкий премьер Реджеп Тайип Эрдоган всегда считался в Вашингтоне предсказуемым партнером. Созданная им Партия справедливости и развития в отличие от своих предшественниц (вроде радикальной Партии благоденствия) во внешней политике ориентировалась на Соединенные Штаты и Европу. И хотя поначалу ее триумфальная победа на парламентских выборах 2002 года воспринималась на Западе как политическое землетрясение, со временем американские стратеги осознали, что власть умеренных исламистов в Анкаре в большей степени отвечает интересам США, чем господство турецких генералов, отстаивающих светские принципы. Оставаясь стратегическим партнером Америки, Турция постепенно избавлялась от образа троянского коня США на Ближнем Востоке. Кее мнению в регионе начали прислушиваться, и ради этого американцы готовы были простить турецким политикам их фрондерские высказывания, заигрывания с деспотичными режимами и даже такие демарши, как отказ турецкого меджлиса пропустить через территорию страны отправляющихся в Ирак американских солдат. Тем более что, дождавшись рукоплесканий ближневосточных соседей, правительство Эрдогана в итоге предоставило Соединенным Штатам возможность перебрасывать войска воздушным путем. Многим в Вашингтоне импонировал и тот факт, что проамериканский курс Турции обеспечивала не привилегированная каста военных, а демократически избранная власть.
И хотя США не удалось протолкнуть идею о скорейшем вступлении Турции в Евросоюз, в структурах НАТО они отводили стране ключевую роль (даже заместителем генсека альянса был назначен турецкий дипломат). Армия Турции – вторая по численности в НАТО – обладала куда большим боевым потенциалом, чем европейские вооруженные силы. К тому же на турецкой территории была расположена одна из крупнейших американских авиабаз за пределами США – «Инджерлик».
С приходом в Белый дом администрации Обамы с ее новым мышлением Анкару стали воспринимать как мост между Америкой и мусульманским миром. Турция, по мнению советников американского президента, могла выступить посредником в диалоге Вашингтона и Тегерана и сыграть ключевую роль в обеспечении стабильности в Ираке после вывода американских войск. К тому же, они уверяли, что участие турецких солдат в афганской операции делает ее легитимной в глазах местного населения. За сотрудничество с Анкарой выступали крупнейшие оборонные компании США: Lockheed Martin, Boeing, Raytheon, United Technologies и Northrop Grumman, заинтересованные в продолжении поставок вертолетов, ракет и истребителей F-35 на турецкий рынок.
Тем не менее в 2010 году американские политологи начали высказывать сомнения в лояльности исламистского правительства Турции. Поддержка иранской ядерной программы, отказ от размещения американского радара, который планировалось сделать ключевым элементом новой системы ПРО, создаваемой администрацией Обамы, – все это, по словам экспертов, означало, что «Турция поворачивается к Западу спиной». «Если укрепление отношений с Ираном можно обосновать с помощью географии, – писал американский политолог Ариэль Коэн, – то связи с ХАМАС и Суданом означают лишь одно: исламистская солидарность оказывается для правящей турецкой партии важнее декларируемого прозападного курса»[481].
В марте 2010 года международный комитет Конгресса США признал события, которые происходили в 1915 году в Османской империи, геноцидом армянского народа. И политологи провозгласили это решение «черной меткой», которую американцы вручили турецким союзникам. Американские конгрессмены не в первый раз играли на нервах своих ближневосточных союзников: в 1975 и 1984 годах палата представителей уже принимала резолюцию об армянском геноциде, однако тогда ее не удалось протолкнуть через Сенат. Несколько попыток было предпринято и в эпоху Буша.
Конечно, никто не рассчитывал, что Обама и Клинтон выполнят свои предвыборные обещания и признают геноцид армян: кто же воспринимает всерьез ритуальные заклинания кандидатов на президентское кресло, чьи шансы на выборах во многом зависят от штата Калифорния, где решающую роль играют голоса именно армянских избирателей. В традиционном выступлении по поводу годовщины событий 1915 года президент Обама даже не заикнулся о признании геноцида. Но то, что он не стал препятствовать одобрению резолюции в комитете по иностранным делам, многие наблюдатели объясняли желанием США проучить отбившегося от рук Эрдогана.
Отдаляясь от Запада, турецкие исламисты в первую очередь руководствовались соображениями прагматизма. «Когда Россия является крупнейшим торговым партнером Турции, – писал журнал The Foreign Policy, – а Иран остается основным источником дешевого природного газа, поставки которого способствуют росту турецкой экономики, очень сложно по-прежнему играть роль верного союзника США. Интересы бизнеса диктуют и введение безвизового режима с Сирией, которую американцы считают государством, спонсирующим терроризм»[482].
В июле 2010 года во время визита в Анкару британский премьер Дэвид Камерон заявил, что Запад совершает ошибку, закрывая для Турции дверь «в клуб избранных», и сравнил эту мусульманскую державу, принимающую активное участие в афганской миссии НАТО, с «охранником лагеря, которому не разрешают погреться у огня». «Турецких исламистов, – писала The Guardian, – которые поначалу искренне стремились в ЕС, оскорбило пренебрежительное отношение европейцев, которые по ходу игры изменили ее правила, отказавшись обсуждать вопрос о членстве Турции в «христианском» Союзе[483].
С тех пор как МИД Турции возглавил Ахмет Давутоглу, которого прозвали турецким Киссинджером, внешняя политика государства кардинально изменилась. Как отмечал профессор Лондонской школы экономики Джеймс Кер-Линдсей, «министр пытался создать на международной арене образ новой Турции самостоятельного игрока, который обеспечивает стабильность в регионе. Проводя в жизнь неокемалистскую доктрину, Давутоглу сглаживал исторические противоречия с соседями на Ближнем Востоке, в Средиземноморье и на Кавказе, отказывался от характерного для его предшественников догматичного подхода, чтобы утвердить региональное лидерство Турции»[484]. В этом смысле заслуживало внимания предложенная Эрдоганом после российско-грузинской войны платформа безопасности и сотрудничества, смысл которой заключался в том, что проблемы Закавказья должны решаться региональными державами без участия Соединенных Штатов.
По мнению ряда американских экспертов, корни неокемализма следовало искать не в учении Ататюрка, а в идеологических концепциях османских времен, когда «власть не была зациклена на внутриполитических проблемах». Фактически исламисты Эрдогана объявили себя наследниками Блистательной Порты и пообещали восстановить то положение, которое Турция занимала на Ближнем Востоке до Первой мировой войны. С 2002 по 2010 год экспорт турецких товаров в страны региона удвоился, а антизападные и антиизраильские лозунги, которые вовсю эксплуатировало правительство Эрдогана, принесли ему поддержку арабской улицы.
Оставалось только отказаться от «особых отношений» с еврейским государством. Турция, как известно, была первой мусульманской страной, признавшей Израиль и долгие годы она оставалась единственным союзником Иерусалима на Среднем Востоке. Страны развивали торговлю и военное сотрудничество, обменивались разведданными, еврейское лобби в Вашингтоне продвигало турецкие интересы, а Анкара выступала посредником на переговорах Израиля с Сирией. Но когда ПСР провозгласила неокемалистскую доктрину, стало очевидно, что союз с «сионистским государством» будет мешать амбициям новой Османской империи. В конце 2008 года операция «Литой свинец» в секторе Газа дала Анкаре прекрасный повод для ссоры с неудобным союзником. И когда в январе 2009 года Эрдоган со скандалом покинул давосский саммит, обвинив израильского президента Шимона Переса в массовых убийствах, на Ближнем Востоке его встречали как героя.
В итоге Турция фактически присоединилась к антиизраильскому блоку Сирии и Ирана. В мае 2010 года Анкара организовала рейд так называемой «Флотилии свободы». Это обошлось ей в несколько десятков миллионов долларов и, по мнению большинства политологов, было хорошо спланированной провокацией. Израильские спецназовцы, совершенно того не ожидая, встретили на борту турецкого гуманитарного судна «Мави Мармара» вооруженную толпу, оказавшую им яростное сопротивление. В результате были убиты девять граждан Турции, и команда Эрдогана тут же провозгласила недавнего союзника «вероломным, опасным, безответственным и избалованным государством, которое привыкло к полной безнаказанности»[485]. После того как правительство Биньямина Нетаньяху отказалось принести официальные извинения, из Анкары были высланы все израильские дипломаты рангом выше второго секретаря посольства. Турция заморозила военные, разведывательные и экономические связи с еврейским государством и присоединилась к Ирану, который давно уже призывал МАГАТЭ заняться израильской ядерной программой и наложить на Иерусалим санкции за несоблюдение режима нераспространения.
И хотя команда Обамы прохладно относилась к Израилю, амбиции турецких исламистов стали вызывать у нее неподдельный страх. Не случайно в Вашингтоне все чаще задумывались о том, как восстановить в Турции позиции сторонников светской власти, способных уравновесить влияние ПСР. В феврале 2010 года команда Эрдогана всерьез была напугана визитом в Анкару замгоссекретаря США Уильяма Бернса, который первым делом провел встречу с заместителем начальника турецкого генштаба генералом армии Асланом Гюнером. Возможно, именно эта встреча послужила поводом для новой волны арестов по делу о заговоре против исламистского правительства. На скамье подсудимых оказались не только отставные, но и действующие генералы турецкой армии, обвиненные в подготовке так называемого плана «Кувалда», целью которого было создать в стране атмосферу хаоса и страха, чтобы вынудить военных взять власть в свои руки.
В начале 2011 года Обаме было уже не до амбиций турецкой элиты. Начиная с «жасминовой» революции в Тунисе, в результате которой был свергнут президент Зин Бен Али, управлявший страной с 1987 года, на Ближнем Востоке началась серия восстаний и мятежей, получивших название «арабская весна».
«Не корабли управляют ветрами», – говорили арабы, желая подчеркнуть бессмысленность любого народного выступления против местных правителей, опиравшихся на армию и спецслужбы. И представить себе, что солдаты, которых отправили на усмирение мятежа, будут брататься с бунтовщиками и откажутся стрелять в беснующуюся толпу, было практически невозможно. Но именно это происходило в Египте в январе 2011 года. Западные СМИ сравнивали каирский «марш миллионов» с падением Берлинской стены, многие эксперты были убеждены, что египтянам удастся повторить опыт Туниса, и «Мубарак вынужден будет снять номер в саудовском отеле по соседству с Бен Али». Однако оптимисты надеялись, что рокировочка, которую произвел египетский президент 29 января 2011 года, назначив своим заместителем шефа спецслужб Омара Сулеймана, сможет спасти правящий режим: Мубарак, уйдет в отставку, но страной будет править человек, лично ему преданный.
Хотя нельзя было забывать о том, что в египетскую «революцию» вложены огромные деньги. Причем, как это ни парадоксально, местную оппозицию спонсировали одновременно Иран и Соединенные Штаты. С Ираном все было предельно ясно. Египет Мубарака считался главным стратегическим соперником Исламской Республики. И падение «фараона» было в ее интересах. «На наших глазах рождается новый исламский Ближний Восток, – провозгласил во время пятничной молитвы один из иранских духовных лидеров аятолла Ахмад Хатами. – Время диктаторов, поддерживаемых Западом, в арабском мире прошло»[486].
С Америкой все было намного сложнее. Мубарак, как известно, считался ключевым союзником Вашингтона и в противостоянии с Ираном, и в борьбе с радикальными исламистами. Именно в эпоху его правления Египет стал вторым после Израиля получателем американской помощи (3 млрд. долларов ежегодно). «Трехсторонний альянс США, Израиля и Египта, – писал The Economist, – был краеугольным камнем американской политики на Ближнем Востоке, и отказываться от него ради призрачной финиковой демократии по меньшей мере странно»[487]. Придя к власти в 1981 году, Мубарак не раз доказывал свою преданность Белому дому. «В нашем регионе девять из десяти карт в колоде – в руках Соединенных Штатов», – говаривал он.
Египетский президент всегда считался одним из главных преследователей радикальных исламистов: он казнил убийц своего предшественника Садата, запретил «Братьям-мусульманам» заниматься политической деятельностью и не раз выступал с жесткой критикой движения ХАМАС. Не случайно исламисты внесли Мубарака в черный список и шесть раз покушались на его жизнь. Раздражение у «правоверных мусульман» вызывали также заигрывания с Израилем. И хотя Мубарак объявил «холодный мир» в отношениях с еврейским государством, с израильскими лидерами он был крайне любезен, а Биньямина Нетаньяху, которого палестинцы называли дьяволом, постоянно приглашал в свою резиденцию в Шарм-эль-Шейхе.
«Проамериканская политика Египта, – писал журнал The Nation, – привела к тому, что имя «Мубарак» вызывало в арабском мире крайне отрицательные эмоции. Египтяне оказались по другую сторону баррикад во время интифады, событий в Газе и ливанского конфликта. В результате Каир потерял влияние в регионе, и во главе арабского сопротивления оказались не арабы, а персы и турки»[488].
Тем не менее Америка сдала своего союзника при первом же удобном случае. Движение «6 апреля», которое играло ключевую роль в финиковой революции, возникло на основе прозападной молодежной организации «Кифая!» («Хватит!»). И, как следовало из сообщения американского посла в Египте Маргарет Скоби, опубликованного на сайте WikiLeaks, США были осведомлены о том, что оппозиция составляет секретные планы «смены режима» в преддверии президентских выборов 2011 года. Чем же объяснялось такое поведение Вашингтона? Зачем было рубить сук, на котором сидишь? Или всему виной была привычка рассовывать деньги по разным копилкам? Большинство экспертов сходились во мнении, что в начале 2011 года мир наблюдал остаточные явления неоконсервативной революции Буша. Как отмечал в 2003 году один из ведущих неоконов, бывший глава ЦРУ Джеймс Вулси, «американцы на стороне тех, кого вы, мубараки и королевская саудовская семья, больше всего боитесь, – на стороне ваших народов»[489].
Справедливости ради стоит отметить, что Обама со своей позицией определился не сразу. Он, как всегда, метался из стороны в сторону, стараясь одновременно угодить и реалистам, и вильсонианцам, настаивающим на экспорте демократии. «Белый дом собрал пресс-конференцию, чтобы продемонстрировать ясность и твердость своего смятения и неуверенности», – писал в своем блоге Джошуа Тревино, бывший спичрайтер Джорджа Буша. – Если Джимми Картер вошел в историю как президент, потерявший Иран, то Обама может запомниться как президент, потерявший Турцию, Ливан и Египет»[490].
Главной надеждой американцев был бывший глава МАГАТЭ Мохаммед эль-Барадеи, который строил из себя отца египетской демократии, выступая перед мятежниками на центральной каирской площади Тахрир. В свое время он основательно измотал американцам нервы, отказываясь принять их подход к иранской ядерной программе, однако, судя по всему, это была попытка самоутвердиться и заработать политические очки на Западе. Как писал журнал The National Review, «Барадеи – типичный неудачник, наивный фантазер, который не обладает политическим чутьем. Такие люди могут свергнуть автократов, как это сделали меньшевики в России, светские реформаторы в Иране и антибатистовские силы на Кубе, но не способны удержать власть. Большинство из них получает пулю в затылок уже через несколько часов после становления нового режима»[491]. Чего стоило, например, интервью Барадеи Der Spiegel, в котором он бросился на защиту своих новых союзников по антимубараковской коалиции: «Мы не должны демонизировать «Братьев-мусульман», – заявил он. – Они не совершили никаких актов насилия за последние пять десятилетий. Они тоже хотят перемен, и мы обязаны включить их в нашу систему, вместо того чтобы маргинализировать их»[492]. «Братья-мусульмане» посмеивались в усы над идеализмом Барадеи, однако оставались на вторых ролях, предоставляя ему возможность быть лицом революции. Хотя для большинства экспертов по Ближнему Востоку было очевидно, что все это до поры до времени. «Мавр сделает свое дело и уйдет, – писала The Guardian, – а на вершине власти окажутся те люди, которые несколько десятилетий находились в подполье»[493].
Египет на протяжении всего последнего века считался кузницей кадров для глобального исламистского движения. Здесь находился легендарный университет Аль-Азхар, выпускниками которого являлась добрая половина членов «Аль-Каиды». Главный идеолог этой организации Айман аль-Завахири также был египтянином и давно уже объявил свержение режима Мубарака одним из приоритетов. Если, придя к власти, исламисты решатся на конфронтацию с Западом, говорили эксперты, население воспримет это с восторгом. Такие меры, как закрытие Суэцкого канала для иностранных военных кораблей или снятие блокады сектора Газа, могли принести им огромные дивиденды.
Политологи отмечали, что ускоренная исламизация приведет к ослаблению Египта, чем не преминут воспользоваться его соседи, в первую очередь Турция, которая пытается вернуть себе влияние в арабском мире. С другой стороны, Египет был главным торговым парнером Анкары, и его превращение в нестабильное государство, вряд ли обрадовало бы турок. К тому же, согласно теории домино, вслед за Египтом могли полететь другие ближневосточные режимы, в регионе воцарился бы хаос, и геополитические игры главы турецкого МИД Ахмеда Давутоглу показались бы всем бессмысленным фарсом.
11 февраля 2011 года Мубарак отказался от власти, толпа на площади Тахрир ликовала, а западные политики и их новые египетские протеже рассуждали о торжестве демократии. «Народ Египта сказал свое слово, и его голос был услышан[494], – заявил Обама. «Это лучший день моей жизни, – отметил Барадеи, возглавивший либеральную оппозицию. – Страна наконец стала свободной, и можно рассчитывать, что процесс передачи власти будет красивым»[495].
Однако что же произошло в реальности? Власть в Египте перешла к Высшему совету вооруженных сил, который уже на следующий день после отставки Мубарака отменил конституцию и распустил парламент и начал управлять страной. Толпа на площади Тахрир, несмотря на всю ее телегеничность, оказалась лишь второстепенным игроком в той драме, которая разыгрывалась в Египте. Основным же действующим лицом как всегда была армия, управляющая страной с тех самых пор, как полковник Гамаль Абдель Насер осуществил военный переворот, отстранив от власти королевскую династию. Насер построил государство по образу и подобию кемалистской Турции, сделав военных своей главной опорой. И когда Мубарак попытался передать власть по наследству сыну Гамалю это вызвало возмущение армейской верхушки. Гамаль никогда не был профессиональным военным и офицеры восприняли предложение Мубарака как покушение на святая святых египетского режима.
Таким образом, цели военных и мятежников с площади Тахрир совпали. И те, и другие мечтали избавиться от Мубарака. И армия фактически воспользовалась народными протестами, чтобы сохранить власть. Ни о какой демократизации не могло быть и речи. Сложно было представить себе, что реформы начнет проводить бывший министр обороны генерал-фельдмаршал Мухаммед Хусейн Тантауи, назначенный главой Военного совета. Ведь этого чиновника американские дипломаты называли «твердолобым консерватором, который еще больше, чем Мубарак, нацелен на сохранение статус кво». Новые власти пообещали не менять внешнеполитический курс Египта, оставив в силе все подписанные ранее договоры, в том числе и мирный договор с Израилем. «Страной управлял старый солдат, – отмечалось в исследовании американского центра Stratfor, – теперь ею управляет несколько старых солдат, у которых даже больше полномочий, чем было у Мубарака. 82-летнего старца вышвырнули из президентского дворца, конституции и парламента больше нет, а есть лишь военная хунта, такая же, как была в Турции до сентября прошлого года, такая же, как управляет сейчас Алжиром»[496].
Как бы то ни было, весь регион от Марокко до Пакистана продолжал полыхать. Эксперты утверждали, что прав был известный американский футуролог Джералд Челенте предсказавший, что 2011-й станет годом бунтов и революций, которые охватят весь мир. Америка же, как говорили многие, умывала руки. Легкость, с которой Вашингтон отказался от поддержки Мубарака, шокировала всех партнеров США – от Саудовской Аравии до Израиля. «На Востоке это воспринимается как предательство, – писал The American Thinker, – неумение ценить дружбу, готовность отречься от прежних союзников, необязательность – все эти качества, по мнению местных элит, несовместимы с позицией лидера, на которую традиционно претендовали Соединенные Штаты»[497]. Проявлением слабости считали в регионе и решение администрации Обамы о выводе войск из Афганистана и начавшиеся переговоры с бывшим непримиримым врагом Америки – движением Талибан. Эксперты все чаще говорили о том, что эпоха Вашингтона на Ближнем Востоке закончилась, как в свое время завершилось европейское владычество. И неудивительно, что уход очередного гегемона сопровождается массовым брожением и революциями.
Тем более что в регионе не было ярко выраженного лидера, который занял бы место Вашингтона. Да, определенные амбиции были у Тегерана и Анкары, но максимум, что могли сделать крупнейшие ближневосточные игроки, – это спутать карты своим соперникам. Не случайно Ближний Восток называли «регионом спойлеров». Саудовская Аравия боролась с иранским влиянием в Ираке и сирийским влиянием в Ливане, Египет пытался помешать Турции примирить соперничающие палестинские группировки, Иран сеял рознь между арабскими странами региона. «Соединенные Штаты, – писал журнал The Foreign Affairs, – могли бы стать главным спойлером в регионе, однако они предпочитают самоустраниться. Придя к власти, Обама обещал перевернуть страницу в ближневосточной политике США, но в итоге просто захлопнул наскучившую американцам книгу»[498]. Может быть, конечно, он ее и захлопнул, но присутствие США в регионе сохранялось и массовые стихийные выступления явно были не в их интересах. Ведь «дни гнева» довольно быстро могли перерасти в антиамериканское восстание.
Многих наблюдателей удивляла синхронность протестов, которые охватили столь непохожие друг на друга страны, как Йемен и Марокко. Действительно, что могло быть общего у беднейшего государства региона, которое раздирали племенные противоречия, и средиземноморской монархии с относительно высоким уровнем жизни и популярным молодым королем, который ведет свой род от пророка Мухаммеда? Как можно было объяснить, что пожар одновременно вспыхнул в Бахрейне, традиционно считающемся американским протекторатом, и Ливии, лидер которой 40 лет подряд проклинал западных капиталистов?
Конечно, чужой пример заразителен, но поверить в то, что революционный вирус распространяется так быстро и ни у одного ближневосточного государства нет к нему иммунитета, было практически невозможно. Не случайно появились многочисленные теории заговора, обвиняющие «мировую закулису» в желании посеять хаос в стратегически важном регионе. Когда бузить начали тунисцы и египтяне, большинство политологов были уверены, что протестная волна не перекинется на Ливию, Алжир и другие страны – экспортеры нефти. Ведь местные власти, мол, всегда могут погасить народное недовольство с помощью крупных денежных подачек. Однако прогнозы эти не оправдались, и события, происходящие на Ближнем Востоке, утратили для западных политологов всякую логику. «Единственным рациональным объяснением массового психоза на Ближнем Востоке, – писал The Economist, – может быть демографический взрыв. Сейчас 70 процентов населения региона составляют молодые люди моложе 30 лет. Занятость среди молодежи чрезвычайно низка, а стареющие лидеры, которые не сменялись уже несколько десятилетий, вызывают у нее аллергию»[499]. Правда, как бы это ни подавалось на Западе, диктаторским режимам молодые люди противопоставляли отнюдь не либеральную парламентскую систему, а исламскую народную демократию.
И реалисты в Америке стали сомневаться, что другие государства отделаются так же легко, как Египет. Вариант контролируемого «выпуска пара» с дальнейшим переходом к «диктатуре развития» под мудрым руководством военных можно реализовать лишь в стране, где армия всегда считалась источником верховной власти и пользовалась непререкаемым авторитетом. «Революция в Египте, – отмечалось в исследовании американского центра Stratfor, – по сути, стала военным переворотом, однако в других ближневосточных странах, скорее, реализуется иранский сценарий 1979 года, а это значит, что в обозримом будущем они превратятся в исламские теократии. И западным политикам останется лишь развести руками»[500].
Даже такой давний оппонент американцев, как лидер ливийской революции Муаммар Каддафи, говорили эксперты, со временем покажется для них меньшим злом, чем политики, пришедшие ему на смену. О том, кто стоит за кровопролитными столкновениями в Ливии, можно было судить по взрывному эффекту, который произвело обращение 50 мусульманских лидеров страны к Каддафи: «Брат, ты больше нам не брат, ты должен покинуть страну».
Именно правление муфтиев и представителей влиятельных ливийских кланов изначально являлось альтернативой «джамахирии» – режиму народовластия, провозглашенному полковником Каддафи в 1977 году. Де факто джамахирия была, конечно, военной диктатурой левого толка. Не случайно Каддафи называли «африканским Кастро». Однако лидер революции утверждал, что Ливия идет по особому пути, который был подробно описан им в легендарной «Зеленой книге». И хотя «третья мировая теория» Каддафи включала в себя и «государственный ислам», местным мусульманам этого оказалось недостаточно. Вдохновленные событиями в Тунисе и Египте, они призвали «покончить с режимом полковника». Живущий в эмиграции ливийский рэпер бен Табет записал ролик, который тут же стал гимном противников Каддафи: «Муаммар, клянусь, мы добьемся твоего падения». На Востоке Ливии было сформировано временное правительство во главе с бывшим министром юстиции Мустафой Джалилем. А западные политологи стали утверждать, что лидер ливийской революции пользуется поддержкой лишь своего родного племени аль-каддафа, шансов сохранить власть у него нет и Триполи в ближайшее время перейдет в руки оппозиции.
Ливийские власти, не желая повторять опыт своих незадачливых соседей, сразу решили действовать жестко. Людей, вышедших на демонстрацию в Бенгази, отстреливали снайперы, а когда разъяренная толпа затеяла штурм местной резиденции Каддафи, охранявшие ее солдаты открыли огонь на поражение. Затем в городе началась настоящая бойня: мятежники сражались с правительственными войсками за каждую улицу. А когда последовало обращение ливийских духовных лидеров к «каждому мусульманину на службе режима», военный гарнизон Бенгази перешел на сторону восставших.
После этого сын ливийского лидера Саиф Каддафи попытался образумить подданных. Вину за кровопролитие он возложил на «оппозиционные элементы, живущие за рубежом», но объяснил, что в Ливии бархатной революции не выйдет и протестное движение обернется в итоге гражданской войной. Мятежников он назвал «иностранными наймитами, пьяницами, бандитами и наркоманами» и пообещал сражаться с ними «до последнего солдата, до последней минуты, до последнего патрона». «Путаная речь младшего Каддафи, – отметил The Economist, – стала лучшим доказательством того, что власть больше не контролирует ситуацию в стране»[501]. Против восставших были брошены элитные части, сохранившие верность режиму, и отряды наемников из африканских стран (Чада, Нигера, Гвинеи, Туниса). В ответ племенной лидер Акрам аль-Варфалли, контролировавший территорию на подступах к ливийской столице, пригрозил перекрыть главный нефтепровод страны (это заявление вызвало резкий скачок мировых цен на нефть). Конечно, оппозиционерам не хватало знаковой фигуры – молодого энергичного политика, такого, каким был сам Муаммар Каддафи 40 лет назад, когда он бросил вызов правящему в Ливии королю Идрису I.
Лидер ливийской революции изо всех сил цеплялся за власть. Политологи утверждали, что в отличие от таких прагматичных правителей, как Мубарак и Бен Али, он настолько же иррационален, как и противостоящая ему народная стихия. Стоило только посмотреть на его выступление в полуразрушенном здании казармы: Каддафи, одетый в традиционный бедуинский бурнус, полузакрыв глаза и слегка раскачиваясь, стоял за небольшой трибуной и рассуждал о том, что его отставка невозможна даже теоретически. «С поста лидера революции можно уйти только в мученики, – говорил он. – Моими усилиями Ливия стала центром арабского и исламского мира, Африки и Латинской Америки, и я никуда не уйду». Создатель джамахирии проклинал врагов, в число которых попали «собаки-журналисты», «сепаратисты», «пьяницы», «наркоманы», ЦРУ, НАТО, Великобритания, Израиль, исламисты, агенты Бен Ладена, ну и, разумеется, ливийские «крысы и тараканы», требующие его отстранения от власти. Все эти маниакальные заявления и жесткие действия Каддафи делали его воплощением «порочных режимов», с которыми сражалась арабская улица.
Конечно, ливийская толпа сильно отличалась от египетской или тунисской. Ливия – государство, ключевую роль в котором играли кланы и племена. Для них уличные бои намного органичнее мирных «бархатных» выступлений. «Если сравнивать ближневосточные события с революциями в Восточной Европе, – писал немецкий журнал Der Spiegel, – в Ливии, скорее всего, реализуется румынский сценарий, когда в результате кровопролитного восстания диктатор Николае Чаушеску был расстрелян своими подданными»[502]. Правда, как говорили на Западе, напоследок «безумный полковник» может громко хлопнуть дверью, взорвав нефтепроводы или даже применив химическое оружие.
Не меньшее удивление, чем восстание в Ливии, у экспертов вызвали волнения в королевстве Бахрейн. Самое крошечное арабское государство, в котором проживало не более миллиона граждан, считалось одним из финансовых центров исламского мира и крупным экспортером углеводородов. Правящая элита запросто могла откупиться от мятежников и ей незачем было применять силу. Поэтому когда представителей оппозиции, собравшихся на Жемчужной площади Манамы (столица Бахрейна) разогнали с помощью дубинок и слезоточивого газа, это вызвало гневную отповедь со стороны американского Госдепа.
Вашингтону было за что беспокоиться. В Бахрейне находилась база Пятого флота ВМС США, который играл ключевую роль в военных действиях в Ираке и Афганистане и считался главным инструментом сдерживания Ирана. И если бы монархия была свергнута, Америке пришлось бы несладко. Ведь суннитской королевской династии Аль-Халифа, которая правит в стране с XVIII века и традиционно ориентируется на Саудовскую Аравию, противостояло шиитское проиранское большинство, составляющее в Бахрейне 70 % населения. Оппозиционеры требовали ввести выборы главы правительства, изменить конституцию и расширить политические права шиитов.
Проиранское большинство с ликованием встречало вернувшегося из изгнания лидера радикальной шиитской организации «Аль-Хак» Хассана Мушаиму. И на Западе были убеждены, что если местные шииты восторжествуют, провалится один из самых важных экспериментов в регионе. Ведь король Бахрейна Хамад Аль Халифа – отчаянный реформатор, который пытался насадить в своей стране демократию. Он наделил женщин правом голоса, создал реальную, а не игрушечную оппозицию, но для защиты либеральных реформ вынужден был прибегать к антидемократическим мерам, продолжая, например, назначать верхнюю палату парламента. «Последние события доказывают, – писал The American Thinker, – что на Ближнем Востоке невозможно построить демократию с помощью реформ, осуществляемых исключительно сверху. Судя по всему, это очередная утопическая идея в духе секты Карматов, управлявших Бахрейном тысячу лет назад и мечтавших создать здесь общество всеобщего равенства»[503].
«В результате, – писала The Washington Post, – маленькое королевство, от которого во многом зависят поставки нефти через Ормузский пролив и американское военное присутствие в регионе, могло перейти в иранскую сферу влияния. Ахмадинежад с удовольствием прибрал бы к рукам Бахрейн, который в Тегеране давно уже называли «иранской провинцией»[504].
У американцев был и еще один повод для беспокойства. Шиитские выступления в Бахрейне могли перекинуться на восточные провинции Саудовской Аравии, в которых большинство населения также составляли шииты. А это уже был серьезный вызов для саудовской геронтократии. И хотя Эр-Рияд отказывался признавать, что 20 % подданных в королевстве исповедуют другую ветвь ислама, замалчивать этот факт и дальше было очень непросто. «Несмотря на дождь из нефтедолларов, – писал журнал The Foreign Policy, – дряхлая саудовская династия трясется сейчас за свою власть. Ведь даже наследным принцам здесь давно уже за 80. Правящая верхушка напоминает советское Политбюро 1980-х годов. И если на границах королевства вспыхнет пожар, ей не удержать ситуацию под контролем. Действовать как раньше, подкупая воинственные южные племена и сохраняя запрет на деятельность оппозиции внутри страны, будет уже невозможно»[505]. Поэтому американцы не возражали, когда Саудовская Аравия и другие монархии Залива ввели свои танки в Бахрейн и подавили шиитское восстание.
А пожар тем временем разгорался. Помимо Бахрейна, который граничил с Саудовской Аравией на востоке, массовые выступления начались в Йемене – беднейшем государстве Аравийского полуострова, расположенном к югу от «нефтяного королевства». Президент Али Абдалла Салех правил в Сане с 1978 года. В 1990-м ему удалось распространить свою власть на Южный Йемен, однако местная военная элита не могла с этим смириться. «В последнее время обостряется конфликт между южанами-шафиитами (суннитская ветвь ислама) и северянами-зейдитами (шиитская ветвь ислама), – отмечал президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский. – К тому же как южные, так и северные племена не могут простить Салеху его попытку передать власть по наследству»[506]. События в Йемене негативно сказались на ситуации в ибадитском Омане, где правящий с 1970 года султан Кабус бен Саид не имел наследников. Многие политологи утверждали, что эта страна избежит судьбы своих соседей, поскольку большая часть населения в ней принадлежит к ибадитской ветви ислама, отрицающей любое насилие. Но не тут-то было: жители султаната легко подхватили революционную заразу.
«Как бы то ни было, – предсказывал The Foreign Affairs, – хаосом в регионе, скорее всего, воспользуется Иран, мечтающий укрепить свое влияние на противоположной стороне залива. Не вызывает сомнений, что ИРИ стоит за недавними конфликтами йеменских хауситских племен с Саудовской Аравией. И если теория домино окажется верна для Аравийского полуострова, в выигрыше, конечно, будут персы»[507].
В Иране на тот момент колоссальное влияние приобрели генералы Корпуса стражей исламской революции, а государственной идеологией стал великодержавный персидский национализм. Не случайно в феврале 2010 года президент Ахмадинежад совершил пятничный намаз в суннитской мечети в Сирии, заявив, что ислам для него един, и он не видит существенных различий между суннитами и шиитами. Главной задачей иранской элиты становилась не победа в религиозных войнах, а укрепление персидского влияния. Интересы Тегерана простирались от афганского Герата до мавританского Нуакшота. И, как отмечали многие наблюдатели, падение старых проамериканских режимов на Ближнем Востоке могло создать вакуум власти, которым иранцы непременно воспользуются.
Поэтому никого не удивили комментарии иранских аятолл, увидевших в событиях в Тунисе и Египте «логическое продолжение исламской революции 1979 года». И хотя египетские «Братья-мусульмане» попытались поставить их на место, заявив, что в стране происходит не исламская, а народная революция, ничто не могло омрачить радость иранцев, избавившихся от своего старинного недруга – президента Мубарака. Верховный аятолла Али Хаменеи превозносил каирских «героев», которые отправили на свалку истории «американского прихвостня», совершенно позабыв о том, что всего два года назад в самом Иране происходили очень похожие события, получившие название «зеленая революция». Молодежь, вышедшая тогда на улицы Тегерана, бросила вызов местной правящей элите, которая, по ее словам, сфальсифицировала президентские выборы. И, несмотря на то что революционной гвардии удалось подавить беспорядки, оппозиция, которую тайно поддерживали многие консервативные политики, недовольные курсом Ахмадинежада, сохранила влияние в стране.
И как это ни парадоксально, события в Египте вызвали у нее такую же эйфорию, как у властей. На улицы иранских городов вновь вышли десятки тысяч человек, скандирующих «Мубарак! Бен Али! Теперь Хаменеи!». Полицейские и басиджи (дружинники) не стеснялись применять против них силу. Потенциальные лидеры революции были посажены под арест, доступ в Интернет закрыт, а на центральной площади Тегерана прошел «митинг ненависти», на котором представители оппозиции были названы «преступниками и лицемерами, мечтающими подорвать великолепие иранского народа». Однако пессимисты были убеждены, что на этот раз тегеранская элита не отделается заявлениями о «происках сионистов и американских шпионов». «В отличие от беспечных египтян, – писала The Guardian, – которые болтались без дела на площади Тахрир, покуривая кальян и играя в нарды, персы – решительные люди, способные на самопожертвование ради идеи. И вторая попытка «зеленой революции» вполне может завершиться успехом. Таким образом, вместо того чтобы пожинать плоды арабских революций, иранский режим сам может столкнуться с серьезным внутренним кризисом»[508].
В связи с событиями на Ближнем Востоке многие вспоминали «Восстание масс» Оргеги-и-Гассета и «Психологию народов и масс» Ле Бона. «Безликая масса, – говорили исследователи, – может лишить власти старую политическую элиту, но выдвинуть яркие идеи она не способна. В волнениях и революциях ее привлекает лишь возможность коллективного сопереживания, и у нее нет четких представлений о том, какой будет политическая система после крушения существующего строя»[509]. И если для Европы веком масс, безусловно, стал век минувший, в арабском мире и Азии толпа только сейчас начала выходить на передний план. Восстания середины XX века не в счет. Все-таки, в первую очередь, это были выступления против европейских колонизаторов. Подъем арабской улицы в XXI веке – явление совершенно другого порядка. Тогда мятежники сбрасывали старую власть под руководством энергичных молодых офицеров с четкой политической программой, будь то арабский социализм или джамахирия. На этот раз у толпы не было лидеров, она осознала собственную силу и выходила на улицы в первую очередь для того, чтобы продемонстрировать ее. Да, она призывала к свержению засидевшихся на троне правителей, но не имела ни малейшего понятия о том, кем их можно было бы заменить.
В этом смысле очень показателен был пример Туниса, где после падения президента Бен Али, у власти осталось прежнее правительство. В марте 2011 года сотни тысяч людей вновь вышли на центральную площадь тунисской столицы и добились отставки премьер-министра Мохаммеда Ганнуши, на смену которому пришел соратник первого президента Туниса экс-министр обороны Беджи Каиб Себси. «Назначение на эту ключевую должность 85-летнего старца, пропахшего нафталином, – писала The Daily Telegraph, – выявляет главный парадокс арабского восстания. Мятежники – это однородная масса, не способная выдвинуть харизматичных лидеров, и, чтобы удовлетворить их требования, политический класс вынужден постоянно тасовать старую колоду»[510].
Ни первая, ни вторая волна «жасминовой революции» не привела к кардинальным изменениям. А значит, говорили эксперты, толпа продолжит бузить, упиваясь собственным могуществом и сбрасывая одного чиновника за другим. До тех пор, разумеется, пока не придут арабские фюреры, способные покорить, а затем и приструнить людские массы, найдя другое применение их энергии. Не случайно идеолог Аль Каиды Айман аль-Завахири призывал тунисцев и египтян к повторной революции, а Военный совет Египта вынужден был разгонять силой протестующих, собравшихся вновь на площади Тахрир. «Ни переходное правительство Туниса, ни пришедшая на смену Мубараку военная хунта, – отмечал The Nation, – не удержатся у власти. Рецидивы жасминовых выступлений неминуемы. И, скорее всего, весь Ближний Восток охватит кровопролитная гражданская война вроде той, что ведется сейчас в Ливии»[511].
ЛИВИЙСКАЯ «ОДИССЕЯ» ОБАМЫ
В марте 2011 года западные страны решили вмешаться в ливийскую гражданскую войну, и многие политологи стали обвинять их в том, что они наступает на старые грабли. Ведь Ливия Каддафи во многом напоминала саддамовский Ирак: крупная нефтяная держава во главе с харизматичным лидером, которому удалось установить светский режим и приструнить местных исламистов. Казалось бы, в США и Европе такого правителя должны носить на руках, однако вместо этого его обвиняли во всевозможных злодеяниях и вводили экономические санкции против его страны. «До боли знакомый сценарий, – отмечал эксперт лондонского Королевского института оборонных исследований Шашанк Джоши, – и даже повстанцы, которые пользуются поддержкой Запада, как и иракские шииты контролируют нефтеносные регионы страны. А вторая по величине государственная нефтяная компания Ливии Arabian Gulf Oil Company финансирует оппозицию»[512].
Конечно, западные и восточные ливийские племена всегда были на ножах. В эпоху итальянского колониального владычества страна была фактически расколота на Триполитанию на Западе и Керенаику на Востоке. Восточные племена сыграли ключевую роль в борьбе за независимость, и именно их ставленником был король Идрис I, свергнув которого, Каддафи стал опираться на западное племя аль-каддафа. «Проживающие на востоке племена зувайя и мисрата, – писал автор книги «Ливийский парадокс» Луис Мартинес, – чувствовали себя обделенными и постоянно плели интриги против ненавистного полковника»[513]. Как утверждал бывший посол СССР в Ливии Павел Акопов, «хотя Каддафи пытался соблюдать балланс между племенными лидерами, восток страны всегда бурлил. Здесь, в Зеленых горах и крупных портовых городах, таких как Бенгази и Тобрук, проживали наиболее состоятельные ливийские граждане, презрительно именовавшие Каддафи «королем бедняков». К тому же на востоке всегда была сильна исламистская оппозиция режиму. Тот же Идрис, отстраненный Каддафи от власти, был, как известно, внуком легендарного ас-Сенусси – основателя исламистской секты ваххабистского толка»[514].
Однако, что бы ни говорили об оппозиционных настроениях на Востоке, у некоторых арабистов складывалось ощущение, что в отличие от волнений в Египте и Тунисе, события в Ливии изначально были кем-то срежиссированы. Ведь если бы это было не так, плохо организованные, не обученные военному делу мятежники вряд ли смогли бы так долго противостоять хорошо подготовленным частям Каддафи. Как отмечал бывший посол в Ливии Олег Пересыпкин, «повстанцы очень ловко обращаются с легким оружием – гранатометами, «Калашниковыми», и закрадывается подозрение, что это вовсе не мирные демонстранты, которые разграбили склад с вооружением. Думаю, в действительности это наемники, финансируемые Западом. Об этом говорят многочисленные факты. Откуда, например, у мятежников появились монархические флаги Ливии, да еще в таком количестве? Когда они успели их изготовить?»[515]
Таким образом, становилось очевидно, что западные политики изначально планировали воспользоваться волнениями в арабском мире, чтобы избавиться от Каддафи. Только осуществить это они надеялись руками повстанцев. И первые три недели им сопутствовал успех. Мятежники захватили три четверти ливийской территории и угрожали Триполи. Однако затем правительственные войска перехватили инициативу. Жестко подавив восстание в Аль-Завии и вернув под свой контроль нефтеналивные порты Рас-Лануф и Брега, они начали продвигаться к столице повстанцев Бенгази. А директор Национальной разведки США Джеймс Клэппер провозгласил на слушаниях в конгрессе, что «у ливийского режима есть все шансы одержать верх в противостоянии с оппозицией»[516].
Именно в этот момент 17 марта западные страны протащили в Совбезе ООН резолюцию, устанавливающую над Ливией зону, закрытую для полетов и позволяющую использовать любые необходимые средства для защиты мирных ливийских граждан (за исключением наземной военной операции). Казалось бы, борьба с сепаратистами – внутреннее дело Ливии, однако, как отмечали эксперты, в современном международном праве на смену безоговорочному признанию суверенитета приходит доктрина гуманитарных интервенций. «Конечно, запретная зона осложнит жизнь Каддафи, – утверждал эксперт из Брукингского института Кеннет Поллак. – Ему тяжелее будет перемещать войска, обеспечивать снабжение армии. Утратит он и основное тактическое преимущество на поле боя – возможность использовать военную авиацию. Однако, скорее всего, он продолжит громить повстанческие отряды и западные союзники либо будут вынуждены взирать на это с высоты птичьего полета, либо дать добро на вторжение сухопутных войск»[517]. «За прошедшее десятилетие, – писал американский политолог Росс Доутхэт, – Соединенные Штаты дважды устанавливали зоны, запрещенные для полетов, – в бывшей Югославии и в Ираке. В обоих случаях это становилось лишь трамплином для дальнейшей эскалации: массированных бомбовых ударов, вторжения, оккупации…»[518]
Тем не менее Каддафи попытался переиграть своих западных противников, пообещав выполнить условия резолюции и остановив боевые действия. Его сын Сейф аль-Ислам объявил, что Ливия прислушается к советам международного сообщества и не будет вводить в Бенгази армию, ограничившись антитеррористическими подразделениями. Ход изящный, нечего сказать, однако на Западе его изящество не оценили. Да и сложно представить себе, что должны были сделать ливийские власти, чтобы предотвратить операцию «Одиссея». Ведь если военная машина закрутилась, ее уже не остановить.
20 марта французские ВВС начали бомбить войска Каддафи, а американские и британские корабли выпустили 110 крылатых ракет по объектам ПВО. В результате авианалетов погибло более 60 мирных граждан, и это настроило против коалиции умеренных политиков.
Когда гражданская война в Ливии только началась, глава Пентагона Роберт Гейтс, выступая в военной академии Вест-Пойнт, заявил, что «тот министр обороны, который посоветует президенту США начать очередную военную операцию в Африке или на Ближнем Востоке, закончит свои дни в доме для умалишенных»[519]. Не менее рационален был глава комитета начальников штабов адмирал Майкл Маллен, который после принятия резолюции ООН настаивал, что «целью военной операции, если она все-таки будет проведена, должна быть защита мирных граждан, а не падение Каддафи».
Госсекретарь Хиллари Клинтон долгое время поддерживала точку зрения военных-реалистов, однако в итоге отдала предпочтение сторонникам гуманитарной интервенции во главе с американским представителем в ООН Сьюзен Райс. В 90-е годы Райс была советником Билла Клинтона. Именно она настояла на том, чтобы Вашингтон не вмешивался в события в Руанде, и не могла себе этого простить.
Гуманитарную интервенцию поддерживали и конгрессмены. «По логике вещей, – писал Росс Доутхэт, – на смену вьетнамскому синдрому в Америке должен был прийти иракский синдром. Однако этого не произошло. Напротив, на Капитолийском холме, как и восемь лет, назад сложилась двухпартийная коалиция, выступающая за военную операцию на Ближнем Востоке. Причем в нее вошли как оголтелые либералы-прогрессисты из левого крыла демпартии, так и ультраконсерваторы из «Движения чаепития»[520].
Таким образом, у Обамы фактически не оставалось выбора. Из голубя он вынужден был превратиться в ястреба, копируя ультимативный тон и мессианский задор своего предшественника. «Нынешняя администрация, – писал обозреватель The Atlantic Эндрю Салливан, – готова пожертвовать своими принципами и отказаться от реалистической доктрины во внешней политике ради защиты мятежников, о которых мы ровным счетом ничего не знаем»[521]. Одним из немногих противников ливийской операции был президент Совета по международным отношениям Ричард Хаас. Он призывал США держаться в стороне от «средиземноморских разборок». «Это не гуманитарный кризис масштаба, скажем, Руанды, – писал он в The Wall Street Journal еще до начала военных действий. – В Ливии у США нет жизненно важных интересов и, размышляя о том, вмешаться ли нам в ливийскую гражданскую войну, мы должны понимать, что это будет не гуманитарная интервенция, а очередная военная авантюра США»[522].
Однако Обама не пожелал прислушаться к мнению реалистов, которые до этого момента оказывали решающее влияние на его внешнеполитический курс. Несмотря даже на то, что рисковал утратить поддержку электората, поддержавшего его когда-то на волне недовольства ближневосточными авантюрами Буша. И многие в Америке скептически отнеслись к решению президента. «Операция против Каддафи, – писал журнал The Nation, – может стать последней одиссеей Барака Обамы».
Конечно, Америка пыталась сделать хорошую мину при плохой игре и обещала играть в Ливии «вспомогательную роль», выдвинув на передний план своих европейских союзников – Францию и Великобританию. Французский президент Николя Саркози, которого давно уже называли «неоконом с французским паспортом», сразу дал понять, что мечтает о том, чтобы возглавить антикаддафистскую коалицию. Он признал оппозиционный Национальный переходный совет в Бенгази единственной законной властью в Ливии, активно сражался за принятие резолюции ООН, призвал нанести точечные удары по логову диктатора и провел в Париже чрезвычайный саммит представителей ЕС и Лиги арабских государств. Саркози, которому на следующий год предстояло участвовать в президентских выборах, надеялся поднять свой рейтинг с помощью «маленькой победоносной войны». К тому же с Каддафи у него были личные счеты. Лидер ливийской революции заявил, что финансировал предвыборную кампанию Саркози, но в итоге разочаровался в этом «клоуне». Такое определение привело в бешенство вспыльчивого французского лидера, которому не терпелось наказать обидчика.
К крестовому походу присоединился и британский премьер Дэвид Камерон, которому не давали покоя лавры Тони Блэра, игравшего значительную роль на мировой арене. Многие говорили, что участие в операции «Одиссея» является логическим продолжением провозглашенной Камероном доктрины «мускулистого либерализма», направленной против нелегальных иммигрантов-мусульман. Как это ни парадоксально, британское общество, за три года до этого яростно осуждавшее иракскую кампанию, поддержало инициативу премьера. Даже один из идеологов либеральных демократов Джулиан Эстл заявил, что «представление о вигах как об антивоенной партии глубоко ошибочно, и в случае с Ливией у Британии просто не существует другого выбора, кроме как военное вмешательство»[523].
Чем объяснялся такой порыв? То ли британцы хотели дать молодому лидеру тори понюхать порох, то ли по-прежнему точили зуб на Каддафи за теракт над Локерби и изгнание английских компаний из Ливии. «Самым разумным объяснением, – писала The Daily Telegraph, – является имперское сознание британцев, которые хоть и осуждали Блэра за то, что он втянул страну в пять вооруженных конфликтов, не имели при этом ничего против доктрины гуманитарных интервенций, воспринимая ее как нечто органичное, отражающее глубинные черты их менталитета»[524].
Особенно приятно было для англичан играть первую скрипку, избавившись наконец от традиционной роли «американского пуделя». «Это личный дипломатический триумф Камерона, – писала The Guardian после принятия резолюции ООН. – Он отстаивал идею международного вмешательства с самого начала, в то время как нерешительный, вечно рефлексирующий Обама изо всех сил сопротивлялся европейским союзникам, опасаясь быть втянутым в очередной ближневосточный конфликт и не отработать Нобелевскую премию мира»[525].
То, что основным партнером Соединенного Королевства являлась Франция, вызывало у британцев приятные ассоциации с эпохой Антанты. «Франция всегда была надежным союзником, – писал журнал The Spectator, – а на данный момент это единственная держава в континентальной Европе, которая что-то представляет собой в военном отношении. К тому же, если другие европейские народы являются просто хорошими соседями Британии, французов мы давно воспринимаем как своих кузенов»[526]. Стоит отметить, что Лондон и Париж были настроены куда более решительно, чем Вашингтон, утверждая, что целью операции должно стать не прекращение огня, а свержение ливийского режима.
Сам Каддафи называл операцию «Одиссея» «агрессивным «крестовым походом» колониалистов и обещал вести длительную войну с западными странами, «нацеленными на ливийскую нефть». «Вы – тираны и животные, которых интересует лишь черное золото»[527], – обратился он к лидерам международной коалиции. И, судя по всему, был не так далек от истины. Ведь одним из главных мотивов участия в операции для многих стран стало обещание Вашингтона предоставить им преференции на ливийском нефтяном рынке «в зависимости от вклада в общую победу». А поскольку 85 % нефти из Ливии поступало в Европу, у политологов были все основания назвать западный «крестовый поход» очередной войной за ресурсы.
Военное вмешательство западных стран позволило ливийским повстанцам перехватить инициативу у армии Муамара Каддафи. Однако участники международной коалиции долго не могли определить конечную цель операции «Одиссея». К тому же интервенция в Ливии, по словам политологов, могла окончательно взбаламутить весь Ближний Восток, ведь для мятежников стало очевидно, что чем ожесточеннее их сопротивление правящему режиму, тем больше они могут рассчитывать на поддержку Запада.
Для большинства американцев оставалось загадкой, почему президент Обама, не получив даже одобрения конгресса, ввязался в ливийскую авантюру. Критики указывали, что режим Каддафи не представляет угрозы для национальной безопасности США, обвиняли президента в узурпации военных полномочий, несдержанности и безрассудстве. Представитель прогрессистской фракции демократов, бывший кандидат в президенты Деннис Кусинич предложил даже вынести Обаме импичмент за втягивание страны в третий ближневосточный конфликт.
Не менее категоричен был и идеолог крайне правого изоляционистского крыла республиканцев Патрик Бьюкенен, назвавший политику администрации «гуманитарным идиотизмом». «Обаме, – заявил он, – следует вспомнить слова американского посла в России Джона Рэндолфа, который в 1830 году призвал Америку отказаться от помощи грекам, восставшим против турецкого владычества. «Почему мы должны помогать им? – писал Рэндолф. – Их семь миллионов. Мы же защитили себя, когда нас было всего три миллиона, притом против державы, по сравнению с которой турок покажется ягненком»[528].
«Война мистера Обамы» не пользовалась популярностью и в американском обществе. Операцию в Ливии поддерживали 47 % американцев, против выступали 37 %. Для сравнения: за вторжение в Ирак в 2003 году выступали 76 %, против – 20 %. Про Афганистан и говорить нечего: за вооруженную борьбу с талибами в конце 2001 года высказывались 90 % опрошенных, а против – всего 5 %[529].
Как это ни парадоксально, поведение Обамы не устраивало и тех, кто с самого начала выступал за военное вмешательство. Они сетовали, что президент решил нанести удар слишком поздно, когда берберский лев уже оправился от первоначального потрясения и начал теснить повстанцев. Но, пожалуй, больше всего их раздражали заявления Обамы о том, что Америка будет играть в ливийской операции «вспомогательную роль». «Он постоянно рефлексирует, осторожничает и ведет себя так, будто руководство свободным миром доставляет ему неудобство»[530], – говорил сенатор Линдси Грэм. А старый приятель Буша-младшего консервативный республиканец Рик Санторум и вовсе считал «национальным унижением» тот факт, что во главе западного воинства идут «французики». «У нас не главнокомандующий, а главнонаблюдающий»[531], – подводил итог будущий участник республиканских праймериз 2012 года Ньют Гингрич.
Либералы, напротив, хвалили президента за многосторонний подход и не возражали против лидирующей роли европейских стран. «Обама совершил настоящую революцию во внешней политике, – писал редактор The Newsweek International Фарид Закария. – Он порвал с традициями времен холодной войны, когда американцы солировали во всех военных операциях «свободного мира». И вместо того чтобы стать главным действующим лицом ливийского шоу, занял место на скамейке запасных. Участвовать в операции он согласился лишь после долгих уговоров. Думаю, это верная тактика, ведь Америке всегда больше подходила роль империалиста, действующего по принуждению»[532].
Было непонятно лишь, справятся ли с ролью лидера европейские державы. Операция «Одиссея» была передана в ведение НАТО. Однако, как писал The Economist, «в Североатлантическом альянсе – разброд и шатание. Американцы рассчитывают переложить все тяготы и расходы, связанные с вооруженным конфликтом, на европейских союзников, европейцы же уверены, что Америка рано или поздно возглавит операцию»[533]. Франция и Британия основной задачей международной коалиции считали свержение Каддафи, Турция – единственная мусульманская страна НАТО – ставила им палки в колеса, не желая признавать право союзников наносить точечные удары по стратегическим объектам, тяжелой технике и артиллерии ливийцев.
Большинство европейских стран раздражали амбиции Николя Саркози, который утверждал, что Париж не будет подчиняться командам из Брюсселя, поскольку НАТО играет в ливийской операции чисто техническую роль и не способна понять историческую миссию французов». Союзники призывали остудить пыл «венгерского клоуна, возомнившего себя Бонапартом», итальянцы обвиняли его в «неоимпериалистическом подходе», а немцы – в желании разрушить европейское единство. Франко-германский союз, составлявший всегда ядро ЕС, трещал по швам. Самоуверенное поведение Саркози было воспринято в Берлине в штыки. «Это оскорбительно, – говорили немецкие политики, – что Франция не захотела даже проконсультироваться с Германией по ливийскому вопросу». А министр экономического развития ФРГ Дирк Нибель обвинил Париж и Лондон в двойных стандартах. «Примечательно, – заявил он, – что именно те страны, которые с таким задором бомбят Ливию, продолжают экспортировать ливийскую нефть»[534].
Критики операции «Одиссея» не понимали также, кто будет ее спонсировать. Два ближневосточных конфликта и так являлись непосильным бременем для американской казны, и на третий у Вашингтона практически не было денег. Европейские страны в 2011 году были вынуждены существенно сократить свои военные бюджеты, и, если бы ливийская эпопея затянулась, могли просто вылететь в трубу. К тому же было неясно, чего, собственно говоря, добиваются западные страны. Хотят ли они установить в Триполи марионеточный режим, взять под контроль нефтяные месторождения, создать форпост в Северной Африке, или крестовый поход в ливийскую пустыню – это непродуманная бесполезная авантюра, ввязаться в которую США и Европа решили с досады оттого, что события в арабском мире развиваются совершенно не так, как им бы хотелось: лояльный Мубарак вынужден уйти, а непредсказуемый и эпатажный Каддафи, которого американские политологи окрестили «Вуди Алленом мировой сцены», продолжит мозолить им глаза.
Конечно, у союзников были неплохие шансы быстро разделаться с армией «ливийского диктатора». Ведь хроническое недоверие к военным и политические идеи народовластия привели к тому, что армии в обычном понимании этого слова в Ливии не было – был набор бригад, более или менее боеспособных. Об их боеспособности можно было судить хотя бы по войне с Чадом 1983–1987 гг., когда ливийские войска не смогли одержать победу над плохо вооруженным малочисленным противником.
В конце весны – начале лета 2011 года положение Каддафи становилось все более шатким. На саммите «восьмерки» в Довилле, который проходил в конце мая, традиционный союзник Ливии – Россия – присоединилась к западным державам, требующим, чтобы лидер ливийской революции уступил власть повстанцам. Мятежное правительство в Бенгази говорило об «агонии ненавистного полковника», на сторону оппозиции переходили высокопоставленные ливийские военные: офицеры и генералы, утверждавшие, что правительственные войска парализованы ударами НАТО и режим потерял возможность финансировать армию. Однако Каддафи не унывал. Не зря же многие эксперты называли его «политиком, который не знает себе равных в борьбе за выживание». Он обратился с просьбой о посредничестве к Греции и даже потребовал у правительства Йоргоса Папандреу разморозить счета ливийских чиновников. Кроме того, Каддафи отправил письмо в американский конгресс, в котором указал «благородным представителям Республиканской партии», что Соединенные Штаты берут на себя львиную долю расходов на операцию в Ливии и «американские налогоплательщики вынуждены отдуваться за своих европейских собратьев»[535]. Таким образом, Каддафи всеми возможными способами пытался посеять рознь в западной коалиции. И, как писала газета The Huffington Post, «семена его падали на хорошо взрыхленную почву. Ведь ливийская военная кампания постепенно становилась для трансатлантических союзников настоящим яблоком раздора»[536]. Очень показательной в этом смысле стала прощальная речь Роберта Гейтса, которую он произнес в Брюсселе 10 июня 2011 года за три недели до того, как покинуть пост главы Пентагона. «Вы надеетесь отсидеться в сторонке, – обрушился он на представителей европейской военной элиты, – переложив всю ответственность на Соединенные Штаты. И хотя операция в Ливии проводится в европейских интересах, доля США в военных расходах НАТО возросла сейчас до 75 %. И если так будет продолжаться, новые американские лидеры, которые уже плохо помнят эпоху холодной войны, махнут рукой на союзнические обязательства перед Европой»[537].
Каддафи, конечно, рассчитывал, что те политики на Западе, которые охотятся за его скальпом, окажутся в меньшинстве, Америка прекратит бомбардировки накануне президентских выборов, а европейские союзники ничего не смогут сделать в одиночку. И тогда правительственным войскам не составит труда разгромить повстанцев. Ведь позиции Каддафи в Ливии по-прежнему были сильны. И хотя отдельных чиновников Западу удавалось склонить к измене, вожди бедуинских племен сохраняли верность создателю Джамахирии. «Кодекс чести бедуина, – писал The Economist, – запрещает ему предавать человека, которому он служит. И Каддафи вполне может рассчитывать на западные ливийские племена»[538]. «Люди сжигают себя, чтобы свергнуть режим, а мы готовы сжечь мир, чтобы защитить нашего лидера», – говорили его сторонники.
Однако политологи были убеждены, что на востоке Ливии Каддафи уже вряд ли когда-нибудь восстановит свою власть. Ведь именно ради того, чтобы отбить у него восточные нефтеносные провинции, США и ЕС ввязались в ливийскую авантюру (неслучайно нефтеналивные порты Брега и Рас-Лануф стали главным яблоком раздора: они трижды переходили из рук в руки). «Сотрудники ЦРУ финансировали повстанцев, многие из которых были связаны с «Аль-Каидой», – говорил влиятельный республиканец Пол Крейг Робертс, – поскольку понимали, что в противном случае Америка может проиграть в схватке с Китаем за Черный континент. Поддерживая «свободолюбивых жителей Бенгази», США надеются замедлить создание Chinafrica, и на востоке Ливии они наверняка создадут независимое государственное образование, которое разорвет все сделки с Пекином»[539].
Что же касается остальной территории страны, ястребы считали, что сохранение Каддафи у власти, пусть и в усеченной Ливии, будет воспринято как поражение Запада. «Главное, – писал The American Thinker, – чтобы Обама не пошел у них на поводу и вовремя остановился. В конце концов, многие американские президенты завершали военную миссию, добившись лишь промежуточных целей. Здесь можно вспомнить и операцию Кеннеди в Заливе Свиней, и действия Рейгана в Ливане»[540].
Если дело все-таки закончится падением берберского льва, политологи призывали западные державы не повторять иракских ошибок, зачищая ливийский госаппарат от сторонников Каддафи. Ведь, несмотря на то что поначалу Соединенные Штаты объявили баасистов вне закона, со временем они стали единственной силой, на которую можно опереться в Ираке. «Не желая второй раз наступать на те же грабли, – писал The Economist, – западная коалиция не возражает против того, что в Национальном переходном совете Ливии присутствуют люди, когда-то входившие в ближайшее окружение Каддафи»[541]. Что вообще представляет собой ливийская оппозиция на Западе, практически никто сказать не мог. И уже тогда многие предполагали, что мятежники окажутся чудовищем Франкенштейна, как это произошло в случае с афганскими талибами и иракскими шиитами.
После начала ливийской операции многие эксперты стали говорить, что Обама продолжает дело Буша, расправляясь со странами, которых неоконы включили когда-то в ось зла. «Если продолжить ряд Ирак – Ливия, – писал журнал The Nation, – следующим звеном должна стать Сирия. Три эти государства очень похожи. В арабском мире это были изгои, не попавшие под влияние США, пережившие длительный период санкций, светские, социалистические, копирующие насеровскую модель державы. И если американцы будут последовательны, а последовательность, как известно, главная добродетель, следующий удар они нанесут по Дамаску»[542].
НА ОЧЕРЕДИ СИРИЯ
Когда глава Всемирного союза мусульманских богословов шейх Юсеф аль-Кардави заявил, что «следующей остановкой революционного поезда станет Сирия»[543], многие эксперты возражали ему, отмечая, что режим Башара Асада – один из самых стабильных на Ближнем Востоке. Однако в середине марта 2011 года Сирию, действительно охватили беспорядки, которые застали врасплох не только западных политологов, но и местные власти.
Беспорядки начались в середине марта в городе Дераа на юге Сирии. Разъяренная толпа сожгла дворец правосудия, здание местного отделения правящей партии «Баас» и сбросила с пьедестала статую Хафеза Асада. Для властей это стало громом среди ясного неба, и республиканская гвардия во главе с братом президента Махером Асадом устроила в Дерааа настоящую резню. Погибло более ста человек, в город были введены танки, мятежные районы окружены спецназом. Тем временем волнения перекинулись на крупнейший средиземноморский порт страны Латакию и древние западно-сирийские города Хомс и Хама. В старой партийной речевке «Только Бог, Сирия и Асад» фамилию президента заменили словом «свобода». «Страха больше нет», – скандировали демонстранты, опровергая слова знаменитой диссидентки Сухаир Атасси, в начале года назвавшей Сирию «королевством молчания и страха».
Первое время казалось, что президент будет действовать по ливийскому сценарию. Власти объявили, что в стране орудуют иностранные наемники и преступные банды, и принялись разгонять демонстрации, не стесняясь использовать военную силу. Однако через некоторое время Асад, который из кожи вон лез, чтобы предстать на Западе светским просвещенным правителем понял, что топить восстание в крови он не может. «Сирийский президент пошел на попятный, – писал The Economist, – он уволил местного губернатора, отставки которого добивались манифестанты, представ в роли доброго халифа, избавляющего народ от злых эмиров»[544].
Кроме того, Асад выступил в Народном совете, повинившись перед родственниками погибших и пообещав предоставить сирийцам свободу слова, ввести в стране многопартийность и укрепить независимость судебной власти. Он вновь вспомнил о своем образе времен дамасской весны, заявив, что нынешнее правительство запоздало с проведением реформ и потому будет оправлено в отставку. Он пообещал отменить чрезвычайное положение, действующее в стране с 1963 года, и пресловутую 8-ю статью Конституции, которая наделяла «Баас» привилегиями правящей партии. У многих экспертов вызвало недоумение решение сирийского лидера выпустить на свободу несколько сотен политзаключенных, большинство из которых принадлежали к запрещенной в стране группировке «Братья-мусульмане».
Однако какие бы действия ни предпринимал Асад, на какие бы уступки мятежникам он не шел, страна продолжала бурлить. Больше всего власти опасались, что с юга волнения перекинутся на северо-восток, населенный курдами, и северо-запад, где расположены самые крупные суннитские провинции страны. «Если распадется альянс алавитской правящей элиты с суннитами, – писал The Foreign Affairs, – Сирию ждет хаос. Не случайно, многие партийные идеологи «Баас» настаивают на том, что восстание нужно давить на корню и предлагают заменить на посту президента мягкотелого Асада на его брата Махера, который считается сторонником жесткой линии»[545]. Чтобы «революционная зараза» не распространялась по стране, военные предлагали отрезать южные регионы от центральных и северных, блокировать район Друзской горы, в котором проживают около миллиона друзов, и сирийскую часть Голанских высот.
Многие в Дамаске были убеждены, что беспорядки в стране стали возможны лишь в результате «большого заговора» западных крестоносцев и израильских ястребов. Такого же мнения придерживался венесуэльский каудильо Уго Чавес. «В Ливии и Сирии, – говорил он, – реализуется один и тот же сценарий: жителей этих стран провоцируют на кровопролитные конфликты, чтобы потом осуществить гуманитарную интервенцию, завладеть их природными ресурсами и превратить в колонии»[546].
Асад, действительно, являлся для Вашингтона персоной нон грата. Он даже родился 11 сентября. Американцы не могли простить ему тесную связь с Ираном, который поставлял в Сирию оружие и планировал превратить местный порт Латакия в свою военную базу на Средиземном море. Раздражала США и поддержка, которую Асад оказывал ливанскому движению «Хезболла» (во время ливано-израильской войны 2006 года он вызвал на Западе волну возмущения, заявив, что арабские лидеры, критикующие ливанских исламистов, – это «отступники», «паразиты» и «нелюди»).
Неудивительно, что некоторые представители администрации Обамы проводили параллель между Асадом и полковником Каддафи. «Крах сирийского режима в интересах Вашингтона, – утверждал вице-президент Брукингского института Мартин Индик. – Это могло бы стать хорошим противовесом иранскому влиянию в регионе, которое резко возросло после падения режима Мубарака в Египте, шиитских волнений в Бахрейне и охлаждения американо-саудовских отношений»[547]. Однако реалисты в США утверждали, что, несмотря на заигрывания Асада с Тегераном, светское правительство алавитов может оказаться меньшим злом по сравнению с радикальными суннитами, которые придут ему на смену.
Падения сирийского режима опасались и в Израиле. «Ничего не может быть хуже неопределенности, – писала газета Haaretz, – и хотя Асад не раз позволял себе антиизраильские выпады, он мог обеспечить стабильность. Если его свергнут с престола, не совсем понятно, кто будет контролировать ракеты Скуд с химическими боеголовками и командовать сирийской армией на Голанских высотах?»[548] Конечно, Асад ориентируется на Тегеран, говорили израильтяне, но его режим все-таки лучше прямого иранского вмешательства во внутренние дела Сирии, поводом для которого могут стать волнения в курдских регионах.
Когда волнения в Сирии только начались, западные страны вели себя очень осторожно, понимая, что режим Башара Асада по крайней мере гарантирует статус-кво в стратегически важном для них регионе. Несмотря на заигрывания с Тегераном, сирийские баасисты всегда могли охладить пыл радикалов из движения «Хезболла» и ослабить влияние ИРИ в Ливане. Кроме того, в Дамаске достаточно спокойно относились к присутствию американских войск в Ираке, понимая, что это единственная сила, способная противостоять исламским экстремистам. И хотя Сирия так и не заключила мир с Израилем, династия Асадов пыталась выстроить прагматичные отношения с еврейским государством и не угрожала его границам. Западных политиков смущал и тот факт, что Асаду в стране фактически нет альтернативы. «Если бы в Сирии сформировался переходный политический совет вроде повстанческого правительства в Бенгази, – писал The Foreign Affairs, – все было бы намного проще. Именно бенгазийские повстанцы призвали на помощь западных союзников, сирийская же оппозиция пока не только не способна объединить усилия, но и настроена резко против иностранного вмешательства. Ведь у нее перед глазами всегда будет пример соседнего Ирака»[549].
Долгое время западные страны даже не заикались о вмешательстве. «Американцы и европейцы так боялись разворошить сирийское осиное гнездо, – писал The Economist, – что готовы были довольствоваться потемкинскими реформами Асада, который, 21 апреля 2011 года отменил чрезвычайное положение, действующее в стране с 1963 года, но тут же подписал антитеррористический акт, по сути, вводящий те же самые ограничения»[550]. Однако сирийские баасисты вольно или невольно провоцировали западные страны. И дело было даже не в жестком подавлении мятежей. Асаду сошло бы это с рук, если бы он был более покладистым. Но он ни на йоту не отступил от традиционного внешнеполитического курса. Сирия сыграла ключевую роль в формировании нового правительства Ливана в июне 2011 года, в котором большинство министерских портфелей досталось членам движения «Хезболла».
В США и ЕС, разумеется, это восприняли в штыки, когда же был совершен теракт против итальянских военных, входящих в миротворческий контингент ООН в Ливане, Асада, открыто поддерживающего «Хезболла», окончательно записали в изгои. Последней каплей для Запада стал конфликт на Голанских высотах. 16 мая партийные функционеры «Баас» срежиссировали волнения палестинских беженцев, которые попытались пересечь границу Израиля и вынудили солдат ЦАХАЛ открыть огонь на поражение. «Понятно, что Асаду необходимо было отвлечь внимание от беспорядков, которые охватили практически всю страну, – писала The Daily Telegraph, – но зачем же лезть на рожон, лишая своих адвокатов на Западе главного аргумента. Ведь именно способность обеспечить стабильность на сирийско-израильской границе позволяла ему рассчитывать на снисхождение»[551].
Уже на следующий день после инцидента с палестинскими беженцами госсекретарь США Хиллари Клинтон пообещала «поддержать требования сирийской оппозиции». И хотя за месяц до того она прославляла реформаторские начинания Асада, теперь Клинтон заявила, что «репрессивный сирийский режим мало чем отличается от иранской теократии и будет сметен ветром перемен, охватившим весь Ближний Восток». Президент Обама тут же выдвинул ультиматум, призвав Асада «возглавить реформы или отойти в сторону»[552]. Американцы ужесточили санкции против чиновников, замешанных в подавлении мятежа, включили в черный список самого сирийского лидера и поддержали проект резолюции ООН, осуждающей преступления баасистов.
Застрельщиками, правда, вновь выступили европейские страны. Как и в случае с Ливией, самую воинственную позицию занял президент Николя Саркози. «Франция, – писала газета Liberation, – готова рискнуть. В Париже считают, что режим Асада утратил легитимность. В этом отношении Франция идет даже дальше, чем Соединенные Штаты, хотя на протяжении последних четырех лет она считалась главной защитницей Дамаска на Западе»[553].
Республиканцы, играющие ключевую роль в конгрессе США, осуждали администрацию Обамы за бездействие, однако и европейские инициативы считали «бессмысленным сотрясанием воздуха». «Даже если предлагаемую резолюцию удастся протолкнуть в Совбезе ООН, – говорила глава Комитета по международной политике Илеана Рос-Лехтинен, – она так и останется беззубой. Было бы верхом абсурда принять документ, не имеющий обязательной силы. В ответ на кровавые преступления нельзя просто погрозить Дамаску пальцем и прочитать ему очередную нотацию. Этого явно недостаточно»[554].
Однако большинство экспертов считали, что вслед за «беззубой» резолюцией последуют «зубастые», как это происходило в ливийском случае. В феврале Совбез ООН осудил действия Каддафи, а уже в марте наложил на Ливию санкции, поручил Международному суду начать расследование «преступлений против человечности» и ввел зоны, запрещенные для полетов, фактически дав зеленый свет для военной операции НАТО. «Судя по всему, – писал The Nation, – тот же сценарий может повториться и в Сирии. Неслучайно Гаагский трибунал уже готовит досье на Башара Асада, а чиновники МАГАТЭ неожиданно вспомнили, что четыре года назад Сирия строила ядерный реактор (который был уничтожен в результате налета израильских ВВС), и потребовали в связи с этим ввести санкции против Дамаска»[555].
Поскольку европейцы и турки пришли к согласию в сирийском вопросе, решив пожертвовать фигурой Асада, а Соединенные Штаты, это решение благословили, к антиасадовской коалиции примкнули и арабские государства, в первую очередь Египет и Саудовская Аравия, которые никогда не отличались любовью к баасистской элите. Многие политологи, конечно, пытались успокоить себя, уверяя, что в Сирии союзники не будут действовать по ливийскому сценарию. «Введение зон, запрещенных для полета, в данном случае не принесет никакого эффекта, – отмечал The Foreign Affairs. – Ведь в отличие от Каддафи, который наносил авиаудары по позициям повстанцев, Асад предпочитает проводить массовые аресты. Военная интервенция также не выход из положения, дом Асадов должен разрушиться изнутри»[556].
Чтобы ускорить его разрушение, американцы использовали такие традиционные инструменты влияния, как Национальный демократический институт и Международный республиканский институт, у которых есть богатый опыт в организации «цветных» революций. Кроме того, западные эксперты рассчитывали, что жесткие экономические санкции вынудят суннитский предпринимательский класс отвернуться от правящей алавитской элиты, а это, в свою очередь, усилит оппозиционные настроения среди суннитских офицеров, которые вполне могут организовать военный переворот и отстранить баасистскую верхушку от власти.
Как отмечал автор книги «В логове льва. Битва Вашингтона с Сирией» Эндрю Таблер, «Соединенные Штаты могут без единого выстрела избавиться от одного из самых проблемных соперников в регионе. Крах системы, в которой доминируют алавиты, и формирование правительства суннитского большинства повлекут за собой революционные изменения в геополитической стратегии Дамаска и вынудят его разорвать союз с шиитским Ираном»[557]. Только вот не станет ли, вопрошали скептики, радикальное суннитское государство (а сирийские «Братья-мусульмане» считаются самыми оголтелыми представителями этого движения) еще большей головной болью для Вашингтона?
Головной болью для Америки могло стать и положение в Йемене, где всю весну продолжались волнения, а лидер страны Абдулла Салех рисковал повторить судьбу правителей, потерявших власть в Египте и Тунисе. После того как трон под Салехом зашатался, усилились позиции йеменских исламистов. Один из популярных местных богословов шейх Абдель Маджид аз-Зиндан назвал протесты населения «джихадом во имя Аллаха» и заговорил о создании в Йемене исламского государства. Эксперты отмечали, что в стране находятся десятки тысяч боевиков-исламистов, а Аль-Каида Аравийского полуострова считается чуть ли не самым мощным звеном во всемирной террористической сети.
Тем удивительнее, что Соединенные Штаты отказывались поддержать Салеха. Ведь речь шла не только о признательности за те услуги, которые он оказывал Вашингтону в борьбе с коммунизмом и радикальным исламом. Речь шла о сохранении стабильности в ключевом для Америки регионе. Ведь, как говорили политологи, йеменской армии вряд ли удастся повторить египетский сценарий, и падение нынешнего режима приведет к распаду государства. «Йемен, – отмечали они, – рискует стать такой же пиратской территорией, как Сомали, тем более что сотни тысяч сомалийских беженцев живут на юге Аравийского полуострова». К тому же, волнения в Йемене могли перекинуться на Саудовскую Аравию, где находится четверть мировых запасов нефти. А это означало бы энергетический коллапс, по сравнению с которым нефтяной кризис 1973 года показался бы детской забавой.
К лету 2011 года было уже очевидно, что ни о какой демократизации Ближнего Востока речи не идет и «арабскую весну» не стоит сравнивать с бархатными восточноевропейскими революциями. «В Ливии, Йемене и Сирии, – писал The Foreign Affairs, – нет ничего похожего на политически сознательный средний класс. И авторитарным режимам здесь противостоят беднейшие слои или соперничающие кланы. Это не «арабская весна», а «арабская осень», откат к Средневековью. Не демократическая революция, а бунт обездоленных, который сопровождается племенными разборками и выступлениями религиозных фанатиков»[558].
Поддерживая мятежников с площади Тахрир, Западу еще удавалось сохранять лицо, однако когда «борцами за свободу» были провозглашены бенгазийские повстанцы, сирийские «Братья-мусульмане» и старейшины йеменских племен, никто уже не воспринимал всерьез разговоры о «ветре перемен». «Конечно, – писала The Guardian, – у Соединенных Штатов появилась возможность нарисовать пугающие образы злодеев: Муамара Каддафи, Башера Асада и Али Абдалы Салеха, которым американцы отводили роль Ричарда III на подмостках мировой политической сцены. Однако стоит ли игра свеч? И как будет вести себя Америка, если на смену авторитарным правителям придут радикальные исламисты?»[559]
УДАЧНАЯ ОХОТА
Таким образом, говорили многие эксперты, можно было сделать вывод о том, что на Ближнем Востоке американцы поставили на исламистов. После «жасминовых» революций в западном политическом истеблишменте все более популярной становилась идея сотрудничества с ними. Этим объяснялось и желание провозгласить окончание войны с террором. «Доктринерство Буша, – отмечал обозреватель The Daily Beast Питер Байнарт, – не давало нам возможности разобраться в различиях между крупнейшими исламистскими движениями»[560]. И террористическая сеть Аль-Каида постепенно становилась единственной преградой на пути альянса Америки с мусульманскими радикалами.
И тут как по заказу 2 мая 2011 года американские «морские котики» провели успешную спецоперацию в пакистанском Абботабаде, в результате которой был уничтожен террорист № 1 – Усама бен Ладен. Охота на него велась более десяти лет. И известие о гибели главного врага Вашингтона, воплощавшего в сознании американцев абсолютное зло, вызвало в США небывалый взрыв ликования, сопоставимый разве что с реакцией на победу над Японией в 1945 году.
Огромные толпы собрались на Таймс-сквер в центре Манхэттена, рядом со стройкой на месте Всемирного торгового центра, у ограды Белого дома и на мосту Свободы в Сиэттле. «Спонтанные торжества по поводу убийства бен Ладена напоминали экстаз, который переживают первобытные племена во время религиозных ритуалов, – отмечал американский психолог Джонатан Хейдт. – Такое коллективное возбуждение американцы не испытывали уже очень давно». «Сукин сын мертв, – резюмировала New York Post, – бравые спецназовцы настигли обе рте р pop и ста в Пакистане, пристрелили его и расквитались, таким образом, за ужасы 11 сентября»[561].
Многих наблюдателей не оставляло ощущение, что спецоперация в Абботабаде – это хорошо срежиссированный спектакль. «В постановке, которую мы имели удовольствие лицезреть в начале мая, – писал The American Thinker, – все на своих местах: принц женился, злодей умер, а его тело погребено в морской пучине»[562]. И не таким уж неправдоподобным выглядело заявление главы иранских спецслужб Гейдара Мослехи о том, что Бен Ладен не был уничтожен американскими спецназовцами, а умер естественной смертью за несколько месяцев до этого.
Конечно, сложно было себе представить более удачное начало предвыборной кампании Обамы. В 2008 году во время первого сражения за Белый дом он заявлял, что Америка любой ценой должна поймать бен Ладена, даже если для этого придется осуществить вторжение на территорию Пакистана без санкции местных властей. Эти заявления вызвали тогда едкие комментарии во всех американских СМИ. Обаму провозгласили «опасным фантазером», который не понимает, чем может обернуться для США нарушение суверенитета одной из ядерных держав.
Однако, несмотря на предостережения скептиков, президент решился все-таки на спецоперацию в Пакистане, о которой в Исламабаде узнали лишь после ее завершения. Таким образом, американские избиратели смогли убедиться в том, что их лидер не бросает слов на ветер и готов преодолевать любые препятствия на пути к поставленной цели. Желая усилить это впечатление и обеспечить себе фору в предвыборной гонке, Обама произнес проникновенную речь, которую тут же назвали «речью триумфатора». «Пришел час расплаты!» – провозгласил он, и, по словам The Washington Post, «американцы впервые почувствовали, что перед ними не гарвардский интеллектуал, умеющий складно говорить и вешать им на уши лапшу, а главнокомандующий вооруженных сил США»[563]. Такие лестные отзывы со стороны газеты, традиционно поддерживающей республиканцев, лишь подтверждали мысль о том, что ликвидация бен Ладена – это начало предвыборного шоу Обамы, которое будет проходить по канонам, заданным в известном фильме «Хвост виляет собакой». Вопрос был только в том, хватит ли у президентских политтехнологов запала еще на год?
«До ноября 2012 года далеко, – писала The New York Times, – и ключевым вопросом предвыборной кампании, безусловно, станет финансовый кризис. И хотя Обама набрал политические очки, устранив бен Ладена, это не принесет ему победу. В конце концов образ героя войны в Персидском заливе не помог в свое время Джорджу Бушу-старшему обыграть Билла Клинтона, главным коньком которого была экономика»[564].
Но в мае 2011 года Обама спешил пожать лавры, убеждая американцев, что его команде удалось сокрушить «гидру мирового терроризма». Бен Ладен, действительно, являлся символом глобального джихада, и было очевидно, что его преемник никогда не займет в мировом сознании места, которое отводилось саудовскому миллиардеру-изгою. Будущий террорист № 1 родился в 1957 году в богатой семье потомков йеменских крестьян. Его отец разбогател на строительстве дорог в Саудовской Аравии, и уже в 11 лет Усама унаследовал огромное состояние. Образование он получил в Университете имени короля Абдель Азиза в Джидде. Там же судьба свела его с шейхом Абдаллой Аззамом, который стал впоследствии его духовным наставником и главным идеологом исламских экстремистов.
В 1980-е годы, когда американцы договорились с главой саудовских спецслужб Турки Ибн-Фейсалом о секретной операции в Афганистане, именно семейству бен Ладенов было поручено финансирование моджахедов, боровшихся с советскими войсками. Усама занимался военной подготовкой талибов и рекрутированием арабов, желающих принять участие в войне с неверными. В боях за провинцию Пактия в 1987 году он получил боевое крещение. А когда его воины отразили атаки русского спецназа на город Хост, имя бен Ладена прогремело на весь мир. «Никто не отрицает, что он тесно сотрудничал с ЦРУ, – отмечал пакистанский генерал в отставке Хамид Гуль, возглавлявший в 80-е годы межведомственную разведку, – и американские спецслужбы воспевали его подвиги, называя будущего злодея «принцем, спустившимся с небес, чтобы помочь моджахедам»[565].
Не совсем понятно, правда, почему западные эксперты, романтизировавшие бен Ладена, полагали, что «самоотверженные воины Аллаха» могут наносить удары только в одном направлении. В 1991 году во время войны в Заливе они вынуждены были признать свои ошибки. Тогда «сказочный принц» переключил свое внимание с Москвы на Вашингтон, осудив решение США разместить 300 тысяч солдат в Саудовской Аравии возле мусульманских святынь Мекки и Медины. В 1994 году он призвал к священному джихаду против Соединенных Штатов – «империи крестоносцев и сионистов». Затем последовал ряд крупных терактов в Сомали, Саудовской Аравии, Кении и Танзании, и недавний герой стал, по образному выражению госсекретаря США Мадлен Олбрайт, «коброй, бросившейся на своих хозяев».
В противостоянии с Америкой бен Ладен использовал ту же тактику, что и в борьбе с Советским Союзом. «Мы десять лет пускали кровь России до тех пор, пока она не обанкротилась, – заявил он в 2004 году. – И теперь используем этот опыт в битве с другой тиранической сверхдержавой. Буш повторяет ошибки Брежнева, и скоро американская империя падет, не выдержав перенапряжения сил»[566].
Кто бы ни организовал теракты 11 сентября, американские спецслужбы или исламисты, бен Ладена они, безусловно, сделали культовой фигурой. «В мире есть миллионы исламских фундаменталистов, которые только и ждали доказательств того, что западный враг может быть поражен в самое сердце»[567], – отмечал итальянский философ Умберто Эко. «После нападения на башни-близнецы, – вторил ему американский писатель Гор Видал, – бен Ладен стал для простых мусульман наследником Саладдина, великого воина, одержавшего победу над английским королем Ричардом и крестоносцами»[568].
Одной из главных целей «Аль-Каиды» было свержение прозападных «лакейских» правительств в мусульманских странах. Бен Ладен не раз призывал избавиться от «карзаев», которые пляшут под дудку Вашингтона. Однако с приходом арабской весны, когда эти лозунги стали претворяться в жизнь, «Аль-Каида» оказалась у разбитого корыта. К тому же центральное ядро организации постепенно теряло влияние, уступая ведущую роль своим филиалам, таким, как «Аль-Каида» Аравийского полуострова и «Аль-Каида» Магриба. «Аль-Каида всегда была свободной сетью, а не жестко структурированной организацией, – писала The New York Times, – и поэтому неудивительно, что в последнее время Усама бен Ладен превратился в маргинала, а на передний план выдвинулись такие фигуры, как Имам Анвар аль-Авлаки, возглавляющий «Аль-Каиду» Аравийского полуострова, которая со своими глянцевыми сайтами начала играть первую скрипку в идеологической борьбе джихадистов. Да и в центральной группе бен Ладен все больше уступал власть египтянину Айману аль-Завахири, который давно уже превратился в главного операционного директора «Аль-Каиды»[569].
Неслучайно бывший руководитель пакистанского Межведомственного управления разведки Хамид Гуль утверждал, что убийство бен Ладена является не триумфом, а «крупным стратегическим просчетом США». «Американцам, – говорил он, – следовало быть умнее. Вместо того чтобы дать лидеру «Аль-Каиды» спокойно умереть (он был уже очень больным человеком), они превратили его в мученика. За последние пять-семь лет бен Ладен практически ушел в историю, а на фоне арабского восстания его фигура окончательно поблекла. Теперь же он вновь превращается в угрозу для Соединенных Штатов»[570]. Действительно, мученическая смерть делала из бен Ладена персонажа народного фольклора. Слагались мифы о том, как он оказывал сопротивление американским коммандос, выйдя на крышу собственной виллы и сбив один из вертолетов. В отличие от Саддама Хусейна, который был вытащен американцами из крысиной норы, Бен Ладен представал героем, чьи подвиги еще долго будут вдохновлять исламских террористов.
Еще одним неприятным последствием операции в Абботабаде мог стать окончательный разрыв США с их главным стратегическим союзником в Южной Азии – Пакистаном. Многие политики в Исламабаде не готовы были простить Америке нарушение пакистанского суверенитета и призывали к отставке проамериканского правительства Юсуфа Гилани.
Тем не менее некоторые американские эксперты были убеждены, что убийство бен Ладена поможет восстановить репутацию США на Ближнем Востоке. «Способность лидера «Аль-Каиды» ускользать от американских спецназовцев, – отмечала The New York Times, – его кажущаяся безнаказанность закрепляли в мусульманских странах отношение к США как к «бумажному тигру». И теперь когда мы наконец достали Бен Ладена, этот образ изменится: Америка вновь будет восприниматься как мощная сверхдержава, которая всегда добивается своих целей»[571]. В Вашингтоне подчеркивали также, что пакистанская операция позволит начать глобальное наступление на террористические сети. «Представьте себе, – писала The Washington Post, – что значит порыться в ноутбуке Усамы. Объем материалов, попавших в руки спецслужб, можно сравнить с небольшой университетской библиотекой»[572].
Либеральные политологи утверждали, что смерть бен Ладена позволит Америке порвать с бушевским наследием и закончить затянувшуюся военную кампанию в Афганистане. «Операция в Пакистане, – писал обозреватель The Daily Beast Питер Байнарт, – дарит США бесценную возможность закопать топор войны с террором, которая мешала проведению рациональной внешней политики. Мы перестанем наконец смотреть на мир сквозь призму борьбы с «радикальным исламом», «исламофашизмом» и «исламским терроризмом» и займемся более важными проблемами, решение которых США слишком долго откладывали на потом. Война с террором превратила Восточную Азию в нечто второстепенное как раз в тот момент когда начался стремительный взлет Китая. Она позволила всевозможным диктаторам получать в Вашингтоне поддержку точно так же, как они делали это в годы холодной войны. Она чрезмерно преувеличила идеологическую привлекательность джихадистско-салафистского движения»[573].
И, добавим мы, мешала альянсу США с исламистами. ««Аль-Каида», – писал The American Thinker, – постепенно превращается в единственную деструктивную силу в исламистском движении, а со смертью ее лидера и вовсе может уйти с мировой сцены, не мешая американцам флиртовать с радикальными суннитами. Именно это, и ничто другое, вынудило брата Обаму избавиться от брата Усамы»[574].
Однако дипломаты-реалисты предупреждали, что новая ставка США крайне ненадежна. Ведь исламисты, говорили они, разорвут отношения с Вашингтоном при первом же удобном случае. Чего стоил хотя бы комментарий «Братьев мусульман» по поводу каирской речи Обамы: «Белая собака или черная – все равно собака». К тому же ликвидация бен Ладена могла лишь подстегнуть экстремистов на жесткие действия и новые громкие теракты. Американский политолог Дэвид Гартенстайн Росс опубликовал в The Foreign Policy статью под заголовком «Не обольщайся, Америка!», в которой отметил, что «Аль-Каида» пока не повержена и только наивные мечтатели пытаются открыть новую главу в истории США». «Неужели Вашингтон отпразднует победу преждевременно и позволит своим врагам перегруппироваться?»[575] – вопрошал он. Такой же точки зрения придерживается и директор ЦРУ Леон Панетта, разославший своим подчиненным циркуляр, в котором говорилось, что «хотя бен Ладен и мертв, об «Аль-Каиде» этого не скажешь, и террористы почти наверняка попытаются отомстить за своего главаря»[576].
БЛИЖНЕВОСТОЧНАЯ КАМПАНИЯ АКСЕЛЬРОДА
Политологи отмечали, что масштабные изменения на Ближнем Востоке вынуждают Соединенные Штаты пересматривать свою стратегию в регионе, и не исключено, что со временем Вашингтон откажется от стратегического альянса с Иерусалимом. Не зря ведь близкий Обаме финансист Джордж Сорос провозгласил, что в XXI веке на географической карте мира не будет еврейского государства. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху бил в набат, заявляя, что «арабская весна» грозит обернуться «еврейской зимой».
С того момента, как Обама пришел к власти, он не раз пытался надавить на Иерусалим, но никогда не делал это в столь ультимативной форме, как 20 мая 2011 года. «Поскольку регион охвачен массовыми волнениями и позиции США здесь резко пошатнулись, – писал журнал The Middle East Quarterly, – Обаме ничего не оставалось, как провести показательную порку израильских союзников, призвав их вернуться к границам, существовавшим до Семидневной войны»[577].
После заявления Обамы премьер-министр Нетаньяху срочно вылетел в Вашингтон и выступил перед конгрессом, объявив Иерусалим «вечной и неделимой столицей» страны и сорвав аплодисменты республиканцев. Тем не менее в Соединенных Штатах многие были убеждены в том, что праворадикальное правительство Нетаньяху, которое считает Израиль «землей евреев», просто неспособно на компромиссы. «Правые националисты, – писала The New York Times – всегда будут призывать к экспансии. Их не удовлетворят никакие границы. Неслучайно, по словам министра по стратегическим делам Израиля Моше Аялона, конфликт с палестинцами может продлиться еще добрую сотню лет»[578].
Поворотным моментом в ближневосточной политике стало заявление Обамы о выводе войск из Ирака к концу 2011 года. Если в 2008 году в стране было 165 тысяч американских солдат, в 2012-м их должно было остаться не более 150. Подавалось это как победа Соединенных Штатов, которые, по словам президента, «покидают Ирак с высоко поднятой головой». «Миссия выполнена, – писал леволиберальный журнал The Nation, – и если, как обещает Обама, через пару лет американцы уйдут из Афганистана, он войдет в историю как прагматичный лидер, с честью завершивший затратные ближневосточные войны в период экономического кризиса»[579].
С точки зрения пиара все выглядело безупречно. Однако была и обратная сторона медали. «Покидая Ирак и Афганстан, – писала The Washington Post, – США теряют влияние на Ближнем Востоке. И потому так смешно слушать славословия в адрес Обамы, который в действительности преподносит ключи от Багдада Ирану и оставляет Афганистан талибам и стоящим за ними пакистанским спецслужбам»[580]. «Теперь в Гондурасе у нас будет больше войск, чем в Ираке, – отмечала представительница «Чайной партии» Мишель Бахманн. – Ответственность за это решение несет «генерал» Аксельрод (руководитель предвыборного штаба Обамы), для которого существует только одна военная кампания – кампания по переизбранию нынешнего президента, и, чтобы выиграть ее, он готов пожертвовать стратегическими интересами страны»[581].
Конечно, триумфом для Обамы стало окончание ливийской «одиссеи». Несмотря на прогнозы пессимистов о том, что очередная ближневосточная авантюра обернется затяжной войной, союзникам удалось провести молниеносную операцию, в результате которой старинный соперник Запада – Муаммар Каддафи был свергнут с престола и уничтожен.
Поражала также реакция Запада на сцену убийства Каддафи, растерзанного бойцами Переходного совета Ливии 20 октября 2011 года. «Вау», – воскликнула госсекретарь США Хиллари Клинтон, наблюдая за тем, как беснующаяся толпа глумится над трупом полковника. «Мы избавились от бешеного пса!» – ликовали журналисты. Николя Саркози объявил о рождении «новой Ливии», а Обама отметил, что смерть Каддафи станет хорошим уроком для других диктаторов. Однако поскольку Международному суду в Гааге Запад предпочел суд Линча, оставалось лишь развести руками и подивиться цинизму и первобытной жестокости «ближневосточной кампании Аксельрода».
Не очень приятные эмоции вызывала и агрессивная стратегия Вашингтона, нацеленная на устранение ключевых врагов Америки. «Пиратский рейд на территорию Пакистана и самосуд над бен Ладеном, – писала The Guardian, – убийство лидера «Аль-Каиды» на Аравийском полуострове Анвара аль Авлаки вместе с несовершеннолетним сыном – таких шагов не позволял себе даже Джордж Буш-младший при всей его ковбойской напористости и бесцеремонности»[582].
После того как 22 августа 2011 года при поддержке НАТО враждебные полковнику Каддафи племена вошли в Триполи, западную элиту охватила настоящая эйфория. Призывы реализовать ливийский сценарий в Сирии уже не казались многим радикальными, хотя США и Европа все же рассчитывали, что дом Асадов развалится изнутри. Разумеется, не без их помощи. Вслед за Вашингтоном страны ЕС ввели против Сирии жесткие экономические санкции, которые, по словам главы нидерландского МИД Ури Розенталя, «должны были поразить баасистский режим в самое сердце»[583].
Отказавшись покупать сирийскую нефть, европейцы действительно загоняли президента Асада в угол. Ведь 95 % нефтяных поставок из Сирии приходилось на долю ЕС, а экспорт нефти являлся для Дамаска одной из основных статей дохода.
Неслучайно после введения санкций глава сирийского Центробанка Адиб Майалех призвал сирийцев «забыть о пирожных и сесть на черный хлеб».
По сведениям саудовской газеты Asharq Al-Awsat, в некоторых городах духовенство переходило на сторону оппозиции, а солдаты и офицеры-сунниты отказывались стрелять в восставших. Около трети сирийцев выступали против правящего режима (особенно сильны были протестные настроения в городах Хомс и Хама на Евфрате и Пальмире, в южной провинции Дераа и на средиземноморском побережье в Латакии). Правда, столица держалась. Дамаск, по словам очевидцев, производил впечатление сытого, многолюдного, торгового города, который не желает и слышать о раздирающей страну гражданской войне. И хотя выступления в провинции с каждым днем становились все более масштабными, западные лидеры сетовали на то, что в Сирии невозможно создать переходный политический совет наподобие повстанческого правительства в Бенгази, поскольку оппозиция состоит из разрозненных групп, неспособных объединить усилия. Попытки такие, конечно, предпринимались: противники Асада проводили конференции в Нью-Йорке, Анталии и Стамбуле, но создать единый повстанческий центр и выдвинуть лидеров у них не получалось. Например, на Стамбульском съезде оппозиции произошел раскол по этническому признаку: курды покинули зал заседаний в знак протеста против предложения сохранить слово «арабский» в названии государства.
Пример Ливии настораживал сирийцев, которые проводили массовые демонстрации в поддержку правящего режима. Однако вооруженная сирийская оппозиция, ключевую роль в которой играли местные «Братья-мусульмане», рассчитывала все же повторить успех повстанцев, сражавшихся с Каддафи. В стране появилась повстанческая армия, во главе которой встал бывший полковник ВВС Рияд Муса Асад. Он планировал создать в горах на севере Сирии «освобожденную территорию», ударить оттуда по правительственным войскам и свергнуть своего тезку – президента Башара Асада.
Безусловно, масштаб охвативших Сирию волнений на Западе преувеличивался. «Для знающих людей рассказы о том, как в полумиллионном Хомсе на улицы вышли полмиллиона человек, представляются абсурдом»[584], – отмечал руководитель общества российско-сирийской дружбы Александр Дзасохов. Как и в случае с Каддафи, против Асада велась тотальная информационная война, в которой помимо западных СМИ участвовали два арабских медиагиганта: Аль-Арабийя и Аль-Джазира. Именно эти компании призваны были настроить против сирийского режима общественное мнение в арабских странах.
По словам политологов, консервативные арабские монархии принимали такое деятельное участие в травле Асада, в первую очередь, потому, что он главный союзник Ирана. «То, что мы видим, на самом деле является началом арабо-иранской войны, – писал The Foreign Policy. – Нестабильность в Сирии и как следствие отказ этой страны от независимого внешнеполитического курса может привести к установлению саудовской гегемонии в сиро-палестинском регионе и повысить шансы арабов в противостоянии с персами»[585].
В Тегеране прекрасно понимали, каковы ставки в сирийской игре, и изо всех сил старались сохранить Асада у власти. «В подавлении сирийского мятежа участвуют элитные иранские части: бригады аль-Кудс, – писал The Foreign Affairs. – один из лидеров этого подразделения Республиканской гвардии Мохсен Чизари проводил специальный инструктаж для представителей сирийских спецслужб. Кроме того, иранцы поставляют союзному режиму оружие и обучают его технологиям, позволяющим отслеживать электронные письма, SMS-сообщения и переговоры в социальных сетях. Причем стоит отметить, что в этой области Иран является одной из самых продвинутых держав и лишь немногим уступает Китаю»[586].
Конечно, в целом иранские аятоллы выиграли от событий арабской весны. После падения Мубарака им удалось наладить отношения с Египтом, который открыл Суэцкий канал для военных кораблей ИРИ. Они заявили о своих интересах на Аравийском полуострове во время шиитских волнений в Бахрейне и Йемене. Однако разрушение оси Иран – Сирия – «Хезболла» в их планы явно не входило. Неслучайно иранский верховный лидер Али Хаменеи провозгласил, что в отличие от спонтанных выступлений в других арабских странах беспорядки в Сирии срежиссированы вашингтонскими кукловодами. В Тегеране многие опасались, что сирийская зараза может перекинуться на Иран, возродив из пепла феникс «зеленой революции». Эксперты отмечали, что «провал иранских оппозиционеров, которые пытались опротестовать результаты президентских выборов 2009 года, стал главным фактором, позволившим Ирану не стать одной из костяшек ближневосточного домино, однако крах сирийского режима может вновь взбудоражить тегеранскую улицу».
Пожалуй, в самой противоречивой ситуации оказались турки. С одной стороны, главе турецкого МИД Ахмету Давитоглу очень не хотелось отказываться от своей концепции «ноль проблем с соседями», идти на открытый разрыв с режимом Асада и портить из-за этого отношения с Ираном, который является ключевым поставщиком природного газа в Турцию и главным перевалочным пунктом на пути турецких товаров в Центральную Азию. С другой стороны, слишком велико было искушение иметь под боком слабую Сирию, которая не претендует на лидерство в арабском мире. Такая Сирия позволила бы Турции играть роль основного партнера и гаранта палестинцев (до 2011 года эту нишу занимал Дамаск). Кроме того, можно было не беспокоиться о сирийской конкуренции в Ираке, который турецкие исламисты давно уже провозгласили сферой своего влияния.
Однако Дамаск поддержали Россия и Китай, которые 5 октября 2011 года заблокировали в Совбезе ООН принятие антисирийской резолюции и внесли на рассмотрение свой проект резолюции, который исключал санкции и призывал местные власти к диалогу с оппозицией. И это дало повод оптимистам говорить о том, что Асад находится в куда более выигрышном положении, чем Каддафи.
ОСЕННЕЕ ПОХМЕЛЬЕ
Помимо всего прочего, те политики в США, которые выступали за военное решение сирийской проблемы, вынуждены были считаться с мнением реалистов. Осеннее похмелье, наступившее вслед за пьяным разгулом «арабской весны», заставляло идеалистов, рассуждавших о демократизации Ближнего Востока, признать, что единственной альтернативой авторитарным светским режимам в этом регионе может быть политический ислам. Свержение правителей, которые, как черт от ладана, отмахивались от либеральных концепций и прослыли на Западе деспотами, как это ни парадоксально, означало крах вестернизации. И неслучайно соперничество между суннитским и шиитским проектом достигло в 2011 году своего пика и привело к холодной войне Ирана и Саудовской Аравии. Обе державы рассчитывали использовать «жасминовые революции» в своих интересах и претендовали на роль лидера региона, который постепенно освобождается от западного влияния.
Когда «арабская весна» только началась, многие утверждали, что за революционными выступлениями стоят Соединенные Штаты. Кто-то настаивал, что в Вашингтоне решились наконец воплотить в жизнь проект Большого Ближнего Востока, разработанный еще неоконами, кто-то объяснял действия Америки с помощью новомодной теории «управляемого хаоса». Но мало кому приходило в голову, что в действительности американские политики системой не управляют, а лишь пытаются удержаться в раскачивающейся на волнах лодке. Идеология арабского национализма была обречена, и у США просто не оставалось выбора: уж лучше сделать ставку на популярных в народе исламистов, чем поддерживать светских правителей, которые вызывают у подданных аллергию. Понятно, что о вестернизации тогда можно было забыть, но зато сохранялся шанс выстроить корректные отношения с новыми правителями.
Первые выводы об итогах «арабской весны» западные политологи стали делать после провального выступления светских партий на выборах в Национальный учредительный совет Туниса 23 октября 2011 года. Именно с тунисских выступлений на Ближнем Востоке началась революционная лихорадка. И хотя традиционно Тунис считался самой светской и европеизированной страной региона, 40 % избирателей отдали здесь свои голоса исламистской партии «Ан-Нахда» («Возрождение»). В эпоху правления президента Зина Бен Али эта партия находилась под запретом, однако после «жасминовой революции» ее отец-основатель мусульманский проповедник Рашид Ганнуши с триумфом вернулся на родину из Лондона, где он находился в изгнании более 20 лет.
На Западе тут же стали вспоминать, как в 1979 году после свержения шаха в Иран прибыл аятолла Рухолла Хомейни. Но лидер «Ан-Нахды» аналогии с Ираном отвергал, заявляя, что ориентируется на турецкую модель. «Ганнуши, – писала The Independent, – мечтает повторить путь умеренных исламистов Эрдогана, которые, с одной стороны, заигрывают с Европой, а с другой – бросают вызов таким столпам светского государства, как армия и суд»[587]. Конечно, говорили скептики, сейчас «Ан-Нахда» корчит из себя прогрессивное движение. На выборах в столице партию представляла молодая красотка с открытым лицом и макияжем, но года через два исламисты заставят всех женщин носить никкаб и превратят тех политиков, которые отстаивают секулярные ценности, в маргиналов. В феврале 2012 года вторым тревожным звонком для Запада стало назначение лидера исламской Партии справедливости и развития Абделилаха Бенкирана премьер-министром Марокко.
Не меньшие опасения вызывали у западных экспертов египетские «Братья-мусульмане», которые смогли одержать триумф на парламентских выборах в январе 2012 года. Офицеры, управлявшие Египтом, были неспособны затормозить спад экономики и обеспечить национальную безопасность. На площади Тахрир вновь начались массовые демонстрации. «Спасибо вам за помощь, – говорили люди военным, – но теперь возвращайтесь в свои казармы!» Перед зданием МВД в Каире проходили манифестации полицейских, которые требовали снять с командных постов чиновников, связанных с режимом Мубарака. И эксперты утверждали, что забастовка стражей порядка символизирует кризис египетского государства, которое постепенно погружается в анархию.
Высший военный совет, обещавший обеспечить переход страны к демократии, только закручивал гайки. Генералы отказались отменить мубараковский «закон о чрезвычайном положении», согласно которому военные суды имеют право рассматривать дела гражданских лиц (с февральской революции около 12 тыс. человек были арестованы по политическим мотивам). Еще осенью 2011 года египетские остряки распустили слух, что ботинки главы Военного совета фельдмаршала Мохаммеда Хусейна Тантави, оставленные им возле мечети, были украдены, а на их месте прикреплена записка: «Верни нам наши свободы, и мы вернем тебе ботинки». И когда представители властей начали выступать с официальными опровержениями, пытаясь уверить народ в том, что обувь не утеряна, а находится на «высочайших» ногах, стало очевидно, что военные паникуют, совершенно не понимая, как реагировать на выпады толпы, которая всегда их боготворила.
Политологи отмечали, что 24 генерала, вошедшие в Высший военный совет, – были людьми из ближайшего окружения Мубарака. Глава Совета Тантави при прежнем режиме занимал пост министра обороны, и неслучайно его называли в Египте «пуделем фараона». Ведь карьеру этот офицер нубийского происхождения сделал лишь благодаря личной преданности президенту. Египетская армия, которая управляла страной уже более полувека, не была заинтересована в переменах. «Раздутый военный бюджет, ежегодная американская помощь, привилегированное положение в экономике, – писала Le Monde, – все это нравится военным. Они руководят заводами, управляют масштабной сетью коммерческих предприятий, приобретают государственные земли по заниженным ценам, не платят налоги и не отчитываются перед гражданскими структурами»[588].
Политологи говорили, что армия в Египте – это единственный государственный институт, который функционирует без сбоев. «Молчаливое большинство фермеров и рабочих ценит законность и порядок намного больше, чем революционные изменения, и потому поддерживает военных, – отмечал The Economist. – Интеллигенция же убеждена, что только армия может гарантировать светскую природу государства»[589].
Многое зависело от того, как поведут себя египетские «Братья-мусульмане»: добьются ли они власти мирным путем или используют революционный задор мятежников с площади Тахрир, чтобы осуществить государственный переворот. Как учит история, за февралем всегда следует октябрь. «Финиковая» февральская революция осталась незавершенной, и многие предсказывали, что вторая волна антиправительственных выступлений на Тахрир может закончиться «диктатурой исламистских большевиков».
Мятежники требовали лишить Военный совет политических полномочий и реформировать силовые структуры, поставив их под жесткий гражданский контроль. «Мы не хотим, чтобы парламент стал «демократическим аксессуаром» на мундире Тантави», – говорили они и призывали довести до конца дело, начатое в феврале. Военный совет на условия мятежников не пошел и выслал против них полицейские формирования. 19 ноября 2011 года при разгоне палаточного лагеря погибли 35 человек и более 2 тыс. получили ранения. Это, разумеется, лишь усилило протестные настроения.
Конечно, на Западе понимали, что страна находится между молотом и наковальней и единственной альтернативой старому режиму являются исламисты. На некоторое время в конце 2011 года «Братья-мусульмане» заключили тактический союз с военными. Как отмечала The Times, «революция дала рождение новому Египту, скорее, напоминающему пакистанское государство, в котором существует нерушимый альянс армии и исламистов»[590]. По слухам, «Братья-мусульмане» поддержали разработанный военными проект Конституции, обещали учитывать интересы их бизнес-империи и в благодарность даже получили крупные денежные пожертвования на предвыборную кампанию. Тем не менее окружение Тантави опасалось радикальных членов организации – так называемых молодых братьев. «Союз генералов и исламистов, говорили эксперты, – это террариум единомышленников и договоренности между ними просуществуют недолго».
Многие египтяне были убеждены, что «братья» должны взять власть в стране. «Еще с середины 90-х, – писал The American Thinker, – эта организация, словно гигантский осьминог, постепенно охватывала своими щупальцами все ведущие институты власти в Египте. Она практически полностью подчинила себе систему исламского образования, ведая подготовкой кадров в таких университетах, как Аль-асхар, проникла в армейскую среду и в государственный аппарат»[591]. Однако важнее всего для «Братьев-мусульман» было утверждение в стране исламистской идеологии. И они в этом преуспели. Достаточно было посмотреть на данные соцопросов. В светском Египте 82 % граждан были убеждены в том, что за супружескую измену людей следует забивать камнями до смерти, а 77 % предлагали отрубать преступникам руки за воровство[592]. Все более популярными становились идеи запрета на алкоголь в туристических зонах и введение дресс-кода для туристов. Не вызывало сомнений, что исламисты стояли за нападением на израильское посольство 10 сентября 2011 года и, возможно, именно с их подачи 11 октября армия жестко подавила выступления коптов. Неслучайно на улицах Египта в тот день звучали призывы «покончить с христианами».
Армия всегда считалась главным союзником США в Египте. Неслучайно американцы, не задумываясь, поддержали военный совет, а начальник Генштаба Сами Энан еще до падения Мубарака получил в Вашингтоне ярлык на княжение. Однако союз начал трещать по швам, после того как в декабре 2011 года египетские военные провели рейды в офисах западных НПО, нацеленных на «продвижение демократии» в Северной Африке. «Фельдмаршалу Тантави и его окружению не понравилось, – писал The Economist, – что иностранцы баламутят народ, беспардонно вмешиваются во внутренние дела Египта, критикуют проходящие в стране выборы, требуют передать власть гражданскому правительству и подстрекают молодежь на уличные беспорядки»[593].
В результате египетские власти завели несколько уголовных дел против иностранных граждан, в числе которых оказался Сэм Лахуд – руководитель Международного республиканского института – одной из самых влиятельных американских организаций, работающих в Египте. Это уже не понравилось американскому Госдепу, который потребовал, чтобы военный совет не мешал свободе передвижения граждан США, пригрозив в противном случае лишить египетских генералов ежегодного пособия размером в 1,3 млрд. долларов. Два известных лоббиста – Роберт Ливингстон и Тоби Моффет – заявили, что не будут более отстаивать интересы Египта в американском конгрессе. Тогда же был принят законопроект, согласно которому дальнейшая помощь этому государству была обусловлена достижениями Военного совета на пути к демократии.
На Западе все чаще говорили о том, что Египте нужно ставить на «Братьев-мусульман», которые являются вполне цивилизованной организацией. Как признался сотрудник Госдепартамента Ласло Тот, американские спецслужбы еще за год до арабской весны тесно сотрудничали с «братьями». Западные политологи все чаще говорили о том, что из террористической экстремистской группы они якобы превратились в светскую организацию, отказавшуюся от насилия и преследующую исключительно социальные и просветительские цели. Директор службы национальной разведки США Джеймс Клаппер утверждал, что участие в политическом процессе в Египте позволит Соединенным Штатам окончательно приручить «братьев»[594]. «Это верующие люди с гражданской позицией»[595], – резюмировала The New York Times. И тех чиновников и дипломатов, которые не были согласны с таким определением, постепенно выживали из Белого дома и Госдепартамента.
Еще в начале апреля 2011 года с благословения Соединенных Штатов в Египет прибыл духовный лидер «Братьев-мусульман» шейх Юсуф Кардави, который долгие годы проживал в изгнании в Катаре. Американские спецслужбы уверяли, что это человек весьма умеренных взглядов, «арабский просветитель, отстаивающий демократические принципы». И то, что шейх призывал исполнять нормы шариата и ввести религиозную полицию нравов, американцев не смущало. Ведь на кону была ключевая держава арабского мира, в которой «Братья-мусульмане» – самая влиятельная политическая сила. «Бессмысленно ставить на старых генералов во главе с Тантави, – говорилось в исследовании Stratfor, – они давно уже выжили из ума. И обойдя сейчас вниманием египетских исламистов, Америка рискует потерять ключи от Ближнего Востока. Политики в Вашингтоне должны согласиться с известным изречением: король умер, да здравствует король!»[596]
В первом туре президентских выборов, который состоялся 23 мая 2012 года, победу одержал представитель «братьев» Мухаммед Мурси. Инженер по профессии, он получил образование в Америке и несколько лет даже преподавал в Калифорнийском университете. Он имел опыт законотворческой работы – с 2000 года несколько раз избирался в парламент в качестве независимого депутата. Во время предвыборной кампании Мурси обещал провести реформу коррумпированных институтов власти, поставить государство «на исламские рельсы» и добиться широкого применения норм шариата. В Египте говорили, что у «Братьев-мусульман» огромные финансовые возможности. Ведь помимо тех средств, которые они получали от олигархов, симпатизирующих исламским идеям, значительные финансовые вливания шли из стран Персидского залива. Арабские нефтяные монархии опасались экспорта революции и, по слухам, заключили сделку с «Братьями», которые в обмен на финансовую помощь отказались от пропаганды своих идей в соседних государствах.
Как бы то ни было, военные рассчитывали на победу своего кандидата бывшего командующего ВВС Египта и последнего премьер-министра в правительстве Хосни Мубарака Ахмеда Шафика. «Потерпев поражение на парламентских выборах, – писала The Washington Post, – военные не уступят так просто президентское кресло. Ведь речь идет не только о потере политического влияния. Армия опасается, что «Братья» замахнутся на их привилегированное положение в экономике страны»[597].
Западные журналисты связывали огромные надежды с президентскими выборами в Египте. «Эти выборы станут финальной точкой в процессе перехода от авторитарного военного режима к демократически избранному гражданскому правительству»[598], – писал обозреватель The New York Times. «Египет – первая страна, пережившая «арабскую весну», которая продемонстрирует миру свою историю успеха»[599], – вторил ему корреспондент журнала The Time. Что ж, продемонстрировал, и история эта впечатлила многих. Накануне второго тура выборов 16 июня 2012 года Конституционный суд Египта принял решение о роспуске парламента, войска окружили здание, где заседали депутаты-исламисты, а Высший военный совет Египта возложил на себя законодательные функции. «В мировой истории, – писал The Spectator, – этот сюжет повторялся не раз. Вспомним, как наполеоновский генерал Мюрат разогнал Совет пятисот, прокричав своим гренадерам: «Вышвырните-ка отсюда всю эту публику!» Приходит на ум и легендарная фраза матроса Железняка, сказанная им во время разгона Учредительного собрания в России: «Караул устал»[600].
Египетские генералы получили право арестовывать и держать за решеткой людей без санкции суда и создали собственную конституционную комиссию (Конституционное собрание, в котором доминировали исламисты, было распущено вслед за парламентом).
Военный Совет ввел в действие свод «переходных» конституционных законов, согласно которым армия наделялась практически неограниченной властью: ей было поручено формировать бюджет, объявлять войну и накладывать вето на те положения конституции, которые «противоречат высшим интересам страны». Кроме того, что немаловажно, военные получили иммунитет от судебного преследования. Президент же, который должен был, по идее, играть ключевую роль в египетской политике, лишался практически всех полномочий. Функции главнокомандующего передавались руководителю Военного совета фельдмаршалу Тантави. Был учрежден Национальный совет обороны, которому предстояло стать главным органом исполнительной власти. Предполагалось, что в него войдут 17 человек (11 из них – высшие военные офицеры). И хотя возглавить совет должен был вновь избранный президент, решения планировалось принимать большинством голосов.
«Президент без власти»[601] – гласил заголовок первополосной статьи, опубликованной в оппозиционной газете «Аль-Шурук» сразу после выборов, на которых победу одержал Мурей. Комментарии в интерненте были полны сарказма: по степени влияния на внутриполитическую жизнь страны египетского президента сравнивали с английской королевой. «У него не будет никаких пономочий и будет множество обязанностей, а это означает, что его ждет провал, – утверждал один из лидеров салафитов Надер Бакар. – Военный совет блестяще разыграл свою партию, вынудив исламистов бороться за кресло, на котором уже заранее лежат острые кнопки»[602].
Да, в общем-то, военные этого и не отрицали. Лидер государства, избранный по старой конституции, говорили они, после принятия нового основного закона вынужден будет «уйти на пенсию». «Это будет президент на час, – заявлял глава военного консультационного совета Самех Ашур, – и не важно, понимает он это или нет»[603].
И хотя, вступив в должность, Мурси пообещал пересмотреть Кэмпдэвидское соглашение с Израилем и наладить отношения с Ираном, большинство экспертов были убеждены, что дальше обещаний он не пойдет и вскоре превратится в марионетку в руках Военного совета. Любопытно, что после того как были объявлены результаты выборов Мурси покинул ряды «Братьев мусульман», чтобы стать «президентом всех египтян». Конечно, это не означало, что он порвал с движением, просто ему нужно было как-то отблагодарить военных, которые ради сохранения стабильности смирились с поражением своего кандидата.
Любопытно, что «Братья-мусульмане» вели себя миролюбиво и не лезли на рожон. Даже после того как генералы узурпировали власть в стране, лидеры исламистов не раз подчеркивали, что «благодарны армии за то, что она в течение года защищала революционные идеалы и обеспечивала переход к демократии». А Мохамед Мурси за несколько дней до выборов, когда парламент был уже разогнан, объяснялся в любви военным. И хотя либералы обвиняли Военный совет в «бонапартизме» и уверяли, что Египет повторяет опыт Алжира, где после победы исламистов на выборах местная хунта распустила парламент и установила военную диктатуру, «братья» предостерегали граждан от нежелательных ассоциаций. «Не стоит забывать, что в ходе гражданской войны в Алжире погибли 150 тысяч человек, – говорил экс-спикер парламента Саад аль-Кататни, – и Египет ни за что не повторит алжирский сценарий, поскольку мы будем использовать только легальные методы борьбы. В 80-е и 90-е годы радикалы-салафиты прибегали к насильственным методам, однако «братья» давно от них отказались»[604].
Некоторые эксперты объясняли пассивное поведение «братьев» тем, что за год они успели оттолкнуть от себя всех потенциальных союзников. «После того как в феврале 2011 года завершились уличные выступления, «Братья-мусульмане» отказались сотрудничать со светскими революционными организациями, – писал египетский политолог Султан аль-Кассеми. – Не поладили они и с салафитами, получившими около 20 процентов голосов на парламентских выборах. В общем, «братья» были чересчур самоуверены, и когда им потребовалась помощь от бывших союзников, практически никто не откликнулся»[605].
Конечно, это было не совсем так. Сразу после выборов представители штаба Мурси провели встречу с активистами студенческого движения и молодежного движения «Шестое апреля», которые организовывали в 2011 году «финиковую революцию». Многие из них сокрушались, что военные забили «последний гвоздь в крышку гроба зарождающейся египетской демократии» и призывали к «повторной революции». «У нас есть враги и эти враги управляют государством», – провозгласил харизматичный лидер салафитов Хазен Абу Исмаил. Символично, что 19 июня, когда на площади Тахрир вновь появилась толпа разъяренных горожан, экс-президент Хосни Мубарак, приговоренный к пожизненному заключению, пережил клиническую смерть и впал в коматозное состояние. Политологи были убеждены, что Тахрира-2 не получится хотя бы потому, что египтяне уже присытились революциями. «В Египте только что произошел мягкий государственный переворот. Мы были бы вне себя, если бы не испытывали такую усталость»[606], – написал в Twitter известный египетский правозащитник Хоссам Бхагат.
После принятия конституционных поправокХиллари Клинтон обрушилась с критикой на команду Тантави, заявив, что ее действия «вызывают тревогу в Вашингтоне». «Если «Братья-мусульмане» предлагали модель развития, опробованную в Турции умеренными исламистами, – отмечал профессор университета Джорджа Вашингтона Марк Линч, который был главным консультантом администрации Обамы во время «арабской весны», – то Военный совет реализовал сценарий «параллельного государства», который был разработан турецкими кемалистами, оправдывавшими свои авторитарные замашки угрозой исламизации. Демократический эксперимент провалился»[607]. Было очевидно, что в стране предстоит долгая и изнурительная схватка за власть между исламистами и генералами. И первым актом безусловно стало решение Мурси о возобновлении дейтельности парламента, которое тут же было отменено Верховным судом Египта. Противники исламистского государства начали обвинять США в том, что они подыгрывают «экстремистам». Не случайно, когда 16 июля Клинтон прибыла в Египет, чтобы прочесть очередную лекцию о правах человека, ее кортеж забросали помидорами и ботинками.
Показательна была и судьба Ливии, где через несколько дней после смерти Каддафи 20 октября 2011 года шариат, причем в наиболее ортодоксальной салафитской форме, был объявлен базовым принципом существования государства. В начале года западные политики издевались над Каддафи, который утверждал, что против него сражаются радикальные исламисты. Однако Триполи, в итоге, взяли боевики Исламской ливийской группы, а их лидер Абдельхаким Бельхадж сделался военным комендантом и полновластным хозяином столицы. Переходный Национальный совет объявил о создании исламских банков, разрешил многоженство и пообещал отменить все законы, противоречащие мусульманскому праву. К формированию «исламского, шариатского эмирата» на развалинах Джамахирии в начале октября призывал Айман аз-Завахири. И новое ливийское правительство, которое на добрую половину состояло из функционеров «Аль-Каиды», восприняло его слова как руководство к действию.
Покровители ПНС на Западе закрывали глаза на очевидные вещи. Новые власти линчевали Каддафи, выставили его труп на всеобщее обозрение на мясном складе, уничтожили сотни его сторонников, несмотря на объявленную в стране политическую амнистию, а западные союзники продолжали воспевать демократическую команду Махмуда Джибриля. В преддверии парламентских выборов 2012 года был издан репрессивный закон, запрещающий выдвигать кандидатами в депутаты бывших каддафистов. Чисткам подверглись госаппарат и дипкорпус. И министры Переходного совета, многие из которых входили в ближайшее окружение Каддафи, явно чувствовали себя не в своей тарелке.
Одной из основных причин революции было то, что племена и кланы Киренаики не хотели мириться с подчиненным положением в ливийской джамахирии и были недовольны тем фактом, что большая часть поступлений от нефти оседает на западе страны, хотя 70 процентов нефтяных месторождений находятся на востоке. Однако после падения режима Каддафи Киренаика продолжала играть второстепенную роль. Бенгазийцев, которые считали себя главными героями революции, это выводило из себя, и восток страны вновь начал бурлить. Поговаривали даже о том, чтобы провозгласить в Киренаике автономию, во главе которой встанет потомок короля Идриса Ахмед аль-Сенусси. Так и не расформированные повстанческие отряды разгромили в феврале 2012 года офис Переходного национального совета в Бенгази, а заместитель ПНС Абдель Хафиз Гога был избит в местном университете. Когда же студентов, поколотивших вице-премьера, арестовали, на востоке страны начались массовые демонстрации, и Гога вынужден был подать в отставку. «После победы в освободительной войне, в Ливии воцарилась атмосфера ненависти»[608], – заявил он, покидая свой пост.
После революции повстанцы и их западные покровители обещали навести в стране порядок и распустить отряды народной милиции. Однако этого не произошло. В Ливии насчитывалось более 200 тысяч вооруженных боевиков, которые не желали никому подчиняться и похвалялись своими заслугами перед революцией. Не изменилась и ситуация в экономике. «Расходы на содержание армии, полиции и системы образования осуществлялись в форме разовых дотаций, – утверждал эксперт Центра «Геоарабика» Александр Кузнецов. – И это при том, что еще в декабре 2011 года были разблокированы зарубежные авуары страны, на которых в годы правления Каддафи было положено не менее 110 миллиардов долларов. Но деньги эти не служили ливийскому народу, и многие заговорили о том, что миллиарды Каддафи пошли на погашение последствий европейского финансового кризиса»[609].
На выборах в Генеральный национальный конгресс, которые состоялись в Ливии 7 июля 2012 года, сокрушительную победу одержал Альянс национальных сил во главе с экс-премьер-министром повстанцев Махмудом Джибрилем (Джибриль подал в оставку в октябре 2011 года после полного освобождения Ливии от режима Каддафи). Джибриля называли главным лоббистом Катара в Ливии, поскольку долгое время он занимал пост топ-менеджера фирмы, принадлежащей влиятельной жене катарского эмира – Шейхе Музе. И хотя некоторые политологи пытались представить его как прагматика, который не имеет ничего общего с исламистами, участвовавшими в повстанческом движении, не стоило забывать, что именно он и руководил их действиями. О политических предпочтениях Джибриля можно было судить хотя бы по тому, как накануне выборов он набросился на корреспондента, задавшего ему вопрос о том являются ли экстремистами представители ливийского исламского движения. «Никаких экстремистов там нет», – грозно воскликнул экс-премьер.
Эксперты отмечали, что после убийства Каддафи гражданская война в Ливии не закончилась и главной причиной продолжения конфликта стало межплеменное соперничество. На востоке власть принадлежала местным отрядам милиции и исламистскому ордену ас-Сенусси. На западе всем распоряжались тигры Мисураты. На юге племена туарегов, которые в большинстве своем были горячими сторонниками Каддафи и отказывались признавать новый режим. В результате, говорили эксперты, в Ливии вполне может повториться сомалийский сценарий, когда после свержения диктатора Сиада Барре в 1990 году в этой стране началась война всех против всех. А поскольку экстремисты в ходе революции получили доступ к высокотехнологичному оружию (около 20 тысяч ракет «земля – воздух» исчезли в неизвестном направлении), такой сценарий может привести к настоящему апокалипсису.
ЗА СУННИТОВ, ПРОТИВ ШИИТОВ
Обаму все чаще обвиняли в том, что он слишком активно флиртует с радикальными исламистами. «Нынешний американский президент говорит, меня зовут Барак Хуссейн Обама и ждет бурных аплодисментов, – отмечал президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский. – Он вспоминает своего батюшку, который был сыном нигерийского знахаря, левым социалистом, близким к компартии, своего отчима-индонезийца, детство в мусульманской школе и рассчитывает сойти в исламском мире за «своего»[610]. И, что любопытно, во многом ему это удалось. Не случайно идеолог «Братьев мусульман» шейх Юсуф аль Кардави, человек, которого называли «суннитским Хомейни», говорил: «Обама наш, он молится Аллаху и просто вынужден притворяться христианином. И, конечно же, он поддержит нас, когда мы пойдем освободительным походом на шиитских еретиков»[611].
Одним из первых, кто заговорил о союзе Запада с исламским миром, был Збигнев Бжезинский. Ведь контртеррористический альянс Америки с Россией, Израилем, Индией и, не дай Бог, Китаем – это страшный сон для левых и правых ортодоксов в США. Политологи отмечали, что во время арабской весны за американской, как, кстати, и за британской политикой на Ближнем Востоке стояла Саудовская Аравия. На французов же решающее влияние оказывал эмират Катар. «У многих остается иллюзия, – утверждал Сатановский, – что мы наблюдаем за «большой игрой», которую ведут великие державы, сохранившие власть над миром. Но на самом деле все давно уже не так. Бывшие игроки превратились в фигуры, а фигуры стали игроками. В результате «арабской весны» сформировалась ваххабитская ось, в которую вошли Катар и Саудовская Аравия, и она определяет политику Запада в регионе. Конечно, монархиям Залива нужен масштабный конфликт – например, столкновение Ирана и Израиля. Их голубая мечта: война евреев с шиитами, в результате которой оба соперника будут ослаблены, из пустыни выйдут ваххабиты и добьют всех, кто уцелел»[612].
В Соединенных Штатах едкие комментарии вызвала сцена, когда во время визита Обамы в Эр-Рияд 4 июня 2009 года саудовский монарх повесил на шею американского президента тяжелую золотую цепь с орденом, для чего тот склонился перед ним в полуприсяди. Как же – лидер свободного мира склоняется перед главой государства, которое считается одной из самых жестких теократических диктатур. Саудитам вообще было позволено очень многое. Взять хотя бы высказывание принца Турки Бен Фейсала о том, что саудовская атомная бомба появится на следующий день после того, как будет испытана иранская. Возникал вопрос: а что, на Эр-Рияд режим нераспространения уже не действует? И почему это так?
Саудовское королевство, которое всегда считалось главным союзником Вашингтона на Ближнем Востоке, постепенно освобождалось от американского влияния и начинало играть свою игру. Эр-Рияд оказывал финансовую, вооруженную и информационную поддержку исламистским группировкам, которые могли заполнить образовавшийся в регионе вакуум власти. «Когда хранитель Мекки и Медины, – отмечал The Prospect, – имеет все шансы стать объединителем арабского мира, насадив в странах, переживших революцию, тот тип ислама, который преобладает в Саудовской Аравии, будет ли он при этом оглядываться на Соединенные Штаты?»[613]
Реформаторское крыло саудитов, которое ориентировалось на Вашингтон, потерпело в 2011 году поражение. После того как 22 октября умер наследный принц Султан, который сделал себе состояние на американских военных контрактах и считался главным сторонником стратегического союза с Америкой, встал вопрос о том, кто сменит на троне короля Абдуллу. Реформаторы предложили кандидатуру мэра Эр-Рияда принца Салмана ибн Абдель Азиза, король поддержал ее, и мировые СМИ провозгласили Салмана наследником, не дожидаясь решения Совета присяги. Однако Совет настоял на кандидатуре бессменного главы МВД принца Найефа.
Найеф считался лидером консервативного лагеря. Ему подчинялись спецслужбы, служба специальной безопасности и религиозная полиция нравов. Кроме того, он являлся председателем Высшего совета по вопросам информации, главного цензорского института королевства. «Мрачная тень принца Найефа нависла над Саудовской Аравией, – писал The Foreign Policy. – Прямо или косвенно он контролирует все внутриполитические процессы в королевстве и по праву может быть назван саудовским серым кардиналом»[614].
И хотя Найеф прославился как борец с террористами, которые именуются в Эр-Рияде «заблудшей сектой», не умолкали слухи о его связях с ваххабитскими религиозными организациями. «Радикалы, – отмечал The Foreign Affairs, – помогают Найефу держать реформаторское крыло саудитов в постоянном страхе. Он опирается на религиозный истеблишмент, который воспринимает в штыки заигрывания Абдуллы с Западом, и, если Найеф станет королем, Эр-Рияд вполне может отвернуться от Вашингтона, ведь короля, как известно, делает его свита»[615].
Поскольку у 87-летнего Абдуллы были большие проблемы со здоровьем (в 2010–2011 гг. он перенес три операции), шансы Найефа занять трон казались очень велики. «На данном этапе, – писал сотрудник Вашингтонского института ближневосточной политики Саймон Хендерсон, – это самый удачный выбор. Наейф будет опираться на консервативное духовенство, проводить самостоятельную внешнюю политику и вести непримиримую борьбу с Ираном. В марте 2011 года именно по его инициативе в соседний Бахрейн, где начались шиитские проиранские выступления, были введены саудовские танки»[616]. Однако в июне 2012 года Найеф умер, и многие стали говорить, что ключевой фигурой в саудовской политике станет принц Турки, которого также нельзя было назвать «умеренным». Создатель Аль-Каиды и покровитель ваххабитов он воспринимался как и идеальный кандидат на роль «воина Аллаха», который отрубит голову «иранской змее».
Иран, в свою очередь, пытался предстать в роли покровителя исламистских движений (причем как шиитских, так и суннитских), которые бросают вызов господствующей суннитской элите. И политическое противостояние Эр-Рияда и Тегерана все больше напоминало холодную войну. «Если раньше у стран региона оставалось поле для маневра, – писал эксперт фонда New America Foundation Барак Барфи, – сейчас они должны четко определиться, к какому лагерю принадлежат. На карте Ближнего Востока одни страны окрашены теперь в зеленый, другие – в белый цвет, одни лояльны Ирану, другие – Саудовской Аравии»[617].
Политологи утверждали, что для иранского президента Махмуда Ахмадинежада конфликт с Эр-Риядом – это возможность набрать политические очки в противостоянии с рахбаром Али Хаминеи. «Два иранских лидера, – писала The Guardian, – сражаются за верховную власть в стране, словно король и кардинал в знаменитом романе Дюма»[618]. Причем Хаминеи в 2011 году усилил свои позиции. Ярким свидетельством тому стали аресты соратников Ахмадинежада из Революционной гвардии и ополчения Басидж, обвиненных в колдовстве, и громкий коррупционный скандал, в котором оказался замешан сам президент. В Тегеране начали циркулировать слухи о том, что группа депутатов меджлиса готовится объявить Ахмадинежаду импичмент. Кроме того, рахбар пресек попытки президента переложить на себя часть функций духовного лидера и издал указ, запрещающий говорить о связи обычных людей со «скрытым имамом», что не раз позволял себе Ахмадинежад. После того как старые консерваторы, объединенные вокруг фигуры рахбара, в марте 2012 года одержали триумфальную победу на парламентских выборах, стало очевидно, что несмотря на возраст и тяжелые болезни, Хаминеи по-прежнему держит в руках все нити, и стоило Ахмадинежаду начать собственную игру, как верховный лидер немедленно поставил его на место.
Однако президент готовился нанести своему сопернику ответный удар. «Он исповедует идеологию персидского национализма, – отмечал американский эксперт по Ирану Али Альфонех, – и, бросив вызов прогнившей саудовской монархии, рассчитывает пробудить в иранцах национальную гордость. Кроме того, Ахмадинежад надеется использовать в своих интересах распространенные в стране эсхатологические настроения. Многие жители Ирана уверены в скором наступлении конца света (его ожидают сразу после смерти нынешнего саудовского короля – Хранителя святынь Мекки и Медины). И, по их представлениям, именно лидеры Саудовской Аравии и Израиля будут противостоять правоверным в Последней битве»[619].
Американцы не скрывали, что такая битва, а говоря проще, большая ближневосточная война будет им на руку. Используя традиционный имперский принцип divide et impera, они надеялись вновь укрепить свои позиции на Ближнем Востоке. Неслучайно осенью 2011 года США приложили максимум усилий для того, чтобы раскрутить историю о покушении иранских спецслужб на саудовского посла в Вашингтоне Аделя аль-Джубейра. «Даже в Голливуде такой сценарий выбросили бы в помойку, – писал The American Thinker, – покушение на дипломата, которое может привести к войне, взрыв в ресторане у Белого дома, полтора миллиона «грязных» долларов на секретные операции и киллеры из мексиканского наркокартеля с колоритным названием «Лос Зетас» – все это, мягко говоря, вызывает сомнения»[620]. Однако американские эксперты настаивали на том, что в Тегеране решили отомстить саудовскому послу за то, что он призывал Америку «отрубить голову иранской змее» (миру стало известно об этом из материалов WikiLeaks). Как бы то ни было, отношения между королем и послом напоминали отношения отца и сына, и, если бы посол был убит, для Саудовской Аравии это стало бы настоящим casus belli. «Американцы, – писала The Tehran Times, – пытались создать образ нового эрцгерцога Фердинанда, однако сфабрикованная ими история оказалась слишком неправдоподобна, чтобы послужить причиной для третьей мировой»[621].
Тесные отношения с Ираном были, кстати, одной из причин непримиримого отношения США и их союзников к режиму Асада. Весной 2011 года высокопоставленный саудовский чиновник в беседе с шефом администрации бывшего вице-президента США Дика Чейни Джоном Ханной выразил уверенность, что смена режима в Сирии будет иметь крайне благоприятные последствия для Эр-Рияда и королевского дома Саудов. «Король знает, – заявил он, – что ничто не может так ослабить Иран, как потеря Сирии». И с тех пор Вашингтон, фактически, претворял в жизнь планы своих саудовских союзников. Но ни переговоры «шестерки» по ядерной программе ИРИ, ни экономические санкции ни к чему не приводили, а военное решение иранской проблемы большинство вашингтонских стратегов воспринимали как «самоубийственную авантюру».
Разговоры о полной экономической изоляции Ирана были явным преувеличением. Исламская Республика не только не уменьшила экспорт нефти в азиатские и африканские государства, она с каждым годом увеличивала его. И тут не помогла истерика вашингтонских чиновников, грозивших в апреле 2011 года составить список из двадцати государств, к которым могут быть применены санкции в том случае, если они не откажутся покупать иранскую нефть (в список вошли Китай, Индия, Шри-Ланка, ЮАР и Сингапур). Угрозы американцев не подействовали на развивающиеся страны, и в Тегеране всерьез рассчитывали компенсировать закрытие европейских рынков за счет экспорта в Азию и Африку.
Некоторое время под давлением американцев Китай занимал выжидательную позицию и старался не инвестировать в Иран. В 2011 году многие китайские компании приостановили работу в ИРИ. Важные для иранцев проекты были «заморожены», что, разумеется, вызвало их недовольство: китайская Национальная Нефтяная Корпорация (CNPC) в течение года дважды получала предупреждения от Тегерана о «срыве сроков строительства объектов».
Но, как только в Пекине убедились, что США не планируют силового вторжения в Иран, сотрудничество возобновилось. Отказавшись от ряда нефтегазовых проектов в Исламской республике, китайцы одновременно увеличили экспорт иранской нефти. За 2011 год он вырос в два с лишним раза по сравнению с 2010 годом. (Китай импортировал около четверти иранской нефти). На какое-то время камнем преткновения в отношениях двух азиатских держав стала проблема банковских платежей, но они смогли разрешить ее, договорившись о переходе в расчетах за нефть на юани.
Похожая ситуация сложилась и в отношениях с Индией. Начиная с февраля 2012 года, в ходе межправительственных консультаций был выработан новый способ взаиморасчетов в индийских рупиях.
Таким образом, санкции в отношении Ирана нанесли ощутимый удар по экономике Запада, причем с самой неожиданной стороны. Как отмечал эксперт Центра «Геоарабика» Александр Кузнецов, «негативные последствия были вызваны не резким повышением цен на нефть – его не произошло. И не дефицитом нефти в Европе. Иранские недопоставки с лихвой компенсировались импортом из той же Ливии. Проблема была в другом: банковская блокада Ирана вела к тому, что доллар постепенно прекращал быть платежным средством за нефть. И это могло стать настоящим кошмаром для финансовой системы США, серьезно ослабленной мировым кризисом. Ведь именно монопольный статус доллара как единственного средства оплаты за энергоносители до сих пор держал американскую валюту на плаву»[622].
Представителей американского крупного бизнеса, конечно, устраивало ослабление Ирана, но не ценой обвала мировой нефтяной торговли. И в этом смысле обращала на себя внимание статья известного политолога, специалиста по ядерному разоружению Кеннета Уолца «Почему Иран должен получить бомбу?», опубликованная в начале июля в авторитетном американском журнале Foreign Affairs.
Уолц рассматривал три возможных сценария развития иранского кризиса. Первый – Исламская республика, ослабленная санкциями и международным давлением, полностью сворачивает ядерную программу. Второй – Иран достигает порогового уровня обогащения урана, который позволяет производить ядерное оружие, но останавливается на этом. И, наконец, третий – тегеранские власти решаются создать атомную бомбу. «Этот сценарий, – писал Уолц, – приведет к самым благоприятным последствиям. Иранская элита будет куда более осмотрительной, начнет тщательней взвешивать риски, а в регионе сложится разумный баланс сил: Исламская республика станет естественным противовесом Израилю, который в настоящий момент обладает на Ближнем Востоке ядерной монополией»[623]. Заметим, что эти слова принадлежали перу не какого-нибудь радикала-антиглобалиста. Это написал признанный теоретик международных отношений, долгие годы сотрудничавший с Госдепартаментом.
«Иран являлся одной из ключевых фигур «большой игры» на Ближнем Востоке, – объяснял Кузнецов, – И неудивительно, говорили эксперты, если последствия иранского кризиса будут прямо противоположны тем, на которые рассчитывали его организаторы. Милитаристы, долго бившие в барабаны войны, могли оказаться у разбитого корыта, а в регионе сложилась бы неожиданная политическая конфигурация»[624]. Политологи вновь заговорили о возможности большой сделки между Тегераном и Вашинтоном. «Если бы США последовательно проводили политику сдерживания Ирана они способствовали бы восстановлению суннитской военной диктатуры в Ираке и вряд ли бы заключили в Афганистане союз с хазарейцами-шиитами против талибов-суннитов, – заявлял профессор лондонского Королевского колледжа Анатоль Ливен. – Так что, интересы Америки вполне могут совпадать с интересами ИРИ. Но радикальные изменения в отношениях Тегерана и Вашингтона возможны лишь в случае чрезвычайных обстоятельств. Если, например, падет нынешний саудовский режим и к власти в Эр-Рияде придет антизападное правительство суннитских экстремистов, Соединенные Штаты будут вынуждены либо уйти с Ближнего Востока, либо создать в регионе новую конфигурацию власти. В этом случае даже израильтяне не станут возражать против сближения Америки с Ираном, понимая, что ваххабитские саудовские правители представляют для них куда более серьезную угрозу, чем тегеранские аятоллы»[625].
КОНЕЦ ДОГОВОРНОГО МАТЧА?
Жасминовые» революции, которые привели к падению режимов, отстаивающих принципы арабского национализма, стали настоящим подарком судьбы для Анкары. Динамично развивающаяся, сильная и уверенная в себе Турция легко могла стать центром притяжения для новых ближневосточных правителей. Тем более что другие потенциальные лидеры суннитского мира – Египет и Саудовская Аравия – переживали не лучшие времена.
12 июня 2011 года правящая в стране умеренно-исламистская Партия справедливости и развития (ПСР) одержала триумфальную победу на парламентских выборах. И Анкара стала еще активнее претендовать на роль центра притяжения для новых ближневосточных правителей. «Турция сейчас задает тон в регионе, – провозгласил премьер-министр Реджеп Тайип Эрдоган, – все взоры обращены на нашу республику, и победа ПСР для Рамаллы и Иерусалима значит не меньше, чем для Стамбула, для Бейрута – не меньше, чем для Измира, а для Дамаска – не меньше, чем для Анкары»[626].
В регионе, который переживал революционные изменения, многих интересовало, каким образом турецким исламистам удалось разгромить армейскую верхушку, считавшуюся главным столпом кемалистского светского государства. Даже Республиканская народная партия, традиционно отстаивающая интересы военных, отказалась в своей предвыборной программе от старого тезиса о необходимости их вмешательства в политическую жизнь страны. До «супербольшинства» в две трети голосов в парламенте ПСР немного не дотянула, однако Эрдоган был убежден, что это не помешает ему принять новый проект конституции и окончательно похоронить «кемалистскую» светскую модель государства.
Кроме того, Турция пыталась предстать в роли главной защитницы мусульманских интересов в конфликте с Израилем. Правительство Эрдогана прекрасно понимало, что демонстративный разрыв с Иерусалимом – это кратчайший путь к сердцам мусульман Ближнего Востока, и, не задумываясь, приносило в жертву «особые отношения» с еврейским государством.
Через год после скандала вокруг «флотилии свободы» специальная Комиссия ООН под руководством экс-премьера Новой Зеландии Джеффри Палмера объявила, что израильские спецназовцы имели право атаковать турецкие корабли, и у Анкары появился прекрасный повод для того, чтобы окончательно разорвать отношения с Иерусалимом. Причем сделать это в максимально грубой форме, вызвав ликование «арабской улицы» и заставив западных союзников по НАТО пожалеть о том, что они похоронили надежды турецкой элиты на евроинтеграцию. «Выводы комиссии ООН, – отметил президент Абдулла Поль, – вынуждают Турцию самостоятельно наказать обидчика»[627]. Была обнародована новая военно-морская стратегия Турции, получившая название план «Барбаросса». Согласно этому плану, Анкара должна была усилить присутствие своего ВМФ в Восточном Средиземноморье у берегов Кипра и Израиля, направив в этот регион часть боевых кораблей из Черного и Мраморного морей. Название «Барбаросса» (если кто не помнит, именно так назывался план нацистского нападения на СССР), судя по всему, выбрано было не случайно. И хотя турки валяли дурака, заявляя, что имели в виду они вовсе не германского императора Фридриха Барбароссу (рыжебородого), а его тезку – знаменитого турецкого адмирала XVI века Хайрад-Дина Барбаросса, в Израиле исторические намеки такого рода привыкли понимать с полуслова.
Еще одним неприятным сюрпризом для Иерусалима стало турне Эрдогана по освободившимся странам Ближнего Востока, в ходе которого турецкий премьер пытался сколотить антиизраильскую коалицию. Ему удалось заключить военный союз с Египтом, где после падения Хосни Мубарака тон задавали «Братья-мусульмане», призывавшие к разрыву Кэмп-Дэвидского соглашения, и в сентябре 2011 года манифестанты громили израильское посольство. «Египет, – писала газета Haarez, – фактически превращается в турецкий протекторат. В Турции вспоминают о тех временах, когда в Каире правили турки-сельджуки и османские паши, и планируют вернуться в эту ключевую ближневосточную страну, ослабленную волнениями. Как и раньше, говорят они, мы будем создавать на Ближнем Востоке империю протекторатов и не вмешиваться во внутренние дела того же Египта. От арабов мы будем требовать только лояльности, а в обмен готовы предложить им экономическую и военную помощь»[628].
Эксперты утверждали, что Турция вполне может стать центром суннитского военно-политического блока, в который помимо Египта и стран Магриба могут войти консервативные монархии Персидского залива, в первую очередь Саудовская Аравия и Катар, сыгравшие ключевую роль в «арабской весне». Многие предсказывали, что со временем этот блок бросит вызов шиитскому Ирану и вступит с ним в противоборство в Ливане, Сирии и Ираке. И хотя между Анкарой и Тегераном существовало соглашение о разделе сфер влияния в регионе, учитывая, как легко Турция Эрдогана отрекается от вчерашних союзников (и речь не только об Израиле, до 2011 года турки обхаживали полковника Каддафи и даже установили с Ливией безвизовый режим, а затем с радостью делили его наследство с партнерами по НАТО), конфликт с Ираном, в котором государственной идеологией постепенно становился персидский национализм, казался все более реальным. Тем более что Блистательная Порта испокон веков воспринимала Персию как своего главного экзистенциального врага.
Но в 2011 году неокемалисты закаляли характер в противостоянии с Израилем. Усилив свое присутствие в Восточном Средиземноморье, они заявляли, что не допустят израильтян к разработке обнаруженных у берегов Ливана богатых газовых месторождений. Эрдоган стал первым иностранным лидером, который лично посетил сектор Газа и провел официальные переговоры с руководителем радикального движения «Хамас» Исмаилом Ханией.
Анкара грозилась снарядить очередную флотилию свободы, которая отправится в Газу под охраной военных фрегатов и эсминцев турецкого ВМФ, и если израильские корабли попытаются атаковать ее, турки, не раздумывая, будут их топить. Конечно, говорили политологи, сидеть сложа руки и наблюдать за тем, как рушится блокада Газы, израильтяне не будут, а значит, в ближайшее время может начаться большая ближневосточная война.
Стоит отметить, что эту точку зрения разделяли не только алармисты и паникеры из американских научных центров, но и прагматичные израильские военные, которые никогда не любили нагнетать обстановку. Например, о возможности «полномасштабного регионального конфликта» заявил летом 2011 года командир тылового управления Армии обороны Израиля генерал-майор Эяль Эйзенберг. «Израиль не собирается становиться на колени перед султаном Эрдоганом, – писала газета «Маарив». – Правое правительство Нетаньяху прекрасно понимает, что на Ближнем Востоке диалог можно вести лишь с позиции силы. Любая готовность к компромиссу воспринимается здесь как проявление слабости. Извиниться перед Турцией – значит признать нелегальность блокады Газы. Пропустить караваны, которые отправляются на помощь противнику, – это все равно что согласиться на капитуляцию»[629].
Угрозы Анкары прервать связи между ВПК двух стран не пугали правительство Нетаньяху. Ведь Израиль совсем недавно отказался продавать Турции современное оружие из опасений, что оно может попасть в руки террористов. Однако разрыв экономических связей мог стать для еврейского государства куда более страшным ударом. Не говоря уже о формировании антиизраильской коалиции.
Иерусалим, со своей стороны, также пытался найти союзников в возможном противостоянии с Анкарой. Велись переговоры с курдскими сепаратистами из Рабочей партии Курдистана. Организовав им поставки современного оружия, израильтяне вполне могли создать хаос на юго-востоке Турции. Кроме того, министр иностранных дел Авигдор Либерман планировал договориться о совместных действиях с лидерами армянского лобби в конгрессе США. «Сотрудничество двух самых мощных лобби на Капитолийском холме, – писал The Economist, – может стать для Анкары фатальным, вынудив Соединенные Штаты занять жесткую антитурецкую позицию»[630]. Пока, правда, правительство Нетаньяху довольствовалось слабыми союзниками вроде Армении, Кипра и Греции (последняя находилась в пикантной ситуации, поскольку являлась партнером Анкары по НАТО). «Заключив военный альянс с Арменией, – писал The American Thinker, – Израиль добьется того, что к союзникам Турции присоединится Азербайджан. Соглашение с Никосией сделает противником Иерусалима Республику Северный Кипр. В общем, мы станем свидетелями новой конфигурации союзов, созданных по принципу «враг моего врага – мой друг». Все это очень напоминает дипломатию накануне Первой мировой войны»[631].
Правда, оставались в США и оптимисты, которые видели в турецко-израильском конфликте показное противостояние, своего рода отвлекающий маневр. «Склока Эрдогана с Нетаньяху, – отмечал журнал The Nation, – была задумана лишь для того, чтобы не акцентировать внимание на такой важной уступке Анкары, как согласие разместить на турецкой территории американский радар, который является ключевым элементом системы ПРО, создаваемой администрацией Обамы (к слову сказать, трехстороннее соглашение Вашингтона, Анкары и Иерусалима об обмене информацией о ракетных запусках вероятного противника никто не отменял). Кроме того, театральная постановка, за которой мы все с интересом наблюдаем, призвана отвлечь внимание от подготовки агрессии против Сирии, на северной и южной границах которой «рассорившиеся союзники» сосредотачивают ударные группировки войск»[632].
Многие политологи просто не желали верить в то, что стратегический альянс Турции и Израиля может быть разрушен: слишком тесным было сотрудничество между военным командованием и спецслужбами двух стран. Жесткую антиизраильскую позицию в Турции осуждали ведущие дипломаты вроде замминистра иностранных дел Феридуна Синирлиоглу, представители турецкой оппозиции и даже лидер крупнейшего исламистского движения «Нур» Фетхуллах Гюлен, который до последнего времени покровительствовал правящей партии. И поэтому многие политологи были убеждены, что в своем крестовом походе против Израиля дальше слов Эрдоган не пойдет.
Не могли поверить они и в другую метаморфозу: неужели Турция действительно решилась проводить самостоятельную политику на Ближнем Востоке без оглядки на Вашингтон? Ведь раньше мало кто мог себе такое представить, и все демарши Анкары воспринимались как острые моменты договорного матча. Как бы то ни было, на Западе были убеждены, что если турецко-израильский конфликт продолжится, США будут действовать по принципу divide et impera, стравливая Анкару и Иерусалим
СИРИЙСКИЙ КРИЗИС
В начале 2012 года Турция вновь оказалась в одном лагере с США, оказая поддержку антиасадовской оппозиции, прежде всего Сирийской Свободной Армии. Резкое изменение позиции Анкары по отношению к Дамаску произошло еще в 2011 году. И турецкие лидеры, которые воспринимались всегда как близкие партнеры Асада стали его заклятыми врагами. Сирийско-турецкая граница была закрыта. Перестала существовать Зона свободной торговли, приносившая немалые доходы коммерсантам из Алеппо и их турецким коллегам.
5 мая 2012 года премьер-министр Эрдоган заявил, что «сирийский режим не продержится долго, поскольку в стране продолжается кровопролитие»[633]. За две недели до этого сирийские войска, спровоцированные боевиками, обстреляли участок турецкой границы в районе Килиса. И Эрдоган тут же пригрозил обратиться за помощью к западным союзникам. Ведь, согласно 5-й статье Устава НАТО, нападение на одного из членов альянса, предоставляет другим его членам право выступить против агрессора без всякого одобрения со стороны Совбеза ООН.
Но чем объяснялась непримиримая позиция Турции по отношению к вчерашнему партнеру? По словам эксперта Центра «Геоарабика» Александра Кузнецова, «неоосманский проект, разработанный ПСР, предусматривал новое издание суннитского халифата, который включил бы в себя Сирию, Палестину, Иорданию и Египет. К тому же, саудовская элита активно толкала Турцию к созданию «освобожденного анклава» на сирийской территории, рассчитывая со временем превратить его в базу для подконтрольных ей боевиков. Согласно планам саудовских спецслужб, в случае реализации этого проекта, повстанцы смогли бы очень быстро перерезать основные транспортные коммуникации в этой части Сирии и захватить Алеппо. Турции в данном случае отводилась роль державы, которая обеспечит физическую защиту мятежников[634].
Как бы то ни было, в конце мая – начале июня 2012 года Соединенные Штаты и их союзники (которые уже в течение полугода проводили встречи «друзей Сирии») устроили настоящую антисирийскую истерию. Поводом для нее стала расправа над мирными жителями на территории, которая считалась оплотом сирийской оппозиции. 25 мая в селении Хула неподалеку от города Хомс и 6 июня в поселках Аль-Кубейр и Маарзаф в провинции Хама в результате резни погибло около двухсот человек, и на Западе ответственность за трагедию тут же возложили на правительственные войска. Официальный Дамаск обвинения отрицал и заявлял, что в случае с Аль-Кубейром военные откликнулись на просьбу о помощи, которая поступила от местных жителей, вошли в поселок, но было слишком поздно: террористы к тому времени уже совершили массовое убийство. И хотя правительственная армия уничтожила боевиков, своей цели они добились, дискредитировав правящий режим накануне заседания Совбеза ООН, посвященного сирийской проблеме.
Как и в случае с трагедией в Хуле, которая произошла незадолго до визита в Сирию спецпосланника ООН Кофи Аннан многие задавались вопросом, зачем это нужно правящему режиму? Повстанцам же такие события были на руку. Первое время после массового убийства в Хуле мировые СМИ сообщали, что граждане погибли в результате артобстрела. Однако после того как были обнаружены тела погибших, стало очевидно, что либо они были казнены выстрелом в висок, либо им перерезали горло. Такой почерк, прямо скажем, нетипичен для солдат сирийской армии и скорее напоминает действия боевиков-исламистов. И в этом смысле версия официального Дамаска, согласно которой резня началась после того, как жители отказались подчиниться приказу окруживших деревню 600 головорезов и организовать антиправительственную демонстрацию, выглядела вполне правдоподобной. Ведь сирийское правительство не могло не понимать, к каким последствиям может привести решение вырезать целую деревню.
Правящий режим уверял, что на него напрасно возводят хулу. «Это была хорошо скоординированная спецоперация, – говорили представители сирийских властей, – рассчитанная на то, что западная медийная машина тут же нарисует однозначную картину событий». И действительно, рассуждая о конфликте в Сирии, политологи начали использовать формулу «до и после Хулы», западные страны провозгласили режим Асада «бесчеловечной тиранией» и выслали сирийских дипломатов. (В конце мая 2012 года о высылке послов объявили Германия, Великобритания, Испания, Италия, Франция, Нидерланды, Австралия и Канада.)
Стоит отметить, правда, что к тому моменту дипломатические отношения «друзей Сирии» с правительством Асада де-факто уже были заморожены. Сирийский посол в Вашингтоне Имад Мустафа, например, был отозван в Дамаск еще в конце 2011 года, и, чтобы поучаствовать в общем демарше, американцам пришлось выслать сирийского поверенного в делах. Новый министр иностранных дел Франции Лоран Фабиус в интервью газете Le Monde заявил, что его страна выступает за немедленную отставку президента Асада, который «убивает свой собственный народ»[635].
В общем, все произошло именно так, как и рассчитывали те, кто устроил провокацию в Хуле. Антисирийская кампания в СМИ должна была достигнуть кульминации. Ведь за тот год, что она велась, все сюжеты были исчерпаны. Арабские каналы «Аль-Джазира» и «Аль-Арабийя» навострились создавать страшные картинки в жанре «сирийский хоррор» и, хотя их уже не раз ловили на фальсификациях, упорно продолжали делать это. «Технология проста, – рассказывал старший научный сотрудник Института востоковедения Борис Долгов, – берется макет сирийской улицы, 30–40 статистов в одежде сирийских граждан, рисуются антиасадовские плакаты, затем все это снимается, монтируется и подается в эфир. Другой вариант, когда на реальной демонстрации появляются провокаторы, которые стреляют в полицейских, те открывают ответный огонь, а арабские каналы тут же демонстрируют миру зверства сирийских силовиков»[636]. Мастистые западные компании транслировали кадры, предоставляемые им арабскими друзьями, и в мире создавалось ощущение, что Сирией правит параноидальный режим, который вызывает ненависть у всего населения страны. В газетах публиковались фотографии многотысячных демонстраций протеста, на которых люди, знающие арабский язык, могли увидеть плакаты «Асад – наш президент». Представители международной делегации, посетившей в январе 2012 года город Хама, с удивлением услышали в новостях CNN о том, что на них было совершено нападение, в результате которого два человека, якобы, были убиты.
О том, что творили «героические повстанцы» из Сирийской свободной армии и организации «Братья-мусульмане», мировые СМИ почему-то умалчивали. Ничего не сообщалось о том, что повстанцы обстреляли из минометов древний монастырь Рождества Божьей Матери в городе Сейдная и убили священников на пороге обители. Не говорилось и о том, что пятьдесят тысяч христиан вынуждены были бежать из Хомса в результате зачисток, которые проводили исламисты.
Конечно, Асад изо всех сил пытался выстоять. 5 июня он назначил новым премьером страны Рияда Хиджаба, который, как и его предшественник Адель Сафар, занимал до этого пост министра сельского хозяйства. Это, конечно, дало повод для ернических высказываний со стороны лояльной режиму оппозиции, смысл которых сводился к тому, что только «агрономы способны управлять страной в эпоху гражданской войны». Однако следовало понимать, что Хиджаб – типичный партийный функционер, который пользуется поддержкой рядовых баасистов, а партия «Баас» является главной опорой правящего режима. В ней состояло около двух миллионов человек, и все они осознавали, что в случае падения Асада их ожидает незавидная участь. И хотя правительство поддерживало 60 % населения (слишком велик был в светской Сирии страх перед исламистской диктатурой), главный костяк проасадовского движения составляли именно баасисты. Учитывая тот факт, что дом Асадов находился на грани банкротства (держать в городах крупные армейские группировки оказалось накладно, и становилось очевидно, что к осени силовикам будет нечем платить), многие граждане могли от него отвернуться и отдать предпочтение повстанцам, которые по крайней мере избавят страну от жестких экономических санкций и, возможно, сумеют получить крупные кредиты от своих покровителей на Западе и в нефтяных монархиях Залива.
По оценкам аналитиков, в Сирии насчитывалось 33 тысячи вооруженных повстанцев. Из них только 3 тысячи состояли в Сирийской свободной армии и подчинялись централизованному командованию. Остальные были связаны с «Братьями-мусульманами» и «Аль-Каидой». На стороне «непримиримых» сражалось немало моджахедов из Ирака и Ливии. Неслучайно их действия координировал лидер ливийской «Аль-Каиды» и военный губернатор Триполи Абдель Хаким Бельхадж.
Благодаря усилиям иностранных наемников террористическая активность в Сирии приобретала угрожающие масштабы. После того как крупные отряды боевиков в Хомсе и в Идлибе были уничтожены, моджахеды перешли к террору. Продолжались и вооруженные вылазки, которые проводились в нарушение так называемого плана Кофи Аннана, подразумевавшего прекращение огня с обеих сторон. А в начале июня повстанцы и вовсе решили похоронить злополучный план, обвинив правительство в том, что оно не соблюдает его, и заявив о необходимости «полномасштабной войны».
И хотя повстанческая армия была невелика, экипирована она была превосходно. Оружие поставлялось по старым каналам, которые когда-то использовали сирийские спецслужбы, через Ливан и Ирак. Спонсировали поставки аравийские монархии и, самое интересное, открыто в этом признавались. Как заявил саудовский министр иностранных дел принц Сауд аль-Фейсал, «наши братья в Сирии имеют право защитить себя от безумного диктатора»[637].
И никого не удивило, когда в конце апреля в Бейруте было задержано судно Лютфулла II под флагом Сьерра-Леоне, которое перевозило из Ливии американское оружие для «свободных сирийцев». Ливанские спецслужбы в ходе досмотра обнаружили на борту три контейнера боеприпасов, среди которых были артиллерийские снаряды, тяжелые пулеметы, ручные противотанковые гранатометы, ракеты и взрывчатка. Монархии Залива, которые финансировали все это мероприятие, воспринимали алавитский режим в Сирии даже не как еретический, а как языческий. Ведь до оккупации Ливана алавиты вообще не признавались мусульманами. Вряд ли кто-нибудь стал бы отрицать, что сирийская партия «Баас» выстроила в стране абсолютно светский режим, и можно только догадываться, какие эмоции вызывала она у ваххабитских монархий Залива, которые считали Дамаск главным препятствием на пути глобального халифата, создаваемого ими с начала «арабской весны.
Не менее решительно были настроены США и Европа. И что интересно, западные дипломаты активизировались именно тогда, когда вооруженная борьба оппозиции с Дамаском стала сходить на нет. Как заявила представитель Госдепа Виктория Нулланд, «теперь мы должны использовать все пути давления на сирийский режим, чтобы потуже затянуть петлю»[638]. Еще в начале апреля 2012 года американские сенаторы-ястребы Джон Маккейн и Джо Либерман побывали в районе турецко-сирийской границы и провели переговоры с командирами «Свободной армии» – генералом Мустафой аш-Шейхом и полковником Риадом аль-Асаадом. А, как сообщала New York Times, «в южной Турции активно работали сотрудники ЦРУ, которые координировали действия повстанцев и выплачивали деньги солдатам, дезертирующим из правительственной армии»[639].
В конце июня 2012 года президент Асад впервые признал, что в Сирии идет настоящая гражданская война. «Мы будем сражаться на всех фронтах, – заявил он, выступая в парламенте, – и одержим победу над террористами»[640]. Однако эксперты уверяли, что сделать это становится все сложнее. Повстанческое движение набирало силу. Противники Асада сформировали военные советы в провинциях Хомс, Хама, Идлиб, Дараа и даже в Дамаске. Они координировали свои действия с так называемыми «революционными советами», представляющими политическое крыло восстания. Некоторые политологи предсказывали, что в скором времени оппозиция будет контролировать более половины территории страны.
«Не вызывает сомнений, – заявляла советник Асада по политическим вопросам Буссейна Шаабан, – что преодолеть кризис получится лишь в том случае, если все стороны, так или иначе замешанные в конфликте, перестанут поставлять оружие, финансировать вооруженные группировки и вести информационную войну»[641]. Что же касается второго плана Кофи Аннана, предложившего создать «правительство примирения», в которое вошли бы представители правящего режима и непримиримой оппозиции, в Дамаске считали его абсурдным. Как отмечал президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский, «сирийская оппозиция – это разрозненные группы и банды дезертиров, которые существуют как единое целое исключительно в бумагах «Группы друзей Сирии». Никакой цели у них нет и быть не может, кроме, разве, физического уничтожения Асада»[642]. И неудивительно, что оппозиционный Национальный совет Сирии уже на следующий день после женевской международной конференции, состоявшейся 30 июня 2012 года, отверг план Аннана.
Понимая, что «женевские игры» ни к чему не приведут, западные политики все чаще говорили о военном вмешательстве. Особенно после того как 22 июня турецкий истребитель F-4 Phantom, был сбит сирийскими ПВО неподалеку от города Латакия. Анкара настаивала, что самолет совершал учебный полет «по ошибке» «всего на минуту» залетел в сирийское небо и потерпел крушение в результате удара управляемой ракеты. Причем, произошло это, якобы, уже над нейтральными водами в 20 километрах от побережья безо всякого предупреждения со стороны Дамаска. Сирийцы, в свою очередь, утверждали что «фантом» вторгся в их воздушное пространство, шел на угрожающе низкой высоте (около ста метров), на предупреждения не реагировал и был сбит не ракетой, а артиллерийским огнем.
Эксперты утверждали, что в этом районе Сирии обстановка была очень нервной: в окрестностях Латакии не прекращались столкновения, в соседней провинции Идлиб пограничники отразили вторжение крупного отряда террористов, который пытался с боем прорваться через турецко-сирийскую границу (причем раненых боевиков эвакуировали военные машины, принадлежащие Анкаре). На побережье Сирии не раз высаживались морские десантники, направляющиеся из Турции, на турецкой территории находились базы повстанческой «Свободной армии», через границу шли поставки вооружений. В такой ситуации решение послать истребитель в район Латакии было либо верхом безрассудства, либо сознательной провокацией. И неудивительно, что командир батареи ПВО, заметив военный самолет, вторгшийся в сирийское воздушное пространство, незамедлительно открыл огонь. Тем более, что, по словам сирийцев, это было уже не первое нарушение их воздушных границ. Анкара, уверяли они, была заинтересована в том, чтобы разузнать, что происходит в порту Тартус, где разгружаются российские корабли. Кроме того, турецкие военные стремились уточнить местонахождение боевых рассчетов сирийской ПВО, чтобы понимать, куда, в первую очередь, следует наносить авиаудары в случае военного вторжения в Сирию.
Такое объяснение, конечно, выглядело правдоподобным. Политологи отмечали также, что Турция пытается угодить союзникам по НАТО, которые искали любой повод чтобы реализовать в Сирии ливийский сценарий, предполагающий введение бесполетной зоны над территорией страны. Асад им такого повода не давал, отказываясь использовать авиацию в войсковых операциях против мятежников. Итак называемые «друзья Сирии» готовы были на любые уловки.
Конечно, из-за сбитого турецкого «фантома» не могла разгореться война. Но как заявлял директор Института Востоковедения РАН Виталий Наумкин, «этот эпизод добавит еще одно обвинение в копилку обвинений в адрес сирийского режима и если накопится с десяток таких эпизодов, западные страны рассчитывают пробить через Совбез ООН решение о беспилотной зоне». А в ливийском случае, как мы помним, такое решение привело в итоге к прямой военной интервенции»[643].
«Теперь покровители Сирии вынуждены будут прикусить языки, – писал британский эксперт по вопросам безопасности Барак Синер. – И никто не сможет осудить «гуманитарное военное вмешательство»[644]. В США и Европе этот оксюморон вошел в обиход еще в эпоху Тони Блэра, который в 1999 году сравнивал западные державы с хирургами, удаляющими раковую опухоль. Вопрос был только в том, дойдет ли до хирургической операции в Сирии?
В середине июля на севере Сирии в провинциях Идлиб и Алеппо под защитой турецких ПВО появились обширные «зоны безопасности» – районы, где правительственные войска вообще не появляются. Аналогичные территории (хоть и меньшие по размерам) образовались и у границы с Ливаном и Иорданией. Тем временем, на очередной встрече «друзей Сирии» в Париже представитель Катара шейх Хамад аль-Тани призвал собравшихся «прервать затянувшийся спектакль». «Можем ли мы предпринять что-нибудь без санкции Совета безопасности? Да. Делали ли мы это ранее? Да, и тому много примеров»[645], – заявил он. И присутствовавшая на встрече друзей Хиллари Клинтон не стала ему возражать.
Как утверждал бывший представитель США в НАТО Курт Волкер, «резня в сирийских деревнях, бесстыдство россиян, которые пытаются вооружить режим Асада, и, наконец, история с турецким самолетом – все это значительно увеличивает вероятность военной интервенции»[646]. В этом смысле заслуживали внимания масштабные маневры, которые проводились в мае 2012 года на севере Иордании. Участие в них приняли более 30 тысяч солдат, подразделения из США, Великобритании, Катара и других стран, которые участвовали в сборищах «друзей Сирии». Обычно подобные учения проводились в течение пяти дней, но на этот раз они заняли две недели, что дало повод говорить о том, что «друзья» готовят масштабную антисирийскую операцию. И хотя глава французского МИД Лоран Фабиус заявил в июне, что «речь может идти исключительно об авиаударах»[647], эксперты отмечали, что «в Сирии воздушной войной дело не ограничится и потребуется полноценная сухопутная операция, в ходе которой интервентам будет противостоять сильная, хорошо вооруженная, обученная армия, которая в отличие от народных отрядов Каддафи предана лидеру страны».
На Западе пытались раздуть проблему дезертирства, но, на самом деле, это были лишь единичные случаи. «Сирийская армия – монолитна, – говорили военные специалисты, – к тому же она считается наиболее боеспособной из всех армий Ближнего Востока. Сирия активно вооружалась, начиная еще со времен Советского Союза, поэтому ее военная мощь не ставится сегодня никем под сомнение. Тем более, что инцидент с турецким истребителем наглядно продемонстрировал: Дамаск может адекватно и быстро парировать любые воздушные операции, у сирийцев есть хорошо тренированные расчеты, и с помощью радаров дальнего обнаружения они могут контролировать свое воздушное пространство».
Многие рассуждали о том, кто способен начать военное вторжение в Сирию? Арабские «заливные» армии были слишком слабы и в охоте на сирийского льва могли принять лишь косвенное участие, финансируя наемников и отправляя на войну фанатиков-салафитов – «воинов Аллаха», мечтающих скинуть «еретический режим Башара Асада». Единственной ближневосточной державой с сильной армией, способной бросить вызов Дамаску – была, разумеется, Турция.
И когда после инцидента с «фантомом» турецкий премьер Эрдоган пообещал «дать жесткий ответ» и к Сирии начали стягиваться турецкие войска, многие заговорили, что это может стать «спусковым крючком» для полномасштабной войны в регионе..
Однако в Турции было множество игроков, которые выступали против военного решения сирийской проблемы, в том числе местные алавиты, поддерживающие своих единоверцев в Дамаске, и кемалисткая Народно-республиканская партия, резко критикующая интервенционистский курс Эрдогана. «Эпизод со сбитым истребителем, который случился в роковую для мировой истории дату – 22 июня – писала турецкая газета Zaman, – полностью укладывается в сценарий той игры, которую ведут ключевые мировые державы вокруг Сирии. Чтобы спровоцировать Турцию и вовлечь ее в войну, изобретаются всевозможные предлоги, раздувается угроза иррациональных действий со стороны диктаторского сирийского режима, которому нечего терять»[648]. Не были готовы к интервенции и ослабленные бесконечными чистками военные, которые опасались обострения курдского вопроса.
Теперь, что касается Америки. Чтобы начать полномасштабную военную операцию в Сирии, президенту США даже не нужно было добиваться согласия Конгресса. Законодатели дали его еще 12 декабря 2003 года сразу после падения Багдада. Однако мало кто мог себе представить, что Обама решится на военную авантюру в тот момент, когда в стране полным ходом идет предвыборная кампания. Единственным вариантом для него было занять место на скамейке запасных, как это произошло во время ливийской кампании, и выдвинуть на передний план европейские державы. «Судя по всему, – писал The Newsweek, – Англия и Франция были бы не прочь вновь сыграть роль застрельщиков. По крайне мере, воинственный задор и нетерпимость Камерона и, что особенно удивительно, левого французского президента Франсуа Олланда, говорят о многом»[649].
Реалисты на Западе понимали, что конфликт в Сирии может обернутся большой региональной войной. В соседнем Ливане, отмечали они, уже начались столкновения между различными конфессиональными группами. В Багдаде шиитское правительство Нури Малики, симпатизирующее Асаду, опасалось, что гражданская война в Сирии спровоцирует подъем радикального суннитского фундаментализма и приведет к очередному взрыву насилия в Ираке. А для администрации Обамы, которая пыталась доказать во время предвыборной кампании, что в этой стране она оставила дееспособный режим, это было бы очень некстати.
Чрезвычайно информированный бейрутский корреспондент газеты Independent Роберт Фиск со ссылкой на высокопоставленные источники в Дамаске заявил даже о возможном компромиссе между Западом, Россией, Саудовской Аравией и Ираном по поводу будущего Сирии. Основанием для такого компромисса могла послужить обеспокоенность определенных кругов на Западе чрезмерной зависимостью ЕС от импорта российских энергоносителей. «Сейчас, – отмечал Фиск, – активно прорабатывается возможность проведения через территорию Сирии двух трубопроводов: газопровода, идущего из Ирана к сирийскому побережью (с перспективой дальнейших экспортных потоков в Европу) и нефтепровода из Саудовской Аравии, пересекающего Иорданию и выходящего опять-таки к сирийскому побережью. При этом России гарантируют соблюдение ее интересов в Сирии и сохранение базы в Тартусе. Для осуществления этого проекта в стране необходима стабильность. И поэтому Асад, за которого выступает более половины населения страны, при таком раскладе остается президентом еще на два года, чтобы обеспечить прокладку новых путей и «мирный переход власти к демократическому правительству»[650].
Но если даже такая сделка не состоится, мало кто рассматривал всерьез возможность иностранной интервенции. Запад делал ставку на то, чтобы раскачать ситуацию изнутри, спонсируя боевиков и поддерживая мятежи на окраинах государства. Таким образом, сирийский сценарий существенно отличался от ливийского. Результат, правда, вполне мог быть таким же: падение режима, хаос и всевластие вооруженных боевиков. Многие предсказывали, что страна распадется на части. Ведь западная элита давно разработала план расчленения Сирии на четыре государственных образования: друзское, алавитское, курдское и суннитское.
В любом случае, было очевидно, что если режим Асада падет, к власти в Дамаске придут радикальные исламисты. Ведь, как и в Ливии, это была наиболее структурированная сила в оппозиционном повстанческом движении. Эксперты заявляли, что в их руки может попасть огромный арсенал оружия, которым владеет баасистский режим, и это будет серьезной угрозой для всех тех, кто поддерживал Башара Асада: алавитов в Сирии и Ливане, ливанской «Хезболлы», а возможно, и для России, которой вновь напомнят о террористическом подполье на Северном Кавказе.
Часть III ПРЕЗИДЕНТ «ПЕРЕЗАГРУЗКИ»
ИЛЛЮЗИИ «ПЕРЕЗАГРУЗКИ»
Во время предвыборной кампании Барак Обама выступал против проектов администрации Буша разместить элементы американской ПРО в Европе, называя их «колоссальной тратой денег». Сенатор от Иллинойса утверждал, что стратегия Буша бессмысленна и опасна, а «ядерное разоружение не ослабит, а лишь усилит безопасность США», и потому призывал Америку более активно сотрудничать с Россией в вопросах распространения ядерного оружия.
Тем не менее в Москве никаких надежд с Обамой не связывали. Эксперты вспоминали, что сенатор от Иллинойса был одним из соавторов резолюции о скорейшем вступлении Грузии и Украины в Североатлантический альянс. Кроме того, многие указывали на то, что во время предвыборной кампании одним из советников Обамы по вопросам внешней политики был Збигнев Бжезинский, политолог польского происхождения, который всегда относился к России с явным предубеждением. Ходили даже слухи, что во времена советско-афганской войны Бжезинский целился винтовкой с Хайберского перевала в сторону Советского Союза. Любовью к России не отличался и новоиспеченный вице-президент, бывший глава сенатского комитета по международным отношениям Джозеф Байден. В августе 2008 года он выступил с резкой критикой кампании на Кавказе, обещая Москве «монументальное стратегическое поражение» и угрожая наложить на нее санкции и сорвать Олимпийские игры в Сочи. А в 2009 году в интервью Wall Street Journal он предсказал, что «ослабленная Россия вскоре покорится США» и сетовал, что Америка не оказала более активной поддержки экстремистам в Чечне, «упустив шанс создать хаос в мягком подбрюшье»[651] у своего соперника.
Однако политологи рассчитывали, что новые лидеры США и России, как и их предшественники сумеют наладить дружеские, неформальные связи. Ведь только благодаря таким связям Джорджу Бушу и Владимиру Путину на протяжении 8 лет удавалось сдерживать собственные элиты, взирающие друг на друга с подозрением и даже ненавистью. С самого начала было очевидно, что Медведев и Обама также смогут найти общий язык. Ведь оба они принадлежали к поколению политиков, не имеющему личного опыта участия в холодной войне. Оба были детьми эпохи Интернета и начинали день с того, что пролистывали веб-странички, причем не ограничивались чтением ленты новостей: Обама зарегистрировался в популярной социальной сети Facebook, а Медведев завел себе дневник в «Живом журнале». Медведева и Обаму сближало также юридическое образование. Они были воспитаны на традициях римского права и, как заявил российский президент, «учились по одним учебникам». Многие отмечали, что чувство профессиональной идентичности объединяет людей, и юрист, окончивший Гарвард, вполне может найти общий язык с выпускником юридического факультета ЛГУ, как бы ни отличалось преподавание в этих университетах.
Уже на первой встрече в Лондоне лидерам удалось установить личный контакт. «В поведении человека не бывает мелочей, – отмечал профессор факультета психологии МГУ Александр Асмолов, – и в этом смысле очень показательно, как Медведев и Обама расположились на диване в лондонской резиденции американского посла. Они не скрещивали ноги и руки, как это делали неуверенные в себе, замкнутые советские лидеры. Наоборот, они всячески демонстрировали свою открытость. И хотя можно было усесться в разных концах дивана, президенты предпочли максимально сократить личностное пространство. Не столь уж важно, делалось это осознанно или инстинктивно, но факт остается фактом: сближение на невербальном уровне состоялось»[652].
Тем не менее, чтобы избежать критики со стороны политических элит, Обама и Медведев обещали отказаться от персонификации внешней политики, и заявляли, что личные контакты абсолютно эфемерны и не должны подменять отношения между двумя великими державами. «Вместо того чтобы похлопывать друг друга по плечу, обниматься и обмениваться шутками, – писала The New York Times, – они хотят сосредоточиться на решении серьезных проблем. Все уже устали от романов на высшем уровне, которые в итоге оказываются мыльным пузырем»[653]. «Путин и Буш, – утверждал проректор МГИМО Алексей Богатуров, – не имели ничего общего с традиционным образом президента, и неудивительно, что двух экстравагантных людей притягивало друг к другу. В отношениях Обамы и Медведева не может быть такой симпатии»[654].
ВТОРОЙ ГОРБАЧЕВ?
Уже в феврале 2009 года в Соединенных Штатах заговорили о «перезагрузке» в отношениях с Россией. Этот термин впервые прозвучал в речи вице-президента США Джо Байдена на Мюнхенской конференции по безопасности. В марте 2009 года состоялась первая встреча главы российского МИД Сергея Лаврова и госсекретаря США Хиллари Клинтон в Женеве. Дипломаты торжественно нажали на красную кнопку, на которой американские переводчики по ошибке написали «перегрузка». 1 апреля в Лондоне Обама встретился с Медведевым, а уже через месяц в нарушение дипломатического протокола принял в Белом доме Сергея Лаврова (согласно заведенной в Вашингтоне традиции глава государства разговаривает лишь со своим визави). Политологи не сомневались, что в отношениях с Россией Обама будет опираться на республиканцев-реалистов и умеренных демократов, которые вошли в межпартийную группу под руководством экс-сенаторов Гари Харта и Чака Хагеля. Эта группа подготовила по поручению президента доклад под характерным названием «Правильное направление политики США в отношении России». Американские эксперты утверждали, что сотрудничество с Москвой необходимо для решения вопросов, которые нынешняя администрация считает приоритетными. Это – ядерное разоружение, Иран и Афганистан. Добиться поддержки России в этих вопросах можно было лишь согласившись на определенные уступки и отказавшись от жесткой риторики, характерной для предыдущей администрации. Обама свернул масштабную антироссийскую кампанию, которая велась в Америке в эпоху Буша. На порядок меньше стало высказываний по поводу демократии и прав человека в России. В общем, для США смысл «перезагрузки» был в том, чтобы отстаивать свои интересы, не раздражая при этом партнера нравоучениями.
Американцам нравился тезис Обамы о том, что США могут достучаться до национальных элит в тех странах, которые традиционно считались их геополитическими соперниками. Многие на Западе сравнивали эпоху «перезагрузки» с периодом разрядки, инициированным американским президентом Ричардом Никсоном и госсекретарем Генри Киссинджером в поствьетнамскую эпоху. Как и тогда отказ от чрезмерных обязательств во внешней политике привел к прагматичному подходу в отношениях с «великими державами». В начале 70-х гг. прошлого века Америка научилась вести диалог с советскими руководителями и восстановила дипломатические отношения с Китаем. В 2009 году Соединенные Штаты вновь отказались от критики авторитарных тенденций в России и КНР. Обама проповедовал новое мышление и стремился к гласности в американской внешней политике. И не случайно политологи начали проводить аналогию с горбачевским периодом. В центре внимания оказались отставные политики, чьи имена были связаны с событиями тех лет. Обама и Байден приняли в Белом доме Михаила Горбачева, а Медведев пообщался с так называемой группой мудрецов, в которую входили Генри Киссинджер, занимавший пост госсекретаря США во время «разрядки», и Джордж Шульц, который руководил Госдепартаментом в период горбачевских реформ.
Нестандартные дипломатические решения нового президента пользовались популярностью в обществе. Критики обвиняли его в том, что он сдает американские позиции на мировой арене, однако большинство граждан поддерживали миротворческие усилия Обамы, в том числе политику «перезагрузки». И несмотря на то, что в Конгрессе по-прежнему были сильны антироссийские настроения, а ситуация на Кавказе представлялась в невыгодном для России свете, американцы были полны оптимизма по поводу наметившегося диалога с Москвой. «США зависят от России в ключевых вопросах внешней политики, – писал ведущий эксперт Совета по международным отношениям Чарльз Капчан, – и должны закрывать глаза на то, что происходит внутри страны. В этом заключается философия Обамы»[655].
Критики в Вашингтоне утверждали, что «перезагрузка» – плод воспаленной фантазии Обамы, который отказывается признавать геополитические реалии. Кремль же, говорили они, воспринимает инициативы новой американской администрации как проявление слабости и пытается воспользоваться моментом для продвижения своих интересов. «Медведев объявил о модернизации Российской армии, которая должна противостоять НАТО, – писала The Washington Post, – а это значит, что технические трудности не удалось устранить с помощью «перезагрузки»[656]. Идея о том, что отношения Америки с Россией можно изменить, нажав на клавишу reset, доказывает, что нынешняя администрация живет в виртуальном, а не в реальном мире». «Мы не можем нажать кнопку перезагрузки и вернуться к той ситуации, которая была в российско-американских отношениях восемь лет назад, – отмечал советник Буша-младшего по России Том Грэм. – И хотя на первых порах Обаме удалось заразить своим настроением Конгресс, который поддержал политику сближения с Москвой, избавиться от взаимных подозрений будет не так легко. Новая риторика не сотрет старые предрассудки. И как бы ни были велики ожидания, Обама не сумеет воплотить их в жизнь»[657].
Даже в самой администрации существовали серьезные разногласия по поводу того, как далеко готова зайти Америка в политике уступок, и разумно ли сдавать позиции России, ничего от нее не получая взамен. «Не является ли это зеркальным отражением советского внешнеполитического курса эпохи Горбачева, – вопрошали скептики, – и не переоценивает ли Обама возможности Москвы, которая на самом деле не способна оказать помощь НАТО в Афганистане и не обладает значительным влиянием в Тегеране». «Никто не думает, – писал редактор международного отдела The Financial Times Квентин Пил, – что российские дипломаты смогли бы убедить Иран отказаться от ядерных амбиций (такого влияния не имеет никто). Но Россия, по крайней мере, могла бы отказаться от продажи Тегерану ракет и зенитных комплексов. Когда Москва предлагает перевозить через свою территорию невоенные грузы альянса – это также нельзя назвать жестом доброй воли. Ведь доставка в Афганистан туалетной бумаги не поможет выиграть войну. И как бы ни было сильно на Западе желание видеть новую Россию, пока она лишь играет в «перезагрузку»[658] Однако, один из влиятельных неоконов Роберт Каган считал, что Обаму не стоит обвинять в политической наивности. «Новый президент продолжает политику Буша, но делает это так, что весь мир аплодирует»[659], – заявлял он.
В Соединенных Штатах существовали опасения, что в результате «перезагрузки» Москва навяжет Вашингтону свои правила игры, которые предполагают раздел сфер влияния в Евразии. «Россия вполне способна определять собственные интересы и весьма нетерпимо относится к нравоучениям США, – писал профессор Денверского университета Гэри Харт. – Поэтому любой желающий вести дела с Россией и добиваться результатов, должен для начала признать российские интересы в том виде, в каком их определяют сами россияне»[660]. Было очевидно, что Америка никогда не признает постсоветское пространство российской сферой влияния, однако оптимисты уверяли, что администрация Обамы будет смотреть на политику Кремля в этом регионе сквозь пальцы. «Если русские не будут злоупотреблять своим влиянием, – говорил профессор лондонского Королевского колледжа Анатоль Ливен, – американцы согласятся на их лидерство в странах, входивших когда-то в Российскую империю. И хотя Америка не гарантирует Москве эксклюзивные права на эту территорию, она не будет ей мешать укреплять здесь свои позиции. Что касается дальнейшего расширения НАТО на Восток, то после событий в Грузии и крушения украинской политической системы, всерьез этот сценарий никто не рассматривает. Американцы не согласны воевать за Киев и Тбилиси и не будут понапрасну раздражать Россию разговорами о вступлении этих стран в альянс»[661].
Нельзя не отметить, что инициатива Обамы привела к очередному расколу в Европе. Континентальные державы ЕС, такие, как Франция и Германия, надеялись на успех перезагрузки, а восточноевропейские страны осуждали заигрывания американского лидера с Москвой. Эстонский президент заявил, что, нажимая на кнопку перезагрузки, вы не теряете файлы памяти. И во многом он был прав. Учитывая огромное количество нерешенных проблем в российско-американских отношениях, ошибка при переводе термина reset, допущенная во время первой встречи Хиллари Клинтон с Сергеем Лавровым, оказалась символичной и «перезагрузка» обернулась для них серьезной «перегрузкой».
ЯДЕРНЫЙ ПИАР
После того как в апреле 2009 года Обама произнес пражскую речь, целиком посвященную будущему безъядерному миру, стало очевидно, что проблема ядерного разоружения является идеей фикс для нового американского президента. Он рассчитывал подписать с русскими рамочное соглашение, которое могло бы лечь в основу нового договора о сокращении ядерных вооружений. В декабре 2009 года истекал срок действия договора СНВ-1, подписанного в 1991 году, и после лондонской встречи Медведева и Обамы Россия и США в срочном порядке начали работать над документом, который должен был прийти ему на смену. Российскую группу экспертов возглавил директор департамента МИД по вопросам безопасности и разоружения Анатолий Антонов, американскую – заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями Роуз Гетемюллер. С апреля по июль они провели несколько раундов переговоров и очень спешили, чтобы подготовить рамочное соглашение к визиту Обамы в Москву, который был намечен на 6–8 июля. Однако, как отмечал вице-президент фонда «Наследие» Ким Холмс, «спешка при заключении договоров в области разоружения почти всегда приводила к браку». Не менее скептично был настроен проректор МГИМО Алексей Богатуров. «За три месяца, – говорил он, – можно подписать капитуляцию, но не серьезное соглашение. В столь сжатые сроки дипломаты и военные эксперты просто не успеют достичь компромисса»[662]. А вопросов, в которых у России и США имелись разногласия, было довольно много. И хотя американцы пошли навстречу российским партнерам, согласившись учитывать при подсчете не только боеголовки, но и средства их доставки, нерешенной оставалась проблема так называемого возвратного потенциала США. Снимая боеголовки с носителей, американцы их не утилизировали, а отправляли на склады и при необходимости могли оперативно (за 4–6 месяцев) нарастить арсенал развернутых стратегических ядерных боезарядов более чем на 3000 единиц.
На переговорах Соединенные Штаты пытались протолкнуть концепцию «минимального сдерживания», которая предполагала радикальное сокращение боеголовок. Для американцев это был оптимальный вариант, поскольку никто пока не может оспорить их превосходство в обычных вооружениях. Что же касается России, было очевидно, что если в результате переговоров ядерные потенциалы будут сокращены до количества боеголовок, которое можно нейтрализовать с помощью постоянно расширяющейся и совершенствующейся американской системы ПРО, Кремль окажется в проигрыше. Поэтому российская сторона пыталась увязать сокращение стратегических наступательных вооружений с отказом США от размещения элементов ПРО в Восточной Европе. И хотя вначале администрация Обамы это предложение отвергала, со временем стало очевидно, что новый президент готов поторговаться и в обмен на отказ от размещения ПРО в Восточной Европе требовал от России помощи в переговорах с Тегераном. Как утверждал бывший посол США в ООН Джон Болтон, «предложенная сделка по принципу quid pro quo полностью противоречит позиции Рональда Рейгана, который предостерегал своих преемников от использования программ, связанных со стратегической обороной в качестве разменной монеты на переговорах»[663]. Однако многим на Западе предложение Обамы пришлось по душе. «Идея связать ПРО в Чехии и Польше с компромиссом по иранскому вопросу, на мой взгляд, является дипломатической находкой, – отмечал Анатоль Ливен. – Если Москве и Вашингтону совместными усилиями удастся убедить Тегеран отказаться от ядерной программы необходимость в ПРО отпадет сама собой и США свернут раздражающий Россию проект, не теряя при этом лицо»[664].
Правда, специалисты были убеждены, что Обаме не позволят свернуть программу ПРО, ведь финансирование на нее было выделено вплоть до 2015 года. Президенту объясняли, что не следует напрасно раздражать принимающие участие в проекте крупные военные корпорации США, такие, как «Боинг», «Локхид Мартин» и «Нортроп», и даже грозили ему судьбой Джона Кеннеди, который не поладил с представителями американского ВПК. «Если американцев удалось убедить, что в 1960-е годы строптивого президента убил маньяк-одиночка Ли Харви Освальд, – отмечал корреспондент The Nation, – то их будет так же легко уверить в том, что Обаму устранили радикальные расисты из «Ку-клукс-клана»[665].
Что же касается СНВ, никто не сомневался, что будет принято решение об умеренном сокращении ядерных арсеналов. Цифра в 1500 боезарядов, судя по всему, полностью устраивала американских и российских военных. Конечно, была возможность спуститься и на более низкий уровень в 1200 или даже 1000 единиц, но переговорщики выбрали пошаговый сценарий и планировали достичь этого уровня лишь через несколько лет. «Если говорить о сокращении арсеналов ниже планки в 1000 боеголовок, – отмечал директор «ПИР-Центра» Владимир Орлов, – осуществить его будет намного сложней. Россия потребует от США отказа от размещения в космосе ракет-перехватчиков и сокращения числа носителей, оснащенных обычными боезарядами, которые носят стратегический характер»[666]. Российские военные не соглашались на радикальное сокращение ядерных боеголовок, поскольку для них это было единственное средство сдерживания американской военной мощи. С другой стороны, содержание чересчур внушительного арсенала Россия давно уже не могла себе позволить и вынуждена была сокращать его, чтобы уменьшить расходы.
Эксперты были убеждены, что новый договор по СНВ может наполнить российско-американские отношения реальным содержанием, чего им явно не хватало в тот период, когда у власти находились Буш и Путин. «За восемь лет, – говорили эксперты, – не было подписано ни одного серьезного соглашения – только ни к чему не обязывающие декларации, дорожные карты, совместные заявления и провальный договор 2002 года о сокращении наступательных стратегических потенциалов, который так и не был доведен до ума». Администрация Буша относилась к проблеме ядерного разоружения пренебрежительно и не хотела заключать юридически обязывающее соглашение, содержащее механизмы контроля. Как отмечал спичрайтер экс-президента Марк Тиссен, «Буш стремился избежать затяжного переговорного противостояния с русскими, когда тысячи боеголовок становятся предметом торга и яростные баталии ведутся по поводу каждого пункта и каждой запятой»[667].
Новые хозяева Белого дома были настроены иначе. Они во что бы то ни стало стремились прийти к компромиссу с Россией. Не случайно администрация Обамы возвращала в строй ветеранов переговоров по контролю над вооружениями, которые имели дело еще с советскими чиновниками. Как отмечала The Wall Street Journal, «Госдепартамент наводнили динозавры-разоруженцы, которые мечтают вернуться к формату переговоров, характерному для эпохи холодной войны. Эти люди не способны понять, что в XXI веке соглашения по контролю над вооружениями выглядят таким же анахронизмом, как наскальные рисунки, и чтобы провести сокращение ядерных арсеналов, нам больше не нужны пергаментные свитки и орды экспертов»[668].
Критики в Вашингтоне обвиняли Обаму в том, что «ради собственного пиара он готов начать одностороннюю гонку разоружений и оказаться в Москве в роли просителя». «Российская политика нового президента является близорукой, – писала The Washington Post. – Разговаривая с экономически и технологически слабой Россией, как с великой державой, Обама делает ее лидерам большое одолжение»[669]. Консервативные американские политологи отмечали, что Белый дом идет на серьезные уступки Кремлю, лишь бы не сорвать заключение нового договора по СНВ. Соединенные Штаты спокойно отреагировали на потерю ключевой для операций в Афганистане киргизской авиабазы «Манас» (некоторое время Штаты могли использовать ее лишь для транспортировки невоенных грузов), практически свернули военное сотрудничество с Варшавой и начали закрывать глаза на действия Москвы в Грузии. «Надежды на то, что умиротворение России сделает проще переговоры по ядерному разоружению, являются утопией, – утверждал директор программы стратегических исследований Американского института предпринимательства Гэри Шмит. – Конечно, Обама получит очередной повод для самолюбования, но Москва, скорее всего, решит, что Запад согласился с ее претензиями на постсоветское пространство»[670]. Правда, оптимисты в США связывали надежды с новым российским президентом. «Несмотря на то, что Медведев озвучивает иногда более жесткие и эпатирующие вещи, чем Путин, – говорили они, – политика его намного мягче».
ТАНГО С МЕДВЕДЕВЫМ
В июле 2009 года состоялся долгожданный визит Обамы в Москву, который, безусловно, стал продолжением кампании по завоеванию мирового общественного мнения. Американский президент произнес очередную «эпохальную» речь в стенах Российской экономической школы. Однако московская публика приняла его довольно прохладно. В отличие от европейских стран, Россия не демонизировала Буша и потому устояла перед волной обамамании.
После московского «перезагрузочного» визита вице-президенту Джо Байдену поручили деликатную миссию по восстановлению доверия к США на постсоветском пространстве. И справился он с ней превосходно, убедив украинскую и грузинскую элиту в том, что «перезагрузка» в отношениях с Россией «не будет происходить за счет связей с Тбилиси и Киевом». Эксперты назвали тогда турне вице-президента «балансовым постскриптумом к российско-американскому саммиту».
Уже в сентябре в Америку на заседание Генассамблеи ООН и саммит «двадцатки» прибыл президент Медведев. Накануне открытия Генассамблеи Обама попытался все-таки реализовать свою идею и объявил о перемещении элементов ПРО из Чехии и Польши в Южную Европу. Противники внешнеполитических экспериментов были убеждены, что Россия никогда не пойдет на ответные шаги и принялись критиковать президента за «опрометчивое решение». Глава российского МИД Сергей Лавров только подлил масла в огонь, когда заявил, что на предстоящих в Нью-Йорке переговорах Москва отказывается обсуждать возможность введения санкций против Ирана.
Однако Медведев спас репутацию Обамы. На российско-американском мини-саммите в Нью-Йорке неожиданно для всех он пообещал оказать ему поддержку в иранском вопросе, и признал, что в некоторых случаях без санкций обойтись невозможно. «Это был один из самых ярких моментов нью-йоркской политической недели, – отмечал директор Центра международных исследований Института США и Канады Анатолий Уткин. – Сидя у камина в знаменитой гостинице Waldorf Astoria, Медведев заявил, что Москва сделает все возможное, чтобы удержать Иран от приобретения ядерного оружия. Думаю, российскому президенту удалось пройти между Сциллой и Харибдой: он удовлетворил пожелания американцев, но не связал себя при этом конкретными обещаниями и отказался критиковать курс Ахмадинежада»[671].
Тем не менее американские политологи стали говорить, что крупнейшая внешнеполитическая ставка Обамы себя оправдала: идея связать ПРО в Чехии и Польше с компромиссом по Ирану, действительно, оказалась дипломатической находкой, и тем, кто критиковал Обаму пришлось прикусить языки. «Перед тем как отказаться от проекта строительства ракетных баз в Восточной Европе, – писала The Independent, – Обама, наверное, перекинулся парой слов с Карповым и Каспаровым. Иначе ему не удалось бы совершить такой блестящий ход на дипломатической шахматной доске, который, к тому же, был так точно рассчитан по времени»[672]. «Российско-американские отношения все больше напоминают танго, – отмечал ведущий эксперт Совета по международным отношениям Чарльз Капчан, – Вашингтон предлагает выйти на новый уровень отношений, и россияне отвечают взаимностью»[673].
Первая речь Медведева с трибуны ООН показалась экспертам одной из самых проамериканских речей российского лидера в истории. В ней Медведев рассыпался в похвалах Обаме, восхищаясь «решительностью президента, не побоявшегося отказаться от размещения ПРО в Восточной Европе». И политологи говорили, что «Путин произнес свою программную речь в Мюнхене (это было жесткое антизападное выступление), а Медведев – в Нью-Йорке на заседании Генассамблеи».
Многие сравнивали поездку российского президента в США с турне советского генсека Никиты Хрущева, которое состоялось за 50 лет до того. Хрущев прибыл в Нью-Йорк на огромном самолете Ту-114, для которого даже не нашелся подходящий трап в аэропорту. Как на заседании Генассамблеи ООН, так и на встречах с представителями американского истеблишмента он жестко отстаивал интересы своей страны, отказываясь вступать с США в «бесконечный процесс переговоров, не обещающий никакого успеха». И хотя Медведев остановился в той же нью-йоркской гостинице, что и Хрущев, и провел встречу со студентами того самого Питтсбургского университета, где когда-то выступал генсек, по сути, два этих визита не имели между собой ничего общего. «Хрущев прибыл на сессию ООН триумфатором, – говорили эксперты, – поскольку незадолго до этого СССР запустил свой первый спутник. Медведеву похвастаться было нечем. Россия никак не могла оправиться после кампании на Кавказе 2008 года и переживала резкое падение производства. И эпатажное поведение было бы неуместным». (Тем более что на заседании Генассамблеи было кому эпатировать публику. Иранский президент Ахмадинежад в очередной раз назвал Израиль «расистским государством» и осудил «еврейское влияние в мире», а лидер ливийской революции Каддафи на глазах изумленных делегатов порвал копию хартии ООН, окрестил Совет Безопасности «Советом терроризма» и потребовал суда над Бушем и Блэром за вторжение в Ирак).
Вопрос состоял в том, не поспешили ли американцы, провозгласив переговоры с Медведевым дипломатической победой Обамы? Не слишком ли рано заговорили на Западе о том, что Кремль, по выражению колумниста The Guardian Эдриана Пабста, «провел показательное переосмысление своей стратегии по Ирану»?[674] В Нью-Йорке и Питтсбурге Медведев на словах, действительно, отказался от той линии, которую долгие годы проводил российский МИД. Однако неожиданная импровизация президента, желающего покорить западную аудиторию и продемонстрировать свои атлантистские убеждения, могла оказаться лишь красивым жестом, который не повлечет за собой никаких практических последствий. Глава МИД Сергей Лавров сразу попытался сгладить впечатление от слов своего шефа, давая понять, что Россия не собирается отступать от традиционной позиции по иранскому вопросу. В общем, по словам некоторых остроумцев, ситуация напоминала дипломатический казус, случившийся с императором Николаем II, который в 1905 году без ведома своих министров заключил на яхте у острова Бьёркё союзный договор с Германией, но, вернувшись в Москву, вынужден был от него отказаться.
Российские дипломаты всегда выступали против идеи госсекретаря США Хиллари Клинтон ввести «калечащие санкции» в отношении Тегерана. Такие санкции предполагали запрет на поставки нефтепродуктов в Иран, ограничения на экспорт иранской продукции и замораживание счетов Исламской республики в ведущих мировых банках. Российский МИД отмечал, что, поддержав клинтоновскую идею, Москва рискует испортить отношения со своим южным соседом, который проводит по отношению к ней дружественную политику. «Россия благодарна Тегерану – объяснял Анатолий Уткин, – за то, что он не посылал своих людей в Чечню и не поддержал одну из сторон в таджикской гражданской войне»[675]. Кроме того, Иран всегда являлся главным козырем на переговорах России с Западом, и отказываться от него, полностью приняв позицию США, МИД считал неразумным.
Существовала версия, что непривычно-резкие заявления российского президента в отношении Тегерана были сделаны для того, чтобы сохранить иллюзию «перезагрузки», доверив роль защитника иранских интересов Китаю, который также имеет право вето в Совбезе ООН и не допустит введения «калечащих санкций».
«ДОГОВОР О СОКРАЩЕНИИ СТРАТЕГИЧЕСКИХ СИЛ США»
После американского турне Медведева в Вашингтоне были убеждены, что США будет несложно заключить соглашение СНВ-3, которое Обама сделал одним из своих главных внешнеполитических приоритетов. Однако российские переговорщики подыгрывать своим партнерам не собирались. Истек срок предыдущего договора, и впервые за долгое время Москва и Вашингтон оказались без правового акта, ограничивающего их ядерные потенциалы. В довершение ко всему начал развеиваться миф о «перезагрузке». Москва восприняла в штыки размещение американской зенитно-ракетной системы Patriot в Польше. И хотя Соединенные Штаты утверждали, что данная мера не направлена против России, все сложнее становилось объяснить ограничения, введенные на поставки ПВО С-300 в Иран. В Сенате США, которому предстояло ратифицировать новый договор СНВ, росли оппозиционные настроения. Сенаторы от Республиканской партии называли Обаму «позером, не отвечающим за свои слова» и обвиняли его в том, что «он идет на поводу у Кремля». (А ведь для ратификации договора необходимо было заручиться поддержкой как минимум восьми республиканцев).
Серьезные разногласия возникли и между экспертными группами России и США, о чем свидетельствовал тот факт, что последний шестой раунд переговоров длился больше недели, при том, что все предыдущие раунды проходили в два-три дня. И хотя дипломаты утверждали, что противоречия улажены и сторонам осталось согласовать лишь некоторые технические вопросы, это было не так. Главным камнем преткновения стала проблема кодирования телеметрических данных. «Для непосвященных это, конечно, китайская грамота, – утверждал руководитель Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Алексей Арбатов, – но специалисты понимают всю важность данного вопроса. Телеметрическую информацию получают с помощью радиосигналов, которые поступают с борта баллистических ракет во время их испытательных запусков. Это информация о том, как работают все агрегаты и узлы ракеты. По договору СНВ-1 шифрование телеметрических данных запрещалось, однако сейчас Россия призывает пересмотреть это положение. Ведь если американцы все-таки решат развернуть систему ПРО в Европе, открытая телеметрическая информация позволит им всегда быть в курсе того, какие системы преодоления ПРО создают на своих баллистических ракетах русские. Поэтому Россия настаивает на том, чтобы разрешить кодирование телеметрических данных, полученных в результате запусков наступательных ракет, или вынудить Соединенные Штаты делиться информацией об испытаниях противоракетной обороны»[676].
Когда в апреле 2009 года американцы согласились связать сокращение наступательных вооружений с проблемой ПРО, они были уверены, что речь идет о стандартной риторической формулировке, которая, по сути, ни к чему их не обяжет. (Ритуальные заявления о том, что, сокращая наступательные вооружения, стороны должны учитывать наличие оборонительных, можно найти в преамбуле ко всем предшествующим договорам по СНВ). Поэтому когда в декабре премьер-министр Путин объяснил, что Россия хочет получить доступ к информации об американской системе ПРО, для США это стало громом среди ясного неба. «Конечно, обмен телеметрическими данными, – отмечал ведущий эксперт ИМЭМО Александр Пикаев, – может существенно облегчить американцам задачу по созданию системы ПРО, но имеем ли мы право требовать от Вашингтона увязать проверку в отношении СНВ с контролем за противоракетной обороной? Думаю, это требование идет вразрез с российско-американской переговорной практикой, ведь взаимные проверки проводятся обычно лишь в отношении предмета договора»[677]. «Вопрос о кодировании телеметрической информации требует политического решения, – утверждал Алексей Арбатов, – и разрубить этот гордиев узел можно лишь в том случае, если Россия откажется от своих претензий по ПРО, а Соединенные Штаты смирятся с тем, что часть испытательных запусков будет проходить в закрытом режиме»[678].
Многие эксперты отмечали, что даже если Москве не удастся связать сокращение наступательных вооружений с ПРО, отчаиваться не стоит, ведь с приходом к власти администрации Обамы проблема противоракетной обороны вообще отошла на второй план. Демократы свернули программу по размещению элементов стратегической ПРО в Восточной Европе, отказались от разработки ракет-перехватчиков с разделяющимися головными частями и сосредоточились на мобильных ракетах, которые предполагалось установить на морских платформах. Развертывание этих ракет не противоречило бы даже договору 1972 года, в котором речь велась лишь о стратегических системах ПРО. «Новая система – система тактическая, – говорили американцы. – В России классическим примером такой системы является разработка С-300». Однако, как отмечал политолог Альфред Росс «ракеты-перехватчики, размещенные на американских кораблях в Средиземном море, будут способны нейтрализовать сотни баллистических ракет, и такая универсальная система эшелонированной обороны, на самом деле, представляет куда более серьезную угрозу для России, чем скромный проект Буша-младшего»[679].
Как бы то ни было, Соединенные Штаты пошли на уступки Москве по многим вопросам. В первую очередь, был улажен вопрос о присутствии американских контроллеров на основном российском предприятии по производству ракет в удмуртском городе Воткинске. Договор СНВ-1 давал американцам право на постоянный мониторинг этого завода, однако Россия заняла на переговорах твердую позицию и добилась отмены инспекций. Хотя Соединенные Штаты, безусловно, были заинтересованы в их сохранении. Ведь российским военным в ближайшее время предстояло менять устаревшие советские системы на более современные образцы, американцы же не собирались пока строить новые ракеты и даже закрыли завод по их производству в городе Магна (штат Юта).
Большинство экспертов утверждали, что концепция умеренного сокращения ядерных арсеналов – в интересах России. «Если называть вещи своими именами, – отмечали специалисты, – договор СНВ-3 – это договор о сокращении стратегических сил США. В России через пять-шесть лет количество боеголовок в любом случае не превышало бы потолка, обозначенного в договоре, американцы же еще лет двадцать могли бы поддерживать свой арсенал на нынешнем уровне за относительно небольшие деньги».
По словам экспертов, серьезной уступкой со стороны США стало их согласие сократить не только боеголовки, но и средства их доставки (стратегические ракеты и бомбардировщики). Причем если вначале американские переговорщики не желали опускаться ниже планки в 1100 единиц, в итоге России удалось настоять на более радикальном сокращении до 700–750 носителей. Более того, американцы приняли решение засчитывать как ядерные и те стратегические носители, которые были переоборудованы под обычные высокоточные боезаряды, согласившись таким образом ограничить их количество.
Однако большую часть сокращений Соединенные Штаты планировали осуществлять не за счет ликвидации носителей и платформ, а путем их разгрузки. Как уже говорилось, таким образом создавался «возвратный потенциал» и при необходимости американцы могли резко увеличить арсенал развернутых стратегических ядерных боезарядов. Российские переговорщики были недовольны таким положением вещей, но было очевидно, что к тому моменту, когда истечет срок нового договора, а рассчитан он на десять лет, ситуация может кардинально изменится. Американцам также придется выводить старые носители из боевого состава, а Россия, которая проведет модернизацию своих стратегических сил ранее, сможет просто снимать и складировать боеголовки. Стороны, как это уже не раз бывало в истории переговоров о ядерном разоружении, поменяются местами: русские будут заинтересованы в разгрузке носителей и возвратном потенциале, а американцы начнут ворчать, что требуется не просто снимать боеголовки, но и демонтировать средства их доставки.
Договор СНВ-3 был подписан 8 апреля 2010 года в Праге, где за год до этого, как мы знаем, американский президент выступил с «исторической» речью о безъядерном мире. Россия решила отказаться от требования связать сокращение наступательных вооружений с контролем за развертыванием американской системы ПРО в Европе. Правда, она оставила за собой право выйти из договора в случае, если развитие событий пойдет по нежелательному для нее сценарию. Западные эксперты тут же заговорили о «блистательной победе американской дипломатии», провозгласив соглашение с Москвой самым значительным достижением Обамы во внешней политике. А поскольку его подписанию предшествовал и внутриполитический триумф администрации, которая сумела провести через сенат свой вариант реформы здравоохранения, рейтинг Обамы в США начал стремительно расти. «Русские подыграли нашему президенту, который использует договор СНВ для личного пиара, – отмечал бывший помощник госсекретаря США Ким Холмс. – Обамаманы уже провозгласили, что их кумир отработал Нобелевскую премию мира, и слова критики тонут в общем потоке славословий. Сомневаться в целесообразности нового договора о ядерных вооружениях считается столь же неприличным, как прийти на свадьбу без приглашения и публично раскритиковать выбор жениха»[680].
Тем не менее в сенате, которому предстояло ратифицировать соглашение, многие восприняли его в штыки, заявив, что президент приносит в жертву стратегические американские интересы ради иллюзорных представлений о безъядерном мире. Нападки сенаторов на «горбачевскую политику» Обамы усилились после того, как была обнародована новая стратегия США, в которой резко ограничивались случаи применения ядерного оружия, в том числе содержалось обязательство не применять его против государств, не входящих в ядерный клуб, даже если они совершат биологическое, химическое или кибернападение на Соединенные Штаты.
Новую ядерную стратегию республиканцы считали «детищем либералов-пораженцев из окружения Обамы», однако на самом деле концепция «глобального нуля» пользовалась поддержкой значительной части вашингтонского истеблишмента. Ни у кого, например, не повернулся бы язык назвать «либералами-пораженцами» Генри Киссинджера или Ричарда Берта.
КРАХ ПЕРЕЗАГРУЗКИ?
Первым тревожным звонком для политики «перезагрузки» стало дело Сергея Магнитского, которое стало раскручиваться в США в 2010 году. Магнитский, юрист инвестиционного фонда Hermitage Capital, скончался за год до этого в московском СИЗО Матросская Тишина, не получив необходимой медицинской помощи. Он подозревался в том, что помогал инвестфонду разрабатывать схемы уклонения от налогов. Однако, по версии правозащитников, истинной причиной заключения Магнитского был конфликт с сотрудниками силовых структур, которых он обвинял в рейдерском захвате компаний, принадлежавших Hermitage Capital.
29 сентября в американский Конгресс был внесен законопроект, получивший название «Правосудие для Сергея Магнитского», в котором предлагалось закрыть въезд в США для 60 российских чиновников и заморозить их счета в американских банках (похожие санкции американцы уже вводили против иранцев, имеющих отношение к ядерной программе ИРИ, и лиц, подозреваемых в террористической деятельности, так что партнеры по перезагрузке попали в хорошую компанию). Авторами инициативы стали два весьма уважаемых демократа. Один из них – сенатор Бенжамин Кардин, председатель Хельсинкской комиссии конгресса и вице-президент Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Второй – конгрессмен Джеймс Макговерн, глава Парламентской комиссии по защите прав человека. Законодатели были убеждены, что в том случае, если конгресс поддержит их инициативу, Соединенные Штаты и дальше смогут вмешиваться во внутреннюю политику России, «наказывая ее за чиновничий произвол, коррупцию и несовершенную правовую систему».
«Законопроект Кардина – Макговерна, как и поправка Джексона – Вэника, предполагает экономические санкции за нарушение прав человека, и это может вызвать в России настоящую бурю»[681], – писала The Guardian. Российский МИД, действительно, довольно жестко отреагировал на инициативу американских конгрессменов, заявив, что «их желание устроить политическое шоу может внести серьезный раздражитель» в двусторонние отношения.
Российские власти отмечали, что в «списке Кардина» присутствует много случайных людей, которые были включены в него благодаря лоббистским возможностям Hermitage Capital. Этот инвестиционный фонд был одним из крупнейших инвесторов в российскую экономику и являлся миноритарным акционером некоторых стратегических компаний и предприятий. Ряд экспертов даже отстаивали версию, согласно которой дело Магнитского – банальная месть со стороны предпринимателей, лишившихся своего бизнеса в России.
Нельзя не отметить, что каждый раз, когда политика перезагрузки приносила плоды, в США начиналась антироссийская кампания. После того как Обама и Медведев в июне 2010 года встретились в Вашингтоне и поели гамбургеров в арлингтонской закусочной, американские СМИ принялись раскручивать весьма сомнительную шпионскую историю. Когда же Россия пошла навстречу США, отказавшись от поставок ракетных комплексов С-300 в Иран, всплыло дело Магнитского. Причем, многие отмечали, что законопроект был разработан однопартийцами Обамы.
Политологи объясняли это предвыборными интересами демократов, которые рисковали с треском проиграть ноябрьские выборы в конгресс и предпочитали привычную для электората русофобскую риторику перезагрузочным играм президента. Однако возникла и версия о том, что команда Обамы возрождает политику предыдущей администрации, которая была зациклена на проблеме прав человека и отказывалась рассматривать Россию в качестве серьезного партнера. Ходили слухи, что в Белом доме было с интересом воспринято выступление бывшего заместителя госсекретаря по правам человека Дэвида Крамера на страницах The Washington Post. В статье с характерным названием «Молчание Америки делает ее соучастницей российских преступлений» человек из команды Буша-младшего призвал Обаму «поставить развитие двусторонних отношений с Россией в зависимость от ситуации в области прав человека». Он отмечал, что у Вашингтона есть мощные рычаги влияния на Москву. «Если бы российская элита, – писал Крамер – была лишена возможности посещать Америку, давать здесь своим детям образование и прятать свои «грязные» деньги, это поставило бы русских на уши, вынудив их прислушаться к мнению США»[682].
Еще более туманной стала судьба «перезагрузки» после триумфальной победы республиканцев на промежуточных выборах в Конгресс в ноябре 2010 года. Было не совсем понятно, готовы ли демократы ломать копья на Капитолийском холме ради того, чтобы продолжить сближение с Москвой. Республиканцы с самого начала с иронией относились к идее Обамы. Звезда Чайной партии Марко Рубио обвинял демократическую администрацию в «принебрежении друзьями и умиротворении врагов»[683]. И триумф чаевников в России восприняли как второе пришествие Буша. Однако Обама призвал Москву не нервничать и пообещал принять знаковые перезагрузочные инициативы еще до того как соберется новый состав Конгресса.
Однако было очевидно, что с 2011 года внешнюю политику на Капитолийском холме будут формировать конгрессмены, которых никак не отнесешь к числу друзей Москвы. Комитет по международным делам Палаты представителей возглавила Илеана Рос-Лихтинен – этническая кубинка и страстная антикоммунистка, которая по-прежнему видела в России «империю зла» и отказывалась участвовать в парламентских контактах с Госдумой. Лидером республиканского большинства стал Эрик Кантор – политик, тесно связанный с еврейским лобби и критикующий Кремль за дипломатические игры с Тегераном. В Сенате усилились позиции противников ратификации договора СНВ-3, который являлся на тот момент главным достижением перезагрузки. «Если это соглашение подвесят, и тем более похоронят, – отмечал редактор журнала «Россия в глобальной политике Федор Лукьянов, – тогда, к сожалению, становой хребет перезагрузки будет разрушен и все остальное начнет расползаться. Потому что перезагрузка – это такая пакетная сделка, в которую включено несколько смежных, но не совпадающих тем. Из этой сделки нельзя вынуть элемент, чтобы все не посыпалось»[684].
Конечно, основным приоритетом для Обамы оставалась внутренняя политика. И ему намного проще было уступить республиканцам в таких вопросах, как отношения с Россией. С другой стороны, американский президент к тому моменту слишком сильно связал свое имя с идеей перезагрузки, и изменить внешнеполитическую концепцию, не потеряв при этом лицо, было для него проблематично.
ЛИССАБОНСКАЯ КАПИТУЛЯЦИЯ
Вскоре после победы республиканцев на промежуточных выборах в Конгресс состоялся Лиссабонский саммит НАТО. И команда Обамы сделала все возможное, чтобы на Западе всерьез заговорили о вступлении в альянс бывшего соперника по холодной войне. Политологи отмечали, что Москва могла бы усилить НАТО в военном отношении и предоставить организации новые возможности в Центральной Азии и на Среднем Востоке. К тому же, говорили они, без участия России невозможна полноценная система безопасности в Европе.
«Интеграция российского государства в евроатлантический порядок, – писал ведущий эксперт Совета по международным отношениям Чарльз Капчан, – это куда более надежный вклад в безопасность Центральной и Восточной Европы, чем противотанковые ловушки, истребители и ракеты класса Patriot. Как показывают примеры мирного урегулирования после окончания Наполеоновских войн и Второй мировой войны, включение прежних соперников в послевоенный порядок – это очень разумная и успешная тактика»[685]. С призывом пригласить Россию в НАТО выступила и группа немецких политиков и военных во главе с экс-министром обороны Фолькером Рюэ и бывшим начальником натовского комитета военного планирования генералом Клаусом Науманном. Эту идею поддержал и представитель США в НАТО Иво Даалдер, а группа мудрецов, работавшая над стратегической концепцией альянса, даже приезжала в Москву для консультаций. И хотя возглавлявшая группу Мадлен Олбрайт заявила потом, что Кремль – лишь один из партнеров Запада и не может быть «хвостом, который виляет собакой», становилось очевидно, что прагматичное крыло американской администрации всерьез рассчитывало привлечь Россию к решению таких вопросов, как война в Афганистане и сдерживание КНР.
Конечно, для этого вовсе не обязательно было приглашать русских в Североатлантический альянс. Наладить военное сотрудничество можно было и малой кровью, реализовав проект французского президента, озвученный им на трехстороннем саммите России, Франции и Германии в октябре 2010 года в Довилле. Саркози предложил Медведеву и Меркель новую концепцию европейской безопасности, которая получила название «стратегической матрешки». Смысл ее заключался в том, что, сохранив существующие механизмы обеспечения безопасности, которые ассоциируются с такими институтами, как ЕС, НАТО и ОБСЕ, европейцы должны создать «внешнюю матрешку», подключив Россию к решению ключевых проблем континента.
«Безусловно, на географической карте, – писал немецкий журнал Der Spiegel, – Россия, Германия и Франция составляют красивую фигуру и могут стать тремя столпами европейской безопасности. Однако французский президент слишком настойчиво продвигает свою идею, и его гиперактивная дипломатия может вызвать раздражение в Вашингтоне. Тем более что Европейский Совет безопасности, который предлагает создать Саркози, полностью обесценивает роль Совета Россия – НАТО и подрывает таким образом позиции американцев»[686].
Однако для сторонников сближения с Москвой это был единственный шанс. Ведь большинство натовских генералов по-прежнему считали, что пригласить Россию в альянс – это все равно что пустить лисицу в курятник. Они были убеждены, что «Москва стремится ослабить институты евроатлантической безопасности, сократить влияние США в регионе и для достижения своих целей готова использовать экономические рычаги и военную силу». В итоге, данная точка зрения возобладала в НАТО. Да и в России военный истеблишмент скептически отнесся к разговорам о присоединении к альянсу. Ведь в Москве никто не собирался открывать западным партнерам ядерные секреты и отказываться от продукции российского ВПК, которую пришлось бы заменить натовским вооружением. И еще один момент: если бы Россия повелась на заигрывания американских прагматиков – а именно это предлагал сделать консультирующий президента Медведева Институт современного развития, – она уже не смогла бы протестовать против вступления в НАТО других постсоветских государств.
«Элегантные» отношения с НАТО, к установлению которых призывал председатель правления Института Игорь Юргенс, фактически означали отказ от собственного суверенитета. Оппонирующие ему политики-реалисты не желали бросать на произвол судьбы союзников по ОДКБ и сдавать позиции на международном рынке вооружений ради призрачного союза с блоком, который по-прежнему вел военное планирование против России и был официально признан одной из основных угроз для безопасности страны.
Западные эксперты прекрасно понимали, что, на самом деле Москва не стремится отстаивать интересы НАТО. Тем не менее, затевая разговоры о вступлении России в альянс, Запад рассчитывал погасить в российской элите тягу к реинтеграции постсоветского пространства. «Первый генсек НАТО лорд Исмэй так обозначил цели альянса: «держать русских вне Европы, американцев – в Европе, а немцев – под контролем Европы» – писал директор Европейского совета по международным отношениям Марк Леонард, – новые задачи НАТО заключаются в том, чтобы сохранить Европу единой, Турцию – европейской, а Россию – постимперской»[687].
«В Лиссабоне, – писала накануне саммита Moscow Times, – президент Медведев должен быть готов к не вполне обычным ухаживаниям со стороны руководства альянса»[688]. И действительно, атмосфера, которая царила на заседании Совета Россия – НАТО, была подчеркнуто дружелюбной. Генсек альянса Расмуссен заявил, что для молодежи «разговоры о холодной войне сродни обсуждению Пелопоннесской войны», а президент Обама постоянно называл Медведева своим «другом и партнером». «НАТО не представляет угрозы для России, – утверждалось в новой доктрине альянса, – напротив, мы хотим видеть реальное стратегическое партнерство между Брюсселем и Москвой». Только бывший глава польского МИД Адам Ротфельд слегка пожурил Кремль за то, что он до сих пор видит в НАТО военную угрозу, хотя «за последние 300 лет Россия не имела на своих западных границах таких миролюбивых соседей, как североатлантический альянс»[689].
После августовской войны на Кавказе российский президент впервые участвовал в заседании Совета Россия – НАТО. И на контрасте с бухарестским саммитом 2008 года эта встреча многим представлялась идиллической. Тогда пребывание Владимира Путина в Румынии воспринималось американцами в штыки. Администрация Буша-младшего надеялась одобрить план действий по членству в альянсе Украины и Грузии и опасалась, что российский лидер будет ставить ей палки в колеса. Атмосфера на саммите была враждебной, и его результаты, по мнению многих, стали причиной российско-грузинской войны, разразившейся через четыре месяца.
На саммите в Лиссабоне атмосфера была иной. Однако показное сближение с НАТО явно не удовлетворило политиков-реалистов в Москве, которые требовали, чтобы президент продемонстрировал им конкретные результаты своего атлантистского курса.
Они назвали итоги саммита лиссабонской капитуляцией. Россия смирилась с проектом ЕвроПРО, в котором ей не нашлось места, согласилась предоставить свою территорию для транзита военной техники из Афганистана. Кроме того, западные партнеры потребовали от Москвы возобновить действие договора об обычных вооружениях в Европе, что позволило бы НАТО осуществлять контроль за передвижением российских войск внутри страны, и настаивали на принятии закона, разрешающего представителям российской оборонки создавать совместные предприятия с западными компаниями.
«Предлагая Москве тесное сотрудничество, – писал президент Брукингского института Строуб Тэлботт, – западные политики, похоже, не понимают, что она не будет довольствоваться скромной ролью Плутона, – планеты, которая находится на самом краю Солнечной системы. И, добиваясь все новых уступок от Кремля, они рискуют поставить крест на «перезагрузке»[690]. Недоумение вызывала и политика НАТО на грузинском направлении. Сын Збигнева Бжезинского Ян в своей колонке в The New York Times посоветовал Обаме не отказываться от «видения единой, свободной и безопасной Европы» с «возможным членством Грузии и Украины в Североатлантическом альянсе»[691]. А буквально накануне саммита Парламентская ассамблея НАТО приняла резолюцию, в которой обвинила Россию в этнических чистках и оккупации грузинской территории». «И генсек Расмуссен, который признается сейчас в любви к Москве, и американские политики прекрасно понимают, что в долгосрочной перспективе Россия и НАТО не могут быть союзниками, потому что их цели не совпадают, – отмечал ректор дипломатической академии Грузии Сосо Цинцадзе. – Сегодняшнее сотрудничество носит конъюнктурный характер, но как только альянс уйдет из Афганистана, нужда в России отпадет, а Тбилиси останется для НАТО перспективным партнером»[692].
Создание ЕвроПРО не стало фактором сближения России и НАТО, хотя сторонники «перезагрузки» из числа российских либералов очень на это рассчитывали. Заявления о том, что стороны добились «исторического прорыва» на переговорах по ПРО, прозвучали как издевательство над российской делегацией. Ведь ее предложения партнеры по НАТО всерьез не восприняли и мягко дали понять Москве, что никакого тесного сотрудничества и тем более объединения военных потенциалов не предвидится. «Следует понимать, что создание совместной ПРО, – заявлял руководитель Центра международной безопасности ИМЭМО, член-корреспондент РАН Алексей Арбатов, – возможно лишь в том случае, если страны состоят в тесном военном союзе. Совместной ПРО нет пока даже у партнеров по НАТО, и разговоры о том, что Америка и Россия реализуют данный проект, – пустое сотрясение воздуха»[693]. Как бы то ни было, Соединенные Штаты планировали в ближайшие годы создать третий эшелон ПРО в Европе. И хотя Барак Обама называл российское отношение к этой проблеме «параноидальным», беспокойство Москвы было вполне объяснимо. Как отметил постоянный представитель РФ в НАТО Дмитрий Рогозин, «Кремль не хочет быть безмолвным наблюдателем при реализации чужого проекта»[694].
В чем же была суть предложений Медведева? На саммите в Лиссабоне он призвал создать систему коллективной обороны по всему периметру евроатлантического региона, разбив его при этом на сектора или зоны ответственности: российскую и натовскую. Однако лидеры НАТО отвергли идею секторальной системы ПРО. Не последнюю роль в этом сыграли страны Новой Европы, которые тут же стали обвинять Кремль в экспансионизме. «Россия вновь предлагает разделить Европу, – отмечал представитель Чехии в НАТО Мартин Повейшил. – Причем в зону ее ответственности, по странному стечению обстоятельств, попадают Чехия и другие страны – спутники бывшего Советского Союза. Можно только предполагать, какую надежную «защиту» обеспечит им Кремль»[695].
Предложение создать секторальную ПРО было воспринято на Западе в штыки, поскольку натовские стратеги не сомневались, что в основе его лежит желание «кастрировать» будущую американскую ПРО, лишив ее глобальной роли и сведя к узкорегиональному проекту. Многие в Вашингтоне и Брюсселе были убеждены, что Россия добивается «совместного участия» в создании противоракетного зонтика лишь для того, чтобы подорвать авторитет западных программ ПРО. И для НАТО совместный проект неприемлем как с оперативно-технической, так и с политической точки зрения.
Еще одним препятствием была неопределенность границ двух секторов. «Идея секторальной ПРО, – отмечал Алексей Арбатов, – очень разумна, однако стоит лишь приступить к ее реализации, как возникнут серьезные и практически неразрешимые противоречия. Понятно, что Россия будет защищать свою территорию, но в какой сектор попадут, например, государства постсоветского пространства? Западные союзники будут настаивать на том, что этот регион закроет система ПРО, которую предполагается установить на кораблях в Восточном Средиземноморье. Москва начнет убеждать их, что куда логичнее для защиты Украины, Белоруссии и Закавказья использовать ее радары на Юге. Бывшие советские республики, которые никогда на самом деле не тревожились по поводу ракетных ударов, поймут, что у них появляется возможность включиться в любимую игру и предстать опять в роли теленка, который двух маток сосет. Без сомнения, они постараются подороже продать право защищать свою территорию от мифических угроз»[696].
Когда лидеры НАТО только готовились к саммиту, проект совместной ПРО был еще популярен в американской элите, однако после провала демократов на промежуточных выборах в конгресс отношение к нему поменялось. Захватившие нижнюю палату республиканцы ни при каких обстоятельствах не готовы были поддержать «соглашательскую политику Обамы». Конгрессмены во главе с республиканским сенатором Джоном Кайлом в своем обращении к президенту заявили, что у них имеются серьезные опасения по поводу сотрудничества с Россией в области ПРО. Такое сотрудничество, говорили они, представляет угрозу для национальной безопасности США, поскольку в результате Москва получает доступ к «самым секретным американским технологиям, к источникам сбора данных и к разведывательной информации, собираемой в режиме реального времени».
Однако сторонники совместного проекта утверждали, что сотрудничество в области региональной ПРО обсуждалось еще на бухарестском заседании Совета Россия – НАТО, когда отношения между Вашингтоном и Москвой были накалены до предела и ни о какой «перезагрузке» не было и речи. Они пытались уверить своих оппонентов, что, если США согласятся на взаимодействие систем предупреждения (имеется в виду синтез информации, поступающей от российских и американских РЛС и сенсоров различного базирования), это никак не отразится на их национальной безопасности. «К тому же, – отмечали они, – это было бы взаимовыгодным решением. Системы действовали бы независимо друг от друга, но при этом Москва и Вашингтон обменивались бы информацией. В результате российские радары на юге сделали бы более эффективной американскую систему, а спутники раннего предупреждения США улучшили бы систему российскую». Правда, скептики в ответ говорили, что «Россия и США не будут полагаться на информацию, полученную с помощью СПРН другой стороны, поскольку уровень доверия между двумя державами слишком низок, и каждая из них в первую очередь будет опираться на данные собственной системы и лишь потом рассматривать сведения, предоставленные партнером. В результате, эти сведения будут носить заведомо дублирующий, второстепенный и некритический характер».
Что же касается средств перехвата, у России и НАТО не было никакой возможности объединить свои потенциалы, потому что это предполагало создание единого командного центра и «двойные ключи». А предоставить доступ к «чувствительной информации», от которой зависит оборона страны от ракетного нападения, не могла согласиться ни «русофильская» администрация Обамы, ни «атлантистская» команда Медведева. Но даже если бы они создали общую систему перехвата, совершенно неясно, кто принимал бы окончательное решение о запуске противоракет.
Оптимисты, правда, отмечали, что соглашение о мирном ядерном сотрудничестве («Соглашение 1-2-3»), которое вступило в силу в конце 2010 года, затрагивало очень чувствительные сферы, еще недавно являвшиеся сверхсекретными. И поэтому не исключено, что настанет день, когда США и Россия перестанут скрывать друг от друга технические разработки в области ПРО. Хотя такие перезагрузочные настроения выглядели все более комично на фоне охлаждения между Москвой и Вашингтоном.
Конечно, какое-то время американские политики еще пудрили мозги своим российским коллегам, рассуждая о совместной ПРО. Ведь в связи с отсутствием денег вероятность того, что проект будет реализован, практически равнялась нулю. К тому же многие страны ЕС, в первую очередь еврогранды, были заинтересованы в усилении русского фактора. Они приветствовали возвращение России на европейскую арену и старались учитывать ее политические и военные интересы при решении ключевых вопросов континентальной безопасности. Однако в Москве отношение к совместным проектам становилось все более скептическим. Похоже, что прозападным политикам был предоставлен шанс, но, натолкнувшись на жесткий подход США, ни в чем не желающих уступать партнерам по «перезагрузке», они признали, в итоге, свое поражение.
«СДЕЛАЙТЕ ЭТО РАДИ ДМИТРИЯ!»
В конце 2010 года стало очевидно, что одобрить договор СНВ-3 можно лишь во время так называемой сессии хромых уток, пока демократы пользуются еще значительным преимуществом в верхней палате. Чтобы набрать две трети голосов, им необходимо было перетянуть на свою сторону лишь девять республиканцев. В следующем году договариваться пришлось бы уже с 14 представителями Великой старой партии.
Со стороны республиканцев главным переговорщиком по вопросу СНВ выступал сенатор от Аризоны Джон Кайл, который всегда скептически относился к разоруженческим инициативам. В 1999 году он сыграл далеко не последнюю роль в срыве Договора о всеобщем запрещении ядерных испытаний и в 2000-е годы оказывал влияние на политику администрации Буша, враждебную любым ограничениям в ядерной сфере. Почему именно этот человек должен был определить судьбу российско-американского соглашения, которое считалось главным достижением «перезагрузки»? Раньше проблемами безопасности в сенате в основном занимались два республиканца – Джон Маккейн и Ричард Лугар. Однако после поражения на президентских выборах Маккейн воспринимался как отыгранная фигура, Лугар же утратил доверие республиканского истеблишмента, будучи близким другом вице-президента Джо Байдена. В результате на первые роли выдвинулся Джон Кайл. К тому же его позиция по вопросу СНВ была созвучна настроениям большинства республиканцев. Он утверждал, что администрация Обамы должна согласиться на серьезные отступные за ратификацию договора. Речь шла о выделении крупных бюджетных ассигнований на модернизацию ядерного комплекса США, систему противоракетной обороны и наращивание арсеналов стратегического неядерного вооружения. «Кайл, – писала The New York Times, – не будет просто так дарить демократам победу. Он потребует от них болезненных уступок в военно-технической сфере. Это для него дело чести. И, конечно, в его интересах затянуть рассмотрение вопроса о СНВ до января. Республиканцы тогда укрепят свои позиции в сенате и смогут выторговать для себя еще более выгодные условия»[697].
И хотя отложить вопрос о ратификации договора Кайлу не удалось, он сумел добиться от Обамы обещания выделить 84 млрд. долларов на модернизацию ядерно-оружейного комплекса. Многих занимал вопрос, как демократическая администрация, прославившаяся своими призывами к безъядерному миру, согласилась на условия Кайла. Дело в том, что в Соединенных Штатах посчитали, что сохранение ядерной компоненты обойдется намного дешевле, чем высокотехнологичные обычные вооружения нового поколения, на которые до недавнего времени делалась ставка. А учитывая, что размер государственного долга, по словам главы Объединенного комитета начальников штабов адмирала Майкла Маллена, превратился в главную угрозу безопасности США, безъядерная риторика постепенно сходила на нет. Не случайно в стратегической концепции НАТО, опубликованной в конце 2010 года, ядерное оружие было объявлено «высшей гарантией безопасности альянса».
Большинство экспертов сходились во мнении, что новое соглашение СНВ никак не помешает ядерным амбициям Америки. И критика договора со стороны республиканцев, в первую очередь, была связана с желанием насолить Обаме, который во что бы то ни стало пытался протолкнуть договор через сенат. Его команда проводила шумную пиар-кампанию. В поддержку соглашения высказались старший и младший Буш, шесть бывших госсекретарей-республиканцев (Генри Киссинджер, Джордж Шульц, Джеймс Бейкер, Лоуренс Иглбергер, Колин Пауэлл и Кондолиза Райс) и пять экс-министров обороны. Национальная ассоциация евангелистов заявила, что отказ от договора «угрожает христианской нравственности». «Даже такие откровенные русофобы, как поляки, чехи и прибалты, – писала Los Angeles Times, – обратились к Соединенным Штатам с просьбой ратифицировать соглашение. Они убеждены, что, если сенат откажется сделать это, русские и слышать не захотят о переговорах по поводу сокращения тактических ядерных вооружений, которые угрожают непосредственно Восточной Европе»[698]. Договор, таким образом, представал как необходимое условие для развития ядерного диалога. Многие эксперты указывали, что СНВ-3 – весьма умеренное соглашение, которое предоставляет США право инспектировать российские ядерные арсеналы. Причем, в отличие от предыдущего договора, американские инспекторы получают возможность подсчитывать, сколько боеголовок будет размещено на каждой ракете.
Чтобы убедить консерваторов в том, что власти готовы на серьезные уступки, СМИ превозносили предложенную Обамой программу модернизации ядерного комплекса. В конце ноября было опубликовано письмо руководителей трех крупнейших ядерных лабораторий США, которые выражали восхищение инициативой президента. Глава комитета по международным отношениям Джон Керри тут же провозгласил этот документ «внепартийным золотым стандартом» по вопросу развития ядерных технологий. В общем, команда Обамы предъявила все возможные аргументы. «Отчаявшись переубедить республиканцев, которые уперлись рогом и не желают слушать доводов разума, – писала The New York Times, – демократы уже просто не знают, что им говорить. «Сделайте это ради Дмитрия»[699], – восклицают они теперь. Автор термина «перезагрузка» Джо Байден пытался уверить конгрессменов, что в российском правящем тандеме есть разногласия по поводу того как выстраивать отношения с Вашингтоном. «Медведев, – говорил он, – прозападный лидер, который все поставил на идею перезагрузки. И если американский сенат прокатит СНВ-3, это станет провалом наших друзей в Кремле. В наших интересах ратифицировать соглашение и укрепить, таким образом, позиции Медведева и его окружения»[700].
Демократическая администрация настаивала на том, что отсрочка стала бы фатальной для соглашения с Россией. «Потребуется повторное рассмотрение договора в сенатском комитете по иностранным делам, – говорила замгоссекретаря по контролю над вооружениями Роуз Готтемюллер, – придется проводить новые слушания, в очередной раз отвечать на тысячи вопросов законодателей. Таким образом, если не ратифицировать документ сейчас, этот процесс может растянуться минимум на полтора года»[701]. А значит, к президентским выборам 2012 года соглашение так и не вступило бы в силу и Обама не одержал бы главной внешнеполитической победы.
Как ни парадоксально, палки в колеса президенту ставили и его собственные коллеги по партии. Они были убеждены, что в первую очередь следует провести ключевые внутриполитические реформы: расширить права гомосексуалистов, служащих в армии, и предоставить гражданство тысячам нелегальных иммигрантов.
В Республиканской партии даже после ратификации договора осталось множество его противников. Их возмущало требование связать сокращение наступательных вооружений с проблемой ПРО. Они называли шантажом заявления российской стороны, которая грозила отказаться от своих обязательств, если Вашингтон решится на более масштабный проект по развертыванию системы противоракетной обороны в Европе.
Еще одной серьезной уступкой со стороны США критики договора считали согласие сократить не только боеголовки, но и средства их доставки. Таким образом, отмечали оппоненты Обамы, «ограничивается способность американцев доставлять традиционные ракеты дальнего действия – а это основа стратегического преимущества США».
Довольно скептически республиканцы оценивали и возможность проверок российского ядерного арсенала. Вице-президент специальной комиссии по разведке Кристофер Бонд заявил на слушаниях в конгрессе, посвященных СНВ, что располагает секретной информацией, с помощью которой можно доказать, что Москва знает, как обойти ограничения, накладываемые договором. Как показало голосование в сенате 22 декабря 2010 года, некоторые республиканцы все же согласились с аргументами Обамы и соглашение было ратифицировано. Однако общее настроение как нельзя лучше выразил консервативный комментатор Чарльз Краутхаммер в своей колонке в The Washington Post: «Детище Обамы, договор СНВ, на 90 % бесполезен, а на 10 % проблематичен. Какая разница, сколько именно ядерных бомб изготовит Россия? Если она захочет разориться, спустив последние средства на раздувание ядерного арсенала, – милости просим. Обама, разменивающийся на такие вопросы, как СНВ, похож на человека, который ищет бумажник под фонарем, потому что там светлее, хотя потерял его в другом конце города»[702].
«РУССКАЯ ЗИМА»
И хотя, казалось бы, после ратификациии соглашения СНВ-3 отношения между Москвой и Вашингтоном должны были улучшится, этого не произошло. В Кремле многих вывела из себя реакция США на «болотные» выступления, которые начались в России после парламентских выборов в декабре 2011 года. Только ленивый не славословил «снежных революционеров, которые не побоялись бросить вызов опостылевшему режиму». «Русская зима, – говорили придворные вашингтонские политологи, – является логическим продолжением «арабской весны». И в каком-то смысле это действительно было так. Ведь арабских и русских бунтарей спонсировали одни и те же американские организации. Правда, опыт Тахрира у многих на Западе отбил охоту отстаивать новый «демократизаторский» проект. «Ведь раскачивать лодку в России может быть слишком опасно, – утверждали эксперты, – и иногда даже лучше прослыть кремлевским лоббистом».
Грядущее противостояние с Россией западные ястребы окрестили «третьей Пунической войной». Первая – это, разумеется, «большая игра», которую вели Российская и Британская империя в девятнадцатом столетии, вторая – «холодная война» между США и СССР, охватившая большую часть столетия двадцатого. И вот, наконец, наступает решающая третья битва, в которой Соединенные Штаты и другие наследники Рима должны разрушить российский Карфаген. Роль современного Сципиона досталась сенатору Маккейну, который происходит из знатного патрицианского рода и пострадал во время «Второй Пунической войны» (был сбит советским летчиком и несколько лет провел во вьетнамском плену).
Джон Маккейн никогда не производил впечатление человека уравновешенного, а после поражения на президентских выборах 2008 года окончательно потерял связь с реальностью.
Идеей фикс для него стала борьба с «кремлевской автократией», а президент Путин, к которому Маккейн почему-то обращался запанибрата, вызывал у старого сенатора просто маниакальную ненависть. «Дорогой Влад! «Арабская весна» уже добралась до твоих окрестностей, – злорадствовал он в своем микроблоге на Twitter. – Она разгуливает по улицам Москвы в суровые морозы, и скоро ты получишь собственный Тахрир»[703]. Тезис о повторении «арабской весны» в России с удовольствием подхватывали западные СМИ. «Сыты диктатурой», «Долой царя», «Начало конца», – гласили заголовки американских и европейских газет, вышедших после первого «болотного стояния». Масштаб демонстраций преувеличивался. Более того, чтобы усилить впечатление, некоторые издания шли на откровенный подлог, публикуя фотографии антисоветского митинга, проходившего 20 лет назад на Манежной площади. Энергетика тогда действительно была другой, толпа отнюдь не выглядела миролюбивой, и западный обыватель, который рассматривал эти фотографии, вполне мог сделать вывод о «крахе путинского режима». Об антиоранжистских митингах большинство западных СМИ вообще умалчали, зато отводили первые полосы «героям Болотной».
В США и Европе любят новые лица. Молодой Рыжков, который в конце 90-х – начале нулевых был кумиром западных демократизаторов, курирующих российское направление, вынужден был уступить место более напористому и честолюбивому интернет-блогеру Навальному. Ведь, с точки зрения идеологов, разрабатовавших сценарий «снежной» революции, Рыжков не подходил на роль народного трибуна. «Это типичный парламентский политик, который увереннее чувствует себя в думском кабинете, чем на многотысячном митинге, – говорили они, – в отличие от Навального, который как раз политик площадной, задиристый и озлобленный». «Только такой лидер способен бросить вызов существующему режиму, – писала итальянская газета Corriere della Sera. – Он не склонен к рефлексии, способен быстро принимать решения (если надо, и на Кремль народ поведет). Это настоящий харизматик, большевик новой формации». Неслучайно на Западе «болотную» публику окрестили «народом Навального»[704].
Однако рациональные политологи и публицисты призывали не горячиться. «Несомненно, участники уличных демонстраций в Москве послали сигнал властям, что им не нравится статус-кво, – писала австралийская газета The Canberra Times в статье под названием «В России не будет революции». – В западной прессе сигнал был интерпретирован как давление в пользу джефферсоновской демократии и социально ориентированного государства со стороны общества, доведенного путинской тиранией до крайности. Но так ли это? В арабском мире на площадь вышли представители среднего класса, потерявшие работу, в Индии митинговали «неприкасаемые», даже в движении оккупантов на Западе участвовали в основном «новые хиппи» – молодые люди, лишенные элементарного социального пакета и выходного пособия, вынужденные бороться за выживание. В России же мы наблюдаем бунт «денежных мешков» и хищных светских львиц, во главе которого стоят «лимузинные либералы». Это такие гротескные персонажи, как Немцов, Касьянов и Рыжков, которые являются на самом деле реликтами ельцинской эпохи»[705].
«Конечно, сравнение российских событий с «арабской весной» не выдерживает критики, – говорил американский политолог Харлан Уллман. В североафриканских и ближневосточных странах речь шла о свержении настоящих автократов, лозунги были куда экстремальнее, а толпы – агрессивнее. К тому же менталитет арабской улицы не имеет ничего общего с русским менталитетом. Да и экономическое могущество России смешно сравнивать с жалкими показателями ВВП Туниса и Египта»[706].
«Среди рафинированной интеллигенции, – отмечала корреспондент The Independent Мэри Дэжевски, – распространена примитивная ненависть к Путину вроде той, что некоторые британцы испытывали когда-то по отношению к Маргарет Тэтчер. В своих опасениях и дурных предчувствиях представители российской оппозиции иногда идут дальше скептически настроенных иностранцев. Они утверждают, что в стране отсутствует демократия, требуют предоставить гражданам больше свободы, не понимая, что это угрожает политической стабильности. Фактически они заодно с теми западными экспертами, которые считают российскую державу агрессивным хулиганом, не оправившимся от ностальгии по имперским временам. И если на Западе причиной антипутинских настроений является банальное непонимание, в России это, в основном, снобизм»[707].
Не менее категоричен был обозреватель The Christian Science Monitor Фред Мейер. «Не совсем понятно, – говорил он, – почему многие американские политики так активно поддерживают «революцию норковых шуб», которая может привести к самым непредсказуемым последствиям. Путин, по крайней мере, гарантирует стабильность. Его победа позволит сохранить в России нынешнюю систему власти, кстати сказать, не такую уж плохую. Это – солидный партнер, респектабельный мировой лидер, от которого не стоит ждать сюрпризов»[708].
У некоторых экспертов выступления российской оппозиции вызывали крайне негативные ассоциации. «Тот факт, что в конце 1980-х русским удалось осуществить «бархатную революцию», – писала The Daily Telegraph, – ничего ровным счетом не доказывает: власть тогда принадлежала кремлевским старцам, которые легко выпустили ее из рук. Но, думается, это исключение из правил. Бунт в России, как известно, бессмысленен и беспощаден, а его зачинщиками всегда становятся недовольные дворяне и буржуа».
«Власть в России традиционно была над конфликтом западников и славянофилов, – писал The American Thinker, – Неслучайно карикатурное президентство Медведева привело к тому, что западники подняли голову и попытались раскачать лодку, и только возвращение Путина может восстановить пошатнувшееся было равновесие»[709].
Профессор лондонского Королевского колледжа Анатоль Ливен утверждал, что в российском истеблишменте началась борьба за власть между либералами и государственниками. «Не исключено, – писал Ливен, – что, одержав победу, вторая группа сумеет все-таки справиться с главной проблемой современной России – коррупцией, прибегнув к жестким китайским методам. Что касается либералов, у них в России нет никаких шансов. Они уже правили страной в 90-е годы. Спорные политические решения той поры и высокомерное презрение, которое демонстрировала власть по отношению к обществу, навсегда отбили у избирателей охоту поддерживать либеральных кандидатов. Причем, судя по высказываниям современных либералов, прежний опыт их ничему не научил»[710].
Конечно, истерия в западных СМИ по поводу путинского властолюбия и его желания «побить брежневские рекорды» была связана в первую очередь с крушением иллюзий. Ведь, как сейчас выясняется, на Западе многие повелись на разговоры о «медведевской оттепели» и сделали ставку на «президента Дмитрия». Ведущий эксперт Совета по международным отношениям Чарльз Капчан, например, утверждал, что «на контрасте со своим предшественником Медведев воспринимался в Соединенных Штатах и Европе как символ либерализма: когда разведчика на посту президента сменил юрист, – говорили западные политики, – это стало завуалированным приглашением к разрядке. И мы не должны допустить провала наших друзей в Кремле, укрепляя позиции Медведева и подталкивая его к решению выставить свою кандидатуру на второй срок»[711].
Не получилось: ни второго срока, ни триумфа «медведевской партии», и представители обамовской администрации, которые свято верили в придуманную ими же самими сказку, оказались у разбитого корыта. Неслучайно Хиллари Клинтон так рьяно стала поддерживать «болотные» выступления. «Неужели, – причитала The New York Times, – фраза, сказанная Медведевым в Красноярске три года тому назад «Свобода лучше, чем несвобода» – это либеральная мантра, которая забудется сразу после ухода нынешнего хозяина Кремля и мечтателей из его окружения?»[712]
Экспертов, хорошо разбирающихся в российской внутренней политике, забавляла реакция Вашингтона. «С чем связано такое разочарование? – недоумевал редактор международного отдела The Financial Times Квентин Пил. – Ведь ни для кого не секрет, что все эти годы лидером России оставался Путин, Медведев же в лучшем случае был его младшим партнером, а в худшем – обыкновенной политической марионеткой»[713]. Даже либеральный журнал The Economist признавал, что для России окончание периода неразберихи, когда де-юре власть принадлежала Медведеву, но де-факто ей распоряжался Путин, будет иметь самые позитивные последствия». «Путинское решение вернуться на пост президента завершит наконец период диархии, который, продлись он чуть дольше, мог бы вызвать паралич государственной системы, – отмечал ведущий эксперт фонда «Евразия» Клифф Капчан. – И даже если это приведет к ужесточению российского образа на мировой арене, игра стоит свеч»[714].
Такого же мнения придерживались крупнейшие западные инвесторы. «Единственной альтернативой возвращению Путина в Кремль является нынешняя модель, когда слабый президент работает в тандеме с сильным премьером, – писал финансовый аналитик из Ситигруп Кингсмиль Бонд в докладе с характерным названием «Возвращение хозяина». – Однако эта модель крайне нестабильна. Бизнесмены же заинтересованы в предсказуемой политической ситуации, которая позволила бы им осуществлять долгосрочное стратегическое планирование. Иначе такие крупные корпорации, как Exxon Mobil, представители которой заключили недавно многомиллиардный контракт на освоение арктического шельфа, будут вынуждены уйти с российского рынка»[715].
Специалисты-русологи объясняли распространенные на Западе клише по поводу «авторитарного» путинского режима желанием восстановить привычную систему координат. «Американским и европейским обывателям, – отмечали они, – намного проще, когда для оценки той или иной страны существует определенная матрица. Россия, по их представлениям, должна быть царской, но это означает, что, выстраивая отношения с ней, политикам и дипломатам следует опираться на опыт вековой или даже двухвековой давности. Западные историки вспоминают, например, как в 1826 году австрийский посол граф Людвиг Лебцельтерн был отозван из Петербурга, после того как стало известно о его связях с лидерами тайных обществ, и призывают американского посла Майкла Макфолла сделать из этой истории выводы и не заигрывать с «современными декабристами». Противники «русской зимы» были убеждены, что в эпоху глобальных потрясений путинская Россия, точно так же как романовская империя, могла бы стать надежным союзником Запада. Они вспоминали знаменитую формулу канцлера Горчакова «Россия сосредотачивается» и не менее известное изречение Столыпина: «Дайте государству двадцать лет покоя, внутреннего и внешнего, и вы не узнаете нынешней России».
Конечно, защитников российской власти в Вашингтоне называли пятой колонной и наймитами Кремля, однако, по словам профессора Анатоля Ливена, пророссийское лобби на Западе существовало уже давно и «включало в себя два основных течения: бизнес-лобби, которое наиболее активно представлено в Германии, и прагматичных политиков и экспертов, понимающих, что Запад не может позволить себе конфликт с Россией в тот момент, когда он сталкивается с таким количеством серьезных вызовов»[716].
Правда, в начале 2012 года предвыборная кампания в США набирала обороты и выпады против Москвы становились все жестче. «Россия не является для нас дружественным игроком. На мировой арене она отстаивает интересы самых худших персонажей, таких как Сирия и Иран», – заявил в эфире CNN фаворит республиканской гонки, экс-губернатор Массачусетса Митт Ромни. «Неужели Москва представляет для Соединенных Штатов большую опасность, чем, скажем, Иран, Китай, или Северная Корея?» – поинтересовался у него ведущий. «Да, – провозгласил Ромни, – Россия – наш геополитический противник номер один, поскольку в отличие от упомянутых стран она действительно обладает серьезным весом в мире»[717]. Он отметил также, что Владимир Путин мечтает о «восстановлении Российской империи» и призвал «завершить перезагрузку».
Вполне естественно, что встреча Обамы с Медведевым, которая состоялась во время международного саммита по ядерной безопасности в Сеуле 26 марта 2012 года, стала для республиканского фаворита поводом для очередной атаки на «администрацию пораженцев». Особенно возмутил Ромни разговор двух президентов, который случайно подслушали стоявшие рядом американские репортеры. Обама якобы попросил Медведева об «отсрочке» в переговорах по ПРО, обещая в случае переизбрания проявить большую гибкость в этом вопросе. «Американский президент планирует сделать что-то такое, о чем он не хочет сообщать народу перед выборами, – отметил Ромни, – и это, по-моему, очень тревожный факт»[718]. «Обама пообещал русским с потрохами сдать нашу программу противоракетной обороны, – прокомментировал ситуацию другой участник республиканской гонки Ньют Гингрич. – Любопытно, каким еще странам президент поклялся быть более гибким на следующее утро после выборов»[719].
После того как в мае 2012 года к власти в России вернулся Владимир Путин, оппоненты Обамы провозгласили, что «хваленая перезагрузка закончилась пшиком». Когда российский лидер отказался приехать в Кэмп-Дэвид на саммит «большой восьмерки», американцы заговорили о том, что «автор мюнхенской речи буквально с порога пытается поставить Белый дом на место». И это несмотря на то, что Обама специально ради него перенес встречу «восьмерки» из Чикаго, где одновременно должен был проходить саммит НАТО. Решение Путина, по словам экспертов, повергло вашингтонский истеблишмент в состояние шока. Американскому посольству в Москве даже были даны инструкции срочно выяснить истинные причины поведения Кремля и изложить их в специальной телеграмме. Неприятным сюрпризом для администрации Обамы стал и путинский указ «О мерах по реализации внешнеполитического курса», в котором отношения с Америкой оказались в списке приоритетов далеко не на первом месте.
Вскоре президент США сделал ответный выпад, отказавшись принять участие в саммите АТЭС, который должен был состояться в начале сентября в российском Владивостоке. И хотя аппарат Обамы объяснил это решение интересами предвыборной кампании, которые вынуждают президента присутствовать на съезде Демократической партии в Шарлотте, также запланированном на первые дни осени, многие политологи утверждали, что это лишь отговорка. «Отказ Обамы – это мелкая политическая месть за путинский демарш, – отмечал директор Центра Бертольда Бейца Александр Рар. – Однако по большому счету этот «обмен любезностями» ничего не значит»[720].
Эксперты отмечали, что политические игры скоро закончатся, обиды забудутся и американский лидер, скорее всего, продолжит носиться с идеей перезагрузки. Неслучайно в начале мая Обама послал советника по национальной безопасности Тома Донилона в Москву, чтобы он вручил Путину многостраничное послание, в котором Белый дом пытался навести мосты с новым старым российским президентом.
«ПРИГЛАШЕНИЕ НА ДУЭЛЬ»
Когда в 2003 году Соединенные Штаты начали планировать операцию «Шок и трепет» в Ираке, Россия попыталась остановить их и, заручившись поддержкой Парижа и Берлина, впервые за долгое время наложила вето на резолюцию ООН. Однако предотвратить очередной поход англосаксов на Багдад не вышло. «Ведь, несмотря на то что Саддам был арабским социалистом и старым союзником Москвы, – пишет The Guardian, – ради его спасения путинская Россия, которая только начала подниматься с колен, не готова была бодаться с ковбойской империей Джорджа Буша-младшего, заработавшего прозвище «Ядовитый техасец»[721].
В 2011 году, когда решалась судьба полковника Каддафи, на посту американского президента находился человек совершенно другого склада. Барак Обама с его вечной рефлексией только под нажимом европейских союзников согласился принять участие в охоте на берберского льва. И Москва вполне могла бы отстоять ливийскую Джамахирию, если бы президент Медведев не находился в плену перезагрузочных иллюзий и прислушался к мнению реалистов. Однако он настаивал на своем и впервые за три года пошел наперекор Владимиру Путину, который не хотел поддерживать «крестоносцев». Медведев, как говорили эксперты, полностью доверял западным СМИ, представлявшим Каддафи «бешеным псом Ближнего Востока». Он подписал указ, запрещающий въезд в страну и осуществление финансовых операций на территории РФ ливийскому диктатору и людям из его ближайшего окружения. А 17 марта Россия, как выразился Медведев, «пропустила» резолюцию 1973, которая устанавливала над Ливией зону, закрытую для полетов и послужила обоснованием для воздушной войны НАТО с режимом Каддафи.
Российские дипломаты-реалисты были явно раздосадованы такой политикой. Ливийская джамахирия всегда считалась надежным союзником России, сотрудничество с которым приносило, к тому же, немалую выгоду. Они указывали также, что Каддафи пользуется значительной поддержкой ливийцев, и поскольку в стране отсутствуют политические партии, единственной альтернативой ему являются исламисты.
И когда стало понятно, что США играют в Ливии в собственные игры, Медведев почувствовал себя обманутым. 27 мая 2011 года на встрече с президентом Обамой во время саммита Довилле он был вынужден признать, что между Россией и США существуют серьезные трения. «Не требуется быть специалистом по языку мимики и жестов, – отмечала консервативная газета Examiner в статье, озаглавленной «Нет, нет, мы друзья, честное слово!», – чтобы прийти к выводу, что эта парочка не будет больше ворковать. Обама, встретив российского визави, сделал суровое выражение лица. Медведев тоже выглядел суховато и, выступая, постоянно отворачивался от президента США»[722].
С лета 2011 года в западных СМИ началась кампания, направленная против президента Сирии Башара Асада. Однако на этот раз российские лидеры уступать не собирались. «Россию обвели вокруг пальца, – отмечала The Daily Telegraph, – и выставили в комичном свете. Она потеряла многомиллиардные контракты в Ливии и сдала своего давнего союзника, ничего не получив взамен. И наступать на те же грабли в Сирии она не хочет»[723].
Еще с советских времен Москва поддерживала Дамаск во всех внутриарабских конфликтах, снабжала сирийцев оружием и использовала порт Тартус как базу для своего военно-морского флота. И если Каддафи в международном отделе ЦК называли «махновцем» и опасались его непредсказуемости, Асад всегда пользовался расположением партийных чиновников и дипломатов СССР. «На данный момент, – отмечал американский журнал The National Interest, – Сирия остается единственным стратегическим резервом России на Ближнем Востоке. И потерять его – значит полностью отказаться от своих амбиций в регионе. Тем более, что не так давно младший Асад разрешил русским использовать базу в Тартусе для ядерных подводных лодок»[724].
Но дело было не только в том, чтобы сохранить влияние на арабском Востоке. Многие политологи отмечали, что впервые с окончания холодной войны Москва становится независимым политическим центром, способным остановить американскую экспансию. Ведь сирийская эпопея, говорили они, лишь пролог к вторжению в Иран, и поскольку Америка не так сильна и самонадеянна, как в эпоху Буша, Россия в союзе с Китаем вполне может разрушить ее замыслы. (Чтобы предотвратить ливийский сценарий, Москва и Пекин дважды в октябре 2011-го и в феврале 2012 года заблокировали принятие антисирийской резолюции в Совбезе ООН). «Россия – великая держава, которая не раз играла ключевую роль в мировых процессах, – отмечал философ Александр Дугин. – И вот нам снова бросают вызов, посылают приглашение на дуэль. И если Путин не примет его, мировая политическая элита перестанет воспринимать его как дворянина, для нее он превратится в ничтожество. А как обращаются с ничтожными лидерами западные демократизаторы, мы знаем на примере Слободана Милошевича, Саддама Хусейна и Муаммара Каддафи»[725].
В 2012 году западные политики и эксперты, даже те, что считались когда-то апологетами Кремля, начали бичевать Россию за то, что она поддерживает «кровавый режим Асада» и «помогает убийце детей уйти от Божьего суда». И хотя на Западе не имели ничего против поставок оружия сирийским повстанцам, когда появилась информация о том, что сухогруз «Профессор Кацман», зафрахтованный Рособоронэкспортом, направляется в порт Тартус с грузом оружия на борту, на Москву обрушился шквал критики. Две «железные» дамы, игравшие ключевую роль в американской дипломатии, госсекретарь Хиллари Клинтон и представитель США в ООН Сьюзан Райс, осудили действия России, вопреки «гуманистическим принципам» продолжающей продавать оружие «режиму, который бомбит своих граждан и вырезает целые деревни». Однако стоит отметить, что в отличие от Запада и его союзников, контрабандным путем поставляющих современные вооружения мятежи и кам-экстремистам и вербующим иностранных наемников, Россия действовала в рамках закона. Действительно, ООН никаких санкций на Сирию не накладывала, что же касается Европы и США, их решения пока еще не являются законом для других членов международного сообщества. К тому же, отбиваясь от нападок западных журналистов в Берлине, Путин заметил, что «Россия не поставляет в Сирию такие вооружения, которые могли бы быть использованы в гражданских конфликтах»[726].
Многие на Западе утверждали, что именно рынок вооружений является главной причиной поддержки, которую Москва оказывает Асаду. Однако в реальности все было намного сложнее. Ни вооружения, ни другие статьи российского экспорта в Сирию существенной роли не играли. Даже в совокупности с Ираном они составляли лишь четверть объема торговли России с Финляндией. Российские дипломаты не раз уже заявляли, что дело тут не в экономических интересах и не в «особых отношениях» с Асадом. Помогать баасистскому режиму Москва не собиралась, но была глубоко убеждена в том, что в своем конфликте сирийцы должны разбираться сами без поддержки извне, тренировок боевиков и финансовых вливаний. Россия отстаивала суверенитет Сирии и пыталась не допустить крушения государства. «С середины 90-х и до ливийской кампании, – утверждал президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский, – у нас был позитивный нейтралитет: мы не мешали Западу. Теперь у нас нейтралитет негативный. У нас есть своя позиция, и мы ее придерживаемся. Кому не нравится, что поделать. Не всем все должно нравиться. Два члена Совбеза ООН – это серьезно. И довольно смешно в этом смысле говорить об изоляции России»[727].
Как бы то ни было, выступая в Копенгагене, госсекретарь США Хиллари Клинтон обвинила Кремль в том, что он «способствует развязыванию гражданской войны в Сирии». «Россия, – отмечал британский журнал The Prospect, – проводит охранительную политику, которая напоминает об эпохе императора Николая I, Николая Палкина, который поддерживал ретроградов по всей Европе и не давал взойти семенам свободы»[728]. Тем не менее советник американского президента по национальной безопасности Денис Макдонах на форуме «друзей Сирии» в Дохе выразил уверенность, что Западу удастся дожать Россию. «Не за горами тот момент, – заявил он, – когда мы договоримся с русскими об отстранении Асада»[729].
В начале июня Клинтон выступила с воинственным заявлением, обвинив Москву в том, что она снабжает Дамаск военными вертолетами. И хотя Госдепартамент затем дал задний ход, признав, что Россия шлет в Сирию не новые вертолеты, а отремонтированную старую технику, приобретенную еще в советский период, русофобы в Конгрессе продолжали бить в набат: «Какая разница между новыми машинами и теми, которые отправляются в Москву, чтобы там с них смыли кровь и выслали обратно? – вопрошал сенатор Джон Маккейн. – Ведь в любом случае это боевая техника, которая косит ряды сирийских повстанцев!»[730]
В итоге, российское судно с боевыми вертолетами Ми-25, предназначенными для Дамаска, было остановлено в Шотландии. Тем временем, в сирийский порт Тартус вошла эскадра российских военных кораблей (в том числе два больших десантных судна «Николай Фильченков» и «Цезарь Куников»). А телеканал Аль-Арабийя распространил информацию о том, что в ближайшее время, якобы, на территории Сирии пройдут масштабные военные учения, в которых примут участие вооруженные силы России и Китая.
В этой ситуации Владимир Путин совершил турне по странам Ближнего Востока, которые граничат с Сирией (он посетил Израиль и Иорданию). Важнее всего была для него, конечно, позиция Иерусалима. Израиль – ближайший союзник США в регионе, но многие реалисты здесь очень настороженно относились к призывам западных стратегов во что бы то ни стало скинуть алавитский режим. В Иерусалиме осознавали, что на смену алавитам в Сирии придут радикальные сунниты, а поскольку в другой ключевой стране арабского мира – Египте ведущей политической силой постепенно становились «Братья-мусульмане», которые давно уже призывали разорвать Кэмпдэвидский договор с Израилем, в итоге на Ближнем Востоке вновь может сформироваться коалиция, противостоявшая еврейскому государству в войну Судного дня.
Конечно, официальные чиновники повторяли заклинания американских союзников о том, что президент Асад лично несет ответственность за многочисленные жертвы среди мирного населения, и не может оставаться у власти. Однако в истеблишменте многие втайне надеялись, что Россия сумеет отстоять свою позицию и сделает все, чтобы остановить гражданскую войну в Сирии. «Россия не имеет обязательств перед сирийским лидером, но у нее есть обязательства перед самой Сирией, которая была и остается нашим самым сильным оплотом в регионе, – заявил Путин на переговорах в Иерусалиме. – Следует хорошенько взвесить и понять, будет ли оппозиция, которая придет к власти, тем что хочет Запад, или это будет нечто совершенно противоположное»[731].
И эти слова оказались созвучны настроениям израильских реалистов. Более того, идея Путина привлечь к мирному урегулированию в Сирии соседний Иран не была воспринята в Иерусалиме в штыки. Ведь израильтяне понимали, что лучше привлечь Тегеран на данном этапе, чем дождаться прямого вмешательства ИРИ во внутренние дела Сирии, поводом для которого могут стать волнения в курдских регионах, угрожающие перекинуться на иранский Курдистан.
Всю неделю накануне Женевской встречи по сирийскому вопросу, которая состоялась 30 июня 2012 года, мировые СМИ активно распространяли слухи о том, что Россия вот-вот сдаст Башара Асада. Началось все еще с саммита «двадцатки» в мексиканском Лос-Кабосе, когда Путин заявил, что Москва может согласиться на смену власти в Сирии, если она произойдет конституционным путем. Западные журналисты истолковали это заявление как «поворот на 180 градусов». Британский премьер Дэвид Камерон уверял всех, что несмотря на небольшие разногласия, которые остаются у западных стран и России, президент Путин четко дал понять, что не хотел бы видеть Асада во главе Сирии»[732]. И хотя глава российского МИД Сергей Лавров сразу же назвал слова Камерона «чистейшей воды неправдой», в преддверии женевской конференции самые авторитетные западные издания опубликовали информацию, полученную якобы из надежных дипломатических источников о том, что Москва готова изменить свою позицию. Сообщалось, что российские переговорщики согласилась с формулировкой спецпосланника ООН Кофи Аннана, заявившего, что в так называемое «правительство примирения» могут войти представители правящего режима, но только не президент Асад, «руки которого по локоть в крови». Однако, в действительности, Россия продолжала стоять на своем. «Какого-либо вмешательства извне и навязывания рецептов мы не можем поддержать. Это касается и судьбы сирийского президента»[733], – заявил 28 июня Сергей Лавров. В результате, на встрече в Женеве Москва настояла на том, чтобы в итоговом заявлении не содержалось требования исключить из процесса урегулирования «какую-либо группу». Ведущие мировые державы попытались создать иллюзию консенсуса, заявив, что к концу года в Сирии будет создано «правительство примирения», которое устроит всех заинтересованных игроков. Однако верилось в это с трудом, особенно учитывая тот факт, что прикормленные Западом сирийские повстанцы с ходу отвергли возможность переговоров с представителями администрации Башара Асада.
Несмотря на расхождения в сирийском вопросе, когда на саммите «двадцатки» в мексиканском Лос Кабосе, проходившем 18–20 июня 2012 года, состоялась долгожданная встреча Путина и Обамы, американский президент изо всех сил старался расположить к себе российского коллегу. Обама дал понять, что он выступает против того, чтобы увязывать отмену поправки Джэксона-Вэника с принятием закона Магнитского (республиканцы, имеющие большинство в Палате представителей призывали использовать по отношению к России политику «кнута и пряника» и принять единый законопроект).
Правда, политологи отмечали, что президент США не сможет наложить вето на знаковый правозащитный закон, если он будет принят на Капитолийском холме. К тому же, малейший намек на то, что он недостаточно тверд с Россией, был чреват для Обамы большими политическими рисками.
Но эксперты уверяли, что Обама готов рисковать, поскольку в случае своего переизбрания надеется уломать Путина заключить очередное «эпохальное» соглашение о ядерном разоружении. Причем, как предсказывали многие, когда у него «появится поле для маневра», президент, действительно, будет готов к серьезным уступкам в вопросе о создании американской системы ПРО. На Западе гадали только, согласится ли российский лидер на вторую серию перезагрузочной мелодрамы. «Три года назад, – писала The Washington Post, – Путин уже предоставил Медведеву возможность попытать счастья с Обамой, наблюдая со стороны, к чему это может привести, и, похоже, полностью разочаровался в перезагрузке»[734]. «Путин превратился в яростного антиамериканиста в эпоху Буша, который отличался крайне пренебрежительным отношением к России, – отмечал американский политолог Харлан Уллман. – И хотя Обама провозгласил «перезагрузку» в реальности он ничего не сделал для развития российско-американских отношений. Поэтому Путин, вероятнее всего, вернется к жесткой линии и не будет слушать нравоучения от западных «строителей демократии». Он прекрасно помнит судьбу Горбачева, который начал проводить демократические реформы по их рецептам и потерял Советский Союз»[735].
Оптимисты в США уверяли, что проблема в том, что Путину давно уже надоели протокольные мероприятия и ситуация, когда все нудные представительские обязанности выполнял партнер по тандему, его вполне устраивала. «Путину намного интереснее встречаться с представителями крупного бизнеса, – писал The American Thinker, – и если у Медведева хорошо получается кушать гамбургеры с Обамой, пусть он это и делает»[736]. Но куда более распространенной была точка зрения реалистов, которые подчеркивали, что Путин поворачивается к Западу спиной и всерьез задумывается о стратегическом союзе с Китаем. Его успешный визит в Пекин 5–6 июня 2012 года в США многие восприняли как вызов. Ведь после того как он отказался участвовать в заседании «восьмерки», и в буквальном смысле слова проехался галопом по Европам, эта поездка должна была, судя по всему, продемонстрировать миру, кто является для Москвы главным внешнеполитическим партнером.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В 2008 году Соединенные Штаты охватила обамамания. Молодой харизматичный сенатор от Иллинойса собирал гигантские стадионы, очаровывал толпы людей и, казалось, стоит ему занять Овальный кабинет, как в Америке начнется «золотой век». Многим он представлялся целеустремленным и решительным лидером, способным вписать свое имя в историю. Стоило только посмотреть, как Обама взбегает по ступенькам, чтобы произнести очередную «эпохальную речь»… Он заставил Америку поверить в перемены и забыть о депрессии, охватившей ее в период позднего Буша.
Однако за четыре года в Белом доме президент изменился до неузнаваемости. Конечно, быть лидером сверхдержавы непросто, но, пожалуй, ни один из его предшественников не выглядел столь понуро и мрачно по окончании первого президентского срока. «И если в 2007 году, – пишет The American Spectator, – Обаму называли восходящей звездой Демпартии, сейчас он напоминает звезду погасшую. Молодой афроамериканский политик, блестящий оратор, интеллектуал, заражавший всех своей энергией превратился в потрепанного жизнью, седеющего негра, который боится собственной тени»[737].
Тем не менее, по всем прогнозам, на выборах, которые должны были состояться в ноябре 2012 года, действующий президент имел намного больше шансов на победу, чем его соперник Митт Ромни. Даже республиканский гуру-политтехнолог Карл Роув, каждый месяц составлявший предвыборную карту Америки, признал, что экс-губернатор Массачусетса станет в ноябре «мальчиком для битья». И дело не в том, что Ромни называли «отыгранной фигурой» еще на прошлых республиканских праймериз, а евангелисты, которые по-прежнему составляли огромную часть консервативного электората, с подозрением относились к мормону, отстаивавшему в прошлом либеральные взгляды. И даже не в том, что американцы решили дать проштрафившемуся Обаме еще один шанс. Большинство избирателей ни в какие шансы уже не верили и просто боялись менять коней на переправе. Пообтесался Обама в Вашингтоне, примелькался – ну и пусть себе мелькает дальше. Да, он не отличался оригинальностью, редко отходил в своей политике от заранее заданных схем, опасался делать резкие шаги, но прагматичные американцы считали, что в эпоху кризиса лучше уж оставить на посту президента посредственного и острожного исполнителя, чем отдать страну в руки авантюриста, который, конечно, не будет рефлексировать на каждом шагу, но рискует наломать дров.
Сторонники Обамы прославляли его, утверждая, что это – президент, который с триумфом завершил восточные войны, избавился от террориста № 1 Усамы бен Ладена, провел эпохальную реформу здравоохранения, принял так называемый пакет стимулов, позволивший спасти американскую экономику, добивался снижения налогов для среднего класса и сохранил безработицу на относительно низком уровне. Однако республиканцы были убеждены, что Обама – зло. Ведь это лидер, который опозорил Америку на Ближнем Востоке, резко увеличил расходы, пытаясь воплотить в жизнь «социалистические идеалы», привел США к классовой войне, не сумел создать рабочие места и возродить промышленность. К 2012 году Америка превратилась в крайне поляризованную страну и точки зрения поэтому были полярны.
Самому президенту, конечно, всегда хотелось войти в пантеон американских небожителей. Он с удовольствием внимал словам царедворцев, сравнивавших его с Авраамом Линкольном и Франклином Рузвельтом, Джоном Кеннеди и Вудро Вильсоном и всегда избегал аналогий с конформистами, неспособными идти против течения, такими, например, как Билл Клинтон.
Поэтому для Обамы так важно было воплотить в жизнь те леволиберальные проекты, от которых предыдущая демократическая администрация отказалась. В первую очередь, речь шла о реформе здравоохранения, которая несколько десятилетий была «священным граалем» для демократов. В 1993 году Клинтон не сумел провести ее через Конгресс и, как отмечал The Independent, «Обама мечтал утереть Биллу нос и добиться ее принятия»[738]. Это стало для него вопросом личного престижа, своеобразным политическим Рубиконом, который ему во что бы ни стало необходимо было перейти. Не случайно демократы провозгласили президента «верховным здравоохранителем», а республиканцы переименовали систему государственного медицинского страхования из Medicare в Obamacare. «Когда в Саду роз я подпишу закон, делающий медицинское обслуживание доступным для всех американцев, это станет для меня настоящим триумфом», – говорил Обама. И подписал. Только вот триумфа не вышло: напротив, трещина, разделявшая либеральную «синюю» и консервативную «красную» Америку, превратилась в непреодолимую пропасть. В июне 2012 года президенту в очередной раз удалось проявить характер, отстояв в Верховном суде свою реформу (противники президента пытались доказать, что она противоречит конституции).
Еще одной победой левых либералов стало принятие в сентябре 2011 года законопроекта, отменяющего известное правило «не спрашивают – молчи», которое позволяло геям служить в вооруженных силах США лишь в том случае, если они не распространяются о своей сексуальной ориентации. В эпоху Клинтона принять такой законопроект не удалось, и политкрректная Америка ликовала, прославляя Обаму, который, к тому же, пообещал снять запрет на заключение однополых браков. Консерваторы, напротив, провозгласили его «президентом меньшинств» и начали иронизировать по поводу голубого цвета, являющегося символом «партии ослов».
Эксперты отмечали, что на протяжении всего президентского срока Обаму окружали одни и те же люди. Его ближайшие советники Дэвид Аксельрод и Дэвид Плафф оказывали огромное влияние на принятие решений. И хотя третий «рыцарь круглого стола» Рам Эмануэль покинул Белый дом и был избран мэром Чикаго, это не означало, что он не входит больше в ближний круг Обамы, который по аналогии с командой советников Джона Кеннеди еще в 2009 году окрестили «Камелотом». Недаром ведь предвыборный штаб президента был расположен именно в Чикаго. Критики утверждали, что «рыцари Камелота» не готовы управлять Америкой: они витают в облаках и не понимают тех проблем, которые стоят перед страной.
Однако несмотря на популярность в Демократической партии и обществе таких фигур, как Хиллари Клинтон именно чиновники Белого дома обладали в США реальной властью. Кабинет министров же не играл практически никакой роли. Хотя следует отметить, что за время своего правления Обама и в нем не произвел серьезных кадровых перестановок. Да, глава Пентагона Роберт Гейтс уступил место бывшему директору ЦРУ Леону Паннете, но радикальным изменением это не назовешь. Ходили слухи, что в следующей администрации Обамы Хиллари Клинтон переместится на пост министра финансов. «Но как бы то ни было, – писал консервативный комментатор Билл Кристол, – ее песенка спета. Во внутрипартийной борьбе клан Клинтонов потерпел поражение еще в 2008 году. И было бы наивно надеяться, что Хиллари, словно мифологический феникс, возродится из пепла и станет кандидатом Демократической партии на президентских выборах 2016 года»[739].
Но и Обама не чувствовал себя так уверенно, как в 2008 году. Да, он пользовался безоговорочной поддержкой меньшинств (а это очень значительная часть американского населения) и оставался кумиром леволибералов. Но, как отмечал обозреватель The American Thinker, «либеральная мишура вроде реформы Medicare, которая вызывала щенячий восторг у пламенных либералов, на самом деле, должна была отвлечь преданный Обаме электорат от того печального факта, что экономика США находится в руинах»[740]. На протяжении всего президентского срока Обама пытался свалить вину за экономические неурядицы на республиканцев. Вначале он говорил, что вынужден «платить по векселям, оставленным предыдущей администрацией». А когда ссылаться на Буша стало уже смешно, начал обвинять оппозицию в том, что она ставит ему палки в колеса.
Как бы то ни было, 59 % американцев называли провальной экономическую политику Обамы и многие эксперты задавались вопросом, зачем нужно было вкачивать колоссальные суммы денег в банковский сектор и развитие инфраструктуры, оставляя промышленность в депрессивном состоянии?
За время правления Обамы в Соединенных Штатах зародились два мощных протестных движения, которые, по сути дела, стали отражением того же феномена, что в 2008 году вознес к власти темнокожего народного трибуна. Как «чайная партия», так и движение «Оккупируй Уолл-стрит», объединяли людей, испытывавших недоверие к вашингтонскому истеблишменту. И хотя Обама так и не решился на открытый конфликт со столичной элитой, будучи темнокожим политиком, «своим» он в Вашингтоне не стал. И простые американцы, раздраженные «инсайдерскими интригами», продолжали воспринимать его как потенциального союзника.
Вообще образ первого черного президента, безусловно, был козырем Обамы. «Пожалуй, цвет кожи – это единственная характеристика, позволяющая нынешнему хозяину Белого дома претендовать на место в истории, – отмечала The Boston Globe, – и отбиваться от нападок оппозиции, окрестившей его «ботаником» и «безвольным тюфяком»[741]. Правда, критики вынуждены были прикусить языки, когда год назад американские морские котики ликвидировали в пакистанском Абботабаде террориста № 1 Усаму бен Ладена. Сделать это Обама обещал еще во время первого сражения за Белый дом, и избиратели смогли убедиться в том, что их лидер не бросает слов на ветер. Желая усилить это впечатление и обеспечить себе фору в предвыборной гонке, Обама произнес проникновенную речь, которую тут же назвали «речью триумфатора». «Пришел час расплаты!» – провозгласил он, и, по словам Washington Post, «американцы впервые почувствовали, что перед ними не мягкотелый интеллигент, умеющий складно говорить и вешать им на уши лапшу, а главнокомандующий вооруженных сил США»[742].
«Конечно, под влиянием обстоятельств Обаме пришлось измениться, – заявлял британский эксперт по вопросам безопасности Энтони Глисс. – Гарвардский профессор права, который ни на йоту не собирался отступать от международных норм и был убежден в том, что в политике действуют лишь законы логики, превратился в лидера, который самолично принимает решения о ликвидации наиболее влиятельных международных террористов с помощью беспилотников»[743].
Однако, как ни крути, первая четырехлетка Обамы войдет в историю как период, когда Америка начала сдавать свои позиции на мировой арене. «Одна держава не может доминировать в мире, – заявил президент еще в 2009 году на заседании Генассамблеи ООН, – и те, кто раньше критиковал США за односторонний подход, должны преодолеть рефлекторный антиамериканизм, который слишком часто служил оправданием для коллективного бездействия»[744]. Многие политологи стали сравнивать Соединенные Штаты с Британской империей эпохи заката, когда Лондон постепенно начал перекладывать часть ответственности за глобальные проблемы на других игроков и заигрывать с радикалами в надежде вписать их в свой миропорядок. Некоторым приходила на ум и аналогия с поздней Римской империей. «Обама, – отмечал The American Thinker, – играет в те же игры, что и император Константин, который пошел на уступки варварам и отказался от римской идентичности ради космополитических идеалов. Ему осталось только основать свой Обамаполь где-нибудь на Ближнем Востоке»[745].
Обама, действительно, был первым космополитом в Белом доме. «Это человек, который воспитывался не на гамбургерах и горизонты которого не ограничивались колосящимися полями кукурузы в штате Айдахо, – отмечал председатель Исламского комитета России Гейдар Джемаль, – Он носил в индонезийской школе саронг, у него шиитское имя Барак Хусейн, и он никак не привязан к американской почве»[746]. Философия Обамы изначально заключалась в том, что Соединенные Штаты могут и должны достучаться до национальных элит в тех странах, которые традиционно считались их геополитическими соперниками. Он пообещал «протянуть руку» иранским лидерам, объявил о перезагрузке в отношениях с Россией и предложил Китаю создать «большую двойку», разделив с ним ответственность за судьбы мира. При этом демократическая администрация, не моргнув глазом, отрекалась от старых союзников, фактически, поставив крест на «особых отношениях» с поляками, британцами, колумбийцами и израильтянами. «Команда Обамы отчаянно пытается завоевать новых друзей и при этом совершенно не дорожит старыми, – отмечал бывший посол США в ООН Джон Болтон. – Президент убежден, что такое поведение, каким бы странным оно ни казалось американцам, демонстрирует миру беспристрастность его администрации и в конечном итоге усиливает дипломатическое влияние США. Однако, на мой взгляд, если публично критиковать союзников и славословить оппонентов, результат будет прямо противоположным. Друзья отвернутся от Америки, а ее противники поднимут голову»[747].
Вот как охарактеризовал Обаму президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский: «Он не очень активен, потому что излишняя активность вредна. Он не желает грешить и делать резкие повороты, опасаясь утратить поддержку избирателей. Именно такие люди, как правило, доводят ситуацию до кризиса. Политическая воля пасует перед необходимостью компромисса. Обама – дитя Голливуда, и ведет он себя так, как и положено вести себя президенту США в фильме о глобальной катастрофе. Ну, например, как американский лидер в фильме «Пятый элемент». Проблема лишь в том, что Брюса Уиллиса не видно ни в администрации США, ни в руководстве вооруженных сил»[748].
Державы-конкуренты не откликнулись на заигрывания Обамы и президент был вынужден спуститься с небес на землю. Не совсем удачно складывались и его отношения с иностранными лидерами. Ведь в отличие от Буша, который мог искренне привязаться к своим визави и без тени притворства называть их друзьями, Обама к общению с главами других государств подходил утилитарно. Он был стопроцентным прагматиком и потому отказывался от персонификации внешней политики. Ему претили разговоры о «вечной дружбе», однако нельзя не признать, что именно от них во многом зависел успех дипломатии.
Прагматичная революция во внешней политике США завершилась, не успев начаться. И главным тому доказательством стал провал восточноазиатской стратегии президента. «Демократическая администрация унаследовала прекрасные отношения с Китаем»[749], – утверждал Дэвид Шамбо, директор центра китайских исследований в Университете Джорджа Вашингтона. Действительно, Буш-младший, который умудрился настроить против себя весь мир в Пекине считался вменяемым и ответственным партнером. И когда в Белом доме появился новый хозяин, призывающий к радикальным переменам китайская элита отнеслась к нему с большим подозрением (ведь в Азии, как известно, ценят не перемены, а постоянство). Тем не менее советники Обамы сформулировали новый «революционный» подход к отношениям с КНР, получивший название «стратегическое заверение». Смысл его заключался в том, что Америка обязуется не мешать китайскому восхождению к власти, в том случае если Китай согласится на «мирное сосуществование». Однако руководители КНР отвергли американский проект «большой двойки»: Соединенные Штаты так и не дождались их помощи в северокорейском и иранском вопросе, и, по признанию его советников, Обама был убежден, что с того момента, как он был избран президентом, «КНР только и делает, что бьет его по зубам».
Риторика ужесточилась, и все достижения Буша были сведены к нулю. В начале 2011 года в обращении к нации президент Обама сравнил ситуацию в отношениях с Поднебесной с «моментом спутника». «Более полувека назад СССР обошел Америку в космосе, запустив первый искусственный спутник Земли. Американское руководство находилось в растерянности, но в итоге сумело мобилизовать нацию и взять реванш»[750], – заявил он.
Прагматичный подход Обамы не сработал и в случае с Ираном. Настроения тегеранской элиты как нельзя лучше выразил верховный лидер Али Хаменеи: Обама протянул нам руку в «бархатной перчатке», – сказал он, – но под мягким бархатом скрывается железная десница». И после того как провалилась идея «большой сделки» с шиитским Ираном, Обаме ничего не оставалось как начать заигрывать с суннитскими радикалами.
Тем более что после арабской весны они стали ведущей политической силой во многих исламских странах. Бывших «террористов» команда Обамы быстро признала умеренными светскими лидерами, преследующими социальные и просветительские цели. Старых же союзников вроде Хосни Мубарака в Египте и Бен Али в Тунисе, Белый дом сдал без зазрения совести. «Мы слышим ваши голоса», – обратился Обама к толпе, беснующейся на площади Тахрир в феврале 2011 года и начал активно флиртовать с «Братьями-мусульманами». В Ливии американцы сделали все от них зависящее, чтобы к власти пришло правительство, на добрую половину состоящее из членов «Аль-Каиды». И не приходилось удивляться, что госсекретарь США оказывается в одном лагере с лидером этой террористической организации Айманом аз-Завахири, призывающим «львов Сирии» сбросить еретический режим Башара Асада.
Либералы утверждали, что Обама войдет в историю как прагматичный лидер, с честью завершивший затратные ближневосточные войны в период экономического кризиса». Но следовало понимать, что существует и обратная сторона медали. «Покидая Ирак и Афганстан, – писала The Washington Post, – США теряют влияние на Ближнем Востоке. И потому так смешно слушать славословия в адрес Обамы, который в действительности преподносит ключи от Багдада Ирану и оставляет Афганистан талибам и стоящим за ними пакистанским спецслужбам»[751].
Ни к чему не привели и «перезагрузочные» игры Обамы. С возвращением Путина в Кремль русофобы в американском Конгрессе окончательно закусили удила и изо всех сил начали проталкивать так называемый закон Магнитского, вводящий визовые санкции в отношении российских чиновников, причастных к нарушению прав человека. Малейший намек на то, что президент недостаточно тверд с Россией, чреват был для него огромными политическими рисками.
В противовес Обаме Ромни изображал из себя ястреба. «Президент пытается уверить нас в том, что у людей во всем мире общие интересы, но это не так, – провозгласил экс-губернатор Массачусетса в своей программной речи в военном колледже Citadel. – Есть те, кто сеет зло, а есть те, кто с ним борется». Главным злодеем и геополитическим соперником № 1 Ромни объявил Владимира Путина и пообещал ликвидировать его «империю зла». «Перезагрузка должна закончиться»[752], – отметил он.
И в Америке этот вердикт, ни у кого уже не вызывал сомнений. «В дипломатических и военных кругах, – писал The Nation, – Обаму воспринимают как настоящего фрика, и если он действительно хотел совершить прагматичную революцию в американской внешней политике, ему не следовало, по крайней мере, назначать на пост госсекретаря амбициозную Хиллари Клинтон»[753]. Однако политологи, симпатизирующие американскому президенту, говорили, что не стоит вешать на него всех собак. «Обама демонстрирует политическую волю ровно настолько, насколько это позволяет ему американская система, – утверждал профессор лондонского Королевского колледжа Анатоль Ливен. – Никто бы не разрешил президенту проводить кардинально другую линию на Ближнем Востоке или осуществить реальную перезагрузку в отношениях с Россией. Законодатели просто наложили бы вето на его решения. А если бы даже необходимые законы удалось протащить через Конгресс, их отменил бы Верховный суд США. Так что, проблема не в отсутствии воли у президента. Проблема в политической системе, которая ведет к параличу власти в Вашингтоне. После 11 сентября ситуация изменилась, на какое-то время у президента появились реальные полномочия, но это был очень небольшой отрезок времени»[754].
Конечно, Обама надеялся, что вторые четыре года будут для него более успешными и у него, наконец, появится возможность застолбить себе место в истории. Но были ли основания для таких надежд? «Великого президента из Обамы не выйдет и все реформы так и останутся на бумаге, – говорили эксперты. – Ведь демократам в лучшем случае удастся сохранить за собой Сенат, республиканцы же будут контролировать Палату представителей и блокировать все инициативы президента. Америка так и не выйдет из политического тупика: парализованный Конгресс не будет принимать законы, а Белый дом – генерировать новые идеи». Формула «раздельного правления» становилась частью американской политической культуры. И хотя в 2008 году демократам удалось завоевать большинство в конгрессе и провести своего кандидата в президенты, затем все вернулось на круги своя и мы вновь стали наблюдать ставшую уже традиционной систему «перекрестного контроля».
«Во время второго президентского срока, – отмечал американский политолог Харлан Уллман, – оппозиция не позволит Обаме протолкнуть через Конгресс налоговую реформу. Маловероятно, также, что он начнет вдруг проводить «политику затягивания поясов» и резко сократит государственные расходы. А это значит, что восстановления экономики не предвидится. Выходом из положения не является и победа Митта Ромни, ведь, как и Обама в 2008 году, он не очень хорошо подготовлен к работе в Белом доме»[755]. Таким образом, при любом раскладе Америку ждут годы застоя и стагнации, а, может быть, и вторая волна кризиса, о которой постоянно твердят экономисты. В результате, в общественном сознании могут произойти колоссальные изменения. Ведь очевидно, что если уровень жизни средних американцев резко понизится, жизнерадостная в прошлом нация легко превратится в нацию пессимистов.
Примечания
1
John Heilemann, Mark Halperin Game Change: Obama and the Clintons, McCain and Palin, and the Race of a Lifetime. NY, 2010.
(обратно)2
Интервью автора с профессором лондонского Королевского колледжа Анатолем Ливеным. 2012. Май. 30.
(обратно)3
The Wall Street Journal. 2009. March. 18.
(обратно)4
David Mendell, Obama: From Promise to Power. NY. 2008.
(обратно)5
Theodore Sorensen, Barack Obama: the new JFK. // Guardian. 2007. July. 25.
(обратно)6
Edward Kennedy, Obama Endorsement Speech. 2008. January. 28 // http:// tedkennedy.org
(обратно)7
Barack Obama, Speech at National Democratic National Convention in Boston, Mass. 2004. July. 27
(обратно)8
Barack Obama. The Audacity of Hope. NY. 2006.
(обратно)9
The American Thinker. 2008. February. 12.
(обратно)10
The Chicago Tribune. 2008. March. 11.
(обратно)11
Obamamania verges on obsession. 2008. February. 20. // /
(обратно)12
The Ney York Times. 2007. February. 21.
(обратно)13
Matt Baretto, The Latino vote is pro-Clinton, not anti-Obama. // Los Angeles Times. 2008. February. 7.
(обратно)14
/
(обратно)15
Karl Rove on Campaign Strategy //The Washington Post. 2008. May. 7.
(обратно)16
(обратно)17
World Net Weekly. 2007. September. 10.
(обратно)18
Matt Welch, McCain: The Myth of a Maverick. NY. 2007.
(обратно)19
Интервью автора с А. Уткиным. 21 марта 2008.
(обратно)20
The New York Post. 2008. June. 11.
(обратно)21
The Forbes. 2008. July. 28
(обратно)22
The New York Times. 2008. January. 14.
(обратно)23
John Mccain, An Enduring Peace Built on Freedom. // Foreign Affairs. November-December. 2007.
(обратно)24
McCain-Obama debate transcript // Los Angeles Times. 2008. September. 26.
(обратно)25
Johnatan Alter. Scoping Out Obama vs. McCain // Newsweek. 2008. February. 28.
(обратно)26
World Net Weekly. 2008. January. 8.
(обратно)27
Wall Street Journal. 2008. July. 19.
(обратно)28
The New York Times. 2008. August. 28.
(обратно)29
The New York Post. 2008. August. 29.
(обратно)30
The Denver Post. 2008. August. 30.
(обратно)31
CBN News. 2008. August. 31.
(обратно)32
Citizen Link. 2008. August. 29
(обратно)33
Fox News. 2008. September. 6
(обратно)34
The Houston Chronicle. 2008. September. 3.
(обратно)35
The New York Times. 2008. September. 16.
(обратно)36
Ibid.
(обратно)37
Ibid.
(обратно)38
Интервью автора с президентом Института Ближнего Востока Евгением Сатановским. 2012. Май. 8.
(обратно)39
Kennedy Paul,The unintended consequences. //The New York Times. 2008. October. 7
(обратно)40
McCain-Obama debate transcript // Los Angelos Times. 2008. September. 26.
(обратно)41
Интервью автора с профессором Йелльского университета Джоном Батлером. 2008. Сентябрь. 15.
(обратно)42
Chicago Tribune. 2008. November. 5.
(обратно)43
The International Herald Tribune. 2008. November. 17.
(обратно)44
USA Today. 2008. November. 19.
(обратно)45
The International Herald Tribune. 2008. November. 11.
(обратно)46
The New York Times. 2008. August. 3.
(обратно)47
The Los Angeles Times. 2007. January. 17.
(обратно)48
The Prospect. 2008. July. 14.
(обратно)49
The Spectator. 2008. November. 28.
(обратно)50
Congressional Record. 110th Congress (2007–2008).
(обратно)51
The Los Angeles Times. 2009. January. 17.
(обратно)52
The Boston Globe. 2009. January. 22.
(обратно)53
Francis Fukuyama. A New era. // The American Interest. 2008. November. 9.
(обратно)54
The Nation. 2008. December. 10.
(обратно)55
Ibidem.
(обратно)56
The New York Times. 2008. December. 3.
(обратно)57
The Nation. 2008. December. 10.
(обратно)58
The Economist. 2008. December. 16.
(обратно)59
The New York Times. 2008. November. 29.
(обратно)60
Ibidem.
(обратно)61
The Washington Post. 2008. December. 15.
(обратно)62
Chicago Tribune. 2009. February. 17.
(обратно)63
/
(обратно)64
The American Thinker. 2009. March. 4.
(обратно)65
The Congressional Record 111 th Congress (2009–2010)
(обратно)66
The New Republic. 2009. February. 6.
(обратно)67
/
(обратно)68
The Economist. 2009. February. 3.
(обратно)69
The International Herald Tribune. 2009. January. 31.
(обратно)70
The Washington Post. 2009. February. 8.
(обратно)71
The Congressional Record 111 th Congress (2009–2010)
(обратно)72
The Newsweek International. 2009. May. 6.
(обратно)73
Интервью автора с проректором МГИМО Алексеем Богатуровым. 2009. Май. 11.
(обратно)74
The New York Times. 2009. September. 18.
(обратно)75
Интервью автора с американским политологом Харланом Уллманом. 2009. Сентябрь. 21.
(обратно)76
The Washington Post. 2009. September. 26.
(обратно)77
The New York Times. 2009. October. 18.
(обратно)78
The Guardian. 2009. September. 16.
(обратно)79
Интервью автора с американским политологом Харланом Уллманом. 2009. Сентябрь. 21.
(обратно)80
The New Republic. 2009. October. 9.
(обратно)81
The Congressional Record 111 th Congress (2009–2010)
(обратно)82
(обратно)83
Paul Waldman. When Hope meets reality. // The American Prospect. 2009. November. 3.
(обратно)84
The Boston Globe. 2009. October. 23.
(обратно)85
/
(обратно)86
The Congressional Record 111th Congress (2009–2010)
(обратно)87
Интервью автора с проректором МГИМО Алесеем Богатуровым. 2009. Ноябрь. 15.
(обратно)88
The Congressional Record 111 th Congress (2009–2010)
(обратно)89
The Prospect. 2009. December. 27.
(обратно)90
/
(обратно)91
Интервью автора с заместителем главного редактора газеты «Завтра» Александром Нагорным. 2012. Февраль 16.
(обратно)92
Интервью автора со старшим научным сотрудником ИНИОН РАН Сергеем Костяевым. 2012. Февраль. 19.
(обратно)93
Интервью автора с заместителем главного редактора газеты «Завтра» Александром Нагорным. 2012. Февраль 16.
(обратно)94
The New York Times. 2010. January. 20.
(обратно)95
The Congressional Record 111th Congress (2009–2010)
(обратно)96
Интервью автора с проректором МГИМО Алексеем Богатуровым. 2009. Ноябрь. 15.
(обратно)97
The Neewsweek. 2009. November. 22.
(обратно)98
The American Thinker. 2009. December. 15.
(обратно)99
James Carville. 40 More Years: How the Democrats Will Rule the Next Generation. NY. 2008.
(обратно)100
The Forein Policy. 2010. March/April.
(обратно)101
The Boston Globe. 2010. January. 24.
(обратно)102
Time Magazine for Kids. 2009. December.
(обратно)103
The Congressional Record 111 th Congress (2009–2010)
(обратно)104
/
(обратно)105
The Weekly Standard. 2010. February. 12.
(обратно)106
// 2010. January. 22.
(обратно)107
The Huffington Post. 2010. January. 25.
(обратно)108
David Plouffe. November doesn't need to be a nightmare for Democrats. // The Washington Post. 2010. January. 24.
(обратно)109
The Washington Post. 2010. May. 12.
(обратно)110
/
(обратно)111
The Congressional Record 111 th Congress (2009–2010)
(обратно)112
The Washington Post. 2010. May. 18.
(обратно)113
The Daily News. 2010. January. 28.
(обратно)114
/
(обратно)115
The Huffington Post. 2010. May. 12.
(обратно)116
The New York Times. 2010. September. 3.
(обратно)117
The Time. 2010. August. 20.
(обратно)118
The New York Times. 2010. August. 13.
(обратно)119
The Boston Globe. 2010. August. 31.
(обратно)120
The Washington Post. 2010. September. 20.
(обратно)121
Bob Woodward. Obama's wars. NY. 2010. P. 117.
(обратно)122
Michael Hastings. Runaway General // Rolling Stone. 2010. June. 22.
(обратно)123
Bob Woodward. Obama’s wars. NY. 2010. P. 93.
(обратно)124
Samuel Huntington. The Soldier and the State: The Theory and Politics of Civil-Military Relations. NY. 1957.
(обратно)125
Ibidem.
(обратно)126
The American Thinker. 2010. September. 16.
(обратно)127
The New York Times. 2010. August. 25.
(обратно)128
Bob Woodward. Obama's wars. NY. 2010. P. 111.
(обратно)129
The New York Times. 2010. November. 4.
(обратно)130
The Washington Post. 2010. November. 5.
(обратно)131
The Economist. 2010. October. 24.
(обратно)132
/
(обратно)133
The Wall Street Journal. 2010. November. 12.
(обратно)134
The American Thinker. 2010. November. 18.
(обратно)135
/
(обратно)136
The American Thinker. 2010. October. 29.
(обратно)137
The Boston Globe. 2010. November. 6.
(обратно)138
Интервью автора с американским политологом Харланом Уллманом. 2010. Ноябрь. 18.
(обратно)139
The National Journal. 2010. October. 21.
(обратно)140
The New York Times. 2010. November. 6.
(обратно)141
The New York Times. 2010. October. 22.
(обратно)142
The Washington Post. 2010. August. 13.
(обратно)143
Интервью автора с американским политологом Хараланом Уллманом. 2010. Ноябрь. 18.
(обратно)144
/
(обратно)145
The Economist. 2010. November. 6.
(обратно)146
Интервью автора со старшим директором консалтинговой фирмы Kissinger Associates Томасом Грэмом. 2010. Август. 15.
(обратно)147
The New York Times. 2011. January. 8.
(обратно)148
/
(обратно)149
The Huffington Post. 2011. October. 18.
(обратно)150
The Los Angeles Times. 2011. September. 27.
(обратно)151
The Washington Times. 2004. June. 20.
(обратно)152
The American Thinker. 2011. September. 25.
(обратно)153
The Washington Post. 2011. November. 10.
(обратно)154
-is-bill-clinton-up-to-2/
(обратно)155
The New York Times. 2011. June. 21.
(обратно)156
The Chicago Tribune. 2011. October. 18.
(обратно)157
The Chicago Tribune. 2011. October. 18.
(обратно)158
The Nation. 2011. November. 24.
(обратно)159
Интервью автора с руководителем компании экспертного консультирования «НЕОКОН» Михаилом Хазиным. 2012. Июль. 11.
(обратно)160
Reuters. 2011. October. 22.
(обратно)161
The Exeminer. 2011. December. 1.
(обратно)162
The Wall Street Journal. 2011. September. 29.
(обратно)163
The Washington Examiner. 2012. January. 22.
(обратно)164
The New York Times. 2011. May. 19.
(обратно)165
The Washington Post. 2011. June. 4.
(обратно)166
The Patriot Post. 2011. July. 27.
(обратно)167
The Wall Street Journal. 2011. August. 16.
(обратно)168
Ibidem.
(обратно)169
The Economist. 2011. September. 22.
(обратно)170
The World Magazine. 2011. June. 9.
(обратно)171
The American Thinker. 2011. October. 17.
(обратно)172
The Washington Examiner. 2012. January. 12.
(обратно)173
The Economist. 2011. October. 6.
(обратно)174
The Wall Street Journal. 2012. February. 14.
(обратно)175
Ibidem.
(обратно)176
The New Republic. 2011. July. 8.
(обратно)177
Rick Perry. Fed Up! Our Fight to Save America from Washington. NY. 2010.
(обратно)178
The American Thinker. 2011. July. 18.
(обратно)179
The New York Times. 2011. August. 28.
(обратно)180
CNN. 2011. June. 25.
(обратно)181
The Wall Street Journal. 2011. July. 17.
(обратно)182
The New Republic. 2011. October. 11.
(обратно)183
/
(обратно)184
The New York Times. 2012. February. 16.
(обратно)185
The American Thinker. 2012. January. 26.
(обратно)186
The Independent. 2012. March. 3.
(обратно)187
Chicago Tribune. 2012. March. 18.
(обратно)188
The Forbes. 2012. January. 21.
(обратно)189
The New York Times. 2012. March. 9.
(обратно)190
Der Spiegel. 2012. Januar. 17.
(обратно)191
The Nation. 2011. July. 3.
(обратно)192
The Foreign Affairs. 2011. November/December
(обратно)193
The Wall Street Journal. 2011. October. 7.
(обратно)194
Ibidem.
(обратно)195
South Carolina GOP Debates // The New York Times. 2011. November. 12.
(обратно)196
South Carolina GOP Debates // The New York Times. 2011. November. 12.
(обратно)197
Ibidem.
(обратно)198
The Wall Street Journal. 2011. June. 25.
(обратно)199
/
(обратно)200
Christian Science Monitor. 2011. June. 27.
(обратно)201
CNN. 2011. October. 8.
(обратно)202
South Carolina GOP Debates // The New York Times. 2011. November. 12.
(обратно)203
The Washington Post. 2012. April. 7.
(обратно)204
The Wall Street Journal. 2012. March. 1.
(обратно)205
The Wall Street Journal. 2012. April. 23.
(обратно)206
/
(обратно)207
The New York Times. 2012. March. 2.
(обратно)208
The American Thinker. 2012. March. 10.
(обратно)209
The Huffington Post. 2012. May. 8.
(обратно)210
The Economist. 2012. May. 12.
(обратно)211
The Nation. 2012. April. 25.
(обратно)212
The Atlantic. 2012. February. 3.
(обратно)213
The American Thinker. 2012. January. 13.
(обратно)214
The Economist. 2012. February. 1.
(обратно)215
(обратно)216
The American Thinker. 2012. May. 10.
(обратно)217
Ibidem.
(обратно)218
The New York Times. 2012. June.4.
(обратно)219
The American Thinker. 2012. April. 9.
(обратно)220
Интервью автора с председателем Исламского комитета России Гейдаром Джемалем. 2012. Май. 13.
(обратно)221
The Washington Post. 2008. February. 14.
(обратно)222
The Forein Affairs. 2007. July-August.
(обратно)223
The New Republic. 2008. November. 23.
(обратно)224
The Independent. 2008. November. 18.
(обратно)225
The New York Times. 2008. November. 28.
(обратно)226
/
(обратно)227
(обратно)228
The Wall Street Journal. 2009. March. 18.
(обратно)229
Michael J. Green Advising the New U.S. President // Asia Policy, January 2009).
(обратно)230
The Financial Times. 2008. November. 10.
(обратно)231
The American Thinker. 2008. November. 14.
(обратно)232
The Washington Times. 2009. February. 26.
(обратно)233
Ibidem.
(обратно)234
The China Quarterly. V. 195.2009. February.
(обратно)235
Xinhua. 2009. January. 14.
(обратно)236
The Financial Times. 2009. January. 13.
(обратно)237
Интервью автора с профессором МГИМО Сергеем Лузянином. 2009. Февраль. 23.
(обратно)238
Там же.
(обратно)239
The American Thinker. 2009. March. 2.
(обратно)240
/
(обратно)241
/
(обратно)242
The New York Times. 2009. November. 17.
(обратно)243
The Foreign Affairs. 2009. November/December.
(обратно)244
The Washington Post. 2009. October. 25.
(обратно)245
(обратно)246
William Rockhill.The Land of the Lamas: Notes of a Journey Through China, Mongolia and Tibet. 1891.
(обратно)247
Edgar Snow. Red Star over China. 1944.
(обратно)248
The American Spectator. 2009. June.
(обратно)249
Financial Times. 2009. November. 23.
(обратно)250
Survival – Vol 51. № 5.2009. October-November.
(обратно)251
(обратно)252
Political Science Quarterly, vol. 124. № 3.2009. Autumn.
(обратно)253
Интервью автора с президентом Института экономической стратегии Клайдом Престовицем. 2010. Октябрь. 15.
(обратно)254
The Washington Post. 2010. March. 21.
(обратно)255
International Studies Quarterly. 2010. Winter.
(обратно)256
Ibidem.
(обратно)257
Susan Shrink. China: Fragile Superpower: How China's Internal Politics Could Derail Its Peaceful Rise. NY. 2007.
(обратно)258
Gerald Segal. Does China matter? // Foreign Affairs. 1999. September/October.
(обратно)259
International Studies Quarterly. 2010. Winter.
(обратно)260
/
(обратно)261
Nial Fergusson What «Chimerica» Hath Wrought // The American Interest. 2009. January-February.
(обратно)262
(обратно)263
The New York Times. 2009. December. 6.
(обратно)264
(обратно)265
The Survival – Vol 51. № 5.2009. October-November.
(обратно)266
Niall Fergusson. Avoiding the Duel of the Century With China // The Newsweek. 2011. May. 16.
(обратно)267
(обратно)268
The Washington Post. 2010. February. 8.
(обратно)269
The Guardian. 2010. February. 11.
(обратно)270
Forein Affairs. 2010. January-February.
(обратно)271
Интервью автора с президентом Института экономической стратегии Клайдом Престовицем. 2010. Октябрь. 15.
(обратно)272
The American Thinker. 2010. September. 26.
(обратно)273
/
(обратно)274
The Atlantic. 2010. September-October.
(обратно)275
The New York Times. 2011. January. 23.
(обратно)276
The American Thinker. 2011. January. 18.
(обратно)277
Mark Leonard. What does China think? L., 2008.
(обратно)278
The American Thinker. 2011. January. 18.
(обратно)279
Mark Leonard. What does China think? L., 2008.
(обратно)280
Ibidem.
(обратно)281
The American Thinker. 2012. January. 17.
(обратно)282
(обратно)283
Der Tagesspiegel. 2011. Juli. 13.дд
(обратно)284
The Financial Times. 2011. May. 23.
(обратно)285
The Foreign Policy. 2011. October. 18.
(обратно)286
The Atlantic. 2011. May. 10.
(обратно)287
Niall Fergusson. Avoiding the Duel of the Century With China // The Newsweek. 2011. May. 16.
(обратно)288
The Independent. 2012. January. 13.
(обратно)289
The Times of India. 2009. January. 21.
(обратно)290
The Washington Post. 2012. February. 7.
(обратно)291
The Foreign Affairs. 2011. September-October.
(обратно)292
«Жэньминь жибао». 2012. Январь. 22.
(обратно)293
Там же.
(обратно)294
The Foreign Policy. 2011. July-August.
(обратно)295
The Global Times. 2012. February. 3.
(обратно)296
Интервью автора с президентом Института экономической стратегии Клайдом Престовицем. 2010. Октябрь. 15.
(обратно)297
Интервью автора с профессором Гарварда Нилом Фергюссоном. 2009. Август. 19.
(обратно)298
Интервью автора с американским политологом Харланом Уллманом. Февраль. 12.
(обратно)299
(обратно)300
The Stratfor. 2009. January. 21.
(обратно)301
The Boston Globe. 2009. February. 10.
(обратно)302
The Financial Times. 2008. October. 13.
(обратно)303
The Newsweek. 2009. June. 15.
(обратно)304
The New Republic. 2009. November. 28.
(обратно)305
The Congressional Record 111th Congress (2009–2010)
(обратно)306
(обратно)307
The Boston Globe. 2009. October. 11.
(обратно)308
The Huffington Post. 2009. September. 3.
(обратно)309
The New York Times. 2009. December. 16.
(обратно)310
The Washington Post. 2009. September. 21.
(обратно)311
The Washington Post. 2009. May. 4.
(обратно)312
The Nation. 2009. November. 24,
(обратно)313
The Economist. 2009. November. 17.
(обратно)314
Selig Harrison. The Domestic Politics and Foreign Relations of Pakistan after 9/11. NY. 2005.
(обратно)315
Pervez Musharaf. In the line of fire. Islamabad. 2006.
(обратно)316
Hamid Gul. Frontline Pakistan. Islamabad. 2003.
(обратно)317
The Time. 2009. November. 17.
(обратно)318
The Telegraph. 2008. October. 2.
(обратно)319
(обратно)320
Der Spiegel. 2009. December. 13.
(обратно)321
Ibidem.
(обратно)322
The National Review. 2010. January. 9.
(обратно)323
(обратно)324
The Washington Post. 2010. February. 15.
(обратно)325
The Financial Times. 2010. June. 28.
(обратно)326
Интервью автора с американским политологом Харланом Уллманом. 2010. Февраль. 20.
(обратно)327
Интервью автора с заведующим сектором Афганистана Института востоковедения РАН Виктором Коргуном. 2010. Февраль. 23.
(обратно)328
The Prospect. 2010. February. 27.
(обратно)329
Интервью автора с российским экспертом по Афганистану Петром Гончаровым. 2010. Апрель. 7.
(обратно)330
Интервью автора с американским политологом Харланом Уллманом. 2010. Февраль. 20.
(обратно)331
The New York Times. 2010. April. 3.
(обратно)332
Ibidem.
(обратно)333
The Huffington Post. 2010. June. 11.
(обратно)334
Michael Hastings. Runaway General // Rolling Stone. 2010. June. 22.
(обратно)335
The National Review. 2010. July. 8.
(обратно)336
The Washington Independent. 2008. November. 13.
(обратно)337
Joint Forces Quarterly. 2010. Summer.
(обратно)338
/
(обратно)339
The Times. 2011. April. 8.
(обратно)340
The Washington Post. 2011. June. 5.
(обратно)341
The Economist. 2011. May. 13.
(обратно)342
The Stratfor. 2011. July. 19.
(обратно)343
The National Interest. 2011. May. 23.
(обратно)344
Андрей Снесарев. Афганистан. Географическо-политический очерк. М., 1921.
(обратно)345
Sherard Cowper-Coles. Cables from Kabul: The inside story of the West's Afghanistan campaign. L., 2011.
(обратно)346
Henry Kissinger How to exit Afghanistan without creating wider conflict // The Washington Post. 2011. June. 8.
(обратно)347
The Prospect. 2011. July. 1.
(обратно)348
Armed Forces and Society. 2011. Spring.
(обратно)349
The Wall Street Journal. 2011. September. 19.
(обратно)350
The National Interest. 2011. March. 25.
(обратно)351
Asia Times. 2012. January. 10.
(обратно)352
/
(обратно)353
The American Thinker. 2011. August. 6.
(обратно)354
Газета выборча. 2009. March. 10.
(обратно)355
(обратно)356
(обратно)357
The Wall Street Journal. 2009. June. 13.
(обратно)358
The Washington Post. 2009. May. 6.
(обратно)359
The American Spectator. 2009. November. 30.
(обратно)360
(обратно)361
The Foreign Affairs. 2009. September-October.
(обратно)362
(обратно)363
The Los Angeles Times. 2009. November. 6.
(обратно)364
Ibidem.
(обратно)365
(обратно)366
Ibidem.
(обратно)367
The Chicago Tribune. 2009. November. 20.
(обратно)368
The Daily Telegraph. 2010. June. 9.
(обратно)369
The New York Post. 2010. June. 13.
(обратно)370
The Guardian. 2010. June. 17.
(обратно)371
The Congressional Record 111th Congress (2009–2010)
(обратно)372
The Times. 2010. June. 29.
(обратно)373
The National Review. 2009. November. 3.
(обратно)374
The Daily Mail. 2010. April. 26.
(обратно)375
Интервью автора с профессором Гарварда Нилом Фергюссоном. 2009. Октябрь. 17.
(обратно)376
/
(обратно)377
Интервью автора с профессором Йельского университета Полом Кеннеди. 2010. Апрель. 20.
(обратно)378
Интервью автора с профессором Лондонской школы экономики Домиником Ливеном. 2004. Октябрь. 25.
(обратно)379
Nikolas Sarkozy. Testimony: France, Europe, and the World in the Twenty-First Century. L., 2007.
(обратно)380
Le Mond. 2008. Dec. 18.
(обратно)381
Итервью автора с бывшим депутатом Национальной ассамблеи Рене Андре. 2009. Мартю 15.
(обратно)382
The Associated Press. 2009. February. 27.
(обратно)383
The Foreign Affairs. 2009. January/February.
(обратно)384
Интервью автора с основателем Французского института международных отношений Домиником Моизи. 2009. Апрель. 2.
(обратно)385
The Washington Post. 2003. October. 18.
(обратно)386
The Economist. 2008. November. 10.
(обратно)387
The Foreign Affairs. 2009. May-June.
(обратно)388
The American Conservative. 2008. August. 29.
(обратно)389
Ibidem.
(обратно)390
Der Spiegel. 2010. Nov. 18.
(обратно)391
Robert Kagan. Of Paradise and Power. America and Europe in the New World Order. NY., 2003.
(обратно)392
The Nation. 2010. October. 26.
(обратно)393
-treasury.gov.uk
(обратно)394
Der Spiegel. 2010. Sept. 21.
(обратно)395
The American Thiker. 2010. November. 3.
(обратно)396
The Washington Post. 2010. September. 14.
(обратно)397
Ibidem.
(обратно)398
Andrew Bacevich. // The Foreign Policy. 2010. March/April.
(обратно)399
Der Spiegel. 2010. October. 24.
(обратно)400
Hurriyet. 2010. December. 4.
(обратно)401
The Economist. 2009. February. 20.
(обратно)402
The Guardian. 2011. July. 26.
(обратно)403
The Washington Post. 2011. May. 12.
(обратно)404
Ibidem.
(обратно)405
The Washington Post. 2011. May. 31.
(обратно)406
The International Herald Tribune. 2011. June. 18.
(обратно)407
The Guardian. 2011. May. 29.
(обратно)408
The Washington Post. 2011. May. 31.
(обратно)409
The New York Times. 2011. May. 30.
(обратно)410
Ibidem.
(обратно)411
(обратно)412
The American Thinker. 2011. May. 30.
(обратно)413
Berliner Zeitung. 2011. Jun. 2.
(обратно)414
(обратно)415
La Stampa. 2011. Nov. 5.
(обратно)416
(обратно)417
The Washington Post. 2010. July. 24.
(обратно)418
The New York Times. 2011. June. 3.
(обратно)419
Corriere Della Sera. 2011. Sept. 19.
(обратно)420
La Stampa. 2011. November. 27.
(обратно)421
Liberation. 2010. Apr. 17.
(обратно)422
Thilo Sarrazin. Europa braucht den Euro nicht. München 2012
(обратно)423
(обратно)424
Интервью автора с профессором Букингемского университета Энтони Глиссом. 2012. Июнь. 1.
(обратно)425
-2009
(обратно)426
Vali Nasr. The Shia Revival: How Conflicts within Islam Will Shape the Future. NY., 2006.
(обратно)427
(обратно)428
(обратно)429
The Washington Post. 2009. February. 5.
(обратно)430
Ibidem.
(обратно)431
Ray Takeyh. Hidden Iran: Paradox and Power in the Islamic Republic. NY., 2006.
(обратно)432
Интервью автора со старшим научным сотрудником Института востоковедения РАН Александром Лукояновым. 2009. Февраль. 21.
(обратно)433
Robert Baer. The Devil We Know: Dealing with the New Iranian Superpower. NY. 2008.
(обратно)434
Foreign Affairs. 2009. March-April.
(обратно)435
The New York Times. 2009. December. 22.
(обратно)436
The Washington Times. 2009. January. 17.
(обратно)437
Интервью автора со старшим научным сотрудником Института востоковедения РАН Александром Лукояновым. 2009. Февраль. 21.
(обратно)438
Интервью автора с президентом Института Ближнего Востока Евгением Сатановским. 2009. Июнь. 12.
(обратно)439
Ray Takeyh. Hidden Iran: Paradox and Power in the Islamic Republic. NY., 2006.
(обратно)440
Ibidem.
(обратно)441
The Times. 2009. March. 13.
(обратно)442
(обратно)443
The Economist. 2010. April. 14.
(обратно)444
The Washington Post. 2010. April. 16.
(обратно)445
Ibidem.
(обратно)446
Ibidem.
(обратно)447
The Financil Times. 2010. June 17.
(обратно)448
The Congressional Record 111th Congress (2009–2010)
(обратно)449
The Wall Street Journal. 2010. June. 20.
(обратно)450
The Global Times. 2010. June. 11.
(обратно)451
/
(обратно)452
The New York Times. 2010. June. 10.
(обратно)453
The Washington Post. 2010. June. 13.
(обратно)454
The New York Times. 2010. February. 24.
(обратно)455
Ibidem.
(обратно)456
Ibidem.
(обратно)457
The Washington Post. 2010. March. 12.
(обратно)458
Ibidem.
(обратно)459
The Guardian. 2010. October. 27.
(обратно)460
The Economist. 2010. March. 12.
(обратно)461
The Boston Globe. 2010. March 18.
(обратно)462
The Forbes. 2010. March. 14.
(обратно)463
The Washington Post. 2010. March. 23.
(обратно)464
Ibidem.
(обратно)465
Haarez. 2010. March. 26..
(обратно)466
(обратно)467
Ibidem.
(обратно)468
Интервью автора с президентом Института Ближнего Востока Евгением Сатановским. 2010. Март. 29.
(обратно)469
The Congressional Record 111 th Congress (2009–2010)
(обратно)470
The Nation. 2010. March. 16.
(обратно)471
The Guardian. 2008. December. 24.
(обратно)472
Haarez. 2009. February. 18.
(обратно)473
The Economist. 2010. September. 18.
(обратно)474
«Гаалей ЦАХАЛ». 2010. Март. 17.
(обратно)475
/
(обратно)476
(обратно)477
Ibidem.
(обратно)478
The Newsweek. 2009. November. 13.
(обратно)479
(обратно)480
(обратно)481
The National Interest. 2010. March. 23.
(обратно)482
The Foreign Policy. 2010. January-February.
(обратно)483
The Guardian. 2010. July. 27.
(обратно)484
The Foreign Policy. 2010. January-February.
(обратно)485
(обратно)486
Reuters. 2011. January. 28.
(обратно)487
The Economist. 2011. January. 30.
(обратно)488
The Nation. 2011. February. 4.
(обратно)489
CNN. 2003. April. 3.
(обратно)490
The Washington Post. 2011. February. 8.
(обратно)491
The National Review. 2011. February. 6.
(обратно)492
Der Spiegel. 2011. Feb. 9.
(обратно)493
The Guardian. 2011. February. 6.
(обратно)494
(обратно)495
The New York Times. 2011. February. 12.
(обратно)496
The Stratfor. 2011. March. 2.
(обратно)497
The American Thinker. 2011. March. 10.
(обратно)498
The Foreign Affairs. 2011. March-April.
(обратно)499
The Economist. 2011. February. 28.
(обратно)500
The Stratfor. 2011. March. 19.
(обратно)501
The Economist. 2011. March. 12.
(обратно)502
Der Spiegel. 2011. Mar. 8.
(обратно)503
The American Thinker. 2011. February. 21.
(обратно)504
The Washington Post. 2011. February. 27.
(обратно)505
The Foreign Affairs. 2011. March-April.
(обратно)506
Интервью автора с президентом Института Ближнего Востока Евгением Сатановским. 2011. Апрель. 11.
(обратно)507
The Foreign Affairs. 2011. March-April.
(обратно)508
The Guardian. 2011. March. 6.
(обратно)509
Гюстав Лебон. Психология народов и массю М., 1995.
(обратно)510
The Daily Telegraph. 2011. March. 25.
(обратно)511
The Nation. 2011. April. 4.
(обратно)512
The Prospect. 2011. March. 28.
(обратно)513
Luis Martinez. The Libyan Paradox. NY., 2007.
(обратно)514
Интервью автора с бывшим послом СССР в Ливии Павлом Акоповым. 2011. Март.11.
(обратно)515
Интервью автора с бывшим послом СССР в Ливии Олегом Пересыпкиным. 2011. Март. 12.
(обратно)516
Congressional Record. 112th Congress (2011–2012).
(обратно)517
Los Angeles Times. 2011. March. 20.
(обратно)518
The New York Times. 2011. March. 22.
(обратно)519
(обратно)520
The New York Times. 2011. March. 22.
(обратно)521
The Atlantic. 2011. March. 28.
(обратно)522
The Wall Street Journal. 2011. March. 25.
(обратно)523
The Times. 2011. April. 11.
(обратно)524
The Daily Telegraph. 2011. April. 2.
(обратно)525
The Guardian. March. 24.
(обратно)526
The Spectator. 2011. April. 10.
(обратно)527
Reuters. 2011. March. 21.
(обратно)528
The American Conservative. 2011. March. 29.
(обратно)529
/
(обратно)530
Congressional Record. 112th Congress (2011–2012).
(обратно)531
The Washington Post. 2011. April. 4.
(обратно)532
The Newsweek International. 2011. April. 18.
(обратно)533
The Economist. 2011. April. 14.
(обратно)534
Der Spiegel. 2011. Apr. 5.
(обратно)535
Congressional Record. 112th Congress (2011–2012).
(обратно)536
The Huffington Post. 2011. June. 4.
(обратно)537
2011. June. 10.
(обратно)538
The Economit. 2011. June. 16.
(обратно)539
Press TV. 2011. April. 17.
(обратно)540
The American Thinker. 2011. April. 17.
(обратно)541
The Economist. 2011. April. 21.
(обратно)542
The Nation. 2011. May. 6.
(обратно)543
AI Jazeera. 2011. February. 28.
(обратно)544
The Economist. 2011. April. 24.
(обратно)545
The Foreign Affairs. 2011. May-June.
(обратно)546
Associated Press. 2011. May. 17.
(обратно)547
(обратно)548
Haaretz. 2011. April. 18.
(обратно)549
The Foreign Affairs. 2011. May-June.
(обратно)550
The Economist. 2011. May. 7.
(обратно)551
The Daily Telegraph. 2011. May. 18.
(обратно)552
(обратно)553
Liberation. 2011. Mai. 28.
(обратно)554
Congressional Record. 112th Congress (2011–2012).
(обратно)555
The Nation. 2011. June. 6.
(обратно)556
The Foreign Affairs. 2011. May-June.
(обратно)557
Andrew Tabler. In the Lion's Den: An Eyewitness Account of Washington's Battle with Syria. Washington. 2011.
(обратно)558
The Forein Affairs. 2011. May-June.
(обратно)559
The Guardian. 2011. June. 11.
(обратно)560
The Daily Beast. 2011. May. 8.
(обратно)561
The New York Post. 2011. May. 3.
(обратно)562
The American Thinker. 2011. May. 5.
(обратно)563
The Washington Post. 2011. May. 4.
(обратно)564
The New York Times. 2011. May. 13.
(обратно)565
The Daily Beast. 2011. May. 4.
(обратно)566
Bruce Lawrence. Messages to the world: the statements of Osama Bin Laden. 2005.
(обратно)567
Umberto Eco. Turning Back the Clock: Hot Wars and Media Populism. 2008.
(обратно)568
Gore Vidal. Perpetual War for Perpetual Peace. 2002.
(обратно)569
The New York Times. 2011. May. 18.
(обратно)570
The Daily Beast. 2011. May. 4.
(обратно)571
The New York Times. 2011. May. 18.
(обратно)572
The Washington Post. 2011. May. 8.
(обратно)573
The Daily Beast. 2011. May. 4.
(обратно)574
The American Thinker. 2011. May. 24.
(обратно)575
The Foreign Policy. 2011. May. 14.
(обратно)576
(обратно)577
Middle East Quarterly. Summer 2011. Vol. 18. № 3.
(обратно)578
The New York Times. 2011. May. 31.
(обратно)579
The Nation. 2011. June. 19.
(обратно)580
The Washington Post. 2011. June. 24.
(обратно)581
Congressional Record. 112th Congress (2011–2012).
(обратно)582
The Guardian. 2011. July. 13.
(обратно)583
The Times. 2011. September. 2.
(обратно)584
Интервью автора с руководителем общества российско-сирийской дружбы, членом Совета Федерации РФ Александром Дзасоховым. 2011. Июль. 8.
(обратно)585
The Foreign Policy. 2011. September. 16.
(обратно)586
The Foreign Affairs. 2011. September-October.
(обратно)587
The Independent. 2011. October. 26.
(обратно)588
Le Monde. 2011. Août. 6.
(обратно)589
The Economist. 2011. October. 23.
(обратно)590
The Times. 2011. November. 14.
(обратно)591
The American Thinker. 2011. February. 16.
(обратно)592
/
(обратно)593
The Economist. 2012. January. 5.
(обратно)594
Congressional Record. 112th Congress (2011–2012).
(обратно)595
The New York Times. 2011. May. 23.
(обратно)596
The Stratfor. 2011. September. 7.
(обратно)597
The Washington Post. 2012. May. 14.
(обратно)598
The New York Times. 2012. June. 5.
(обратно)599
TheTime. 2012. June. 3.
(обратно)600
The Spectator. 2012. June. 22.
(обратно)601
Ibidem.
(обратно)602
Ibidem.
(обратно)603
Ibidem.
(обратно)604
The Economist. 2012. June. 28.
(обратно)605
Ibidem.
(обратно)606
Ibidem.
(обратно)607
The Washington Post. 2012. July. 8.
(обратно)608
The Guardian. 2012. March. 9,
(обратно)609
Интервью автора с экспертом Центра «Геоарабика» Александром Кузнецовым. 2012. Март. 10.
(обратно)610
Интервью автора с президентом Института Ближнего Востока Евгением Сатановским. 2012. Май. 8.
(обратно)611
Там же.
(обратно)612
Там же.
(обратно)613
The Prospect. 2011. May. 22.
(обратно)614
The Foreign Policy. 2011. October. 29.
(обратно)615
The Foreign Affairs. 2011. November-December.
(обратно)616
The Washington Post. November. 6.
(обратно)617
/
(обратно)618
The Guardian. 2011. June. 13.
(обратно)619
The Los Angeles Times. November. 7.
(обратно)620
The American Thinker. 2011. October. 20.
(обратно)621
The Tehran Times. 2011. October. 24.
(обратно)622
Интервью автора с экспертом Центра «Геоарабика» Александром Кузнецовым. 2012. Июль. 12.
(обратно)623
The Foreign Affairs. 2012. July.
(обратно)624
Там же.
(обратно)625
Интервью автора с профессором лондонского Королевского колледжа Анатолем Ливеным. 2012. Май. 30.
(обратно)626
/
(обратно)627
Ibidem.
(обратно)628
Haarez. 2011. October. 8.
(обратно)629
Maariv. 2011. September. 15.
(обратно)630
The Economist. 2011. September. 18.
(обратно)631
The American Thinker. 2011. September. 16.
(обратно)632
The Nation. 2011. September. 22.
(обратно)633
(обратно)634
Интервью автора с экспертом Центра «Геоарабика» Александром Кузнецовым. 2012. Май. 18.
(обратно)635
Le Mond. 2012. Juin. 2.
(обратно)636
Интервью автора со старшим научным сотрудником Института востоковедения Борисом Долговым. 2012. Июнь. 10.
(обратно)637
The New York Times. 2012. June. 20.
(обратно)638
(обратно)639
The New York Times. 2012. June. 26.
(обратно)640
Ibidem.
(обратно)641
Интервью автора с советником Асада по политическим вопросам Буссейной Шаабан. 2012. Июнь. 23.
(обратно)642
Интервью автора с президентом Института Ближнего Востока Евгением Сатановским. 2012. Май. 8.
(обратно)643
Интервью автора с директором Института Востоковедения РАН Виталием Наумкиным. 2012. Июнь. 27.
(обратно)644
The Daily Telegraph. 2012. June. 25.
(обратно)645
The New York Times. 2012. July. 12.
(обратно)646
The Foreign Policy. 2012. June. 23.
(обратно)647
Ibidem.
(обратно)648
Zaman. 2012. June. 27.
(обратно)649
The Newsweek. 2012. July. 4.
(обратно)650
The Independent. July. 10.
(обратно)651
The Wall Street Journal. 2009. January. 21.
(обратно)652
Интервью автора с профессором факультета психологии МГУ Александром Асмоловым. 2009. Июнь. 21.
(обратно)653
The New York Times. 2009. May. 23.
(обратно)654
Интервью автора проректором МГИМО Алексеем Богатуровым. 2009. Май. 16.
(обратно)655
Интервью автора с ведущим экспертом Совета по международным отношениям Чарльзом Капчаном. 2009. Июль. 4.
(обратно)656
The Washington Post.
(обратно)657
Интервью автора с советником Буша-младшего по России Томом Грэмом. 2009. Апрель. 17.
(обратно)658
Интервью автора с редактором международного отдела The Financial Times Квентином Пилом. 2009. Июнь. 22.
(обратно)659
The Weekly Standard. 2009. May. 23.
(обратно)660
Commentary. 2009. May. 4.
(обратно)661
Интервью автора с профессором лондонского Королевского колледжа Анатолем Ливеным. 2009. Июнь. 30.
(обратно)662
Интервью автора с проректором МГИМО Алексеем Богатуровым. 2009. Июнь. 13.
(обратно)663
The Wall Street Journal. 2009. August. 5.
(обратно)664
Интервью автора с профессором лондонского Королевского колледжа Анатолем Ливеным. 2009. Июнь. 30.
(обратно)665
The Nation. 2009. August. 25.
(обратно)666
Интервью автора с директором ПИР Центра Владимиром Орловым. 2009. Июнь. 24.
(обратно)667
The Los Angeles Times. 2009. June. 27.
(обратно)668
The Wall Street Journal. 2009. May. 6.
(обратно)669
The Washington Post. May. 15.
(обратно)670
Ibidem.
(обратно)671
Интервью автора с директором Центра международных исследований Института США и Канады Анатолием Уткиным. 2009. Сентябрь. 26.
(обратно)672
The Independent. 2009. September. 25.
(обратно)673
Интервью автора с ведущим экспертом Совета по международным отношениям Чарльзом Капчаном. 2009. Июль. 4.
(обратно)674
The Guardian. 2009. September. 28.
(обратно)675
Интервью автора с директором Центра международных исследований Института США и Канады Анатолием Уткиным. 2009. Сентябрь. 26.
(обратно)676
Интервью автора с руководителем Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Алексеем Арбатовым. 2009. Ноябрь. 16.
(обратно)677
Интервью автора с ведущим экспертом ИМЭМО РАН Александром Пикаевым. 2009. Ноябрь. 10.
(обратно)678
Интервью автора с руководителем Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Алексеем Арбатовым. 2009. Ноябрь. 16.
(обратно)679
Интервью автора с американским политологом Альфредом Россом. 2009. Сентябрь. 29.
(обратно)680
The National Interest. 2010. January. 19.
(обратно)681
The Guardian, 2010. October. 10.
(обратно)682
The Washington Post. 2010. September. 23.
(обратно)683
(обратно)684
Интервью автора с редактором журнала «Россия в глобальной политике Федором Лукьяновым. 2010. Ноябрь. 10.
(обратно)685
(обратно)686
Der Spiegel. 2010. Nov. 18.
(обратно)687
The International Herald Tribune. 2010. November. 16.
(обратно)688
The Moscow Times. 2010. November. 20.
(обратно)689
The New York Times. 2010. November. 21.
(обратно)690
Ibidem.
(обратно)691
The New York Times. 2010. November. 6.
(обратно)692
(обратно)693
Интервью автора с руководителем Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Алексеем Арбатовым. 2010. Ноябрь. 30.
(обратно)694
Интервью автора с постоянным представителем РФ в НАТО Дмитрием Рогозиным. 2010. Ноябрь. 29.
(обратно)695
The Wall Street Jourbal. 2010. November. 27.
(обратно)696
Интервью автора с руководителем Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Алексеем Арбатовым. 2010. Ноябрь. 30.
(обратно)697
The New York Times. 2010. December. 3.
(обратно)698
The Los Angelos Times. 2010. December. 12.
(обратно)699
The New York Times. 2010. December. 3.
(обратно)700
Congressional Record. 112th Congress (2011–2012).
(обратно)701
(обратно)702
The Washington Post. 2010. December. 23.
(обратно)703
(обратно)704
Corriere della Sera. 2011. December. 27.
(обратно)705
The Canberra Times. 2012. January.14.
(обратно)706
Интервью автора с американским политологом Харланом Уллманом. 2012. Февраль. 24.
(обратно)707
The Independent. 2012. January. 3.
(обратно)708
The Christian Science Monitor. 2012. January. 23
(обратно)709
The American Thinker. 2011. December. 16.
(обратно)710
The National Interest. 2012. April. 3.
(обратно)711
(обратно)712
The New York Times. 2012. March. 20.
(обратно)713
The Financial Times. 2012. March. 16.
(обратно)714
(обратно)715
The New York Times. 2011. September. 27.
(обратно)716
Foreign Policy. 2005. January. 5.
(обратно)717
CNN. 2012. March. 27.
(обратно)718
Ibidem.
(обратно)719
Ibidem.
(обратно)720
(обратно)721
The Guardian. 2009. July. 10.
(обратно)722
The Examiner. 2011. May. 28.
(обратно)723
The Daily Telegraph. 2011. June. 7.
(обратно)724
The National Interest. 2011. July. 16.
(обратно)725
Интервью автора с лидером Международного евразийского движения Александром Дугиным. 2012. Март. 13.
(обратно)726
(обратно)727
Интервью автора с президентом Института Ближнего Востока Евгением Сатановским. 2012. Май. 8.
(обратно)728
The Prospect. 2012. June. 5.
(обратно)729
Ibidem.
(обратно)730
Congressional Record. 112th Congress (2011–2012).
(обратно)731
(обратно)732
/
(обратно)733
/
(обратно)734
The Washington Post. 2012. May. 20.
(обратно)735
Интервью автора с американским политологом Харланом Уллманом. 2012. Февраль. 24.
(обратно)736
The American Thinker. 2012. May 23.
(обратно)737
The American Spectator. 2012. July. 10.
(обратно)738
The Independent. 2009. September. 3.
(обратно)739
The Weekly Standard. 2012. June. 17.
(обратно)740
The American Thinker. 2010. November. 3.
(обратно)741
The Boston Globe. 2010. December. 24.
(обратно)742
The Washington Post. 2011. May. 4.
(обратно)743
Интервью автора с профессором Букингемского университета Энтони Глиссом. 2012. Июнь. 1.
(обратно)744
. gov
(обратно)745
The American Thinker. 2012. April. 9.
(обратно)746
Интервью автора с председателем Исламского комитета России Гейдаром Джемалем. 2012. Май. 13.
(обратно)747
The Foreign Affairs. 2009. September-October.
(обратно)748
Интервью автора с президентом Института Ближнего Востока Евгением Сатановским. 2012. Май. 8.
(обратно)749
The China Quarterly. V. 195.2009. February.
(обратно)750
(обратно)751
The Washington Post. 2011. June. 24.
(обратно)752
CNN. 2011. October. 8.
(обратно)753
The Nation. 2012. July. 5.
(обратно)754
Интервью автора с профессором лондонского Королевского колледжа Анатолем Ливеным. 2012. Май. 30.
(обратно)755
Интервью автора с американским политологом Харланом Уллманом. 2012. Июль. 5.
(обратно)
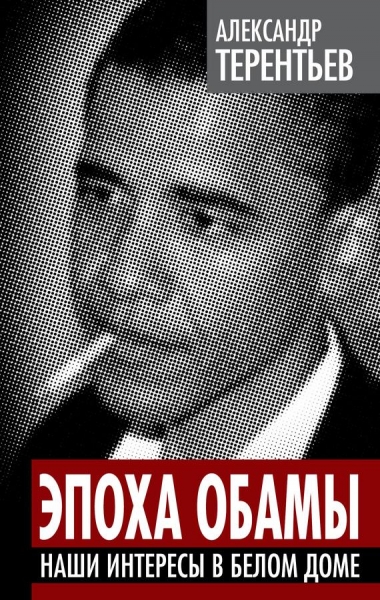

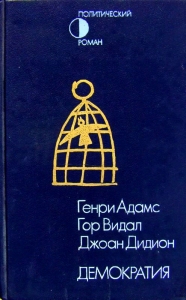

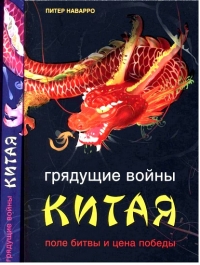
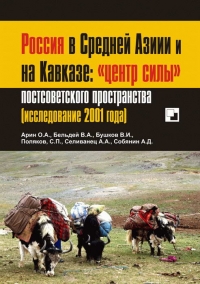
Комментарии к книге «Эпоха Обамы», Александр Александрович Терентьев
Всего 0 комментариев